Избранные произведения. I том [Генри Райдер Хаггард] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Генри ХАГГАРД Избранные произведения I том

Сэр Генри Райдер Хаггард родился 22 июня 1856 года в Браденеме (графство Норфолк) в семье сквайра Уильяма Хаггарда, он был восьмым из его десяти детей. В девятнадцать лет Генри Райдер Хаггард глубоко и, как выяснилось, на всю жизнь полюбил дочь жившего по соседству сквайра, Лили Джексон. Но отец счел преждевременным намерение сына жениться и почел за лучшее отправить его в Южную Африку секретарем Генри Булвера, английского губернатора провинции Наталь. Так была разрушена его единственная настоящая любовь, как писал впоследствии Хаггард. Круто поломав личную судьбу молодого человека, поездка в Южную Африку, определила его дальнейшую творческую судьбу: именно Африка стала для Хаггарда неисчерпаемым источником тем, сюжетов, человеческих типов его многочисленных книг, да и сама тоска по утраченной любви стала одной из определяющих тем произведений писателя, воплотившись в необычных образах. Африка дала Хаггарду и упоительное чувство личной свободы: по роду деятельности и из любви к путешествиям он много ездил по Наталю и Трансваалю, покоренный безграничными просторами африканского вельда, красотой неприступных горных вершин — эти своеобразные пейзажи Хаггард поэтично и романтично воссоздал во многих своих романах. Он увлекался занятиями, характерными для английского джентльмена в Африке, — охотой, поездками верхом и т. п. Впрочем, в отличие от многих соотечественников, его интересовали и нравы местных жителей, зулусов, их история, культура, легенды — со всем этим Хаггард познакомился из первых уст, выучив вскоре зулусский язык. Он усвоил традиционную для «англичанина в Африке» нелюбовь к бурам и покровительственно-доброжелательное, патерналистское отношение к зулусам, для которых, полагал Хаггард, как и подавляющее большинство его соотечественников, владычество англичан было благом (впрочем, как можно судить по отдельным его высказываниям, он отдавал себе отчет в разрушительном воздействии английского вторжения на традиционные зулусские обычаи). Эту позицию «просвещенного империализма» Хаггард сохранил до конца жизни. В 1878 году Хаггард стал управителем и регистратором Верховного суда в Трансваале, в 1879 году подал в отставку, уехал в Англию, женился и возвратился в Наталь с женой в конце 1880 года, решив стать фермером. Однако в Южной Африке Хагард фермерствовал совсем недолго: уже в сентябре 1881 года он окончательно поселился в Англии. В 1884 году Хаггард сдал соответствующий экзамен и стал практикующим адвокатом. Впрочем, адвокатская практика Хаггарда не привлекала — ему хотелось писать. Хаггард с немалым успехом пробовал свои силы и в сочинении исторических, психологических и фантастических произведений. Все им созданное отмечено богатым воображением, необычайным правдоподобием и масштабностью повествования. Всемирную известность Хаггарду принесли романы о приключениях в Южной Африке, в которых существенную роль играет фантастический элемент; постоянная завороженность автора затерянными мирами, руинами древних загадочных цивилизаций, архаическими культами бессмертия и перевоплощения душ сделали его в глазах многих критиков одним из безусловных предтеч современного фэнтези. Популярный герой Хаггарда, белый охотник и искатель приключений Аллан Квотермейн является центральным персонажем многих книг. Для современников Хаггард был не только популярным прозаиком, сочинителем увлекательных историко-приключенческих романов. Он еще и публицист, певец сельской Англии, размеренного и осмысленного фермерского уклада жизни, так хорошо знакомого Хаггарду по его норфолкскому поместью Дитчингему. Он активно занимался фермерским делом, стремился усовершенствовать его, скорбел, видя его упадок, постепенное вытеснение промышленностью. В последние два десятилетия своей жизни Хаггард бурно включился в политическую жизнь страны. Он баллотировался в парламент на выборах 1895 года (но проиграл), был участником и консультантом бесконечного количества всевозможных правительственных комитетов и комиссий по делам колоний, а также сельскому хозяйству. Заслуги Хаггарда были оценены властью по достоинству: в награду за труды во благо Британской империи он был возведен в рыцарское достоинство (1912), а в 1919 году получил орден Британской империи.

АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН (цикл)

Бесстрашный охотник Аллан Квотермейн по прозвищу Макумазан, что означает «человек, который встает после полуночи», никогда не любил сырости и чопорности родной Англии, предпочитая жаркий пыльный простор африканского вельда; его влекли неизведанные, полные опасностей земли Черного континента, где живут простодушные и жестокие, как все дети природы, люди, где бродят стада диких буйволов и рычат по ночам свирепые львы. Вот эта жизнь была по нраву Квотермейну… Цикл повествует о приключениях знаменитого южноафриканского охотника Аллана Квотермейна.[1]
Книга I. КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА
Главный герой романа, мистер Квотермейн, опытный охотник на слонов и знаток африканских диалектов, знакомится на корабле с двумя джентльменами: сэром Генри и капитаном Гудом. Это удачная встреча для обеих сторон, ибо Генри ищет пропавшего брата, отправившегося на поиски легендарных копей Соломона, а Квотермейн — человек, которому была доверена карта легендарных сокровищ. Недолго думая, искатели приключений заключают договор…
Предисловие
Теперь, когда эта книга напечатана и скоро разойдется по свету, я ясно вижу ее недостатки как по стилю, так и по содержанию. Касаясь последнего, я только могу сказать, что она не претендует быть исчерпывающим отчетом обо всем, что мы видели и сделали. Мне очень хотелось бы подробнее остановиться на многом, связанном с нашим путешествием в Страну Кукуанов, о чем я лишь мельком упоминаю, как, например: рассказать о собранных мною легендах, о кольчугах, которые спасли нас от смерти в великой битве при Луу, а также о Молчаливых, или Колоссах, у входа в сталактитовую пещеру. Если бы я дал волю своим желаниям, я бы рассказал подробнее о различиях, существующих между зулусским[2] и кукуанским диалектами, над которыми можно серьезно призадуматься, и посвятил бы несколько страниц флоре и фауне этой удивительной страны[3]. Есть еще одна чрезвычайно интересная тема, которая была мало затронута в книге. Я имею в виду великолепную организацию военных сил этой страны, которая, по моему мнению, значительно превосходит систему, установленную королем Чакой[4] в Стране Зулусов. Она обеспечивает более быструю мобилизацию войск и не вызывает необходимости применять пагубную систему насильственного безбрачия[5]. И, наконец, я лишь вскользь упомянул о семейных обычаях кукуанов, многие из которых чрезвычайно любопытны, а также об их искусстве плавки и сварки металлов. Это искусство они довели до совершенства, прекрасным примером которого служат их толлы — тяжелые металлические ножи, к которым с удивительным искусством приварены лезвия из великолепной стали. Посоветовавшись с сэром Генри Куртисом и капитаном Гудом, я решил рассказать простым, безыскусственным языком только наши приключения, а обо всем прочем поговорить как-нибудь в другой раз, если, конечно, это явится желательным. Я с величайшим удовольствием поделюсь сведениями, которыми располагаю, со всеми, кто этим заинтересуется. Теперь осталось лишь попросить читателя извинить меня за мой неотесанный стиль. В свое оправдание могу лишь сказать, что я больше привык обращаться с ружьем, чем с пером, и потому не могу претендовать на великолепные литературные взлеты и пышность стиля, встречающиеся в романах, которые я иногда люблю почитывать. Вероятно, эти взлеты и пышность стиля желательны, но, к сожалению, я совсем не умею ими пользоваться. На мой взгляд, книги, написанные простым и доходчивым языком, производят самое сильное впечатление и их легче понять. Впрочем, мне не совсем удобно высказывать свое мнение по этому поводу. «Острое копье, — гласит кукуанская пословица, — не нужно точить». На этом основании я осмеливаюсь надеяться, что правдивый рассказ, каким бы странным он ни был, не нужно приукрашивать высокопарными словами.Аллан Квотермейн
Глава 1
Я ВСТРЕЧАЮСЬ С СЭРОМ ГЕНРИ КУРТИСОМ
Может показаться странным, что, дожив до пятидесяти пяти лет, я впервые берусь за перо. Не знаю, что получится из моего рассказа и хватит ли вообще у меня терпения довести его до конца. Оглядываясь на прожитую жизнь, я удивляюсь, как много я успел сделать и как много мне пришлось пережить. Наверно, и жизнь мне кажется такой длинной оттого, что слишком рано я был предоставлен самому себе. В том возрасте, когда мальчики еще учатся в школе, я уже вынужден был работать, торгуя всякой мелочью в старой колонии[6]. Чем только я не занимался с тех пор! Мне пришлось и торговать, и охотиться, и работать в копях, и даже воевать. И только восемь месяцев назад я стал богатым человеком. Теперь я обладаю огромным состоянием — я еще сам не знаю, насколько оно велико, — но не думаю, что ради этого я согласился бы вновь пережить последние пятнадцать или шестнадцать месяцев, даже если бы заранее знал, что все кончится благополучно и я так разбогатею. Я скромный человек, не люблю крови и насилия, и, откровенно говоря, мне изрядно надоели приключения. Не знаю, зачем я собираюсь писать эту книгу: это ведь совсем не по моей части. Да и образованным человеком я себя не считаю, хоть и очень люблю читать Ветхий завет[7] и легенды Инголдзби[8]. Все же попробую изложить причины, побудившие меня написать эту книгу. Во-первых, меня просили об этом сэр Генри Куртис и капитан Гуд. Во-вторых, я сейчас нахожусь у себя в Дурбане, и делать мне все равно нечего, так как боль в левой ноге снова приковала меня к постели. Я страдаю от этих болей с тех самых пор, как в меня вцепился этот проклятый лев; сейчас боли усилились, и я хромаю больше, чем обычно. Вероятно, в львиных зубах есть какой-то яд, иначе почему же совсем зажившие раны снова открываются, причем — заметьте! — ежегодно и в то же самое время. На своем веку я застрелил шестьдесят пять львов, оставшись живым и невредимым, и не обидно ли, что какой-то шестьдесят шестой изжевал мою ногу, как кусок табака! Это нарушает естественный ход вещей, а я, помимо всех прочих соображений, люблю порядок, и мне это очень не нравится. Кроме того, я хочу, чтобы мой сын Гарри, который сейчас работает в лондонской больнице, готовясь стать врачом, читая этот рассказ, отвлекся хотя бы на некоторое время от своих сумасбродств. Работа в больнице, вероятно, иногда надоедает и начинает казаться довольно скучной — ведь можно пресытиться даже вскрытием трупов. Во всяком случае, рассказ мой Гарри скучным не покажется и хоть на денек, другой внесет немного разнообразия в его жизнь, тем более что я собираюсь рассказать самую удивительную историю, которая когда-либо случалась с человеком. Это может показаться странным, так как в ней нет ни одной женщины, за исключением Фулаты. Впрочем, нет! Есть еще Гагула, хотя я не знаю, была она женщина или дьявол. Но нужно сказать, что ей было по крайней мере сто лет, и поэтому как женщина особого интереса она не представляла, так что в счет идти не может. Во всяком случае, могу с уверенностью сказать, что во всей этой истории нет ни одной юбки. Но не пора ли мне впрягаться в ярмо? Почва тут трудная, и мне кажется, будто я увяз в трясине по самую ось. Однако волы справятся с этим без особого труда. Сильная упряжка всегда в конце концов вытянет, со слабыми же волами, конечно, ничего не поделаешь! Итак, я начинаю! «Я, Аллан Квотермейн из Дурбана, в Натале[9], джентльмен, приношу присягу и заявляю…» — так начал я свои показания на суде относительно печальной кончины Хивы и Вентфогеля, но, пожалуй, для книги это не совсем подходящее начало. И вообще, могу ли я назвать себя джентльменом? Что такое джентльмен? Мне это не совсем ясно. В своей жизни я имел дело не с одним ниггером[10]. Нет, я зачеркну это слово, оно мне совсем не по душе! Я знал туземцев, которые были джентльменами, с чем ты согласишься, Гарри, мой мальчик, прежде чем прочтешь эту книгу до конца. Знавал я также очень скверных и подлых белых, которые, однако, джентльменами не были, хоть денег у них было очень много. Во всяком случае, я родился джентльменом, хоть и был в течение всей жизни всего-навсего бедным странствующим торговцем и охотником. Остался ли я джентльменом, не знаю, — судите об этом сами. Богу известно, что я старался им остаться! На своем веку мне пришлось убить много людей, однако я никогда не запятнал свои руки невинной кровью и убивал, только защищаясь. Всевышний даровал нам жизнь, и я полагаю, что он имел в виду, что мы будем ее защищать; по крайней мере, я всегда действовал на основании этого убеждения. И я надеюсь, что, когда пробьет мой смертный час, это мне простится. Увы! В мире много жестокости и безнравственности! И вот такому скромному человеку, как я, пришлось принимать участие во многих кровавых делах. Не знаю, правильно ли я сужу об этом, но я никогда не воровал, хотя однажды обманом выманил у одного кафра[11] стадо скота. И несмотря на то, что он тоже подложил мне свинью, я до сих пор чувствую угрызения совести. Итак, с тех пор как я впервые встретил сэра Генри Куртиса и капитана Гуда, прошло примерно восемнадцать месяцев. Произошло же это следующим образом. Во время охоты на слонов за Бамангвато[12] мне с самого начала не повезло, и в довершение всего я схватил сильную лихорадку. Немного окрепнув, я добрался до Алмазных россыпей, продал всю слоновую кость вместе с фургоном и волами, рассчитался с охотниками и сел в почтовую карету, направляющуюся в Кап[13]. В Кейптауне я прожил неделю в гостинице, где, кстати сказать, меня здорово обсчитали, и осмотрел все его достопримечательности. Видел я и ботанические сады, которые, по моему мнению, приносят стране огромную пользу, и здание парламента, который, полагаю, никакой пользы не приносит. В Наталь я решил вернуться на пароходе «Данкелд». Он в это время стоял в доке в ожидании «Эдинбург Кастла», который должен был прибыть из Англии. Я оплатил проезд, сел на пароход, и в тот же день пассажиры, направляющиеся в Наталь, пересели с «Эдинбург Кастла» на «Данкелд». Мы снялись с якоря и вышли в море. Среди новых пассажиров на борту нашего парохода два человека сразу же привлекли мое внимание. Один из них был джентльмен лет тридцати. Я никогда не встречал человека такого богатырского сложения. У него были соломенного цвета волосы, густая борода, правильные черты лица и большие, глубоко сидящие серые глаза. В своей жизни я не видел более красивого человека, и он чем-то напоминал мне древнего датчанина. Это, конечно, не значит, что я много знаю о древних датчанах; я знал только одного современного датчанина, который, кстати сказать, выставил меня на десять фунтов. Я вспомнил, что однажды где-то видел картину, изображающую несколько таких господ, которые, мне кажется, очень похожи на белых зулусов. У них в руках были кубки из рога, и длинные волосы ниспадали им на спину. Смотря на этого человека, стоявшего у трапа, я подумал, что если бы он немного отрастил себе волосы, надел стальную кольчугу на свою могучую грудь, взял бы боевой топор и кубок из рога, то вполне смог бы позировать для этой картины. И, между прочим, странная вещь (как сказывается происхождение!): позже я узнал, что в жилах сэра Генри Куртиса — так звали этого высокого джентльмена — текла датская кровь[14]. Он очень напоминал мне еще кого-то, но кого — я не мог вспомнить. Другой человек, который стоял, разговаривая с сэром Генри, был совсем другого типа. Я сейчас же подумал, что он морской офицер. Не знаю почему, но морского офицера сразу видно. Мне приходилось с ними ездить на охоту, и должен сказать, что они всегда оказывались необыкновенно храбрыми и симпатичными людьми, каких редко можно встретить. Одно в них плохо: уж очень они любят ругаться. Несколько раньше я задал вопрос: что такое джентльмен? Теперь я на него отвечу: это офицер Британского Королевского флота, хотя, конечно, и среди них иногда встречаются исключения. Я думаю, что широкие морские просторы и свежие ветры, несущие дыхание господа бога, омывают их сердца и выдувают скверну из сознания, делая их настоящими людьми. Но вернемся к рассказу. Я опять оказался прав. Действительно, этот человек был морским офицером. Безупречно прослужив во флоте ее величества семнадцать лет, неожиданно и вопреки его желанию он был зачислен в резерв с чином капитана. Вот что ожидает людей, которые служат королеве[15]. В полном расцвете сил и способностей, когда они приобретают большой опыт и знания, их выбрасывают в холодный, неприветливый мир без средств к существованию. Возможно, что они и примиряются с этим; что же касается меня, я все же предпочитаю зарабатывать на хлеб охотой. Денег у тебя будет так же мало, но пинков ты получишь меньше! Его фамилия — я нашел ее в списке пассажиров — была Гуд, капитан Джон Гуд. Это был коренастый человек лет тридцати, среднего роста, темноволосый, плотный, довольно оригинальный с виду. Он был чрезвычайно опрятно одет, тщательно выбрит и всегда носил в правом глазу монокль. Казалось, что этот монокль врос ему в глаз, так как носил он его без шнура и вынимал, только чтобы протереть. По простоте души я думал, что он и спит с ним, но потом узнал, что ошибался. Когда он ложился спать, то клал монокль в карман брюк вместе со вставными зубами, которых у него было два прекрасных комплекта, что часто заставляло меня нарушать десятую заповедь[16], так как своими я похвастаться не могу. Но я забегаю вперед. Вскоре после того, как мы снялись с якоря, наступил вечер, и погода неожиданно испортилась. Пронизывающий ветер подул с суши, спустился густой туман с изморосью, и все пассажиры вынуждены были покинуть палубу. Наше плоскодонное судно было недостаточно нагружено, и потому его сильно качало — иногда казалось, что мы вот-вот перевернемся. Но, к счастью, этого не случилось. Находиться на палубе было невозможно, и я стоял около машинного отделения, где было очень тепло, и развлекался тем, что смотрел на кренометр. Стрелка его медленно раскачивалась взад и вперед, отмечая угол наклона парохода при каждом крене. — Ну и кренометр! Он же не выверен! — послышался рядом со мной чей-то раздраженный голос. Оглянувшись, я увидел того морского офицера, на которого уже раньше обратил внимание. — Разве? Почему вы так думаете? — Думаю? Тут и думать нечего! Как же, — продолжал он, когда наш пароход снова восстановил равновесие после очередного крена, — если бы судно действительно накренилось до того градуса, который показывает эта штука, — тут он указал на кренометр, — мы бы перевернулись. Но что еще можно ожидать от капитанов торгового флота! Они чертовски небрежны. Как раз в этот момент прозвучал обеденный гонг, чему я очень обрадовался, потому что если офицер Британского флота начинает ругать капитанов торгового флота, то слушать его невыносимо. Хуже этого только одно — слушать, как капитан торгового флота выражает свое откровенное мнение об офицерах Британского флота. Мы с капитаном Гудом спустились в кают-компанию и там застали сэра Генри Куртиса уже за столом. Капитан Гуд сел с ним рядом, я же занял место напротив. Мы с капитаном разговорились об охоте. Он задавал мне много вопросов, и я старался давать наиболее исчерпывающие ответы. Вскоре разговор перешел на слонов. — Ну, сэр, — сказал кто-то из сидевших недалеко от меня, — вам повезло: если кто-нибудь может толком рассказать вам о слонах, то это только охотник Квотермейн. Сэр Генри, который все время молча прислушивался к нашему разговору, при последних словах заметно вздрогнул. — Простите меня, сэр, — тихо сказал он низким басом, именно таким, какой должен был исходить из таких могучих легких, — простите меня, сэр, вы не Аллан Квотермейн? Я ответил утвердительно. Сэр Генри больше ко мне не обращался, но я слышал, как он тихо произнес про себя: «Какая удача!» После обеда, когда мы выходили из кают-компании, сэр Генри предложил мне зайти к нему выкурить трубку. Я принял приглашение, и мы с капитаном Гудом пошли в его каюту, которая выходила на палубу. Это была прекрасная просторная каюта, когда-то состоявшая из двух. Когда кто-то из наших важных франтов совершал поездку на «Данкелде» вдоль побережья, перегородку сняли, а на прежнее место так и не поставили. В каюте был диван, перед которым стоял маленький стол. Сэр Генри послал стюарда за бутылкой виски, мы втроем сели и закурили трубки. — Мистер Квотермейн, — обратился ко мне сэр Генри, когда стюард принес виски и зажег лампу, — в позапрошлом году, примерно в это время, вы, кажется, были в поселке, который называется Бамангвато, к северу от Трансвааля? — Да, был, — отвечал я, несколько удивленный, что этот незнакомый джентльмен так хорошо осведомлен о моих странствиях, которые, как я полагал, особого интереса представлять не могли. — Вы там торговали? — с живостью спросил меня Гуд. — Да, я взял туда фургон с товаром, остановился у поселка и пробыл там, пока все не распродал. Сэр Генри сидел против меня в плетеном кресле, облокотившись на стол. Он смотрел мне прямо в лицо своими проницательными серыми глазами, и казалось, что его взгляд выражает какое-то странное волнение. — Вы случайно не встречали там человека, по фамилии Невилль? — Ну как же, конечно встречал! Он распряг упряжку рядом с моим фургоном и прожил там две недели, чтобы дать возможность отдохнуть волам, перед тем как отправиться в глубь страны. Несколько месяцев назад я получил письмо от какого-то стряпчего, который просил меня сообщить, не знаю ли я, что сталось с Невиллем. Я сразу же написал ему все, что знал. — Да, — сказал сэр Генри, — он переслал мне ваше письмо. В нем вы сообщили, что джентльмен, по фамилии Невилль, уехал из Бамангвато в начале мая в фургоне с погонщиком, проводником и охотником-кафром, по имени Джим. Он говорил, что намеревается добраться, если будет возможно, до Айнайти, конечного торгового пункта Земли Матабеле. Там он предполагал продать свой фургон и отправиться дальше пешком. Вы также сообщили, что он действительно продал свой фургон, потому что шесть месяцев спустя вы видели его у какого-то португальского торговца. Этот человек рассказал вам, что он купил его в Айнайти у белого, имени которого он не помнит, и нужно полагать, что белый со слугой-туземцем отправился в глубь страны на охоту. — Совершенно верно, — подтвердил я. Наступило молчание. — Мистер Квотермейн, — неожиданно сказал сэр Генри, — я думаю, что вы ничего не знаете и не догадываетесь о том, каковы были причины, заставившие моего… мистера Невилля предпринять путешествие на север? — Кое-что я об этом слышал, — ответил я и замолчал. Мне не хотелось говорить на эту тему. Сэр Генри и Гуд переглянулись, и капитан многозначительно кивнул головой. — Мистер Квотермейн, — сказал сэр Генри, — я хочу рассказать вам одну историю и попросить вашего совета, а возможно, и помощи. Мой поверенный передал мне ваше письмо и сказал, что я могу вполне на вас положиться. По его словам, вас хорошо знают в Натале, где вы пользуетесь всеобщим уважением. Кроме того, он сказал, что вы принадлежите к людям, которые умеют хранить тайны. Я поклонился и отпил немного разбавленного виски, чтобы скрыть свое смущение, так как я скромный человек. Сэр Генри продолжал: — Мистер Квотермейн, я должен сказать вам правду: мистер Невилль — мой брат. — О! — промолвил я вздрогнув. Теперь стало ясно, кого напоминал мне сэр Генри Куртис, когда я его впервые увидел. Мистер Невилль был гораздо меньше ростом, с темной бородой, но глаза у него были такие проницательные и такого же самого серого оттенка, как и у сэра Генри. В чертах лица также было некоторое сходство. — Мистер Невилль — мой младший и единственный брат, — продолжал сэр Генри, — и мы впервые расстались с ним пять лет назад. До этого времени я не помню, чтобы мы разлучались даже на месяц. Но около пяти лет назад нас постигло несчастье: мы с братом поссорились не на жизнь, а на смерть (это иногда случается даже между очень близкими людьми), и я поступил с ним несправедливо. Тут капитан Гуд, как бы в подтверждение этих слов, энергично закивал головой. В это время наш пароход сильно накренился, и изображение капитана Гуда, отчаянно кивающего головой, отразилось в зеркале, которое в этот момент оказалось над моей головой. — Как вам, я полагаю, известно, — продолжал сэр Генри, — если человек умирает, не оставив завещания, и не имеет иной собственности, кроме земельной, называемой в Англии недвижимым имуществом, все переходит к его старшему сыну. Случилось так, что как раз в это время, когда мы поссорились, умер наш отец, не оставив завещания. В результате брат остался без гроша, не имея при этом никакой профессии. Конечно, мой долг заключался в том, чтобы обеспечить его, но в то время наши отношения настолько обострились, что к моему стыду (тут он глубоко вздохнул), я ничего для него не сделал. Не то чтобы я хотел несправедливо поступить с ним, нет, — я ждал, чтобы он сделал первый шаг к примирению, а он на это не пошел. Простите, что я утруждаю ваше внимание всеми этими подробностями, но для вас все должно быть ясно. Правда, Гуд? — Само собой разумеется, — ответил капитан. — Я уверен, что мистер Квотермейн никого в это дело не посвятит. — Конечно, — сказал я, — вы можете быть в этом уверены. — Надо сказать, что я очень горжусь тем, что умею хранить тайны. — Итак, — снова продолжал сэр Генри, — в это время у моего брата было на текущем счету несколько сот фунтов стерлингов. Ничего мне не говоря, он взял эту ничтожную сумму и под вымышленным именем Невилля отправился в Южную Африку с безумной мечтой нажить себе состояние. Это стало известно мне уже позже. Прошло около трех лет. Я не имел никаких сведений о брате, хотя писал ему несколько раз. Конечно, письма до него не доходили. С течением времени я все более и более о нем беспокоился. Я понял, мистер Квотермейн, что такое родная кровь. — Это верно, — промолвил я и подумал о своем Гарри. — Я отдал бы половину своего состояния, чтобы только узнать, что мой брат Джордж жив и здоров и я его снова увижу! — Но на это надежды мало, Куртис, — отрывисто сказал капитан Гуд, взглянув на сэра Генри. — И вот, мистер Квотермейн, чем дальше, тем больше я тревожился, жив ли мой брат, и если он жив, то как вернуть его домой. Я принял все меры, чтобы его разыскать, в результате чего получил ваше письмо. Полученные известия были утешительны, поскольку они указывали, что до недавнего времени Джордж был жив, но дальнейших сведений о нем до сих пор нет. Короче говоря, я решил приехать сюда и искать его сам, а капитан Гуд любезно согласился меня сопровождать. — Видите ли, — сказал капитан, — мне все равно делать нечего. Лорды Адмиралтейства выгнали меня из флота умирать с голоду на половинном окладе. А теперь, сэр, вы, может быть, расскажете нам все, что знаете или слышали о джентльмене по фамилии Невилль.Глава 2
ЛЕГЕНДА О КОПЯХ ЦАРЯ СОЛОМОНА
Я медлил с ответом, набивая табаком свою трубку. — Так что же вы слышали относительно дальнейшего путешествия моего брата? — спросил в свою очередь сэр Генри. — Вот что мне известно, — отвечал я, — и до сегодняшнего дня ни одна живая душа от меня об этом не слышала. Я узнал тогда, что он отправляется в копи царя Соломона[17]. — Копи царя Соломона! — воскликнули вместе оба мои слушателя. — Где же они находятся? — Не знаю, — сказал я. — Мне только приходилось слышать, что говорят об этом люди. Правда, я как-то видел вершины гор, по другую сторону которых находятся Соломоновы копи, но между мною и этими горами простиралось сто тридцать миль пустыни, и, насколько мне известно, никому из белых людей, за исключением одного, не удалось когда-либо пересечь эту пустыню. Но, может быть, мне лучше рассказать вам легенду о копях царя Соломона, которую я слышал? А вы дадите мне слово не разглашать без моего разрешения ничего из того, что я вам расскажу. Вы согласны? У меня есть серьезные основания просить вас об этом. Сэр Генри утвердительно кивнул головой, а капитан Гуд ответил: — Конечно, конечно! — Итак, — начал я, — вам, вероятно, известно, что охотники на слонов — грубые, неотесанные люди и их мало что интересует, кроме обычных житейских дел да кафрских обычаев. Правда, время от времени среди них можно встретить человека, который увлекается собиранием преданий среди туземцев, пытаясь восстановить хоть малую часть истории этой таинственной страны. Как раз от такого человека я впервые услышал легенду о Соломоновых копях. Было это почти тридцать лет назад, во время моей первой охоты на слонов в Земле Матабеле. Звали этого человека Иванс. На следующий год бедняга погиб — его убил раненый буйвол. Его похоронили около водопадов Замбези. Однажды ночью, помню, я рассказывал Ивансу об удивительных разработках, на которые натолкнулся, охотясь на антилоп куду[18] и канну[19] в той местности, которая теперь называется Лиденбургским районом Трансвааля. Я слышал, что недавно золотопромышленники снова нашли этот прииск, но я-то знал о нем много лет назад. Там в сплошной скале проложена широкая проезжая дорога, ведущая к входу в прииск или галерею. Внутри, в этой галерее, лежат груды золотоносного кварца, приготовленного для дробления. Это указывает на то, что рабочим, кем бы они ни были, пришлось поспешно покинуть прииск. На расстоянии шагов двадцати вглубь там есть поперечная галерея, с большим искусством облицованная камнем. — «Ну! — сказал Иванс. — А я расскажу тебе нечто еще более удивительное!» И он начал мне рассказывать о том, как далеко, во внутренних областях страны, он случайно набрел на развалины города. По его мнению, это был Офир, упоминаемый в библии. Между прочим, другие, более ученые люди подтвердили мнение Иванса спустя много лет после того, как бедняга уже погиб. Помню, я слушал как зачарованный рассказ обо всех этих чудесах, потому что в то время я был молод и этот рассказ о древней цивилизации и о сокровищах, которые выкачивали оттуда старые иудейские и финикийские авантюристы, когда страна давно уже вновь впала в состояние самого дикого варварства, подействовал на мое воображение. Внезапно Иванс спросил меня: «Слышал ли ты когда-нибудь, дружище, о Сулеймановых горах, которые находятся к северо-западу от земли Машукулумбве?»[20] Я ответил, что ничего не слышал. «Так вот, — сказал он, — именно там находились копи, принадлежавшие царю Соломону, — я говорю о его алмазных копях!» «Откуда ты это знаешь?» — спросил я. «Откуда я знаю? Как же! Ведь что такое «Сулейман», как не испорченное слово «Соломон»?[21] И, кроме того, одна старая изанузи[22] в Земле Маника мне много об этом рассказывала. Она говорила, что народ, живший за этими горами, представлял собою ветвь племени зулусов и говорил на зулусском наречии, но эти люди были красивее и выше ростом, чем зулусы. Среди них жили великие волшебники, которые научились своему искусству у белых людей тогда, когда «весь мир был еще темен», и им была известна тайна чудесной копи, где находили «сверкающие камни». Ну, в то время эта история показалась мне смешной, хоть она и заинтересовала меня, так как алмазные россыпи тогда еще не были открыты. А бедный Иванс вскоре уехал и погиб, и целых двадцать лет я совершенно не вспоминал его рассказа. Но как раз двадцать лет спустя — а это долгий срок, господа, так как охота на слонов опасное ремесло и редко кому удается прожить столько времени, — так вот, двадцать лет спустя я услышал нечто более определенное о горах Сулеймана и о стране, которая лежит по ту сторону гор. Я находился в поселке, называемом крааль[23] Ситанди, за пределами Земли Маника. Скверное это место: есть там нечего, а дичи почти никакой. У меня был приступ лихорадки, и чувствовал я себя очень плохо. Однажды туда прибыл португалец, которого сопровождал только слуга-метис. Надо сказать, что я хорошо знаю португальцев из Делагоа[24], — нет на земле худших дьяволов, жиреющих на крови и страданиях своих рабов. Но этот человек резко отличался от тех, с которыми я привык встречаться. Он больше напоминал мне вежливых испанцев, о которых мне приходилось читать в книгах. Это был высокий, худой человек с темными глазами и вьющимися седыми усами. Мы немного побеседовали, так как он мог объясняться на ломаном английском языке, а я немного понимал по-португальски. Он сказал мне, что его имя Хозе Сильвестр и что у него есть участок земли около залива Делагоа. Когда на следующий день он отправился в путь со своим слугой-метисом, он попрощался со мной, сняв шляпу изысканным старомодным жестом. «До свиданья, сеньор, — сказал он. — Если нам суждено когда-либо встретиться вновь, я буду уже самым богатым человеком на свете и тогда не забуду о вас!» Это меня немного развеселило, хоть я и был слишком слаб, чтобы смеяться. Я видел, что он направился на запад, к великой пустыне, и подумал — не сумасшедший ли он и что он рассчитывает там найти. Прошла неделя, и я выздоровел. Однажды вечером я сидел перед маленькой палаткой, которую возил с собой, и глодал последнюю ножку жалкой птицы, купленной мною у туземца за кусок ткани, стоивший двадцать таких птиц. Я смотрел на раскаленное красное солнце, которое тонуло в бескрайней пустыне, и вдруг на склоне холма, находившегося напротив меня на расстоянии около трехсот ярдов, заметил какого-то человека. Судя по одежде, это был европеец. Сначала он полз на четвереньках, затем поднялся и, шатаясь, прошел несколько ярдов. Потом он вновь упал и пополз дальше. Видя, что с незнакомцем произошло что-то неладное, я послал ему на помощь одного из моих охотников. Вскоре его привели, и оказалось, что это — как вы думаете, кто? — Конечно, Хозе Сильвестр! — воскликнул капитан Гуд. — Да, Хозе Сильвестр, вернее — его скелет, обтянутый кожей. Его лицо было ярко-желтого цвета от лихорадки, и большие темные глаза, казалось, торчали из черепа — так он был худ. Его кости резко выступали под желтой кожей, похожей на перманент, волосы были седые. «Воды, ради бога, воды!» — простонал он; губы его растрескались, и язык распух и почернел. Я дал ему воды, в которую добавил немного молока, и он выпил не менее двух кварт[25] залпом, огромными глотками. Больше я побоялся ему дать. Затем у него начался приступ лихорадки, он упал и начал бредить о горах Сулеймана, об алмазах и пустыне. Я взял его к себе в палатку и старался облегчить его страдания, насколько это было в моих силах. Многого сделать я, конечно, не мог. Я видел, чем это неизбежно должно кончиться. Около одиннадцати часов он немного успокоился. Я прилег отдохнуть и заснул. На рассвете я проснулся и в полумраке увидел его странную, худую фигуру. Он сидел и пристально смотрел в сторону пустыни. Вдруг первый солнечный луч осветил широкую равнину, расстилавшуюся перед нами, и скользнул по отдаленной вершине одной из самых высоких гор Сулеймана, которая находилась от нас на расстоянии более сотни миль. «Вот она! — воскликнул умирающий по-португальски, протянув по направлению к вершине свою длинную, тощую руку. — Но мне уже никогда не дойти до нее, никогда! И никто никогда туда не доберется! — Вдруг он замолчал. Казалось, что он что-то обдумывает. — Друг, — сказал он, оборачиваясь ко мне, — вы здесь? У меня темнеет в глазах». «Да, — ответил я, — я здесь. А теперь лягте и отдохните». «Я скоро отдохну, — отозвался он. — У меня будет много времени для отдыха — целая вечность. Я умираю! Вы были добры ко мне. Я дам вам один документ. Быть может, вы доберетесь туда, если выдержите путешествие по пустыне, которое погубило и меня и моего бедного слугу». Затем он пошарил за пазухой и вынул предмет, который я принял за бурский кисет для табака, сделанный из шкуры сабельной антилопы. Он был крепко завязан кожаным ремешком, который мы называем «римпи». Умирающий попытался развязать его, но не смог. Он передал его мне. «Развяжите это», — сказал он. Я повиновался и вынул клочок рваного пожелтевшего полотна, на котором что-то было написано буквами цвета ржавчины. Внутри находилась бумага.
Он продолжал говорить очень тихо, так как силы его слабели: «На бумаге написано то же самое, что и на обрывке материи. Я потратил многие годы, чтобы все это разобрать. Слушайте! Мой предок, политический эмигрант из Лиссабона, был одним из первых португальцев, высадившихся на этих берегах. Он написал этот документ, умирая среди тех гор, на которые ни до этого, ни после не ступала нога белого человека. Его звали Хозе да Сильвестра, и жил он триста лет назад. Раб, который ожидал его по эту сторону гор, нашел его труп и принес записку домой, в Делагоа. С тех пор она хранилась в семье, но никто не пытался ее прочесть, пока наконец мне не удалось это сделать самому. Это стоило мне жизни, но другому может помочь достичь успеха и стать самым богатым человеком в мире — да, самым богатым в мире! Только не отдавайте эту бумагу никому, отправляйтесь туда сами!» Затем он снова начал бредить, и час спустя все было кончено. Мир его праху! Он умер спокойно, и я похоронил его глубоко и положил валуны на могилу, поэтому не думаю, чтобы шакалам удалось вырыть его труп. А потом я оттуда уехал. — А что же сталось с документом? — спросил сэр Генри, слушавший меня с большим интересом. — Да, да, что же было написано в этом документе? — добавил капитан Гуд. — Хорошо, господа, если хотите, я расскажу вам и это. Я еще никому его не показывал, а пьяный старый португальский торговец, который перевел мне этот документ, забыл его содержание на следующее же утро. Подлинный кусок материи у меня дома, в Дурбане, вместе с переводом бедного дона Хозе, но у меня в записной книжке есть английский перевод и копия карты, если это вообще можно назвать картой. Вот она. А теперь слушайте: «Я, Хозе да Сильвестра, умирая от голода в маленькой пещере, где нет снега, на северном склоне вершины ближайшей к югу горы, одной из двух, которые я назвал Грудью Царицы Савской[26], пишу это собственной кровью в год 1590-й, обломком кости на клочке моей одежды. Если мой раб найдет эту записку, когда он придет сюда, и принесет ее в Делагоа, пусть мой друг (имя неразборчиво) даст знать королю о том, что здесь написано, чтобы он мог послать сюда армию. Если она преодолеет пустыню и горы и сможет победить отважных кукуанов и их дьявольское колдовство, для чего следует взять с собой много священнослужителей, то он станет богатейшим королем со времен Соломона. Я видел собственными глазами несметное число алмазов в сокровищнице Соломона, за Белой Смертью, но из-за вероломства Гагулы, охотницы за колдунами, я ничего не смог унести и едва спас свою жизнь. Пусть тот, кто пойдет туда, следует по пути, указанному на карте, и восходит по снегам, лежащим на левой Груди Царицы Савской, пока не дойдет до самой ее вершины. На северном ее склоне начинается Великая Дорога, проложенная Соломоном, откуда три дня пути до королевских владений. Пусть он убьет Гагулу. Молитесь о моей душе. Прощайте. Хозе да Сильвестра». Когда я окончил чтение документа и показал копию карты, начерченной слабеющей рукой старого португальца — его собственной кровью вместо чернил, — наступило глубокое молчание. Мои слушатели были поражены. — Да, — сказал наконец капитан Гуд, — я дважды объехал вокруг света и был во многих местах, но пусть меня повесят, если мне когда-либо приходилось слышать или читать этакую историю. — Да, это странная история, мистер Квотермейн, — прибавил в свою очередь сэр Генри. — Надеюсь, вы не подшучиваете над нами? Я знаю, что это иногда считается позволительным по отношению к новичкам. — Если вы так думаете, сэр Генри, тогда лучше покончим с этим, — сказал я очень раздраженно, кладя бумагу в карман и поднимаясь, чтобы уйти. — Я не люблю, чтобы меня принимали за одного из этих болванов, которые считают остроумным врать и постоянно хвастаются перед приезжими необычайными охотничьими приключениями, которых на самом деле никогда не было. Сэр Генри успокаивающим жестом положил свою большую руку мне на плечо. — Сядьте, мистер Квотермейн, — сказал он, — и извините меня. Я прекрасно понимаю, что вы не хотите нас обманывать, но согласитесь, что ваш рассказ был настолько необычен, что нет ничего удивительного, что я мог усомниться в его правдивости. — Вы увидите подлинную карту и документ, когда мы приедем в Дурбан, — сказал я, несколько успокоившись. Действительно, когда я задумался над своим рассказом, я понял, что сэр Генри совершенно прав. — Но я еще ничего не сказал о вашем брате. Я знал его слугу Джима, который отправился в путешествие вместе с ним. Это был очень умный туземец, родом из Бечуаны, и хороший охотник. Я видел Джима в то утро, когда мистер Невилль готовился к отъезду. Он стоял у моего фургона и резал табак для трубки. «Джим, — сказал я, — куда это вы отправляетесь? За слонами?» «Нет, баас[27], — отвечал он, — мы идем на поиски чего-то более ценного, чем слоновая кость». «А что же это может быть? — спросил я из любопытства. — Золото?» — Нет, баас, нечто более ценное, чем золото». — И он усмехнулся. Я более не задавалвопросов, потому что не желал показаться любопытным и тем самым уронить свое достоинство. Однако его слова сильно меня заинтересовали. Вдруг Джим перестал резать табак. «Баас», — сказал он. Я сделал вид, что не слышу. «Баас», — повторил он. «Да, дружище, в чем дело?» — отозвался я. «Баас, мы отправляемся за алмазами». «За алмазами? Послушай, тогда вы совсем не туда едете, — вам же нужно ехать в сторону россыпей». «Баас, ты слышал когда-нибудь о Сулеймановых горах?» «Да!» «Ты слышал когда-нибудь, что там есть алмазы?» «Я слышал какую-то дурацкую болтовню об этом, Джим». «Это не болтовня, баас. Я когда-то знал женщину, которая пришла оттуда со своим ребенком и добралась до Наталя. Она сама рассказывала мне об этом. Теперь она уже умерла». «Твой хозяин пойдет на корм хищным птицам, Джим, если он не откажется от намерения добраться до страны Сулеймана. Да и ты тоже, если только они найдут какую-нибудь поживу в твоем никчемном старом скелете», — сказал я. Он усмехнулся: «Может быть, баас. Но человек должен умереть. А мне самому хотелось бы попытать счастья в новом месте. К тому же здесь скоро перебьют всех слонов». «Вот что, дружище! — сказал я. — Подожди-ка, пока «бледнолицый старик»[28] не схватит тебя за твою желтую глотку, тогда мы послушаем, какую ты запоешь песенку». Полчаса спустя я увидел, что фургон Невилля двинулся в путь. Вдруг Джим повернул обратно и подбежал ко мне. «Послушай, баас, — сказал он, — я не хочу уезжать, не попрощавшись с тобой, потому что, пожалуй, ты прав: мы никогда обратно не вернемся». «Так твой хозяин действительно собрался в Сулеймановы горы, Джим, или ты лжешь?» «Нет, — отвечал Джим, — это действительно так. Он сказал, что ему необходимо во что бы то ни стало попытаться составить себе состояние, — так почему бы ему не попытаться разбогатеть на алмазах?» «Подожди-ка немножко, Джим, — сказал я, — ты возьмешь записку для своего хозяина, но обещай мне отдать ее только тогда, когда вы достигнете Айнайти» (это было на расстоянии около ста миль). «Хорошо», — ответил он. Я взял клочок бумаги и написал на нем: «Пусть тот, кто пойдет туда… восходит по снегам, лежащим на левой груди Царицы Савской, пока не дойдет до самой ее вершины. На северном ее склоне начинается Великая Дорога, проложенная Соломоном». «Так вот, Джим, — сказал я, — когда ты отдашь эту записку своему хозяину, скажи ему, что нужно точно придерживаться этого совета. Помни, что ты не должен сейчас отдавать ему эту бумажку, потому что я не хочу, чтобы он повернул обратно и стал задавать мне вопросы, на которые у меня нет желания отвечать. А теперь иди, лентяй, — фургона уже почти не видно». Джим взял записку и побежал догонять фургон. Вот и все, что мне известно о вашем брате, сэр Генри. Но я очень боюсь, что… — Мистер Квотермейн, — прервал меня сэр Генри, — я отправляюсь на поиски моего брата. Я пройду по его пути до Сулеймановых гор, а если потребуется, то и дальше. Я буду идти, пока не найду его или не узнаю, что он погиб. Вы пойдете со мной? Мне кажется, я уже говорил, что я осторожный человек и, кроме того, человек тихий и скромный, и меня ошеломило и испугало это предложение. Мне казалось, что отправиться в подобное путешествие — значит пойти на верную смерть. Кроме того, уж не говоря обо всем прочем, я должен помогать сыну и поэтому не могу позволить себе так скоро умереть. — Нет, благодарю вас, сэр Генри, я предпочел бы отказаться от вашего предложения, — ответил я. — Я слишком стар для того, чтобы принимать участие в сумасбродных затеях подобного рода, которые несомненно окончатся для нас так же, как для моего бедного друга Сильвестра. У меня есть сын, который нуждается в моей поддержке, и я не имею права рисковать своей жизнью. Сэр Генри и капитан Гуд казались очень разочарованными. — Мистер Квотермейн, — сказал сэр Генри, — я состоятельный человек и от своего намерения не откажусь. За свои услуги вы можете потребовать любое вознаграждение. Эта сумма будет вам уплачена до нашего отъезда. Одновременно с этим, на случай нашей гибели, я приму меры, чтобы ваш сын был соответствующим образом обеспечен. Из сказанного мною вы поймете, насколько необходимым я считаю ваше участие. Если же нам посчастливится добраться до Сулеймановых копей и найти алмазы, вы поделите их поровну с Гудом. Мне они не нужны. Я сильно сомневаюсь в том, что нам удастся туда добраться, так как надежды на это нет почти никакой. Но я не сомневаюсь в том, что в пути мы сможем добыть слоновую кость, и вы поступите с нею таким же образом. Вы можете поставить мне свои условия, мистер Квотермейн. Кроме того, я, конечно, оплачу все расходы. — Сэр Генри, — сказал я, — я никогда не получал более щедрого предложения, и бедному охотнику и торговцу следует о нем поразмыслить. Но мне еще не приходилось иметь дело с таким крупным предприятием. Мне нужно время, чтобы все это обдумать. Во всяком случае, я дам вам ответ до нашего прибытия в Дурбан. — Прекрасно, — ответил сэр Генри. Затем я пожелал им доброй ночи и ушел к себе. В эту ночь мне снились бедный, давно умерший Сильвестр и алмазы.
Глава 3
АМБОПА ПОСТУПАЕТ К НАМ В УСЛУЖЕНИЕ
Чтобы добраться морем от Кейптауна до Дурбана, нужно затратить четыре — пять дней: это зависит от состояния погоды и скорости хода судна. В Ист-Лондоне[29] постройка порта еще не закончена, несмотря на то, что на него уже ухлопали целую кучу денег. Поэтому, вместо того, чтобы причаливать к пристани в прекрасно оборудованном порту, о котором давно прожужжали все уши, пароходы до сих пор бросают якорь далеко от берега. Если море неспокойно, то бывает, что приходится ждать целые сутки, пока наконец от берега смогут отойти буксиры с шлюпками за пассажирами и грузом. Но нам, к счастью, ждать не пришлось. Когда мы подошли к Ист-Лондону, волнение на море было совсем незначительное, и с берега сразу же отчалили буксиры, ведя за собой вереницу безобразных плоскодонных шлюпок. С нашего парохода со всего размаха начали швырять в них тюки с товаром, не обращая внимания на то, что в них находится: шерсть, фарфор — все летело вниз в одну кучу. Стоя на палубе, я видел, как вдребезги разбился ящик с четырьмя дюжинами шампанского и искристое вино брызнуло и запенилось по дну грязной грузовой шлюпки. Ужасно досадно было смотреть, как бессмысленно пропадает столько вина! Это быстро сообразили и находившиеся в лодке грузчики-кафры. Они нашли две случайно уцелевшие бутылки, отбили у них горлышки и выпили все до дна. Шампанское ударило им в голову, и они сразу же опьянели. Этого кафры никак не ожидали: в страшном испуге они начали кататься по дну лодки, крича, что добрый напиток «тагати» — то есть заколдован. Я вступил с ними в разговор и подтвердил, что они выпили самую страшную отраву белого человека и должны умереть. В диком ужасе кафры налегли на весла, и лодка помчалась к берегу. Я уверен, что никогда в жизни они не дотронутся больше до шампанского. Всю дорогу в Наталь я думал о предложении сэра Куртиса. Первые дня два мы не затрагивали этого вопроса, хотя и были все время вместе. Я рассказывал сэру Генри и Гуду о своих охотничьих приключениях, причем ничего не выдумывал и не преувеличивал, как это имеют обыкновение делать охотники. Я считаю, что и не имеет смысла нам, африканским охотникам, привирать и плести небылицы. У нас бывают такие необыкновенные приключения, что и без того есть чем поделиться. Впрочем, это к моему рассказу не относится. Наконец в один прекрасный январский день — у нас ведь январь самый жаркий месяц — наш пароход стал подходить к Наталю, и мы пошли вдоль его живописных берегов, рассчитывая к закату солнца обогнуть Дурбанский мыс. Этот берег с его красными песчаными холмами и бесконечными просторами ярко-изумрудной зелени, в которой прячутся краали кафров, удивительно красив. Набегающие волны, ударяясь о прибрежные скалы, поднимаются ввысь и, падая, образуют белоснежную полосу пены, которая тянется вдоль всего берега. Но особенно роскошна природа у самого Дурбана. В течение многих веков бурные потоки дождей промыли в холмах глубокие ущелья, по которым текут сверкающие на солнце реки; на фоне густых темно-зеленых зарослей кустарников, растущих так, как насадил их сам господь, время от времени виднеются рощи хлебных деревьев и плантации сахарного тростника. Изредка среди этой пышной зелени вдруг выглядывает белый домик и словно улыбается безмятежно-спокойному морю, придавая особую законченность и домашний уют всей этой великолепной панораме. Я думаю, как бы прекрасен ни был пейзаж, он непременно требует присутствия человека. Возможно, мне это кажется потому, что уж слишком долго я прожил в диких и безлюдных местах и потому знаю цену цивилизации, хотя она вытесняет и зверя и дичь. Райский сад был, конечно, прекрасен и до появления человека, но я убежден, что он стал еще прекраснее, когда в нем стала гулять Ева. Но вернусь к рассказу. Мы немного ошиблись в расчете, и солнце давно уже село, когда мы бросили якорь неподалеку от Дурбанского мыса и услышали выстрел, извещающий добрых жителей Дурбана о прибытии почты из Англии. Ехать на берег было слишком поздно; мы посмотрели, как грузят в спасательную шлюпку почту, и пошли обедать. Когда мы снова вышли на палубу, луна уже взошла и ярко освещала море и берег. Быстро мелькающие огни маяка казались совсем бледными в ее ослепительном сиянии. С берега доносился пряный, сладкий аромат, который мне всегда напоминает церковные песнопения и миссионеров. Домики на Берейской набережной были ярко освещены. С большого брига, стоявшего рядом с нами, доносились музыка и песни матросов, которые поднимали якорь, готовясь выйти в море. Была тихая, чудная ночь, одна из тех ночей, которые бывают в Южной Африке. Как луна окутывала своим серебристым покровом всю природу, так и эта дивная ночь окутывала покровом мира все живущее на земле. Даже огромный бульдог, принадлежавший одному из наших пассажиров, под влиянием этой торжественной тишины и покоя забыл о своем желании вступить в бой с обезьяной, сидевшей в клетке на полубаке. Он лежал у входа в каюту и сладко храпел: должно быть, ему снилось, что он прикончил обезьяну, и поэтому был наверху блаженства. Мы трое — то есть сэр Генри Куртис, капитан Гуд и я — пошли и сели у штурвала. — Ну, мистер Квотермейн, — обратился ко мне сэр Генри после минутного молчания, — обдумали вы мое предложение? — Да, да! — повторил за ним капитан Гуд. — Что же вы решили? Надеюсь, вы примете участие в нашей экспедиции? Мы были бы счастливы, если бы вы согласились сопровождать нас не только до копей царя Соломона, но и вообще всюду, где мог бы оказаться джентльмен, которого вы знали под фамилией Невилль. Я молча встал, подошел к борту и стал выколачивать трубку. Я не знал, что ответить, мне нужна была хотя бы еще минута, чтобы прийти к окончательному решению. И в то мгновение, когда горящий пепел блеснул в темноте, это решение было принято — я согласился. Так часто бывает в жизни: вы долго колеблетесь и не знаете, как быть, а в конце концов решаете вопрос в одно мгновение. — Хорошо, господа, — сказал я, садясь на свое место, — я согласен. С вашего разрешения, я расскажу вам, почему и на каких условиях я принимаю ваше предложение. Начну с условий. Первое. Помимо того, что вы оплачиваете все расходы, связанные с путешествием, вся слоновая кость и другие ценности, добытые нами в пути, должны быть поровну поделены между капитаном Гудом и мною. Второе. Кроме того, прежде чем мы тронемся в путь, вы уплачиваете мне за услуги пятьсот фунтов стерлингов. Я же обязуюсь честно служить вам до тех пор, пока вы сами не откажетесь от вашего предприятия, или пока мы не достигнем нашей цели, или не погибнем. Третье. Прежде чем мы отправимся в Сулеймановы горы, вы должны оформить обязательство, по которому в случае моей гибели или тяжелого увечья вы обязуетесь выплачивать моему сыну Гарри, который изучает медицину в Лондоне, ежегодно сумму в размере двухсот фунтов в течение пяти лет. К этому времени он уже станет на ноги и будет в состоянии зарабатывать на жизнь, если, конечно, вообще из него выйдет толк. Вот и все мои условия. Может быть, вы считаете, что я очень много прошу? — Нет, нет! — с живостью возразил сэр Генри. — Я с удовольствием принимаю все ваши условия. Я решил во что бы то ни стало отправиться на поиски брата и от своего намерения не отступлюсь. Принимая во внимание ваш опыт и исключительную осведомленность в деле, которое меня интересует, я готов заплатить вам еще больше. — Тогда жаль, что мне не пришло в голову попросить больше, — сказал я, — но своих слов я никогда обратно не беру. А теперь скажу вам, по каким причинам я решил с вами идти в такой далекий и опасный путь. Прежде всего, господа, должен вам сказать, что все эти дни я присматривался к вам, и не сочтите с моей стороны дерзостью, если скажу, что вы оба мне очень нравитесь. Я уверен, что мы великолепно пойдем в одной упряжке. А когда собираешься в такой длительный путь, это очень важно. Что касается самого путешествия — я имею в виду нашу попытку перейти Сулеймановы горы, скажу вам прямо, господа, что вряд ли мы вернемся оттуда живыми. Какова была судьба старого да Сильвестра триста лет назад? Какая судьба постигла его потомка двадцать лет назад? И какова судьба вашего брата? Скажу вам откровенно, господа, я уверен, что нас ждет та же участь. Я остановился, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели мои слова. Мне показалось, что капитан Гуд был немного встревожен; лицо сэра Генри даже не дрогнуло. — Мы должны рискнуть, — сказал он своим обычным, спокойным тоном. — Вам может показаться странным, — продолжал я, — что, предвидя такой конец нашего путешествия, я все же не отказываюсь идти с вами, тем более, что человек я робкий. Но на это есть две причины. Во-первых, я фаталист и убежден, что мой смертный час предопределен независимо от моих поступков и желаний. И если мне суждено идти в Сулеймановы горы и там погибнуть, это значит, что так предназначено мне судьбой. Конечно, всемогущий господь знает, что он собирается со мной делать, поэтому мне самому не надо об этом беспокоиться. Во-вторых, я человек бедный. Несмотря на то, что я занимаюсь охотой почти сорок лет, я ничего не скопил, так как моих заработков хватает мне только на жизнь. Вы, конечно, знаете, господа, что охота на слонов дело опасное и люди, занимающиеся этим ремеслом, живут в среднем четыре — пять лет. Я же эти установленные сроки превысил почти в семь раз и потому думаю, что час моей смерти не так уж далек. Если я погибну на охоте, то после уплаты моих долгов мой сын Гарри, которому еще надо учиться, чтобы стать на ноги, останется без всяких средств к существованию. Если же я отправлюсь с вами, он будет обеспечен на пять лет. Вот вам вкратце мои соображения. — Мистер Квотермейн, — сказал сэр Генри, слушавший меня с большим вниманием, — причины, заставляющие вас присоединиться к нашей экспедиции, которая, по вашему мнению, может закончиться столь печально, делает вам честь. Конечно, только время и события покажут, правы вы или нет. Но иду ли я на верную гибель, или нет, я решил довести это дело до конца, каков бы он ни был. Ну, а если уж нам суждено погибнуть, я надеюсь, что перед смертью мы все же сможем немного поохотиться. Как вы думаете, Гуд? — Разумеется, — подтвердил капитан. — Мы все трое привыкли смотреть опасности в глаза и сумеем постоять за себя. Поэтому отступать не следует. А теперь я предлагаю спуститься в кают-компанию и выпить за счастливый исход нашего путешествия. На следующий день мы съехали на берег, и я предложил сэру Генри и капитану Гуду поселиться в моем скромном домике на Берейской набережной. В нем только три комнаты и кухня; выстроен он из необожженного кирпича, а крыша покрыта оцинкованным железом. Но зато сад у меня прекрасный. В нем растут самые лучшие сорта японской мушмулы[30] и чудные манговые деревья[31], от которых я ожидаю великолепных плодов. Их подарил мне директор Ботанического сада. У меня есть садовник, один из моих бывших охотников, по имени Джек. Когда мы с ним охотились в Стране Сикукунис, буйволица так сильно искалечила ему бедро, что бедный Джек был вынужден навсегда забыть об охоте. Но он может кое-как ковылять и ухаживать за садом. Сам Джек — из миролюбивого племени гриква; зулуса вы никогда не заставите заниматься садоводством — мирные занятия ему не по душе. Так как в моем домишке было тесно, сэр Генри и Гуд спали в палатке, которую я разбил в апельсиновой аллее в конце сада. Деревья были в цвету, и от них шел приятный аромат, а на ветках ярко выделялись зеленые и золотые плоды (надо сказать, что у нас в Дурбане на деревьях можно видеть и цветы и плоды одновременно). Место наше красивое, и спать на воздухе очень приятно, тем более, что у нас в Береа москитов почти нет, если же они иногда и появляются, то только после сильных дождей. Однако надо продолжать рассказ, иначе он тебе, Гарри, надоест раньше, чем мы доберемся до Сулеймановых гор. Итак, решив отправиться с сэром Генри, я немедленно занялся необходимыми приготовлениями. Прежде всего, мой мальчик, я получил от сэра Генри документ, обеспечивающий твое будущее. Здесь мы столкнулись с некоторыми затруднениями: сэр Генри не был местным жителем, и деньги, которые тебе следовало бы получать в случае моей гибели, находились в Англии. Но в конце концов мы это дело уладили благодаря одному ловкому адвокату, который содрал с нас возмутительную цену — целых двадцать фунтов стерлингов. Положив чек на пятьсот фунтов в карман и отдав таким образом дань предосторожности, я купил за счет сэра Генри фургон и упряжку превосходных волов. Фургон был длиной в двадцать два фута, на железных осях, очень прочный и легкий, правда не совсем новый. Один раз он уже побывал на Алмазных россыпях, но вернулся оттуда без повреждений. Это еще больше меня убедило в том, что повозка была сделана из сухого, хорошо выдержанного дерева. Если фургон плохо слажен или сделан из сырого материала, это обнаруживается при первой же поездке. Задняя часть нашей повозки на протяжении двенадцати футов была крыта брезентом в виде навеса, передняя же, предназначенная для багажа, была открыта. Такие фургоны у нас называются «полукрытыми». Задняя часть была приспособлена для жилья — в ней находилась постель из шкур, на которой могли спать два человека, полка для оружия и кое-какие необходимые вещи. Я дал за него сто двадцать пять фунтов и считаю, что это было недорого. Затем я купил великолепную упряжку из двадцати зулусских быков, которыми любовался уже около двух лет. Обычная упряжка состоит из шестнадцати голов, но на всякий случай я купил еще четыре. Зулусский скот низкорослый и легкий, почти наполовину меньше африкандерского[32], который используется для перевозки тяжелых грузов. Эти мелкие животные менее подвержены болезням ног, чем крупные, чрезвычайно неразборчивы в корме и приспособлены к самым тяжелым условиям. Поэтому они выживают там, где африкандерские мрут с голоду. Зулусские быки легче и быстроходнее; с легкой ношей они могут пройти пять миль в день. Кроме того, наши животные были хорошо «просолены» — то есть закалены, так как исходили всю Южную Африку вдоль и поперек. Поэтому наша упряжка была до некоторой степени гарантирована от той страшной формы малярии, которая так часто уничтожает целые стада, когда они попадают в непривычные им вельды[33]. Что касается страшной легочной болезни — то есть чахотки, — которая у нас так часто губит скот, им была сделала прививка. Для этого на хвосте быка, примерно на один фут от основания, делается надрез, к которому привязывается кусочек легкого, взятого у животного, погибшего от этой болезни. Через некоторое время бык заболевает легкой формой чахотки, хвост у него отмирает и отпадает на месте надреза, но зато сам он становится невосприимчив к чахотке. Жестоко, конечно, лишать животное хвоста, особенно в стране, где так много мух, но уж лучше пожертвовать хвостом, чем потерять и хвост и быка. Хвост без быка ни на что не годен, разве только чтобы смахивать им пыль. Но все-таки довольно забавно идти за быками и видеть перед собой двадцать жалких огрызков вместо хвостов. Так и кажется, что природа что-то напутала и вместо хвостов приставила быкам задние украшения целой своры премированных бульдогов. После того, как вопрос с животными был улажен, надо было подумать о провианте и лекарствах. Это требовало самого тщательного обсуждения. Нам нельзя было перегружать фургон и вместе с тем нужно было взять много вещей, необходимых для такого длительного путешествия. К счастью, оказалось, что Гуд кое-что смыслит в медицине. Каким-то образом ему когда-то удалось прослушать курс медицины и хирургии, и время от времени он применял свои познания на практике. У капитана не было, конечно, звания доктора, но впоследствии мы убедились, что он понимает в этом деле больше, чем многие из тех господ, которые получили право писать после своей фамилии звание доктора медицины. У него была отличная походная аптечка и набор хирургических инструментов. Когда мы еще были в Дурбане, он отрезал у какого-то кафра большой палец ноги так ловко, что было просто приятно смотреть. Но капитан был совершенно ошеломлен, когда этот кафр, флегматично следивший за операцией, попросил приставить ему новый палец, говоря, что на худой конец подойдет и белый. Благополучно уладив дела с провиантом и лекарствами, мы перешли к вопросу об оружии и найме прислуги. Что касается оружия, я лучше приведу список отобранного нами из того богатого запаса, который сэр Генри привез с собой из Англии, и того, что было у меня. Этот список сохранился в моей записной книжке, сейчас мне остается только его переписать:«Три тяжелых двуствольных ружья, заряжающихся с казны, центрального боя, весом около пятнадцати фунтов каждое, с зарядом в одиннадцать драхм[34] черного пороха».Эти ружья предназначались для охоты на слонов. Два из них — для сэра Генри и капитана Гуда — были изготовлены искуснейшими мастерами одной из знаменитых лондонских фирм. Не знаю, какой фирмы было мое ружье: оно, правда, не было такое красивое, но зато было неоднократно проверено мною в охоте на слонов.
«Три двуствольных ружья системы «экспресс-500», стреляющие разрывными пулями, рассчитанные на заряд в шесть драхм».Превосходное оружие, в особенности на среднего зверя (как, например, на круторогую, или сабельную, антилопу), и незаменимое для самозащиты от врагов в открытой местности.
«Одно двуствольное киперовское дробовое ружье двенадцатого калибра, центрального боя, с обоими стволами — чок»[35].Впоследствии это ружье оказало нам огромную помощь в обеспечении нас повседневной пищей.
«Три магазинные винтовки системы «винчестер» (не карабины)».Это было наше запасное оружие.
«Три самовзводных револьвера «кольта» с патронами крупного калибра».Таково было наше вооружение. Нужно отметить, что оружие каждого класса было одной системы и калибра, и поэтому мы могли обмениваться патронами, что было очень удобно и важно. Я не прошу извинения у читателя за то, что, возможно, утомил его перечислениями таких подробностей, так как каждый опытный охотник знает, насколько существенным является выбор оружия для успеха экспедиции. Теперь перехожу к прислуге, которая должна была нас сопровождать. После долгих обсуждений мы решили, что вполне достаточно взять с собой пять человек: проводника, кучера и трех слуг. И кучера и проводника я нашел без особого труда. Это были два зулуса, по имени Гоза и Том. Найти же слуг оказалось делом более сложным. Нам нужны были люди храбрые, надежные, на которых мы могли бы полностью положиться, так как от их поведения могла зависеть наша жизнь. Наконец мне удалось найти двух — одного готтентота[36], по имени Вентфогель, что значит «птица ветров», и маленького зулуса Хиву, у которого было то достоинство, что он отлично говорил по-английски. Вентфогеля я знал давно. В своей жизни я редко встречал лучшего охотника-следопыта. Он был необычайно вынослив и, казалось, состоял из одних мускулов и сухожилий. Но, к сожалению, у него был один недостаток, присущий его племени: он любил выпить. Поэтому полностью на него положиться было нельзя: стоило поставить перед ним бутылку грога — и он забывал все на свете. Но так как мы отправлялись в места, где не было ни трактиров, ни винных лавок, эта маленькая слабость не имела особого значения. Третьего слугу я никак не мог найти, и мы решили отправиться только с двумя, надеясь, что в пути встретим подходящего человека. Но, накануне нашего отъезда, вечером, когда мы обедали, вошел Хива и доложил, что меня хочет видеть какой-то зулус. После того, как мы встали из-за стола, я приказал Хиве его ввести. В комнату вошел рослый, красивый человек, лет тридцати, с очень светлой для зулуса кожей. Вместо приветствия он поднял свою узловатую палку и молча уселся на корточках в углу комнаты. В течение некоторого времени я делал вид, что не замечаю его присутствия; с моей стороны было бы большой оплошностью поступить иначе: если вы сразу вступаете в разговор с туземцем, он может подумать, что вы человек ничтожный и лишены чувства собственного достоинства. Однако я успел заметить, что он был «кэшла» — то есть «человек с обручем». В его волосы было вплетено широкое кольцо, сделанное из особого сорта каучука, которое для блеска было натерто жиром. Такие обручи носят зулусы, достигшие известного возраста и имеющие высокое звание. Лицо его показалось мне знакомым. — Ну, — сказал я наконец, — как тебя зовут? — Амбопа, — ответил туземец приятным низким голосом. — Я где-то тебя уже видел. — Да, инкоози[37], отец мой, ты видел меня в местечке Литтл-Хэнд, в Изандхлуане[38], накануне битвы. Тут я все вспомнил. Во время несчастной войны с зулусами я был одним из проводников лорда Челмсфорда[39]. К счастью, мне удалось покинуть лагерь с порученными мне фургонами как раз накануне битвы. Пока запрягали волов, я разговорился с этим человеком. Он командовал отрядом туземцев, сражавшихся на нашей стороне. В разговоре он высказал свои сомнения относительно безопасности нашего лагеря. Тогда я ему предложил попридержать язык, так как это было не его ума дело, но впоследствии я не раз вспоминал его слова. — Я помню, — сказал я. — Что же тебе от меня надо? — Вот что, Макумазан (так зовут меня кафры; в переводе это значит «человек, который встает после полуночи». А по-нашему, это просто-напросто человек, который всегда находится начеку). Я слышал, что ты собираешься в длинный путь далеко на север с белыми вождями, прибывшими из-за великой воды. Правда ли это? — Да, правда. — Я слышал, что вы пойдете до самой реки Луганги, которая находится на расстоянии одной луны пути от земли Маника. Это тоже правда, Макумазан? — Зачем тебе нужно знать, куда мы идем? Какое тебе дело? — ответил я, глядя на него с недоверием, так как цель нашего путешествия мы решили хранить в глубокой тайне. — О белые люди! — воскликнул туземец. — Если вы действительно отправляетесь так далеко, то я хочу идти вместе с вами! Меня поразили тон и манера разговаривать этого человека. Он держался с необычайным достоинством, и в нем чувствовалось какое-то внутреннее благородство. Особенно удивили меня его слова: «О белые люди», вместо обычного обращения к белым: «О инкоози» — то есть вожди. — Ты забываешься! — сказал я резко. — Думай, прежде чем обращаться с разговором к белым людям. Кто ты такой и где твой крааль? Ответь нам, чтобы мы знали, с кем мы имеем дело. — Мое имя Амбопа. Я принадлежу к зулусскому племени, но на самом деле я не зулус. Жилища моего племени находятся далеко на севере. Мой народ остался там, когда другие зулусы спустились сюда. Это было тысячу лет назад, задолго до царя Чака, который правил Страной Зулусов. У меня нет крааля. Я скитаюсь много лет. Я пришел в Страну Зулусов с севера, когда был ребенком. Затем служил королю Кетчвайо[40] в Нкомабакозийском полку. Из Страны Зулусов я бежал в Наталь, потому что хотел узнать, как живут белые люди. Потом я воевал против Кечвайо. С тех пор я живу и работаю в Натале. Мне здесь все надоело, и я хочу снова идти на север. Здесь мне не место. Денег от вас мне не надо. Я человек храбрый и буду вам полезен. Я отработаю пищу, которую съем, и заслужу место у костра, которое займу. Я сказал. Я был совершенно озадачен просьбой этого человека. По его непосредственному поведению и разговору было видно, что в основном он говорит правду. Но этот туземец настолько отличался от обыкновенных зулусов и его предложение идти с нами без вознаграждения было настолько странно, что не могло не вызвать у меня подозрения. Не зная, что ему ответить, я перевел сэру Генри и Гуду наш разговор и спросил их совета. Вместо ответа сэр Генри попросил меня передать Амбопе, чтобы он встал. Сбросив с себя длинный военный плащ, зулус выпрямился во весь свой исполинский рост и предстал перед нами совершенно обнаженным, если не считать мучи[41] и ожерелья из львиных когтей. Он был великолепен. Я никогда в жизни не видел такого красивого туземца. Роста он был шести футов и трех дюймов, широкоплечий и удивительно пропорционально сложенный. При вечернем освещении кожа его была чуть темнее обычной смуглой, только многочисленные следы от нанесенных ассегаями[42] ран выделялись на его теле темными пятнами. Сэр Генри подошел к нему и пристально посмотрел на его гордое, красивое лицо. — Какая прекрасная пара! — сказал Гуд, наклоняясь ко мне. — Посмотрите, они совсем одинакового роста. — Мне нравится ваша внешность, мистер Амбопа, — сказал по-английски сэр Генри, обращаясь к зулусу, — и я беру вас к себе в услужение. Очевидно, Амбопа понял его, потому что он ответил по-зулусски: «хорошо», и, взглянув на могучую фигуру белого человека, добавил: — Мы настоящие мужчины — ты и я.
Глава 4
ОХОТА НА СЛОНОВ
Я не собираюсь подробно рассказывать обо всех событиях, происшедших в течение нашего продолжительного путешествия до крааля Ситанди, который находится на расстоянии более тысячи миль от Дурбана, у слияния рек Луканга и Калюкве. Последние триста миль или около того нам пришлось пройти пешком, так как часто стали появляться ужасные мухи цеце, укус которых смертелен для всех животных, за исключением ослов. Мы оставили Дурбан в конце января, и шла уже вторая неделя мая, когда мы расположились лагерем около Крааля Ситанди. По пути у нас было много разнообразных приключений, но так как подобные приключения случаются с каждым африканским охотником, то, чтобы не сделать мое повествование слишком скучным, я не буду их излагать здесь, кроме одного, о котором сейчас расскажу подробно. В Айнайти — конечном торговом пункте Земли Матабеле, которой правит король Лобензула (кстати сказать, ужасный негодяй), — нам пришлось с огромным сожалением распрощаться с нашим удобным фургоном. В нашей великолепной упряжке из двадцати волов, приобретенных нами в Дурбане, осталось только двенадцать. Один погиб от укуса кобры, три пали от истощения и недостатка воды, один заблудился и пропал, а еще три подохли, наевшись ядовитых растений из семейства тюльпановых. От этого же заболели еще пять, но нам удалось их вылечить вливанием отвара тюльпановых листьев. Это очень сильное противоядие, если ввести его своевременно. Фургон и быков мы поручили непосредственным заботам Гозы и Тома, вполне надежных юношей, попросив почтенного шотландского миссионера, который жил в этих диких местах, присматривать за нашим имуществом. Затем в сопровождении Амбопы, Хивы, Вентфогеля и полудюжины носильщиков-кафров мы отправились пешком на осуществление нашего безумного замысла. Я помню, что, отправляясь в путь, мы все были несколько молчаливы. Вероятно, каждый из нас думал о том, придется ли ему вновь увидеть этот фургон. Что касается меня — я совершенно на это не рассчитывал. Некоторое время мы шли в молчании. Вдруг Амбопа, который шел впереди, запел зулусскую песню о том, как несколько храбрецов, которым наскучили однообразие повседневной жизни и привычные вещи, отправились в бескрайнюю пустыню, чтобы найти там что-то новое или умереть, и как вдруг — о чудо! — когда они зашли далеко в глубь пустыни, они увидели, что это совсем не пустыня, а красивая местность, где много юных жен и тучного скота, много дичи для охоты и много врагов, которых можно убивать. Мы все развеселились и сочли это за доброе предзнаменование. Амбопа был веселым малым. Правда, иногда у него бывали периоды мрачного настроения, но в остальное время ему была свойственна удивительная способность поддерживать в людях бодрость, причем он сам никогда не терял чувства собственного достоинства. Все мы очень полюбили его. Теперь я доставлю себе удовольствие рассказать об одном происшествии, так как я страстно люблю охотничьи рассказы. На расстоянии двух недель пути от Айнайти нам встретился удивительно красивый уголок. Почва здесь была влажная. В ущельях между высокими холмами рос густой кустарник айдоро (как называют его туземцы), а кое-где — колючий кустарник «wacht-een-beche» («подожди-ка немного»). Там также росло очень много прекрасных деревьев мачабель, отягченных освежающими желтыми плодами, внутри которых находятся огромные косточки. Плоды этого дерева представляют собой любимое лакомство слонов, о присутствии которых в этой местности свидетельствовали многочисленные следы их ног, а также и то, что во многих местах деревья были поломаны и даже вырваны с корнем: когда слон ест, он все вокруг разрушает. Однажды вечером, после длительного дневного перехода, мы вышли на место поразительной красоты. У подножия холма, поросшего кустарником, находилось высохшее русло реки, в котором, однако, встречались небольшие водоемы, наполненные прозрачной, как хрусталь, водой, вокруг которых было много следов копыт диких животных. Перед холмом расстилалась равнина, похожая на парк; на ней группами росли мимозы с плоскими вершинами, а среди них — деревья мачабель с блестящими листьями. Вокруг было огромное молчаливое море кустарника, через которое не пролегала ни единая тропа. Как только мы вышли на дорогу, образованную ложем реки, мы спугнули стадо высоких жираф, которые ускакали, или, вернее, уплыли своей странной поступью, подняв торчком хвосты и отбивая копытами дробь подобно кастаньетам. Когда они были на расстоянии около трехсот ярдов от нас, то есть фактически на дистанции, недосягаемой для огнестрельного оружия, Гуд, который шел впереди, не смог противостоять искушению. Он поднял свое ружье, заряженное разрывной пулей крупного калибра, и выстрелил в молодую самку, бежавшую последней. По невероятной случайности пуля попала ей прямо в шею, повредив спинной хребет, и жирафа полетела кувырком, через голову, как кролик. Мне никогда не приходилось видеть более удивительного зрелища. — Черт бы ее побрал! — сказал Гуд. (К моему сожалению, когда он волновался, у него была привычка употреблять сильные выражения, приобретенные несомненно во время его морской карьеры). — Черт бы ее побрал! Ведь я ее убил! — Ou, Bugwan! (Да, Бугван!) — воскликнули наши носильщики-кафры. — Ou, ou! (Да, да!) Они называли Гуда «Бугван» («стеклянный глаз») из-за его монокля. — Да, Бугван! — отозвались, как эхо, мы с сэром Генри. И с этого дня за Гудом укоренилась, по крайней мере среди кафров, репутация отличного стрелка. В действительности он был плохим стрелком, но всякий раз при его очередном промахе мы не придавали этому никакого значения, вспоминая его знаменитый выстрел. Приказав нескольким из наших слуг вырезать лучшие куски мяса жирафы, мы принялись строить ограду, или шерму, на расстоянии около ста ярдов вправо от одного из водоемов. Делается это так. Срезают большое количество ветвей колючего кустарника и укладывают их в форме круглой изгороди. Пространство, находящееся внутри изгороди, выравнивают, и в центре сооружают постель из сухой травы тамбуки, если она, конечно, поблизости имеется, и зажигают один или несколько костров. К тому времени, как шерма была окончена, уже всходила луна, и наш обед, состоявший из бифштексов мяса жирафы и жареных мозговых костей, был готов. С каким наслаждением мы угощались этими мозговыми костями, хоть их и трудновато было расколоть! Я не знаю лучшего лакомства, чем мозг жирафы — конечно, кроме слонового сердца, которым мы полакомились на следующий день. При свете полной луны мы сидели за своей скромной трапезой, по временам прерывая ее, чтобы вновь поблагодарить Гуда за его замечательный выстрел. Затем мы закурили трубки и начали рассказывать разные истории. Вероятно, мы, сидя на корточках вокруг костра, представляли собой очень любопытное зрелище. Особенно резко бросался в глаза контраст между мною и сэром Генри. Я худ, небольшого роста, кожа у меня темная, седые волосы торчат, как щетка, и вешу я всего шестьдесят килограммов, а сэр Генри высокого роста, широкоплечий, белокурый и весит около девяноста пяти. Но, принимая во внимание все обстоятельства, вероятно, удивительнее всех троих выглядел капитан Джон Гуд, отставной офицер Королевского флота. Он сидел на кожаном мешке, и казалось, будто он только что вернулся после приятно проведенного дня на охоте в цивилизованной стране, — совершенно чистый, аккуратный и хорошо одетый. На нем был охотничий костюм из коричневого твида[43], шляпа такого же цвета и элегантные гетры. Вообще говоря, мне никогда не приходилось видеть в дикой африканской пустыне такого великолепно выбритого, безукоризненно изящного и опрятного джентльмена. Его фальшивые зубы были в полном порядке, а в правом глазу, как обычно, красовался монокль. Он даже не забыл надеть воротничок из белой гуттаперчи, которых у него был изрядный запас. — Видите ли, они весят так мало, — сказал он мне простодушно, когда я выразил свое изумление по этому поводу. — А я люблю всегда выглядеть джентльменом. Вот так мы и сидели, разговаривая при волшебном свете луны, наблюдая, как кафры на расстоянии нескольких ярдов посасывают свои трубки с мундштуком из рога южноафриканской антилопы, наполненные опьяняющей даккой. Наконец они один за другим заснули у костра, завернувшись в свои одеяла, то есть все, за исключением Амбопы, который сидел в стороне. (Я заметил, что он всегда мало общался с кафрами.) Он сидел, подперев голову руками, глубоко задумавшись. Вдруг из чащи кустарника позади нас раздалось громкое рычанье. — Это лев, — сказал я. Все мы вскочили и прислушались. Сейчас же с водоема, находившегося на расстоянии около ста ярдов, донесся оглушительный рев слона. — Unkungunklovo Indlovu! (Слон! Слон!) — зашептали кафры. И несколько минут спустя мы увидели процессию огромных туманных фигур, медленно движущуюся по направлению к зарослям кустарника. Гуд вскочил, полный жажды убийства, по-видимому считая, что убить слона так же легко, как жирафу, с которой ему так повезло, но я схватил его за руку и заставил сесть. — Ни в коем случае, — сказал я, — пусть они пройдут. — Оказывается, тут настоящий рай для охотника! Я предложил бы здесь остановиться на денек, другой и поохотиться, — вдруг сказал сэр Генри. Я был несколько удивлен этим, так как до сих пор сэр Генри всегда был за то, чтобы двигаться вперед как можно скорее, в особенности, когда мы удостоверились в Айнайти, что около двух лет назад англичанин, по фамилии Невилль, действительно продал там свой фургон и ушел вглубь страны. Полагаю, что инстинкт охотника взял в этом случае верх. Гуд с радостью ухватился за эту мысль, потому что мечтал поохотиться на слонов. О том же, правду сказать, мечтал и я, так как не мог примириться с мыслью, что мы дадим спокойно уйти целому стаду слонов и не воспользуемся таким удобным случаем, чтобы поохотиться. — Ну что ж, друзья мои, — сказал я, — думаю, что нам не мешало бы немного поразвлечься. А теперь ляжем спать, так как нам надо встать до восхода солнца. Тогда, может быть, нам удастся захватить стадо, когда оно будет пастись, перед тем как двинуться дальше. Все согласились с моим предложением, и мы начали готовиться ко сну. Гуд снял свою одежду, почистил ее, спрятал монокль и искусственные зубы в карман брюк и, аккуратно свернув свои вещи, положил там, где их не могла намочить утренняя роса, прикрыв углом своей простыни из прорезиненной материи. Мы с сэром Генри довольствовались более скромными приготовлениями и вскоре улеглись, укрывшись одеялами, и погрузились в глубокий сон без сновидений, который вознаграждает путешественника. И во сне нам казалось, что мы идем, идем, идем… Но что это такое? Внезапно оттуда, где была вода, донесся шум отчаянной схватки, а в следующее мгновение послышался ужаснейший рев. Было совершенно ясно, что это мог быть только лев. Мы все вскочили, смотря туда, откуда доносился шум, и увидели беспорядочную массу желто-черного цвета, которая металась в смертельной борьбе, приближаясь к нам. Мы схватили свои ружья и, на ходу надев вельдскуны[44], выбежали из ограды шермы. К этому времени дерущиеся животные упали и некоторое время катались клубком по траве. Когда мы до них добежали, драка уже прекратилась, и они затихли. Вот что мы увидели: на траве лежал мертвый самец сабельной антилопы — самой красивой из африканских антилоп. Великолепный лев с черной гривой, пронзенный огромными изогнутыми рогами антилопы, был также мертв. Очевидно, произошло следующее. Антилопа пришла напиться к водоему, где залег в ожидании добычи лев, несомненно тот, чей рев мы слышали накануне. Когда антилопа пила, лев прыгнул на нее, но попал прямо на острые, изогнутые рога, которые пробили его насквозь. Однажды в прошлом я уже видел подобную сцену. Лев, который никак не мог освободиться, рвал и кусал спину и шею антилопы, а та, доведенная до безумия страхом и болью, неслась вперед, пока неупала мертвой. Закончив детальный осмотр животных, мы позвали наших слуг и носильщиков-кафров и общими усилиями перетащили их туши к ограде. Затем мы вошли в шерму, легли и более не просыпались до восхода солнца. С первыми его лучами мы встали и начали готовиться к охоте. Мы взяли с собой три ружья крупного калибра, большое количество патронов и свои объемистые фляги, наполненные холодным слабым чаем, который я всегда считал лучшим напитком на охоте. Поспешно позавтракав, мы двинулись в путь — за нами следовали Амбопа, Хива и Вентфогель. Носильщиков-кафров мы оставили в лагере, приказав им снять шкуры со льва и сабельной антилопы и разрубить последнюю на куски. Мы легко нашли широкую слоновью тропу. Осмотрев ее, Вентфогель сказал, что она проложена двадцатью-тридцатью слонами, причем большая их часть — взрослые самцы. В течение ночи стадо успело уйти на некоторое расстояние, и только часов в девять утра, когда жара становилась уже нестерпимой, мы увидели по поломанным деревьям, сорванным листам и коре, а также по дымящемуся помету, что слоны безусловно находятся поблизости. Внезапно мы заметили стадо, насчитывающее, как и говорил Вентфогель, двадцать-тридцать слонов. Закончив свой утренний завтрак, они стояли в лощине, хлопая огромными ушами. Это было великолепное зрелище. Слоны находились на расстоянии примерно двухсот ярдов от нас. Взяв пригоршню сухой травы, я подбросил ее в воздух, чтобы установить направление ветра, потому что знал, что если они нас почуют, то скроются из виду до того, как мы успеем выстрелить. Удостоверившись, что ветер дует в нашем направлении, мы стали осторожно ползти вперед, и благодаря тому, что нас скрывала высокая трава, нам удалось приблизиться к огромным животным на расстояние примерно в сорок ярдов. Как раз перед нами, повернувшись боком, стояли три великолепных самца; у одного из них были огромные бивни. Я шепнул своим спутникам, что буду целиться в среднего; сэр Генри прицелился в стоявшего слева, а Гуд — в самца с большими бивнями. — Пора, — прошептал я. Бум! Бум! Бум! — выстрелили три крупнокалиберные винтовки, и слон сэра Генри упал замертво. Выстрел попал ему прямо в сердце. Мой слон упал на колени, и мне показалось, что он смертельно ранен, но через мгновение он встал на ноги и бросился бежать, чуть не задев при этом меня. В этот момент я разрядил второй ствол прямо ему в ребра, и на этот раз он свалился всерьез. Быстро вложив два новых патрона, я подбежал к нему вплотную и третьим выстрелом, в мозг, прекратил страдания бедного животного. Затем я обернулся, чтобы посмотреть, как Гуд справляется с большим самцом, который ревел от ярости и боли, когда я приканчивал своего. Добежав до капитана, я нашел его в состоянии величайшего волнения. Оказалось, что, раненный первым выстрелом, слон повернулся и устремился прямо на своего обидчика, причем Гуд едва успел увернуться. Затем слон бросился бежать, не разбирая дороги, напрямик к нашему лагерю. Стадо в панике понеслось в противоположном направлении. Мы посовещались, идти ли нам за раненым самцом, или преследовать стадо, и наконец решили идти за стадом. Мы отправились, думая, что более никогда не увидим этих огромных бивней. С тех пор я часто думал, что так было бы лучше. Следовать за слонами было нетрудно, так как они оставляли за собой тропу примерно в ширину проезжей дороги, причем в своем паническом бегстве ломали густой кустарник, словно это была трава тамбуки. Однако приблизиться к слонам было не так просто, и мы тащились уже более двух часов под палящими лучами солнца, когда наконец увидели их опять. За исключением одного самца, все они стояли, сбившись в кучу, и по их беспокойным движениям и по тому, как они подымали хоботы, обнюхивая воздух, я понял, что они задумали что-то недоброе. Одинокий самец, очевидно, стоял на страже ярдах в пятидесяти от стада и шестидесяти от нас. Думая, что, если мы попытаемся подойти поближе, он может нас заметить или почуять и что тогда стадо вновь обратится в бегство, мы все прицелись в этого самца и разом выстрелили по моей команде, поданной шепотом. Все три выстрела попали в цель, и он упал мертвым. Стадо вновь бросилось бежать, но, к несчастью для него, на расстоянии около ста ярдов ему преградила дорогу нулла — высохшее русло с крутыми берегами. В него и попали с разбегу слоны, и когда мы достигли края впадины, то увидели, что они в диком смятении отчаянно пытаются выбраться на другой берег. Слоны оглашали воздух трубными звуками и, движимые эгоистическим инстинктом самосохранения, в панике отталкивали друг друга совсем так же, как в подобном случае действовало бы большинство человеческих существ. Теперь нам представился удобный момент, и, поспешно зарядив ружья, мы выстрелили и убили пять бедных животных. Мы безусловно перебили бы все стадо, если бы слоны внезапно не прекратили попытки выбраться на берег и не пустились во всю прыть по нулле. Мы слишком устали, чтобы их преследовать, а возможно, нам уже немного надоело убивать, так как восемь слонов и так неплохая добыча для одного дня. Отдохнув немного и дав время нашим слугам вырезать сердца двух слонов, чтобы приготовить их на ужин, мы, довольные, направились к себе, решив послать на следующее утро носильщиков, чтобы они отпилили бивни у убитых слонов. Вскоре после того, как мы прошли то место, где Гуд ранил самца — патриарха, мы наткнулись на стадо антилоп, но не стреляли, так как у нас и без того было много мяса. Они пробежали мимо нам и затем остановились позади небольшой группы кустов, на расстоянии около ста ярдов, и обернулись, чтобы на нас посмотреть. Гуду не терпелось разглядеть их поближе, так как он никогда не видел южноафриканскую антилопу. Он отдал свое ружье Амбопе и в сопровождении Хивы направился к кустарнику. Мы сели подождать его, не сожалея о том, что нашелся повод для того, чтобы немного отдохнуть. Солнце садилось в своем багряном великолепии, и мы с сэром Генри любовались красивой картиной, как вдруг услышали рев слона и увидели его огромный силуэт. Он несся в атаку с поднятым хоботом и хвостом, четко вырисовываясь на фоне красного солнечного диска. В следующее мгновение мы увидели, что Гуд и Хива бегут что есть сил обратно к нам, а раненый слон (это был он) несется за ними. Мгновение мы не решались выстрелить, чтобы не попасть в одного из бегущих, хотя, вообще говоря, от стрельбы с такой дистанции было бы мало толку. В следующее мгновение случилось нечто ужасное. Гуд пал жертвой своей страсти к европейской одежде. Если бы он, подобно нам, согласился расстаться со своими брюками и гетрами и охотился в фланелевой рубашке и вельдскунах, все обошлось бы. Но теперь брюки мешали ему в этой отчаянной гонке, и внезапно, когда он был ярдах шестидесяти от нас, подошвы его европейских ботинок, отполированные бегом по траве, скользнули, и он упал прямо под ноги слону. У нас вырвался вздох ужаса, потому что мы знали, что его гибель неизбежна, и все бросились к нему. Через три секунды все было кончено, но не так, как мы предполагали. Хива увидел, что его господин упал. Отважный юноша обернулся и бросил прямо в морду слону свой ассегай, который застрял у того в хоботе. С воплем боли рассвирепевший слон схватил бедного зулуса, швырнул его на землю и, наступив на тело Хивы своей огромной ногой, обвил хоботом верхнюю его половину и разорвал его надвое. Обезумев от ужаса, мы бросились вперед, стреляя наугад без перерыва, и наконец слон упал на останки зулуса. Что касается Гуда, он поднялся и, ломая руки, предался отчаянию над останками храбреца, который пожертвовал своей жизнью, чтобы его спасти. Хоть я и много испытал в своей жизни, но тоже почувствовал комок, подступающий к горлу. Амбопа стоял, созерцая огромного мертвого слона и изуродованные останки бедного зулуса. — Что же, — вдруг сказал он, — Хива, правда, умер, но умер, как мужчина.Глава 5
МЫ ИДЕМ ПО ПУСТЫНЕ
Мы убили девять слонов, и у нас ушло два дня на то, чтобы отпилить бивни, перетащить их к себе и тщательно закопать в песок под громадным деревом, которое было видно с расстояния нескольких миль вокруг. Нам удалось добыть огромное количество превосходной слоновой кости — лучшей мне не приходилось видеть: каждый клык весил в среднем от сорока до пятидесяти фунтов. Бивни громадного слона, разорвавшего бедного Хиву, весили, по нашему примерному подсчету, сто семьдесят фунтов. Самого же Хиву, вернее то, что осталось от него, мы зарыли в норе муравьеда и, по зулусскому обычаю, положили в могилу его ассегай на случай, если ему пришлось бы защищаться по пути в лучший мир. На третий день мы снова тронулись в путь, надеясь, что если останемся живы, то на обратном пути откопаем нашу добычу. После долгого и утомительного пути и целого ряда приключений, о которых у меня нет времени подробно рассказывать, мы достигли крааля Ситанди, расположенного около реки Луканги. Собственно говоря, только отсюда должно было по-настоящему начаться наше путешествие. Я очень хорошо помню, как мы туда пришли. Направо был маленький туземный поселок, состоящий из нескольких жалких лачуг и каменных пристроек для скота. Чуть пониже, у самой реки, виднелись клочки обработанной земли, где туземцы выращивали свой скудный запас зерна. За ними шли необозримые, уходящие вдаль просторы вельдов — лугов с высокой, густой волнующейся травой, в которой бродят стада мелких животных. Крааль Ситанди находится на самой границе этой плодородной местности. Налево от него начинается огромная пустыня. Трудно сказать, чему приписать такое неожиданное резкое изменение характера почвы, но этот контраст был настолько разителен, что невольно бросался в глаза. Мы разбили наш лагерь немного повыше маленькой речки. На ее противоположном берегу был каменный откос, по которому двадцать лет назад бедный Сильвестр возвращался ползком после безумной попытки добраться до копей Соломона. Как раз за этим откосом начинается безводная пустыня, поросшая низкорослым колючим кустарником. Наступал вечер, и огромный солнечный шар медленно опускался в пустыню, освещая все ее необозримое пространство своими последними сверкающими разноцветными лучами. Предоставив Гуду заниматься устройством лагеря, я пригласил сэра Генри прогуляться, и мы отправились на вершину противоположного откоса и оттуда стали смотреть на пустыню. Воздух был чист и прозрачен, и далеко-далеко на горизонте я мог различить неясные голубоватые очертания снежных вершин гор Сулеймана. — Взгляните, — промолвил я после некоторого молчания, — вот стены, которые окружают копи царя Соломона. Одному лишь богу известно, сможем ли мы когда-нибудь на них взобраться! — Там должен быть мой брат. А если он там, я во что бы то ни стало доберусь до него, — сказал сэр Генри с той спокойной уверенностью, которая была для него столь характерна. — Ну что ж, будем надеяться, что это нам удастся! — вздохнул я и повернулся, чтобы идти в лагерь, когда неожиданно заметил, что мы не одни. Позади нас, устремив пристальный взгляд на далекие горы, стоял наш царственный зулус Амбопа. Видя, что я смотрю на него, он заговорил, обращаясь к сэру Генри, к которому, как я уже убедился, он успел сильно привязаться. — Так это и есть та страна, куда ты хочешь идти, Инкубу? (Это слово означает «слон»: так прозвали туземцы сэра Генри) — сказал Амбопа, указывая своим широким ассегаем на горы. Я возмущенно спросил его, какое он имеет право так фамильярно разговаривать со своим господином. Пусть туземцы называют друг друга какими им вздумается кличками, но совершенно недопустимо и неприлично с их стороны называть в лицо белого человека своими нелепыми языческими именами. Зулус тихо засмеялся, и этот смех меня еще больше рассердил. — Откуда ты знаешь, что я не ровня вождю, которому служу? Конечно, мой господин принадлежит к королевскому роду: это видно по его росту и осанке, но, может быть, я тоже из королевского рода, как знать? О Макумазан! Будь моими устами и передай слова мои Инкубу, моему господину и вождю, ибо я хочу говорить с ним, да и с тобой тоже. Я очень был сердит на Амбопу, потому что не привык, чтобы туземцы так со мной разговаривали, но он почему-то внушал мне невольное и совершенно непонятное для меня уважение. Кроме того, мне было интересно знать, о чем он собирается с нами разговаривать. Я тотчас же перевел его слова сэру Генри, прибавив, что, с моей точки зрения, он нахал и его наглое поведение возмутительно. — Да, Амбопа, — ответил сэр Генри, — я хочу идти в эту страну. — Пустыня широка, и в ней нет воды, а горы высоки и покрыты снегом. Ни один человек не может сказать, что находится за горами, за которыми прячется солнце. Как ты пойдешь туда, Инкубу, и зачем ты хочешь туда идти? Я перевел и эти его слова. — Скажите ему, — отвечал сэр Генри, — что я иду туда, потому что думаю, что человек одной со мной крови уже давно туда ушел, и теперь я иду его искать. — Ты говоришь истину, Инкубу. По пути сюда я встретил одного готтентота, и он рассказал мне, что два года назад какой-то белый человек ушел в пустыню по направлению к тем горам. С ним был слуга-охотник. Они оттуда не возвратились. — Откуда ты знаешь, что это был мой брат? — спросил его сэр Генри. — Я этого не знаю. Но я спросил готтентота, каков этот человек был с виду, и он ответил мне, что у него были твои глаза и черная борода. Охотника, который был с ним, звали Джимом. Он был из племени бечуанов и носил на теле одежду. — Нет никакого сомнения, что это был ваш брат! — воскликнул я. — Я хорошо знал Джима! Сэр Генри задумчиво кивнул головой. — Я был в этом уверен, — промолвил он. — Джордж человек настойчивый, и если уж он вбил себе что-нибудь в голову, то от этого не отступится. Таким он был с детства. Если он решил перейти Сулеймановы горы, он их перешел; конечно, если с ним в пути не случилось несчастья. Поэтому мы должны его искать по ту сторону гор. Амбопа немного понимал по-английски, но редко разговаривал на этом языке. — Это далекий путь, Инкубу, — заметил он. Я снова перевел его слова. — Да, — ответил сэр Генри, — путь далекий. Но на свете нет такого пути, которого человек не смог бы пройти, если для этого он отдаст все свои силы. Если человека ведет любовь, то нет ничего на свете, Амбопа, чего бы он не преодолел. Нет для него таких гор, которых бы он не перешел, нет таких пустынь, которых бы он не пересек, кроме гор и пустынь, которых никому не дано знать при жизни. Ради этой любви он не считается ни с чем, даже со своей собственной жизнью, которой готов пожертвовать, если на то будет воля провидения. Я перевел и эти слова. — Великие слова ты произнес, отец мой! — ответил зулус (я всегда называл так Амбопу, хотя он не был зулусом). — Великие, возвышенные слова, достойные уст настоящего мужчины! Ты прав, отец мой Инкубу. Слушай! Что такое жизнь? Это легкое перышко, это семя травинки, которое ветер носит во все стороны. Иногда оно размножается и тут же умирает, иногда улетает в небеса. Но если семя здоровое, оно случайно может немного задержаться на пути, который ему предначертан. Хорошо, борясь с ветром, пройти такой путь и задержаться на нем. Человек должен умереть. В худшем случае он может умереть немного раньше. Я пройду с тобой через пустыню и через горы, если только не паду на пути, отец мой! Он замолк, но тотчас же продолжал в страстном порыве риторического красноречия, которое иногда овладевает зулусами и доказывает, что это племя не лишено поэтического дара и интеллекта, несмотря на склонность к постоянным и излишним повторениям. — Что такое жизнь? — продолжал он. — Скажите мне, о белые люди! Вы такие мудрые, вы, которым известны тайны мироздания, тайны звезд и всего того, что находится над ними и вокруг них! О белые люди, вы, которые в мгновение ока передаете слова свои издалека без голоса, откройте мне тайну нашей жизни: куда она уходит и откуда появляется? Вы не можете мне ответить; вы сами этого не знаете. Слушайте же меня: я отвечу сам. Из мрака мы явились, и во мрак мы уйдем. Как птица, гонимая во мраке бурей, мы вылетаем из Ничего. На одно мгновенье видны наши крылья при свете костра, и вот мы снова улетаем в Ничто. Жизнь — ничто, и жизнь — все. Это та рука, которая отстраняет Смерть. Это светлячок, который мерцает в ночной темноте и потухает к утру. Это белый пар дыханья волов в зимнюю пору, это едва заметная тень, которая стелется по траве и исчезает на закате солнца. — Странный вы человек, Амбопа, — сказал сэр Генри, когда зулус умолк. Амбопа засмеялся: — Мне кажется, что мы очень похожи друг на друга, Инкубу. Может быть, и я ищу брата по ту сторону гор. Я взглянул на него с подозрением. — Что ты хочешь этим сказать? — спросил я его. — Что ты знаешь об этих горах? — Мало, очень мало. Говорят, что за ними находится прекрасная таинственная страна, страна чудес и волшебства, страна храбрых воинов, высоких деревьев, бурных потоков, белоснежных вершин, страна великой белой дороги. Я слыхал о ней. Но стоит ли об этом говорить? Уже наступает вечер. Кому суждено, тот увидит ее. Я снова взглянул на него с недоверием. Этот человек определенно что-то знал. — Не бойся меня, Макумазан, — сказал Амбопа в ответ на мой взгляд. — Я не рою яму, чтобы вы в нее упали. Я не замышляю ничего недоброго. Если нам когда-нибудь суждено перейти эти горы, которые находятся позади солнца, я скажу все, что знаю. Но Смерть бродит на их вершинах. Будьте мудрыми и вернитесь назад. Вернитесь, мои господа, и охотьтесь на слонов. Я сказал. И, не говоря больше ни слова, он поднял в знак прощального приветствия свое копье, повернулся и пошел к лагерю. Когда мы пришли туда, то увидели, что он чистит ружье, как самый рядовой кафр-слуга. — Какой странный человек! — сказал сэр Генри. — Более чем странный, — подтвердил я. — Его поведение не внушает мне доверия. Он что-то знает, но говорить не хочет. Впрочем, не стоит с ним ссориться. Нас ожидает впереди много загадочного и таинственного, и наш таинственный зулус для этого как раз подходит. На следующий день мы начали готовиться в путь. Тащить через пустыню наши ружья и другое снаряжение было, конечно, немыслимо. Мы рассчитали носильщиков и договорились с одним жившим поблизости кафром, чтобы он позаботился о наших вещах, рассчитывая захватить их на обратном пути. У меня разрывалось сердце при мысли, что мы должны оставить наши чудные ружья у этого вора. От одного вида оружия у старого прохвоста разгорелись глаза, и он не мог оторвать от него своего жадного взгляда. Поэтому мне пришлось принять некоторые меры предосторожности. Прежде всего я зарядил все ружья, взвел курки и заявил ему, что если он до них дотронется, то они тут же выстрелят. Кафр немедленно произвел эксперимент с моей двустволкой. Раздался выстрел, и пуля пробила дыру в одном из его быков, которых в это время гнали в крааль, а сам он от отдачи ружья полетел вверх тормашками. С испугом старик вскочил на ноги и, очень расстроенный потерей быка, имел наглость потребовать с меня возмещения его стоимости. При этом он клялся, что ничто на свете не заставит его дотронуться до нашего оружия. — Спрячь этих живых дьяволов в солому, — ворчал он, — иначе они всех нас убьют! Зная, что старик очень суеверен, я пригрозил ему, что в случае пропажи хоть одной вещи я убью колдовством и его и всех его родичей, а если мы погибнем в пути и он осмелится украсть наши ружья, я явлюсь к нему с того света и мой призрак будет преследовать его и днем и ночью. Затем я заявил этому негодяю, что заговорю весь его скот и он взбесится, что все молоко его коров скиснет, а самого его доведу до такого состояния, что ему не захочется жить. Кроме того, я пообещал выпустить на него из ружей сидящих там чертей, чтобы они должным образом поговорили с ним. Словом, дал ему достаточно ясно понять, какое его ждет наказание в случае, если он не оправдает нашего доверия. После этого старый негодяй поклялся, что будет хранить наши вещи, как дух своего покойного отца. Договорившись с кафром и освободившись таким образом от лишнего груза, мы отобрали снаряжение, необходимое для нашего дальнейшего путешествия. Но как мы не старались взять как можно меньше вещей, все же на каждого приходилось около сорока фунтов. Вот что мы взяли: Три винтовки системы «экспресс» и к ним двести патронов. Две магазинные винтовки «винчестер» (для Амбопы и Вентфогеля) и к ним тоже двести патронов. Три револьвера «кольт» и шестьдесят патронов. Пять походных фляг, каждая емкостью в четыре пинты[45]. Пять одеял. Двадцать пять фунтов билтонга — вяленого мяса. Десять фунтов самых лучших бус для подарков. Небольшую аптечку с самыми необходимыми лекарствами, в которую не забыли положить одну унцию хинина и пару маленьких хирургических инструментов. Кроме этой поклажи, с нами была кое-какая мелочь: компас, спички, карманный фильтр, табак, небольшая лопата, бутылка бренди и, наконец, та одежда, которая была на нас. Для такого опасного и рискованного путешествия это было немного, но мы не решились взять больше, так как и без того ноша в сорок фунтов была более чем достаточной. Идти по раскаленным пескам пустыни и тащить с собой большой груз — дело трудное; в таких случаях имеет значение каждая лишняя унция. Несмотря на все наши старания, мы никак не могли уменьшить нашу поклажу, так как взяли только то, без чего никак не могли обойтись. С большим трудом я уговорил трех жалких кафров из поселка пройти с нами двадцать миль, что составляло первый этап нашего путешествия. Каждый из них должен был нести большую тыквенную бутыль, в которую вмещался галлон жидкости, за что я обещал им подарить по охотничьему ножу. Мы рассчитывали пополнить наш запас воды после первого ночного перехода, так как решено было тронуться в путь ночью, когда было сравнительно прохладно. Кафрам я сказал, что мы отправляемся охотиться на страусов, которые действительно в изобилии водились в пустыне. В ответ они что-то тараторили, пожимали плечами, уверяя, что мы сошли с ума и неминуемо умрем от жажды, что, между прочим, было действительно весьма вероятно. Но так как кафры страстно желали получить ножи, о которых они не смели и мечтать, — в этих диких краях ножи были большой редкостью, — они все же в конце концов согласились идти с нами первые двадцать миль, по-видимому решив, что если мы все перемрем от жажды, то это, в сущности, не их дело. Весь следующий день мы только и делали, что спали и отдыхали. На закате солнца, плотно поужинав свежей говядиной, мы напились чаю, причем Гуд с большой грустью заметил, что неизвестно, когда нам придется его пить в следующий раз. Затем, закончив последние приготовления к походу, мы снова легли и начали ждать восхода луны. Наконец, около девяти часов вечера, она появилась во всем своем великолепии. Свет ее хлынул на дикие просторы и озарил серебряным сияньем убегающую вдаль пустыню, такую же торжественную и безмолвную, как усыпанный звездами небесный свод над нами. Мы встали, но не двигались с места, словно колебались и медлили трогаться в путь: я думаю, человеку свойственно колебаться на пороге в невозвратное. Мы — трое белых — отошли в сторону. В нескольких шагах впереди нас стоял Амбопа с ружьем за плечами и ассегаем в руке; он пристально смотрел вдаль, в пустыню. Вентфогель и нанятые нами кафры с бутылями в руках собрались вместе и стояли несколько позади нас. — Господа! — сказал после небольшого молчания сэр Генри своим звучным, низким голосом. — Мы отправляемся в необыкновенное путешествие, которое вряд ли когда-либо приходилось предпринимать человеку. Едва ли оно окончится благополучно. Нас трое. И я убежден, что во всех предстоящих испытаниях, что бы с нами ни случилось, мы будем стоять друг за друга до последнего вздоха. А теперь, прежде чем тронуться в путь, вознесем краткую молитву всемогущему, который управляет судьбами человека и с сотворения мира предопределяет его пути. Положимся же на волю бога, и да будет ему угодно направить наши стопы по верному пути! Он снял шляпу и, закрыв лицо руками, минуты две молился. Мы с Гудом последовали его примеру. Я, как и большинство охотников, не умею горячо молиться. Что касается сэра Генри, то я думаю, что в глубине души он очень религиозный человек, хотя мне и не приходилось более слышать от него подобных речей, за исключением еще одного раза. Гуд тоже весьма набожен, хотя и любит чертыхаться. Во всяком случае, не помню, чтобы я, кроме еще одного случая, так искренно молился, как в этот раз. После молитвы у меня стало легче на душе. Наше будущее было совершенно неизвестно, но я думаю, что все неведомое и страшное всегда приближает человека к его творцу. — Ну, — сказал сэр Генри, — а теперь в дорогу! И мы тронулись в путь. В сущности, идти нужно было почти наугад. Ведь, кроме отдаленных гор и карты Хозе да Сильвестра, начертанной триста лет назад на клочке материи полусумасшедшим, умирающим стариком, нам нечем было руководствоваться. На этот обрывок холста было очень трудно положиться, но тем не менее на него возлагались все наши надежды на успех. Меня беспокоило, удастся ли нам найти тот маленький водоем с «плохой водой», который, судя по карте старого португальца, находился посреди пустыни, то есть в шестидесяти милях от крааля Ситанди и на таком же расстоянии от гор Царицы Савской. В случае неудачи мы неминуемо должны были погибнуть мучительной смертью. У нас не было почти никаких шансов найти этот водоем в огромном море песка и зарослях кустарника. Если даже предположить, что да Сильвестра правильно указал его местонахождение, разве не мог он за эти три века высохнуть под палящим солнцем пустыни? Разве не могли затоптать его дикие звери? И, наконец, не занесло ли его песками? Молча, как тени, мы продвигались в ночном мраке, увязая в глубоком песке. Идти быстро было невозможно, так как мы беспрестанно натыкались на колючие кусты. Песок забирался в наши вельдскуны и охотничьи ботинки Гуда, так что время от времени мы были вынуждены останавливаться и вытряхивать обувь. Ночная прохлада смягчала и приятно освежала тяжелый удушливый воздух пустыни, и мы, несмотря на частые остановки и трудности перехода, довольно значительно продвинулись вперед. Кругом царило гнетущее безмолвие. Желая нас подбодрить, Гуд начал насвистывать песенку «Девушка, которую я оставил дома», но веселый мотив звучал мрачно и зловеще в бескрайных просторах, и он замолк. Вскоре с нами произошло забавное происшествие, которое сначала нас сильно напугало, но затем очень рассмешило. Гуд шел впереди, держа в руках компас, с которым он, как моряк, умел прекрасно обращаться, мы же брели друг за другом позади него. Вдруг он громко вскрикнул и исчез. В тот же момент вокруг нас раздались какие-то дикие звуки: фырканье, храпенье, стоны и тяжелый топот поспешно убегающих ног. Несмотря на почти полный мрак, мы, хоть и с трудом, могли различить неясные очертания каких-то странных существ, которые стремительно неслись вперед, поднимая вихри песка. Туземцы побросали свою поклажу, намереваясь удрать, но, вспомнив, что бежать некуда, бросились ничком на землю и начали вопить, что это дьявол. Мы с сэром Генри стояли ошеломленные, но были еще больше ошеломлены, когда внезапно увидели Гуда, несущегося во весь опор по направлению к горам. Нам показалось, что капитан мчится верхом на лошади, издавая при этом дикие вопли. Вдруг, взмахнув руками, он со всего размаха тяжело грохнулся на землю. Тогда я понял, что случилось: в темноте мы наткнулись на стадо спящих квагг[46], и Гуд упал на спину одного из животных, которое в испуге сразу же вскочило и ускакало вместе с седоком. Крикнув своим спутникам, чтобы они не беспокоились, я бросился к Гуду и, к моей величайшей радости, нашел его сидящим на песке. Я вздохнул с облегчением, увидя, что он нисколько не пострадал от падения. Конечно, капитан был сильно напуган и его основательно тряхнуло, хотя это никак не отразилось ни на нем, ни на его монокле, который, как обычно, красовался в его глазу. После этого забавного инцидента мы продолжали путь без всяких неприятных происшествий. Около часу ночи сделав привал, выпив немного воды (пить вволю мы не могли, так как помнили, насколько драгоценна была для нас эта влага) и отдохнув с полчаса, мы двинулись дальше. Мы шли, шли и шли, пока наконец восток не зардел румянцем, как вспыхнувшее от смущения лицо девушки. Показались нежные лучи желтовато-розового цвета; они быстро разгорались и вдруг превратились в огненно-золотые полосы, по которым в пустыню скользнул рассвет. Звезды становились все бледнее и наконец совсем исчезли. Золотая луна потускнела, и горные цепи обозначились на поблекшем ее лике, как тени на лице умирающего. Лучи света, похожие на копья, сверкнули где-то очень далеко и озарили бескрайную пустыню, пронизывая и зажигая покров тумана, окутывающий ее, пока она вся не затрепетала золотым блеском. Наступил день. Мы решили не останавливаться, хотя нам и очень хотелось отдохнуть, так как знали, что, когда солнце поднимется выше, наступит такая жара, что вряд ли можно будет продолжать путь. Наконец, примерно через час, мы издали заметили несколько скал, возвышавшихся на ровной местности. Едва волоча ноги от усталости, мы поплелись к ним и с радостью увидели, что одна из них сильно выдается вперед, образуя навес, который мог служить хорошим убежищем от зноя. Земля под ним была покрыта мелким песком. Мы с наслаждением там укрылись, выпили немного воды, съели по кусочку билтонга и тотчас же заснули мертвым сном. Когда мы проснулись, было уже три часа. Наши носильщики-кафры уже ждали нашего пробуждения, собираясь в обратный путь. Они были по горло сыты пустыней, и никакие ножи на свете не заставили бы их идти дальше. Мы с наслаждением выпили всю оставшуюся в флягах воду и, вновь наполнив их драгоценной влагой из тыквенных бутылей, принесенных туземцами, отпустили их домой. В половине пятого мы двинулись дальше. В пустыне царила мертвая тишина. На всем видимом пространстве этой бесконечной песчаной равнины, кроме нескольких страусов, не было видно ни одного живого существа. Очевидно, для зверей здесь было слишком сухо и, за исключением одной или двух смертоносных кобр, мы не повстречали ни единого пресмыкающегося. Тем не менее одно насекомое встречалось в изобилии: обычная комнатная муха. Они летали по пустыне и следили за нами, как шпионы, но не «поодиночке, а целыми отрядами», как это как будто где-то сказано в Ветхом завете. Комнатная муха — необыкновенное насекомое. Куда бы вы не пошли, вы всюду встречаете это создание. Так было, наверно, всегда, с начала мироздания. Однажды я видел это насекомое в куске янтаря, которому, как мне рассказывали, было не менее пятисот тысяч лет, и оно выглядело точно так же, как наша современная муха. Я почти не сомневаюсь в том, что когда на земле будет умирать последний человек, то муха (если, конечно, это случится летом) будет жужжать и кружиться вокруг него и внимательно следить, ожидая удобного случая, чтобы сесть ему на нос. На закате солнца мы сделали привал и стали ждать восхода луны. Наконец она появилась на небе, спокойная и безмятежная, как всегда, и мы потащились дальше. Отдохнув только один раз около двух часов ночи, мы плелись всю ночь напролет, пока не взошло долгожданное солнце и мы не смогли наконец отдохнуть от мучительного ночного перехода. Выпив несколько глотков воды, совершенно измученные, мы повалились на песок и тотчас же заснули. Оставлять кого-нибудь на страже не было никакой необходимости, так как в этой бесконечной песчаной равнине не было ни одного живого существа. Нашими единственными врагами были жара, жажда и мухи. Но я скорей согласился бы подвергнуться опасности со стороны человека или дикого зверя, чем иметь дело с этой ужасной троицей. К сожалению, на этот раз нам не посчастливилось укрыться от зноя под какой-нибудь гостеприимной скалой. В семь часов мы проснулись от нестерпимой жары, испытывая такое ощущение, что нас, словно кусок филея, насадили на вертел и держат над раскаленными углями. Солнце пропекало буквально насквозь; казалось, что его палящие лучи вытягивают нашу кровь. Мы сели, едва переводя дыхание. — Убирайтесь вон! — воскликнул я в изнеможении, разгоняя тучу мух, неутомимо и звонко жужжавших над моей головой. Счастливые! Они не чувствовали жары. — Честное слово… — промолвил сэр Генри. — Да, жарковато! — перебил его сэр Гуд. Жара действительно была невыносимая, и негде было укрыться от этого адского пекла. Вокруг, куда ни кинь взгляд, раскинулась голая, раскаленная пустыня. Не было ни бугорка, ни камня, ни единого деревца, ничего, что могло бы дать хоть чуточку тени. Нас ослеплял нестерпимо яркий блеск солнца, а жгучие, дрожащие струи воздуха, поднимающиеся над пустыней, как над раскаленной докрасна плитой, обжигали глаза. — Что же делать? — спросил сэр Генри. — Долго выдержать этот ад невозможно. В полном недоумении мы смотрели друг на друга. — Вот что! — сказал Гуд. — Нам нужно вырыть яму, забраться в нее, а сверху накрыться кустами. Это предложение не вызвало в нас особого энтузиазма, но все же это было лучше, чем ничего. Мы тотчас же принялись за работу, и с помощью рук и лопаты, которую с собой захватили, нам через час удалось вырыть яму около десяти футов длиной, двадцати шириной и двух футов глубиной. Затем охотничьими ножами мы нарезали стелющиеся по земле ветки кустарника, забрались в яму и накрылись ими. Один Вентфогель не последовал нашему примеру: он, как готтентот, привык к пеклу и нисколько от него не страдал. Это убежище до некоторой степени предохраняло нас от жгучих солнечных лучей. Я предоставляю читателю вообразить, каков был воздух в этой самодельной могиле, так как у меня нет слов его описать. Наверно, Черная Яма в Калькутте была раем по сравнению с нашей дырой. Я до сих пор не понимаю, как мы пережили этот ужасный день, когда, задыхаясь от недостатка воздуха, мы лишь время от времени смачивали губы водой, которой оставалось совсем мало. Если бы мы дали себе волю, она была бы выпита в первые же два часа. Но мы вынуждены были соблюдать самую строгую экономию, так как слишком хорошо понимали, что без воды нам грозит гибель от жажды. Время тянулось невыносимо медленно. Но всему на свете бывает конец, — если, конечно, доживешь до него, — и этот страшный день начал склоняться к вечеру. Около трех часов дня мы решили, что терпеть эту пытку больше невозможно. Лучше умереть в пути, чем медленно погибать от жажды и невыносимой жары в этой страшной яме. Отпив несколько глотков из нашего более чем скудного запаса воды, которая нагрелась до температуры человеческой крови, мы, шатаясь, вновь поплелись дальше. Нам удалось уже пройти около пятидесяти миль в глубь пустыни. Если читатель вспомнит наставления старого да Сильвестра и посмотрит еще раз на его карту, он увидит, что пустыня простирается на сорок лье[47] и водоем с «плохой водой» указан почти посреди нее. Сорок лье составляет сто двадцать миль, следовательно, мы должны были находится самое большее в двенадцати или пятнадцати милях от воды, если, конечно, она еще существовала. Весь день до захода солнца, испытывая нечеловеческие мучения и едва волоча ноги, мы медленно продвигались вперед, делая не более полуторы мили в час. Когда солнце село, мы сделали привал и в ожидании восхода луны немного подремали, предварительно выпив несколько глотков воды. Перед тем как лечь, Амбопа указал нам на небольшой холм, очертания которого неясно вырисовывались на гладкой поверхности песчаной равнины на расстоянии около восьми миль от нашей стоянки. Издали он был похож на муравейник, и, засыпая, я недоумевал, что это могло быть. Взошла луна. Мы встали совершенно обессиленные и, изнывая от мучительной жары и невыносимой жажды, потащились дальше. Кто не испытал этих мук сам, тот не может себе представить ни наших страданий, ни того, что мы в тот день пережили. Мы уже не шли, а шатались из стороны в сторону, время от времени падая от полного изнеможения. Почти каждый час нам приходилось садиться и отдыхать. У нас не было сил даже разговаривать. До сих пор Гуд все время болтал и шутил, так как он очень веселый малый, но и его веселость куда-то пропала. Наконец, около двух часов ночи, совершенно выдохшиеся и физически и душевно, мы подошли к подножию странного маленького песчаного холма, который с первого взгляда показался нам похожим на огромный муравейник. Высотой он был примерно в сто футов и занимал площадь около двух акров. Тут мы остановились и, доведенные до отчаяния нестерпимой жаждой, выпили до последней капли всю оставшуюся воду. Всего-то пришлось по пол-пинты на человека, тогда как каждый из нас с наслаждением выпил бы по галлону[48]. Затем мы легли вновь. Я уже засыпал, когда услышал, как Амбопа, обращаясь к самому себе, произнес по-зулусски: — Если мы завтра не найдем воду, то все умрем, прежде чем взойдет луна. Несмотря на жару, я содрогнулся. Нельзя сказать, что мысль о возможности такой страшной смерти была приятной, но даже и она не помешала мне заснуть.Глава 6
ВОДА! ВОДА!
Через два часа я проснулся. Было около четырех утра. Как только первая настоятельная потребность в сне, вызванная физической усталостью, была удовлетворена, я вновь ощутил мучительную жажду. Больше мне не удалось заснуть. Во сне я видел, будто купаюсь в реке, окаймленной зелеными берегами, поросшими деревьями, но, проснувшись, мне пришлось вернуться к печальной действительности. Нас окружала все та же бесплодная пустыня, и мне вспомнились слова Амбопы, что, если в этот день мы не найдем воды, нам грозит ужасная смерть. Ни одно человеческое существо не смогло бы долго прожить без воды в такую жару. Я сел и начал тереть свое грязное лицо сухими, заскорузлыми руками. Мои губы и веки слиплись, и, только протерев, мне удалось с усилием их открыть. Скоро должно было взойти солнце, но в воздухе совершенно не чувствовалось утренней свежести. Нас окружал не поддающийся никакому описанию душный, раскаленный мрак. Мои спутники еще спали. Наконец настолько рассвело, что уже можно было читать. Тогда я открыл маленькое карманное издание легенд Инголдзби, которое я захватил с собой, и прочел «Реймскую галку». Когда я дошел до места, где говорится:21 мая . Вышли в 11 часов утра, так как воздух был достаточно прохладен для дневного перехода. Взяли с собой несколько дынь. С трудом тащились вперед весь день, но дынь больше не встречали — очевидно, вышли из той полосы, где они растут. Не видели никакой дичи. На заходе солнца остановились на ночлег. Ничего не ели в течение многих часов. Ночью сильно страдали от холода. 22-го . Снова вышли на рассвете, чувствуя большую слабость. За весь день прошли всего пять миль. Встретилось несколько небольших участков земли, покрытых снегом, которого мы и поели, так как больше есть нам было нечего. Расположились на ночлег под выступом огромного плато. Жестокий холод. Выпили понемногу бренди и легли, завернувшись в свои одеяла и прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть. Голод и усталость причиняют нам ужасные страдания. Боялись, что Вентфогель не доживет до утра. 23-го . Снова попытались идти дальше, как только солнце поднялось достаточно высоко и немного отогрело наши застывшие члены. Мы в ужасном состоянии, и я боюсь, что если не раздобудем пищи, то этот день будет последним днем нашего путешествия. Осталось только немножко бренди. Гуд, сэр Генри и Амбопа держатся замечательно, но Вентфогель очень плох. Подобно большинству готтентотов, он не выносит холода. Я уже не ощущаю прежней острой боли в желудке, но как-то онемел. Остальные говорят, что чувствуют то же самое. Мы находимся теперь на уровне обрывистого хребта или стены из лавы, соединяющей две горы. Вид отсюда великолепен. Позади нас до самого горизонта лежит огромная сверкающая пустыня, а перед нами расстилается много миль гладкого, твердого снега, образующего почти ровную поверхность, плавно закругляющуюся кверху. В центре ее находится горная вершина, вероятно несколько миль в окружности, вздымающаяся в небо тысячи на четыре футов. Не видно ни одного живого существа. Помоги нам, господи! Боюсь, что настал наш последний час.А теперь я отложу свой дневник в сторону, отчасти потому, что это не очень интересный материал для чтения, отчасти потому, что то, что случилось дальше, заслуживает, пожалуй, более детального изложения. В течение всего этого дня (23 мая) мы медленно взбирались по покрытому снегом склону, время от времени ложась, чтобы собраться с силами. Должно быть, странно выглядела наша компания — пятеро изможденных, подавленных людей, с трудом передвигающих свои усталые ноги по сверкающей равнине и озирающихся вокруг голодными глазами. Толку от этого было, конечно, мало, так как сколько ни озирайся, ничего съедобного вокруг не было. В этот день мы прошли не более семи миль. Перед самым заходом солнца мы оказались прямо у вершины левой груди Царицы Савской, у огромного гладкого бугра, покрытого смерзшимся снегом, который возвышался над нами на тысячи футов. Как ни плохо мы себя чувствовали, мы не могли не залюбоваться чудесным зрелищем, раскинувшимся перед нашими глазами. Волны света, струящиеся от заходящего солнца, увеличивали красоту пейзажа, местами окрашивая снег в кроваво-красный цвет и увенчивая снежные массы, вздымающиеся над нами, сверкающей диадемой. — Знаете что? — вдруг сказал Гуд. — Ведь мы должны быть сейчас близко от пещеры, о которой упоминал старый джентльмен. — Да, — отозвался я, — если только она вообще существует. — Послушайте, Квотермейн, — со вздохом сказал сэр Генри, — не надо так говорить. Я полностью доверяю старому португальцу — вспомните-ка воду. Мы скоро найдем и пещеру. — Если мы не найдем ее до наступления темноты, мы можем считать себя покойниками, вот и все, — утешительно прозвучал мой ответ. Еще десять минут мы брели в молчании. Амбопа шел рядом со мной, завернувшись в одеяло, туго затянув свой кожаный пояс, чтобы, как он говорил, «заставить голод съежиться», так что талия его стала совсем девичьей. Вдруг он схватил меня за руку. — Смотри! — сказал он, указывая на склон вершины горы. Я посмотрел в этом направлении и заметил на расстоянии примерно двухсот ярдов от нас нечто похожее на дыру в гладкой снежной поверхности. — Это пещера, — сказал Амбопа. Напрягая последние силы, мы устремились к этому месту и убедились, что дыра эта действительно представляет собой вход в пещеру, и несомненно именно в ту, о которой писал да Сильвестра. Мы успели подойти туда как раз вовремя, потому что, едва мы добрались до места, солнце село с поразительной быстротой и все окружающее погрузилось во тьму. В этих широтах почти не бывает сумерек. Мы вползли в пещеру, которая казалась не очень большой, и, прижавшись друг к другу, чтобы согреться, проглотили остатки нашего бренди — на каждого пришлось едва по глотку. Затем мы попытались забыть свои злоключения во сне, но жестокий холод не давал нам заснуть. Я уверен, что на этой огромной высоте термометр показал бы не менее четырнадцати или пятнадцати градусов ниже ноля. Что это означало для нас, обессиленных перенесенными лишениями, недостатком пищи и нестерпимой жарой пустыни, моему читателю легче попытаться себе представить, чем мне описать. Достаточно сказать, что мне еще никогда не приходилось чувствовать, что смерть так близка. Час за часом тянулась эта страшная ночь. Мы сидели в пещере и чувствовали, как мороз бродит вокруг, жаля нас то в палец, то в ногу, то в лицо. Все теснее и теснее мы прижимались друг к другу, тщетно пытаясь согреться, так как в наших жалких, изголодавшихся скелетах не оставалось больше тепла. Иногда кто-нибудь из нас на несколько минут впадал в тревожный сон, но долго мы спать не могли — может быть, к счастью, потому что я не думаю, что, заснув, мы проснулись бы когда-либо вновь. Я уверен, что только сила воли сохранила нам жизнь. Незадолго до рассвета я услышал, что готтентот Вентфогель, зубы которого стучали всю ночь, как кастаньеты, глубоко вздохнул и вдруг перестал стучать зубами. Тогда я не обратил на это особого внимания, решив, что он заснул. Он сидел, прижавшись ко мне спиной, и мне казалось, что она становится все холоднее и холоднее, пока не стала холодной, как лед. Наконец тьму сменила предрассветная мгла, затем быстрые золотые стрелы света начали вспыхивать на снегу, и ослепительное солнце поднялось над стеной из лавы и осветило наши полузамершие тела и Вентфогеля, который сидел среди нас мертвый. Неудивительно, что его спина казалась мне холодной. Бедняга умер, когда я услышал его вздох, и теперь уже почти совершенно окоченел. Глубоко потрясенные, мы отползли подальше от трупа (странно, какой ужас мы всегда испытываем при виде мертвеца!) и оставили его сидеть там, по-прежнему охватив колени руками. К этому времени холодные лучи солнца (они действительно были холодными) проникли прямо в пещеру. Внезапно я услышал чье-то восклицание, полное ужаса, и обернулся, чтобы посмотреть в глубь пещеры. И вот что я увидел. В конце пещеры, которая была не более двадцати футов длиной, сидела другая фигура. Голова ее была опущена на грудь, а длинные руки висели по бокам. Я вгляделся в нее и увидел, что это тоже мертвец, и, кроме того, белый человек. Мои спутники также увидели его, и наши расстроенные нервы не смогли вынести подобное зрелище. Охваченные одним общим желанием уйти из этого страшного места, мы бросились из пещеры со всей скоростью, на которую были способны наши полузамерзшие ноги.
Глава 7
ДОРОГА ЦАРЯ СОЛОМОНА
Выбежав из пещеры на залитое солнцем снежное плато, мы почти тотчас же остановились. Думаю, что у каждого из нас было чувство неловкости друг перед другом за то малодушие, которое мы проявили при виде мертвеца. — Я иду обратно, — сказал сэр Генри. — Зачем? — спросил Гуд. — У меня явилась мысль, что… что это мой брат, — взволнованно ответил сэр Генри. Это предположение показалось нам вполне возможным, и мы вернулись в пещеру, чтобы его проверить. Некоторое время наши глаза, ослепленные ярким солнцем и сверкающей белизной снега, ничего не могли различить в полумраке пещеры. Но это продолжалось недолго. Вскоре мы освоились с темнотой и осторожно подошли к мертвецу. Сэр Генри опустился на колени и стал пристально всматриваться в его лицо. — Слава богу! — воскликнул он с облегчением. — Это не Джордж! Тогда я подошел к трупу и тоже начал его разглядывать. Это был человек высокого роста, средних лет, с тонкими чертами лица и орлиным носом; у него были длинные черные усы и темные с проседью волосы. Кожа была совершенно желтая и плотно обтягивала его высохшее лицо. На нем не было никакой одежды, кроме полуистлевших штанов, давно превратившихся в лохмотья. На шее этого насквозь промерзшего трупа висело распятие из слоновой кости. — Кто бы это мог быть? — воскликнул я с удивлением. — Неужели вы не догадываетесь? — спросил Гуд. Я отрицательно покачал головой. — Кто же это, как не старый дон Хозе да Сильвестра! — Не может быть! — прошептал я прерывающимся от волнения голосом. — Ведь он умер триста лет назад! — А что же тут удивительного? — спокойно ответил Гуд. — В таком холоде он может с таким же успехом просидеть и три тысячи лет. При столь низкой температуре кровь и мясо сохраняются свежими на веки вечные, как у замороженной новозеландской баранины. А в этой пещере, черт побери, довольно холодно. Солнце сюда никогда не проникает, и ни один зверь не может забрести в поисках пищи, потому что здесь вообще нет ничего живого. Вне всякого сомнения, раб, о котором дон Хозе упоминает в своей предсмертной записке, снял с него одежду и оставил здесь его труп: ему одному было не под силу его похоронить. Посмотрите! — продолжал Гуд, нагибаясь и поднимая остро отточенный обломок кости довольно странной формы. — Вот этой костью Сильвестра и начертил свою карту. Мы были настолько потрясены этим открытием, что даже забыли свои собственные бедствия. Все это казалось нам почти сверхъестественным. В полном безмолвии мы глядели на обломок кости и на труп старого португальца. — Смотрите, — сказал наконец сэр Генри, указывая на едва заметную ранку на левой руке старого дона Сильвестра, — вот откуда он брал кровь, которой написана его записка. Приходилось ли кому-либо в жизни видеть что-нибудь подобное? Теперь не оставалось никакого сомнения, что перед нами был да Сильвестра. Должен признаться, мне стало жутко. Перед нами сидел мертвец, указания которого, начертанные почти десять поколений назад, привели нас в эту пещеру. В своей руке я держал тот самый грубый обломок кости, которым он писал свои предсмертные строки, и видел на его шее распятие, которое он, прощаясь с жизнью, прижимал к своим холодеющим устам. Глядя на труп, я ясно представил себе последний акт этой драмы: путника, гибнущего в одиночестве от голода и холода и тем не менее стремящегося передать людям великую тайну. Мне даже показалось, что в его резких чертах лица я вижу некоторое сходство с его потомком, моим бедным другом Сильвестром, умершим на моих руках двадцать лет назад. Возможно, это был плод моего воображения. Но так или иначе, он сидел перед нами, как страшное предупреждение для тех, кто, презрев судьбу, пытается приоткрыть завесу неизвестного. Пройдут века, и он все будет сидеть тут же с великой печатью смерти на челе и наводить ужас на случайного путника, который может, как и мы, забрести в эту пещеру и нарушить его покой. Несмотря на то, что мы умирали с голода и холода, это зрелище потрясло нас до глубины души. — Уйдем отсюда, — тихо сказал сэр Генри. — Впрочем, нет! Мы оставим ему товарища по несчастью, который разделит его одиночество. И, подняв мертвое тело готтентота Вентфогеля, он усадил его рядом со старым доном да Сильвестра. Затем сэр Генри наклонился и резким движением разорвал гнилой шнурок на шее старого португальца, на котором висело распятие. Он даже не пытался его развязать, потому что его пальцы не сгибались от холода. Я думаю, что это распятие находится у него и по сей день. Я же взял перо, сделанное из обломка кости. Оно сейчас лежит передо мной на столе. Иногда я им пользуюсь, когда подписываю свое имя. Оставив гордого белого человека прошлых веков и бедного готтентота нести вечную стражу среди вечного безмолвия девственных снегов, мы в полном изнеможении вышли из пещеры на залитую благодатным солнцем снежную равнину и побрели дальше. В глубине души каждый из нас думал о том, что недалек тот час, когда и нас постигнет та же участь. Пройдя около полумили, мы подошли к краю плато и обнаружили, что самая вершина, то есть бугор, венчающий гору, находится не посреди него, как это казалось нам со стороны пустыни. Из-за густого утреннего тумана мы не могли видеть того, что было ниже нас. Но вскоре его верхние слои начали рассеиваться, и мы заметили у самого края снежного откоса лужайку, покрытую зеленой травой. Она находилась ниже нас не более чем на пятьсот ярдов, и по ней протекал ручей. Но это было не все: на берегу, греясь на солнце, лежали десять-пятнадцать крупных антилоп. Находясь так далеко от них, мы, конечно, не могли установить, к какой породе они принадлежали. Невозможно передать то ликование, которое охватило нас при виде этих животных. Ведь это была пища, причем пища в изобилии, которую, правда, нужно было еще добыть. Сразу же возник вопрос, как это сделать. Антилопы находились на расстоянии не менее шестисот ярдов от нас, то есть слишком далеко даже для хорошего стрелка, а от этого выстрела зависела наша жизнь. Мы поспешно стали совещаться, как нам поступить. Мысль о том, чтобы неслышно подкрасться к животным, пришлось оставить, так как нам не благоприятствовал ветер. Он дул в их сторону, и они могли нас почуять; кроме того, как бы осторожны мы ни были, нас нельзя было не заметить на ослепительно белом снегу. — Ну что ж, придется стрелять отсюда, — сказал сэр Генри. — Надо только решить, из какой винтовки: взять ли «винчестер» или «экспресс»? Как вы думаете, Квотермейн? Вопрос был серьезный. Магазинная винтовка «винчестер» (у нас их было две; Амбопа нес свою и бедняги Вентфогеля) била на тысячу ярдов, двустволка же «экспресс» — всего на триста пятьдесят. Свыше этого расстояния стрелять из нее было рискованно, так как можно было не попасть в цель. С другой стороны, если бы попадание удалось, у нас было бы больше шансов убить животное, так как «экспресс» стрелял разрывными пулями. Вопрос был трудный, но все же я решил, что мы должны пойти на риск и стрелять из «экспресса». — Каждый будет целиться в ту антилопу, которая находится против него, — приказал я. — Цельтесь прямо в лопатку или чуть выше. А ты, Амбопа, дай сигнал, чтобы все стреляли одновременно. Наступило молчание. Мы все трое старательно прицелились, как должен целиться человек, который знает, что от этого выстрела зависит его жизнь. — Стреляй! — скомандовал Амбопа по-зулусски, и почти в тот же миг раздалось три оглушительных выстрела. На мгновенье перед нашими глазами повисли в воздухе три облачка дыма, и громкое эхо долго не смолкало, нарушая безмолвие снежных просторов. Но вскоре дым рассеялся, и — о радость! — мы увидели, что крупный самец лежит на спине и судорожно бьется в предсмертных конвульсиях. Нам больше не грозила смерть от голода, мы были спасены! Несмотря на слабость и полное истощение, с громким криком торжества и восторга мы бросились вниз по снежному склону, и через десять минут перед нами лежали сердце и печень убитого животного. Но тут возникло новое затруднение: не было топлива, чтобы развести костер и поджарить нашу добычу. С горестью и унынием мы глядели друг на друга. — Когда человек умирает от голода, он не может быть разборчив, — сказал Гуд. — Будем есть мясо сырым. Действительно, в нашем положении другого выхода не было. Голод терзал нас до такой степени, что это предложение не вызвало в нас чувства отвращения, неизбежного при других обстоятельствах. Чтобы охладить сердце и печень антилопы, мы зарыли их на несколько минут в снег, затем промыли в ледяной воде ручья и с жадностью съели. Сейчас, когда я пишу эти строки, все это кажется ужасным, но я должен честно признаться, что в жизни мне не приходилось есть ничего вкуснее. Через какие-нибудь пятнадцать минут нас нельзя было узнать — мы буквально ожили, силы наши восстановились, слабый пульс опять забился, и кровь заиграла в жилах. Однако, помня, какие пагубные последствия может вызвать переедание на голодный желудок, мы были очень осторожны и съели сравнительно немного, остановившись вовремя, пока были еще голодны. — Слава богу! — воскликнул сэр Генри. — Это животное спасло нас от смерти. Между прочим, Квотермейн, что это за зверь? Я встал и подошел к убитому животному, чтобы как следует его рассмотреть, так как не был уверен, что это была антилопа. По величине оно не уступало ослу, шерсть его была густая, коричневого цвета, с красноватыми, едва заметными полосами, рога большие и загнутые назад. Я никогда не видел таких животных — эта порода была мне совершенно незнакома, но впоследствии узнал, что жители этой удивительной страны называют их «инко». Это редкая разновидность антилопы, которая встречается только на очень больших высотах, где не живут никакие другие звери. Наше животное было убито наповал прямо в лопатку. Трудно было сказать, чья пуля его сразила, но я думаю, что Гуд, помня свой чудесный выстрел, убивший жирафу, в глубине души приписал это своей доблести; мы с ним по этому поводу не спорили. Поглощенные едой, мы не обратили внимания на то, где находимся. Но, утолив свой зверский голод, мы стали обозревать окружающую нас местность, предварительно приказав Амбопе вырезать самые лучшие части инко, чтобы обеспечить себя на дорогу достаточным количеством мяса. Было уже восемь часов; воздух был чист и прозрачен — казалось, что солнце впитало в себя густой утренний туман. Не знаю, как описать ту величественную панораму, которая раскинулась перед нашими глазами. За нами и над нами возвышались горы, белоснежные вершины гор Царицы Савской, а внизу, примерно в пяти тысячах футов ниже того места, где мы стояли, на много миль раскинулся очаровательнейший сельский пейзаж. Прямо перед нами, меж холмов, равнин и темных величественных лесов, текла широкая река; налево от нее простирались необозримые пространства пастбищ. В их волнистой траве мы издали видели многочисленные стада животных, диких или домашних — на таком расстоянии мы рассмотреть не могли. Вдали, на горизонте, вырисовывались горы. Направо страна была менее гориста. Одинокие холмы перемежались с полосами возделанных полей, и среди них были видны группы куполообразных хижин. Вся панорама лежала перед нами, как карта, на которой сверкали реки, подобные серебряным змеям. Вершины гор, похожие на вершины Альп, застыли в торжественном величии, прихотливо украшенные снежными венцами, а над всем этим сияло радостное солнце и чувствовалось счастливое дыхание жизни. Нас чрезвычайно удивило, что страна, раскинувшаяся перед нами, лежит по крайней мере на три тысячи футов выше, чем пустыня, которую мы пересекли, и что все реки текут с юга на север. Во время наших тяжких испытаний мы уже имели случай убедиться, что на всем протяжении южного склона хребта, на котором мы сейчас стояли, не было никакой воды, в то время, как по северному склону текли водные потоки, большая часть которых впадала в ту могучую реку, которая, причудливо извиваясь, несла свои воды далеко в глубь страны. Мы сидели и молча созерцали этот чудесный вид. Первым нарушил молчание сэр Генри. — Скажите, Квотермейн, — сказал он, обращаясь ко мне, — нанесена ли на карту да Сильвестра Великая Дорога царя Соломона? Я утвердительно кивнул головой, продолжая любоваться восхитительным пейзажем. — Тогда посмотрите сюда, — и сэр Генри указал немного вправо: — Вот она! Мы с Гудом взглянули в указанном направлении и увидели, что в некотором отдалении от нас вилась широкая проезжая дорога, которую мы сначала не заметили, так как, дойдя до равнины, она заворачивала и терялась среди холмистой местности. Как ни странно, но это открытие не произвело на нас особого впечатления, так как после всего виденного мы уже перестали чему-либо удивляться. Нам даже не показалось необъяснимым, что в этой затерянной стране мы увидели шоссе, напоминавшее древнеримские дороги: мы приняли это как нечто совершенно естественное. — Я думаю, — сказал Гуд, — дорога должна проходить совсем близко — где-нибудь направо от нас. Пойдем и поищем ее. Совет был весьма благоразумный, и, умывшись в ручье, мы тотчас же двинулись дальше. В течение некоторого времени мы пробирались по валунам и снежным прогалинам, пока наконец, пройдя около мили, не очутились на вершине небольшого холма и не увидели дорогу прямо у своих ног. Это было великолепное шоссе, высеченное в сплошной скале, шириной по крайней мере в пятьдесят футов, за которым, по-видимому, постоянно присматривали, так как оно было в превосходном состоянии. Сначала мы подумали, что оно тут же и начинается, но, спустившись на дорогу и взглянув назад по направлению к горам Царицы Савской, увидели, что оно поднимается в горы, но на расстоянии около ста шагов от нас неожиданно исчезает. Дальше вся поверхность горного склона была покрыта теми же валунами и снежными прогалинами. — Как вы думаете, в чем тут дело? Куда делась дорога? — спросил меня сэр Генри. Я покачал головой в полном недоумении. — Все ясно! — сказал Гуд. — Я уверен, что когда-то эта дорога пролегала через горный хребет и шла дальше через пустыню. Но с течением времени после извержений вулканов в горах она была залита лавой, а в пустыне ее засыпали пески. Это предположение было весьма правдоподобно; во всяком случае, мы согласились с ним и начали спускаться с горы. Но какая была разница между этим спуском и нашим восхождением на Сулеймановы горы! Сейчас мы были сыты, и путь под гору по великолепной дороге был необычайно легок, в то время как при подъеме мы едва передвигались, утопая в снегу, совершенно обессиленные, замерзшие и полумертвые от голода. Если бы не тяжелые воспоминания о грустной судьбе бедняги Вентфогеля и мрачной пещере, в которой мы его оставили со старым да Сильвестра, мы чувствовали бы себя просто превосходно, несмотря на то, что шли в страну, где нас ждала полная неизвестность и, возможно, опасности. По мере того, как мы спускались вниз, воздух с каждой пройденной милей становился мягче и ароматнее, а страна, раскинувшаяся перед нами, все сильнее поражала нас своей красотой. Что касается самой дороги, то должен сказать, что никогда в жизни я не видел подобного сооружения, хотя сэр Генри утверждал, что дорога через Сен-Готард в Швейцарии очень на нее похожа. Строителей древнего мира, которые ее проектировали, не останавливали никакие препятствия и трудности, встречавшиеся им на пути. В одном месте мы подошли к ущелью шириной в триста футов и глубиной не менее ста и увидели, что все оно завалено огромными глыбами шлифованного камня, в которых снизу были сделаны арки для протока воды; над рекой же величественно и горделиво пролегала дорога. В другом месте она вилась зигзагами у края пропасти в пятьсот футов глубиной, а в третьем шла через туннель в тридцать футов длиной, который был вырыт в горном кряже, преграждающем ей путь. Мы заметили, что стены туннеля были сплошь покрыты барельефами, изображавшими главным образом одетых в кольчуги воинов, управляющих колесницами. Один барельеф был особенно хорош: на переднем плане была изображена битва, а вдали шли побежденные, которых уводили в плен. Сэр Генри с большим интересом рассматривал это произведение искусства глубокой древности. — Конечно, — заметил он, — можно называть этот путь Великой Дорогой царя Соломона, но все же я осмеливаюсь выразить свое скромное мнение и скажу, что безусловно египтяне успели побывать здесь раньше, чем народы царя Соломона. Уж очень эта работа похожа на древнеегипетскую. К полудню мы значительно продвинулись вниз и очутились в той части горного склона, где начинался лес. Сначала нам изредка попадался мелкий кустарник, но чем дальше мы шли, тем он становился чаще и гуще. Наконец мы дошли до обширной рощи, через которую извивалась наша дорога, и увидели, что там растут деревья с серебряной листвой, очень похожие на те, которые встречаются на склоне Столовой горы у Кейптауна. Это меня очень удивило, так как за все время своих странствий я, кроме как в Капе, нигде их не видел. — О! — воскликнул Гуд, с явным восхищением глядя на их блестящие листья. — Здесь же масса дров! Давайте сделаем привал и состряпаем обед. Мой желудок уже почти переварил сырое мясо. Никто не возразил против этого предложения. Мы отошли немного в сторону от дороги и направились к ручью, журчавшему поблизости, наломали сухих веток, и через несколько минут запылал прекрасный костер. Отрезав из принесенного с собой мяса несколько больших толстых кусков, мы поджарили их на конце заостренных палочек, как это делают кафры, и съели с огромным наслаждением. Наевшись досыта, мы зажгли трубки и впали в блаженное состояние, которое после наших мытарств и злоключений казалось нам почти божественным. Берега ручья, у которого мы отдыхали, были покрыты густой зарослью гигантских папоротников, среди которых виднелись прозрачные, как кружево, пучки дикой спаржи. Ручеек весело журчал; нежный ветерок шелестел в серебряной листве деревьев; вокруг ворковали голуби, и птицы с ярким опереньем, порхая с ветки на ветку, сверкали, как живые драгоценные камни. Это был рай. Сознание того, что бесконечные опасности и бедствия, пережитые нами в пути, миновали, что мы достигли земли обетованной, и, наконец, волшебная красота природы — все это так очаровало нас, что мы невольно приумолкли. Сэр Генри и Амбопа, сидя рядом, тихо разговаривали на ломаном английском и не менее ломаном зулусском языке. Я лежал на ароматном ложе из папоротника и, полузакрыв глаза, наблюдал за ними. Вдруг, заметив, что Гуд куда-то исчез, я начал искать его глазами и увидел, что он сидит в одной фланелевой рубашке у ручья, в котором уже успел выкупаться. Привычка к исключительной чистоплотности была настолько сильна, что, вместо того, чтобы отдыхать, капитан с увлечением занимался своим туалетом. Он уже успел выстирать свой гуттаперчевый воротничок, тщательно вытряхнуть и почистить пиджак, жилет, брюки, порванные во время нашего путешествия, и грустно качал головой, рассматривая многочисленные прорехи и дыры. Затем, аккуратно сложив свою одежду, он положил ее на берегу, взял ботинки и пучком папоротника счистил с них грязь. Смазав их куском жира, который благоразумно припрятал, срезав с мяса инко, Гуд начал их натирать, пока они не приобрели более или менее пристойный вид. Затем, внимательно осмотрев ботинки через монокль, он их надел и стал продолжать свой туалет. Вынув из маленького дорожного мешка, с которым он никогда не расставался, гребешок со вставленным в него крошечным зеркальцем, капитан стал тщательно рассматривать свое лицо. По-видимому, он остался недоволен своим видом, потому что начал аккуратно расчесывать и приглаживать свои волосы. Посмотревшись снова в зеркало, он, очевидно, опять себе не понравился и начал щупать подбородок, на котором красовалась изрядная щетина, так как он не брился уже десять дней. «Нет, — подумал я, — не может быть! Неужели он собирается бриться?» Но я не ошибся. Взяв кусок жира, которым он только что смазывал ботинки, Гуд тщательно прополоскал его в ручье. Затем, снова порывшись в своем мешке, он вынул маленькую безопасную бритву, которыми обычно пользуются люди при путешествии по морю. Старательно натерев жиром подбородок и щеки, Гуд начал бриться. Очевидно, этот процесс был весьма болезненный, так как время от времени он охал и стонал, а я, наблюдая за ним, буквально корчился от смеха, видя, как он старается привести в порядок торчащую во все стороны густую щетину. Наконец, когда ему удалось кое-как побрить правую часть лица и подбородка, я вдруг увидел, что какой-то луч, как молния, мелькнул над его головой. Со страшным проклятьем Гуд вскочил на ноги (я уверен, что будь у него обычная бритва, он, наверно, перерезал бы себе горло). Я тоже вскочил, но без проклятий, и вот что я увидел. Шагах в двадцати от меня и десяти от Гуда стояла группа людей. Они были очень высокого роста, с медно-красным цветом кожи. У некоторых на голове развевались пышные султаны из черных перьев, а на плечи были наброшены плащи из шкур леопарда — это все, что я заметил в ту минуту. Впереди стоял юноша лет семнадцати с поднятой еще вверх рукой, в позе античной статуи дискобола. Очевидно, это он бросил нож, который, подобно молнии, сверкнул над головой капитана. Пока я их разглядывал, из группы туземцев вышел старик с гордой осанкой воина и, схватив юношу за руку, что-то ему сказал. После этого все они направились к нам. Сэр Генри, Гуд и Амбопа схватили ружья и угрожающе подняли их вверх, но туземцы не обратили на это решительно никакого внимания и продолжали приближаться к нам. Я сразу сообразил, что они не понимают, что такое огнестрельное оружие, иначе они не отнеслись бы к нему с таким пренебрежением. — Бросьте ваши ружья! — крикнул я своим спутникам. Я сразу понял, что нам нужно убедить туземцев в том, что мы пришли с мирными намерениями, и таким образом расположить их к себе. Это была единственная возможность сохранить жизнь. Они тотчас же повиновались; я же выступил вперед и обратился к пожилому воину, только что удержавшему юношу от дальнейшего нападения. — Привет вам! — сказал я по-зулусски, хотя не знал, на каком языке мне следует к нему обращаться. Я был удивлен, что он меня понял. — Привет! — ответил он, правда не на чисто зулусском языке, но на наречии, столь схожем с ним, что мы с Амбопой сразу его поняли. Впоследствии мы узнали, что эти люди говорили на старом зулусском языке. Между старым и современным зулусским была примерно та же разница, что существует у нас между языком Чосера[50] и английским языком XIX века. — Откуда вы пришли? — обратился к нам старый воин. — Кто вы? И почему у троих из вас лица белые, а лицо четвертого такое же, как у сыновей наших матерей? — добавил он, указывая на Амбопу. Я взглянул на нашего зулуса, и у меня мелькнула мысль, что старик прав. Лицо Амбопы, как и его огромный рост и сложение, было такое же, как у этих туземцев. Но в то время мне некогда было об этом задумываться. — Мы чужеземцы и пришли сюда с миром, — отвечал я, стараясь говорить как можно медленнее, чтобы он меня понял. — А этот человек, — добавил я, указывая а Амбопу, — наш слуга. — Ты лжешь, — возразил старый воин, — ни один человек не может перейти горы, где все живое погибает. Впрочем, ложь твоя ни к чему. Чужеземцы не имеют права вступать на Землю Кукуанов. Вы все должныумереть. Таков закон короля. Готовьтесь к смерти, о чужеземцы! Признаюсь, эти слова меня несколько ошеломили, особенно когда я увидел, что каждый туземец поднес руку к поясу, на котором у него висело что-то весьма похожее на тяжелый, большой нож. — Что говорит эта старая обезьяна? — спросил меня Гуд. — Он говорит, что они собираются нас убить, — мрачно отвечал я. — О господи! — простонал Гуд и, как всегда, когда он был сильно взволнован, поднес руку ко рту и вынул свою искусственную верхнюю челюсть. Затем он быстро вставил ее обратно и, присасывая челюсть к нёбу, звонко прищелкнул языком. Со стороны Гуда это было необычайно удачным движением, так как при виде его у гордых кукуанов вырвался крик ужаса, и все они отпрянули на несколько ярдов назад. — Что случилось? В чем дело? — с недоумением спросил я сэра Генри. — Это зубы Гуда привели их в такое смятение, — взволнованно прошептал сэр Генри. — Он их вынул, и они испугались. Выньте их, Гуд, выньте их совсем! Капитан тотчас же повиновался и преловко ухитрился всунуть обе челюсти в рукав своей фланелевой рубашки. В следующую минуту любопытство преодолело страх, и туземцы медленно, с опаской вновь приблизились к нам. Очевидно, они уже забыли о своем милом намерении перерезать нам глотки. — Скажите нам, о чужеземцы! — торжественно воскликнул старик, указывая на Гуда, стоявшего в одной фланелевой рубашке, с наполовину бритым лицом. — Как это может быть, что этот толстый человек, тело которого покрыто одеждой, а ноги голые, у которого волосы растут лишь на одной половине бледного лица и совсем не растут на другой, у которого в одном глазу есть еще один глаз — прозрачный и блестящий, — как это может быть, что его зубы сами выходят изо рта и сами возвращаются на прежнее место? — Откройте рот! — шепнул я Гуду. Капитан тотчас же скривил рот и, глядя на старого джентльмена, оскалился на него, как рассерженный пес, обнажив две красные десны без малейшего признака зубов, как у только что родившегося слоненка. У зрителей вырвался вздох изумления. — Где его зубы? — в страхе закричали они. — Мы их только что видели своими собственными глазами! Отвернувшись от дикарей с видом невыразимого презрения, Гуд провел рукой по своему рту и, вновь повернувшись, оскалился на них, и — о чудо! — туземцы увидели два ряда прекраснейших зубов. Тогда юноша, пустивший в него нож, бросился на землю и издал громкий, протяжный вопль ужаса. Что касается старого джентльмена, у него от страха заметно задрожали колени. — Я вижу, что вы духи, — пробормотал он, запинаясь, — ибо ни один человек, рожденный женщиной, не имеет волос только на одной стороне лица и такого круглого, прозрачного глаза, и зубов, которые двигаются сами! Простите нас, о мои повелители! Нечего говорить, как я обрадовался, услышав эти слова, и, конечно, тут же воспользовался этим неожиданно счастливым поворотом дела. Снисходительно улыбнувшись, я надменно провозгласил: — Мы согласны даровать вам прощение. Теперь вы должны узнать правду: мы прибыли из другого мира, спустившись с самой большой звезды, которая светит ночью над вашей землей, хоть мы такие же люди, как и вы. — О! О! — простонал в ответ хор изумленных туземцев. — Да, мы прибыли со звезд, — продолжал я с милостивой улыбкой, сам удивляясь своей лжи. — Мы сошли на землю, чтобы погостить у вас и осчастливить ваш народ своим пребыванием в вашей стране. Вы видите, о друзья мои, что, готовясь посетить вас, я даже выучил ваш язык. — Да, это так! Это так! — ответили хором все туземцы. — О повелитель мой! — прервал меня старый джентльмен. — Только выучил ты его очень плохо! Я взглянул на него с таким негодованием, что он испугался и тотчас же замолк. — Теперь, друзья мои, — продолжал я, — вы можете подумать, что, после столь долгого странствия, мы, встретив столь недружелюбный прием, пожелаем отомстить вам и поразить смертью того, чья святотатственная рука осмелилась бросить нож в голову человека с движущимися зубами… — Пощадите его, мои повелители! — умоляющим голосом прервал меня старик. — Он сын нашего короля, а я его дядя. Если что-нибудь с ним случится, кровь его падет на мою голову, ибо отвечаю за него я. — Можешь в этом не сомневаться, — отчетливо и злобно промолвил юноша. — Вы, может быть, думаете, что мы не в состоянии вам отомстить? — продолжал я, не обращая никакого внимания на его слова. — Погодите, вы сейчас убедитесь. Эй ты, раб и собака, — обратился я к Амбопе самым свирепым тоном, на какой был способен, — подай мне заколдованную трубку, которая умеет говорить! — И я незаметно подмигнул ему, указывая на свой «экспресс». Амбопа тотчас же понял мою мысль и подал мне винтовку. Впервые в жизни я увидел на его гордом лице нечто похожее на улыбку. — Вот она, о повелитель повелителей! — сказал он с глубочайшим поклоном. Перед этим я заметил маленькую антилопу, стоявшую на скале на расстоянии ярдов семидесяти от нас, и решил ее застрелить. — Вы видите это животное? — обратился я к туземцам, указывая на антилопу. — Может ли человек, рожденный женщиной, убить ее одним шумом? — Это невозможно, мой повелитель, — ответил старик. — Однако я это сделаю, — возразил я спокойным тоном. Старый воин улыбнулся. — Даже ты, повелитель, не сможешь этого сделать, — сказал он. Я поднял винтовку и прицелился. Антилопа была очень маленькая и промахнуться на таком расстоянии было легко, но я знал, что должен в нее попасть во что бы то ни стало. Животное стояло совершенно неподвижно. Глубоко вздохнув, я спустил курок. Бум! Бум! — раздался громкий выстрел, и антилопа, подскочив в воздух, замертво упала на месте. У туземцев вырвался крик ужаса. — Если вы желаете иметь мясо, — сказал я равнодушно, — пойдите и принесите ее сюда. По знаку старика один из туземцев побежал к скале и вскоре вернулся, неся убитое животное. С большим удовлетворением я увидел, что пуля попала как раз в то место, куда я целился, то есть чуть выше лопатки. Туземцы обступили тушу бедного животного и рассматривали дыру, пробитую пулей, с выражением суеверного страха и смятения. — Вы видите, — сказал я, обращаясь к ним, — я не говорю пустых слов. Ответа на это не последовало. — Однако, если вы все еще сомневаетесь в нашем могуществе, — продолжал я, — пусть кто-нибудь из вас станет на ту же скалу, и я с ним сделаю то же самое, что с антилопой. Но желающих не нашлось. Наступило небольшое молчание, которое прервал сын короля. — Послушай, дядя, — сказал он, — прошу тебя, пойди и стань на скалу. Колдовство может убить лишь животное, но не человека. Однако старому джентльмену предложение племянника совсем не понравилось, и он даже обиделся. — Нет, нет! — воскликнул он с живостью. — Мои старые глаза видели достаточно. — И, обращаясь к своей свите, он сказал: — Эти люди — колдуны, и их надо отвести к королю. А если кто из вас захочет испытать чары чужеземцев на себе, тот может пойти и стать на скалу, чтобы с ним могла поговорить волшебная трубка. Но среди кукуанов не нашлось желающих слушать заколдованную трубку. — Не трать напрасно свою волшебную силу на наши презренные тела, — сказал один из туземцев, — нам достаточно того, что мы видели. Все наши колдуны не могут показать ничего подобного. — Ты говоришь истину, — заметил старый джентльмен с чувством огромного облегчения, — это действительно так! Слушайте вы, дети звезд, дети блестящего глаза и движущихся зубов, вы, которые управляете громом и убиваете издали! Я — Инфадус, сын Кафы, бывшего короля кукуанов. А этот юноша — Скрагга. — Этот Скрагга чуть не отправил меня на тот свет, — прошептал Гуд[51]. — Скраага, — продолжал торжественно Инфадус, — сын Твалы. Великий король Твала — супруг тысячи жен, глава и владыка кукуанского народа, хранитель Великой Дороги, страх своих врагов, мудрец, которому известны все тайны волшебства, вождь ста тысяч воинов, Твала Одноглазый, Твала Черный, Твала Грозный! — В таком случае, — отвечал я надменно, — веди нас к Твале. Мы не желаем разговаривать с подчиненными и слугами. — Желание ваше будет исполнено, мои повелители! Мы проводим вас к королю, но путь наш долог. Мы пришли сюда охотиться и находимся в трех днях пути от жилища короля. Будьте терпеливы, повелители, через три дня вы увидите великого Твалу. — Хорошо, сказал я небрежно. — Мы с временем не считаемся и никогда не торопимся, ибо мы бессмертны. Мы готовы. Веди нас. Но слушай, Инфадус, и ты, Скрагга! Берегитесь нас обманывать! Не расставляйте нам ловушек! Прежде чем ваши жалкие мозги подумают сделать что-нибудь недоброе, мы это узнаем и отомстим вам, ибо обладаем чудодейственной силой читать мысли людей. Свет, исходящий из прозрачного глаза того, чьи ноги голые, а лицо обросло волосами лишь с одной стороны, убьет вас на месте и принесет бедствия вашей стране. Его движущиеся зубы выскочат и вопьются в ваше тело и пожрут не только вас, но и ваших жен и ваших детей, а волшебные трубки продырявят насквозь ваши тела так, что они станут похожи на сито. Эта блестящая речь произвела огромное впечатление, хотя вряд ли была нужна, так как наши новые друзья и без того были уже потрясены нашими магическими талантами. Старый воин раболепно склонился перед нами и пролепетал: «Куум, куум». Впоследствии я узнал, что это слово является приветствием, соответствующим зулусскому «байэте», с которым кукуаны обращаются только к королю и членам королевского рода. Затем он что-то сказал своим людям. Они тотчас же схватили наше имущество, кроме оружия, к которому боялись прикоснуться и даже одежду Гуда, которая, если помнит читатель, была так аккуратно сложена на берегу ручья. Увидев это, капитан хотел ее отнять, в результате чего поднялся ожесточенный спор между туземцами и Гудом. — Пусть мой повелитель и властелин прозрачного глаза не трогает свои вещи. Нести их — дело его рабов. — Но я хочу надеть свои брюки! — ревел Гуд по-английски. Амбопа перевел его слова. — О повелитель мой! — воскликнул Инфадус. — Неужели ты хочешь скрыть свои прекрасные белые ноги от взора своих покорных слуг? (Гуд брюнет, но кожа у него необычайно белая). Чем мы прогневили тебя, о повелитель, что ты хочешь это сделать? Глядя на Гуда, я буквально разрывался от смеха. За это время один из туземцев уже успел схватить одежду капитана и убежать с нею. — Проклятье! — рычал Гуд. — Этот черный негодяй удрал с моими брюками! — Послушайте, Гуд, — сказал сэр Генри, — вы появились в этой стране в известной роли и должны играть ее до конца. Пока вы здесь, брюк вы надевать уже не сможете. Отныне вам предстоит щеголять только в фланелевой рубашке, ботинках и монокле. — Да, — подтвердил я, — и с одной бакенбардой. Если вы появитесь перед кукуанами в другом виде, они примут нас за обманщиков. Мне очень жаль, что вам придется ходить в таком виде, но я говорю совершенно серьезно, Гуд. У вас нет другого выхода. Если у них возникнет малейшее подозрение, наша жизнь не будет стоить и фартинга[52]. — Вы действительно так думаете? — угрюмо спросил Гуд. — Ну конечно! Ваши «прекрасные белые ноги» и монокль — наше спасенье. Сэр Генри совершенно прав, говоря, что вы должны играть свою роль до конца. Благодарите бога, что вы успели хоть обуться и что здесь тепло. Гуд тяжело вздохнул и ничего не ответил. Только недели через две он свыкся со своим странным туалетом.Глава 8
МЫ ПРИХОДИМ В СТРАНУ КУКУАНОВ
В течение всего этого дня мы шли по великолепной дороге, которая никуда не отклоняясь, пролегала в северо-западном направлении. Инфадус и Скрагга шли вместе с нами, а их свита маршировала шагов на сто впереди. — Скажи мне, Инфадус, — обратился я к нему после некоторого молчания, — не знаешь ли ты, кто проложил эту дорогу? — Ее проложили в старые времена, мой повелитель. И никому не известно, как и когда это было сделано. Этого не знает даже мудрая женщина Гагула, которая пережила много поколений. Мы же не так стары, чтобы помнить, когда ее строили. Теперь никто не умеет сооружать такие дороги, и король хранит ее и не допускает, чтобы она зарастала травой. — А кто высек человеческие фигуры на стенах пещер, через которые лежал наш путь? — спросил я, имея в виду скульптурные изображения, напоминающие египетские, которые мы видели по дороге. — Те же руки, что построили дорогу, высекли на камне эти удивительные изображения, мой повелитель. Мы не знаем, кто это сделал. — А когда кукуанский народ пришел в эту страну? — Мой повелитель, наш народ пришел сюда, подобно дыханию бури, десять тысяч лун назад, из великих земель, лежащих там, — и он указал на север. — Как говорят древние голоса наших отцов, которые дошли до нас, и как говорит Гагула, мудрая женщина, охотница за колдунами, кукуаны не могли пройти дальше — великие горы, окружающие кольцом эту страну, преградили им путь, — и он указал на покрытые снегом вершины. — Страна же эта была прекрасна, и они здесь поселились, стали сильными и могущественными, и теперь число наше равно числу песчинок в море. Когда Твала, наш король, созывает свои войска, то перья, украшающие его воинов, покрывают всю равнину, насколько может охватить глаз человека. — Но если страна окружена горами, то с кем же сражается это войско? — Нет, господин, там страна открыта, — и он вновь указал на север, — и время от времени воины из неведомой нам земли тучами устремляются на нас, и мы их убиваем. С тех пор как мы воевали в последний раз, прошла третья часть жизни человека. Много тысяч погибло в этой войне, но мы уничтожили тех, кто пришел, чтобы пожрать нас. И с тех пор войны не было. — Вашим воинам, должно быть, наскучило дремать, опершись на свои копья? — Нет, мой повелитель, как раз после того, как мы уничтожили людей, которые напали на нас, здесь была еще война. Но то была междоусобная война. Люди пожирали друг друга, как псы. — Как же это случилось? — Я расскажу тебе это, мой повелитель. Наш король — мой сводный брат. У него же был родной брат, родившийся в тот же день, от той же женщины. По нашему обычаю, нельзя оставлять в живых обоих близнецов — более слабый из них должен умереть. Но мать короля спрятала более слабого ребенка, который родился последним, потому что сердце ее тянулось к нему. Этот ребенок и есть Твала, наш король. Я же — его младший брат, родившийся от другой жены. — Что же было дальше? — Кафа, наш отец, умер, когда мы достигли зрелости, и мой брат Имоту был возведен в сан короля вместо него. Некоторое время он правил страной, и у него родился сын от любимой жены. Когда ребенку исполнилось три года — это было как раз после великой войны, во время которой никто не мог ни сеять, ни собирать урожай, — в страну пришел голод. Голод заставил народ роптать и озираться подобно льву, когда он, умирая от истощения, ищет добычу, которую можно растерзать. И тогда Гагула, мудрая и вселяющая ужас женщина, которая не умирает, обратилась к народу, говоря: «Король Имоту — не законный король!» А в это время Имоту страдал от раны, полученной в сражении, и лежал недвижимо в своей хижине. Потом Гагула вошла в одну из хижин и вывела оттуда Твалу, моего сводного брата и родного брата-близнеца короля Имоту. Со дня его рождения она прятала его среди скал и пещер и теперь, сорвав с его бедер мучу, показала народу кукуанов знак священной змеи, обвившейся вокруг его тела, — знак, которым отмечают старшего сына короля при рождении, и громко вскричала: «Смотрите, — вот ваш король, жизнь которого я сохранила для вас по сей день!» И люди, обезумевшие от голода, лишившиеся рассудка и забывшие, что такое справедливость, начали кричать: «Король! Король!» Но я знал, что это не так, потому что мой брат Имоту был старшим из двух близнецов и, значит, законным королем. Когда шум и крики достигли крайнего предела, король Имоту, хотя он и был очень болен, вышел, ведя за руку свою жену. За ними шел его малолетний сын Игнози (что означает «молния»). «Что это за шум? — спросил Имоту. — Почему вы кричите «король, король»?» Тогда Твала, его родной брат, рожденный от той же женщины и в тот же час, подбежал к нему и, схватив его за волосы, нанес ему своим ножом смертельный удар прямо в сердце. Людям свойственно непостоянство, и они всегда готовы поклоняться восходящему солнцу, и все начали бить в ладоши и кричать: «Твала — наш король! Теперь мы знаем, что Твала — король!» — А что же сталось с женой Имоту и его сыном Игнози? Неужели Твала их тоже убил? — Нет, мой повелитель, когда жена увидела, что господин ее мертв, она с воплем схватила ребенка и убежала. Два дня спустя голод загнал ее в какой-то крааль, но теперь никто не хотел дать ей молока или какой-нибудь иной пищи, потому что люди ненавидят несчастных. Однако, когда наступила ночь, какая-то девочка прокралась к ней и принесла еды, и она благословила ребенка и ушла со своим сыном до восхода солнца в горы, где она, вероятно, и погибла. С тех пор никто не видел ни ее, ни ее сына Игнози. — Так значит, если бы этот ребенок Игнози остался жив, он был бы настоящим королем кукуанского народа? — Это так, мой повелитель. Знак священной змеи опоясывает его тело. Если он жив — он король. Но — увы! — он давно уже умер. Посмотри, мой повелитель, — и он указал вниз, на равнину, где стояла большая группа хижин, окруженных изгородью, которая, в свою очередь, была опоясана глубоким рвом. — Это тот крааль, где в последний раз видели жену Имоту с ее ребенком Игнози. Мы будем там спать сегодня ночью, если только, — добавил он с некоторым сомнением, — мои повелители вообще спят на этой земле. — Когда мы находимся среди кукуанов, мой добрый друг Инфадус, мы поступаем так же, как кукуаны, — величественно произнес я и обернулся, чтобы что-то сказать Гуду, который мрачно плелся позади, полностью поглощенный тщетными попытками удержать на месте свою фланелевую рубашку, раздуваемую вечерним ветерком. Обернувшись, я, к своему удивлению, чуть не столкнулся с Амбопой, который шел следом за мною и совершенно очевидно прислушивался с огромным интересом к моему разговору с Инфадусом. Лицо Амбопы выражало крайнее любопытство. Он был похож на человека, который делает отчаянные и только отчасти успешные попытки припомнить что-то давно им позабытое. В течение всего этого времени мы шли быстрым шагом, спускаясь к холмистой равнине, расстилавшейся внизу. Громады гор, которые мы пересекли, теперь неясно вырисовывались высоко под нами; клубы тумана целомудренно окутывали грудь Царицы Савской прозрачной дымкой. По мере того как мы продвигались вперед, местность становилась еще красивее. Растительность была поразительно пышной, хотя и отнюдь не тропической, лучи яркого солнца — теплыми, но не обжигающими. Легкий ветерок обвевал благоухающие склоны гор. Эта страна была поистине настоящим земным раем, и никому из нас не приходилось раньше видеть равных ей по красоте, естественным богатствам и климату. Трансвааль — чудесная страна, но и она не может сравниться со Страной Кукуанов. Как только мы отправились в свой поход, Инфадус послал гонца, чтобы тот предупредил о нашем прибытии обитателей крааля, которые, между прочим, находились под его военным командованием. Посланец побежал с невероятной быстротой. По словам Инфадуса, он мог сохранять такую скорость в течение всего пути, так как все кукуаны усиленно тренируются в беге. Вскоре мы смогли воочию убедиться в том, что посланец успешно выполнил свое задание. Очутившись примерно в двух милях от крааля, мы увидели, что воины, отряд за отрядом, выходят из ворот и направляются к нам навстречу. Сэр Генри положил мне руку на плечо и заметил, что все это сулит нам, кажется, «теплый» прием. Что-то в тоне, которым это было сказано, привлекло внимание Инфадуса. — Пусть это не тревожит моих повелителей, — поспешно сказал он, — ибо в моем сердце не живет измена. Эти воины подчинены мне и выходят нам навстречу по моему приказу, чтобы вас приветствовать. Я спокойно кивнул головой, хотя на душе у меня было не совсем спокойно. Примерно в полумиле от ворот крааля начинался длинный выступ холма, отлого подымающийся от дороги; на этом выступе и построились отряды воинов. Это было поистине грандиозное зрелище. Отряды, каждый численностью около трехсот человек, быстро взбегали по склону холма и неподвижно застывали на предназначенном для них месте; их копья сверкали на солнце, развевающиеся перья украшали их головы. К тому времени, как мы подошли к холму, двенадцать таких отрядов, то есть три тысячи шестьсот воинов, взошли на него и заняли свои места вдоль дороги. Мы подошли к ближайшему отряду и с изумлением увидели, что он сплошь состоит из рослых, статных воинов, подобных которым мне никогда не приходилось видеть, тем более в таком огромном количестве. Все они были людьми зрелого возраста, а в большинстве своем — ветераны лет сорока. Среди них не было ни одного человека ниже шести футов ростом, а многие были еще дюйма на три-четыре выше. Головы их украшали тяжелые черные плюмажи из перьев птицы сакобула, такие же, как и у наших проводников. Все воины были опоясаны белыми буйволовыми хвостами; браслеты из таких же хвостов охватывали их ноги пониже правого колена. В левой руке каждый держал круглый щит около двадцати дюймов в поперечнике. Эти щиты были очень любопытны. Они были сделаны из тонкого листового железа, обтянутого буйволовой кожей молочно-белого цвета. Вооружение воинов было простым, но весьма внушительным. Оно состояло из короткого и очень тяжелого обоюдоострого копья с деревянной рукояткой, лезвие которого в самой широкой его части было около шести дюймов в поперечнике. Эти копья не предназначались для метания, а, подобно зулусским бангванам или кинжальным дротикам, использовались только в рукопашном бою, причем раны, нанесенные ими, бывали ужасны. Кроме этих бангванов, каждый воин был также вооружен тремя большими тяжелыми ножами, каждый весом около двух фунтов. Один нож был заткнут за пояс из хвоста буйвола, а остальные два укреплены на тыльной стороне круглого щита. Эти ножи, которые кукуаны называют толлами, заменяют им метательные ассегаи зулусов. Кукуанский воин может метать их с большой точностью с расстояния до пятидесяти ярдов, и обычно перед тем, как вступить в рукопашный бой с противником, кукуаны посылают навстречу противнику тучу этих ножей. Отряды стояли неподвижно, как ряды бронзовых статуй, но, когда мы подходили к очередному отряду, по сигналу, данному командиром, которого можно было отличить по плащу из шкуры леопарда, отряд выступал на несколько шагов вперед, копья поднимались в воздух, и из трех сотен глоток неожиданно вырывался оглушительный королевский салют: «Куум!» Когда же мы проходили, отряд строился позади нас и следовал за нами по направлению к краалю, пока, наконец, весь полк «Серых» (получивший это название из-за серых щитов), лучшая военная часть кукуанской армии, не шел позади нас четкой поступью, сотрясавшей землю. Наконец, несколько уклонившись в сторону от Великой Дороги Царя Соломона, мы подошли к широкому рву, окружавшему крааль, который занимал площадь не менее мили в окружности и был огорожен прочным частоколом из толстых бревен. У ворот через ров был перекинут примитивный подъемный мост, который был спущен стражей, чтобы мы могли войти. Крааль был прекрасно распланирован. Через его центр проходила широкая дорога, которую пересекали под прямым углом другие, более узкие дороги, разделяя таким образом группы хижин на кварталы, причем в каждом из них был расквартирован один отряд. Хижины с куполообразными крышами имели, подобно зулусским, каркас из прутьев, очень красиво переплетенных травой, однако, в отличие от зулусских хижин, в них были двери, через которые можно было войти, не сгибаясь. Кроме того, они были гораздо обширнее, и их окружала веранда шириной около шести футов, с красивым полом из крепко утрамбованного толченого известняка. По обеим сторонам дороги, которая пересекала крааль, стояли сотни женщин, привлеченных сюда желанием посмотреть на нас. Для туземок эти женщины исключительно красивы. Они высокого роста, грациозны и великолепно сложены. Хотя волосы их и коротки, но они вьются и не похожи на шерсть, черты лица у многих из них тонкие и губы не такие толстые, как у большинства африканских народностей. Но что поразило нас более всего — это их удивительно спокойный, полный сознания собственного достоинства вид. Они были по-своему благовоспитаны, не уступая в этом отношении постоянным гостям светских салонов, и это выгодно отличало их от зулусских женщин и их родственниц — женщин народности мазаи, которые живут в области, лежащей южнее Занзибара. Хотя они и пришли сюда из любопытства, чтобы посмотреть на нас, но ни единое грубое восклицание, выражающее удивление, ни единое критическое замечание не сорвалось с их уст, когда мы устало брели мимо них. Даже когда старый Инфадус незаметным движением руки обращал их внимание на самое выдающееся из всех чудес — на «прекрасные белые ноги» бедного Гуда, — они не позволяли себе выразить вслух то чувство бесконечного восхищения, которое, очевидно, вызывало у них это ни с чем не сравнимое зрелище. Они не сводили внимательного взгляда своих темных глаз с их неотразимо прекрасной снежной белизны, и только. Но для Гуда, человека скромного по натуре, и этого было более чем достаточно. Когда мы подошли к центру крааля, Инфадус остановился у входа в большую хижину, которую на некотором расстоянии окружал ряд хижин меньшего размера. — Войдите, сыны звезд, — произнес он торжественным голосом, — и соблаговолите отдохнуть в нашем скромном обиталище. Сюда принесут немного пищи, чтобы вам не пришлось затягивать свои пояса от голода, немного меда и молока, одного или двух быков и несколько овец. Это, конечно, очень мало, о мои повелители, но все же это пища. — Хорошо, — ответил я. — Инфадус, мы утомлены путешествием через воздушные пространства. Теперь дайте нам отдохнуть. Мы вошли в хижину, которая оказалась великолепно подготовленной для отдыха. Для нас были разостланы ложа из дубленых шкур, на которых можно было отдохнуть, и была принесена вода, чтобы мы могли умыться. Вдруг снаружи послышались крики, и, подойдя к двери, мы увидели процессию девиц, которые несли молоко, печеные маисовые лепешки и горшок меда. Позади них несколько юношей гнали жирного молодого быка. Мы приняли дары, вслед за тем один из молодых людей вытащил из-за пояса нож и ловко перерезал быку глотку. Через каких-нибудь десять минут они уже сняли с быка шкуру и разрубили его на куски. Лучшие куски мяса были отрезаны для нас, а остальное я от имени нас всех преподнес воинам, стоявшим вокруг. Они унесли мясо и поделили между собой «дар белых людей». Амбопа с помощью весьма приятной на вид молодой женщины принялся за работу. Они сварили нашу порцию в большом глиняном горшке на костре, разложенном перед нашей хижиной. Когда мясо было почти готово, мы послали человека к Инфадусу, чтобы передать ему и королевскому сыну Скрагге приглашение присоединиться к нашей трапезе. Они сейчас же пришли, сели на низенькие табуретки, которых в хижине было несколько штук (кукуаны обычно не сидят на корточках, как зулусы), и помогли нам справиться с нашим обедом. Старый джентльмен был чрезвычайно вежлив и любезен, но нас удивило, что молодой смотрел на нас с явным подозрением. Подобно всем остальным, он испытывал благоговейный ужас перед нашей белой кожей и магическими талантами. Но мне казалось, что, когда он обнаружил, что мы едим, пьем и спим, как обыкновенные смертные, его ужас начал уступать место угрюмому подозрению, которое заставило нас держаться настороже. Во время еды сэр Генри высказал предположение, что неплохо было бы попытаться узнать, не известно ли нашим хозяевам что-нибудь относительно судьбы его брата, — может быть, они его видели когда-нибудь или слышали о нем. Однако я считал, что пока лучше не касаться этого вопроса. После обеда мы набили табаком свои трубки и закурили. Это повергло Инфадуса и Скраггу в изумление. Очевидно, кукуаны были незнакомы с божественными свойствами табачного дыма. Эта трава произрастала у них в изобилии, но, подобно зулусам, они только нюхали табак и совершенно не знали его в этом новом для них виде. Я спросил Инфадуса, когда нам предстоит продолжить наше путешествие, и с радостью услышал о том, что ведутся приготовления, чтобы отправиться дальше на следующее утро, и что уже посланы гонцы, чтобы уведомить короля Твалу о нашем прибытии. Оказалось, что Твала находится в своей главной резиденции, называемой Луу, и готовится к большому ежегодному празднеству, которое должно состояться на первой неделе июня. На этом празднестве обычно присутствуют и проходят торжественным маршем перед королем все военные части, за исключением некоторых полков, остающихся для несения гарнизонной службы. Там же обычно происходит великая охота на колдунов, о которой речь будет дальше. Мы должны были выступить на рассвете. Инфадус, который должен был нас сопровождать, полагал, что если нас случайно не задержит в пути разлив рек, то мы должны достигнуть Луу к ночи второго дня. Сообщив нам все это, наши гости пожелали нам доброй ночи. Мы договорились дежурить по очереди; трое из нас бросились на свои ложа и заснули блаженным сном, а четвертый бодрствовал, чтобы возможное предательство не застало нас врасплох.Глава 9
КОРОЛЬ ТВАЛА
Думаю, что не стоит особенно подробно рассказывать о нашем путешествии в Луу. Скажу только, что мы шли туда целых два дня по ровной, широкой дороге царя Соломона, которая вела в самую глубь Страны Кукуанов. По мере того как мы продвигались вперед, земля становилась все плодороднее, а краали, окруженные возделанными полями, все многочисленнее. Все они были выстроены по образцу того крааля, в котором мы останавливались накануне, и охранялись большими гарнизонами войск. В стране Кукуанов, так же как у зулусов и племени мазаи, каждый годный к военной службе человек — воин. Поэтому в войнах, как наступательных, так и оборонительных, фактически участвует весь народ. На нашем пути нас обгоняли тысячи воинов — они спешили в Луу, чтобы присутствовать на торжественном ежегодном параде, после которого должно было состояться большое празднество. Никогда в жизни мне не приходилось видеть столь внушительные войска. На второй день пути, к вечеру, мы сделали привал на вершине небольшого холма, по которому пролегала наша дорога. С этого холма мы увидели красивую, плодородную равнину, на которой был расположен город Луу. Он занимал огромную для туземного города площадь: думаю, что с прилегающими к нему пригородными краалями он был не менее пяти миль в окружности. В этих краалях расквартировывались во время больших торжеств войска, прибывающие из отдаленных частей страны. В двух милях к северу от Луу возвышался холм, имеющий вид подковы, с которым нам впоследствии пришлось хорошо познакомиться. Город был расположен в прекрасном месте. Широкая река, через которую было перекинуто несколько мостов, та самая, которую мы видели со склона гор Царицы Савской, протекала через главную королевскую резиденцию и делила ее на две части. Вдали, на расстоянии шестидесяти или семидесяти миль, на совершенно ровной местности возвышались три горы, расположенные в форме треугольника. На вершине этих диких, крутых и неприступных скал лежал снег, и по очертаниям своим они сильно отличались от гор Царицы Савской, склоны которых были округлые и пологие. Видя, что мы их рассматриваем с большим интересом, Инфадус сказал: — Там, у подножия этих гор, которые народ наш называет «Три колдуна», кончается Великая Дорога. — Почему же именно там? — спросил я. — Кто это может знать? — ответил старый воин, пожимая плечами. — В этих горах, — продолжал он, — много пещер, и между ними есть глубокий колодец. Туда-то мудрые люди старого времени и отправлялись, чтобы найти то, за чем они приходили в эту страну. И там же, в Чертоге Смерти, мы хороним своих королей. — А зачем приходили туда эти мудрые люди? — перебил я его нетерпеливо. — Этого я не знаю. Вы, мои повелители, спустившиеся сюда с далеких звезд, должны это знать сами, — ответил Инфадус, бросив на нас быстрый взгляд. Очевидно, он не хотел нам сказать все, что знал. — Ты прав, — сказал я. — Мы, жители звезд, знаем многое, чего вы не знаете. Вот, например, я слышал, что мудрые люди далекого прошлого отправлялись в эти горы за красивыми яркими камнями и желтым железом. — Повелитель мой мудр, — ответил он холодно. — По сравнению с ним я лишь неразумный ребенок, и потому мне не подобает говорить с ним о таких вещах. Мой повелитель должен побеседовать об этом с престарелой Гагулой, когда он будет в жилище короля, ибо она столь же мудра, как и мой повелитель. Сказав это, Инфадус ушел. Как только мы остались одни, я обратился к своим друзьям и, указывая на отдаленные горы, воскликнул: — Вот где находятся алмазные копи царя Соломона! Амбопа, стоявший около сэра Генри и Гуда, услышал эти слова. Я заметил, что за последнее время он стал как-то особенно задумчив и рассеян и редко вступал с нами в разговор. — Да, Макумазан, — сказал он, обращаясь ко мне по-зулусски, — алмазы находятся там, и они, конечно, будут ваши, ибо вы, белые люди, очень любите деньги и блестящие камни. — Откуда ты знаешь, что алмазы находятся в этих горах, Амбопа? — резко спросил я его. Мне не нравилась таинственность его поведения и постоянные недомолвки. Амбопа засмеялся. — Я видел это сегодня ночью во сне, белые люди, — ответил он и, круто повернувшись, отошел в сторону. — Что наш черный друг хотел этим сказать и что у него на уме? — спросил сэр Генри. — Совершенно очевидно, он что-то знает, но предпочитает молчать. Между прочим, Квотермейн, не слышал ли он от наших проводников чего-нибудь о моем… о моем брате? — К сожалению, ничего. Он расспрашивал об этом всех, с кем за это время успел подружиться, но ему отвечали, что в этой стране никто и никогда не видел ни одного белого человека. — Неужели вы думаете, что ваш брат мог сюда добраться? — спросил Гуд. — Ведь сами-то мы попали сюда чудом. Кроме того, как он нашел бы дорогу, не имея карты? — Не знаю, — сказал сэр Генри, и лицо его омрачилось. — Но мне думается, что я все-таки его найду. Пока мы разговаривали, солнце медленно садилось за горизонт, и вдруг землю окутал мрак. В этих широтах нет сумерек, поэтому и нет постепенного, мягкого перехода от дня к ночи — день обрывается так же внезапно, как внезапно обрывается жизнь при наступлении смерти. Солнце село, и весь мир погрузился во тьму. Но вскоре на западе появилось слабое мерцание, затем серебряный свет, и наконец полный, великолепный диск луны осветил равнину стрелами своих сверкающих лучей, озаряя всю землю нежным, лучезарным сиянием. Мы стояли и наблюдали это восхитительное зрелище. Я не могу описать все величие этой несказанной красоты, перед которой померкли звезды, и сердца наши, устремившиеся ввысь, наполнились благоговейным восторгом. Жизнь моя была полна трудностей и забот, но есть воспоминания, вызывающие у меня чувство благодарности за то, что я жил. Одно из них — это воспоминание о том, что я видел, как светит луна на Земле Кукуанов. Эти размышления были прерваны нашим учтивым другом Инфадусом. — Если мои повелители отдохнули, — сказал он, — мы можем идти дальше. В Луу для повелителей уже приготовлено жилище. Луна светит ярко и будет освещать нам дорогу. Мы тотчас же выразили свое согласие и немедленно тронулись в путь. Через час мы уже подошли к Луу, размеры которого нам показались бесконечными. Окруженный тысячами сторожевых костров, он казался опоясанным огромным огненным кольцом. Вскоре мы подошли ко рву, через который был перекинут подъемный мост, и услышали бряцание оружия и глухой окрик часового. Инфадус произнес пароль, который я как следует не разобрал; стража, узнав своего начальника, приветствовала его, и мы вошли в город. С полчаса мы шли по главной улице мимо бесчисленных рядов плетенных из травы хижин, пока Инфадус не остановился около небольшой группы домиков, окружавших маленький двор, вымощенный толченым известняком. Войдя в этот двор, Инфадус объявил нам, что эти «жалкие обиталища» предназначены для нашего жилья. Каждому из нас была приготовлена отдельная хижина. Они были значительно лучше, чем те, что мы уже видели, и в каждой из них была очень удобная постель из душистых трав, накрытая дубленой шкурой; тут же стояли большие глиняные сосуды с водой. Ужин для нас был уже приготовлен, так как не успели мы умыться, как несколько красивых молодых женщин с глубоким поклоном подали нам жареное мясо и печеные маисовые лепешки, красиво сервированные на деревянных тарелках. Мы поели с большим аппетитом и затем попросили перенести все постели в одну хижину, причем эта мера предосторожности вызвала улыбку на лицах милых молодых леди. Смертельно уставшие от долгого путешествия, мы бросились на постели и заснули крепким сном. Когда мы проснулись, солнце было уже высоко. Наши прислужницы, лишенные чувства ложной стыдливости, находились уже в хижине, так как им было приказано помочь нам одеться, чтобы идти на прием к королю. — Одеться! — ворчал Гуд. — Для того, чтобы надеть фланелевую рубашку и пару ботинок, не требуется много времени. Послушайте, Квотермейн, попросите их принести мои брюки. Я исполнил его просьбу, но мне сказали, что эти священные реликвии уже отнесены к королю и что он ожидает нас к себе до полудня. Попросив наших молодых леди удалиться, что, по-видимому, их чрезвычайно удивило и огорчило, мы начали одеваться, стараясь это сделать как можно тщательнее. Гуд, конечно, не выдержал и снова побрил правую часть лица, намереваясь сделать то же самое с левой, на которой красовалась густая поросль щетины, но мы уговорили его ни в коем случае ее не трогать. Что касается меня и сэра Генри, мы только как следует умылись и расчесали волосы. Золотые локоны сэра Генри сильно отросли и падали до плеч, что придавало ему, как никогда, сходство с древним датчанином. Моя же седая щетина была по крайней мере на целый дюйм длиннее того полудюйма, который я считаю допустимой длиной. После того, как мы позавтракали и выкурили по трубке, к нам явился сам Инфадус и сообщил, что, если нам будет угодно, король Твала готов нас принять. Мы отвечали, что предпочли бы пойти к нему, когда солнце поднимется выше, что мы еще крайне утомлены после столь долгого пути, и выдумали еще ряд других причин. Так всегда следует поступать, когда имеешь дело с дикарями: нельзя немедленно откликаться на их зов, так как они склоны принимать вежливость за страх и раболепство. Поэтому, хоть нам и хотелось увидеть Твалу не менее, чем ему нас, мы все же не спешили и просидели у себя еще час, заняв это время тем, что отобрали из нашего скудного запаса вещей подарки для короля и его приближенных. Дары эти состояли из винчестера бедняги Вентфогеля и небольшого количества бус. Винтовку с патронами было решено подарить его величеству, а бусы — его женам и придворным. Инфадус и Скрагга уже получили от нас в подарок такие бусы и были от них в восторге, так как никогда в жизни не видели ничего подобного. Наконец мы заявили, что готовы идти на прием, и вышли из хижины в сопровождении Инфадуса и Амбопы, который нес наши дары. Пройдя несколько сот ярдов, мы очутились у ограды, похожей на ту, которая окружала наши хижины, но раз в пятьдесят длиннее, так как она охватывала не менее шести или семи акров земли. Вокруг внешней стороны изгороди тянулся ряд хижин, в которых жили жены короля. Как раз напротив главных ворот, в глубине огромной площади, стояла особняком очень большая хижина, — это была резиденция его величества. Вся остальная площадь была пуста, вернее была бы пуста, если бы ее не заполняли многочисленные отряды воинов. Их было не менее семи — восьми тысяч. Когда мы проходили мимо них, они стояли неподвижно, словно изваяния. Трудно передать словами, какое величественное зрелище представляли собой эти войска с развевающимися плюмажами, сверкающими на солнце копьями и железными щитами, обтянутыми буйволовыми шкурами. На пустой части площади перед королевской хижиной стояло несколько табуретов. Три из них мы заняли по указанию Инфадуса, Амбопа стал позади нас, а сам Инфадус остался у дверей жилища короля. На площади царила мертвая тишина. Более десяти минут мы ждали выхода его величества и все это время чувствовали, что нас с любопытством рассматривает около восьми тысяч пар глаз. Должен признаться, что ощущение было не из приятных, но мы делали вид, что это нас не касается. Наконец дверь большой хижины распахнулась, и из нее вышел гигантского роста человек, на плечи которого была наброшена великолепная короткая мантия из тигровых шкур; следом за ним шел Скрагга и, как нам сперва показалось, высохшая, совершенно сморщенная, закутанная в меховой плащ обезьяна. Гигант сел на один из табуретов, за ним стал Скрагга, а сморщенная обезьяна поползла на четвереньках и уселась на корточках в тени под навесом хижины. Полное безмолвие продолжалось. Вдруг гигант скинул с себя мантию и выпрямился во весь рост. Это было поистине жуткое зрелище. У него были безобразно толстые губы, широкий плоский нос и только один черный глаз, в котором сверкала злоба, на месте же второго глаза зияла дыра. Мне в жизни не приходилось видеть более отвратительное, свирепое, плотоядное лицо. На огромной голове развевался султан из роскошных белых страусовых перьев; грудь его охватывала блестящая кольчуга; вокруг пояса и правого колена висели обычные украшения из белых буйволовых хвостов. На шее этого страшного человека было надето золотое ожерелье в виде толстого жгута, а на лбу тускло мерцал громадный нешлифованный бриллиант. В руке он держал длинное, тяжелое копье. Мы сразу догадались, что это Твала. Молчание продолжалось, но недолго. Вдруг король поднял свое копье. В ответ на это восемь тысяч рук тоже подняли свои копья и из восьми тысяч глоток вырвался троекратный королевский салют: «Куум!». Казалось, что от этого рева, который можно было сравнить лишь с оглушительным раскатом грома, трижды содрогнулась земля. — Будьте покорны, о люди! — пропищал пронзительный тоненькийголосок из-под навеса крыши, где сидела обезьяна. — Это король! — Это король! — как эхо, прогремели в ответ восемь тысяч глоток. — Будьте покорны, о люди, — это король! Снова на площади наступила мертвая тишина. Вдруг один из воинов, стоявший на левом фланге, случайно уронил щит, который со звоном упал на вымощенную известняком площадь. Твала холодно взглянул своим единственным глазом в ту сторону, где стоял воин, уронивший щит. — Эй, ты, подойди сюда! — закричал он громовым голосом, обращаясь к нарушителю тишины. Из рядов вышел красивый юноша и стал перед королем. — Это ты уронил щит, неуклюжий пес? Это ты опозорил меня перед чужеземцами, прибывшими со звезд? Как ты смел это сделать? Как ни темна была кожа бедного юноши, мы увидели, что он побледнел. — О Телец Черной Коровы, — прошептал юный воин, — это произошло случайно. — Ну, так за эту случайность ты должен заплатить жизнью. Ты поставил меня в дурацкое положение. Готовься к смерти. — Я лишь бык короля! — тихо произнес юноша. — Скрагга! — загремел король. — Покажи мне, как ты умеешь владеть оружием. Убей этого неуклюжего пса. Со зловещей усмешкой Скрагга вышел вперед и поднял свое копье. Бедная жертва стояла неподвижно, закрыв лицо руками. Что касается нас, мы окаменели от ужаса. Скрагга два раза взмахнул копьем и вонзил его в грудь юноши; удар был настолько силен, что копье, пройдя насквозь, вышло на целый фут наружу между лопатками воина. Взмахнув руками, несчастный упал замертво. Ропот неодобрения, подобно отдаленному грому пронесся по сомкнутым рядам войск и замер. Не успели мы осознать весь ужас этой кровавой трагедии, как у наших ног лежал распростертый труп несчастного юного воина. Со страшным проклятьем сэр Генри вскочил на ноги, но, подавленный всеобщим безмолвием, опустился обратно на свое место. — Удар был хорош, — произнес король. — Уберите его отсюда! Четыре человека вышли из рядов войск, подняли тело убитого юноши и унесли его. — Засыпьте кровавые пятна, засыпьте их! — пропищал тоненький голосок обезьяноподобного существа. — Король сказал свое слово, и приговор его совершен! Из-за хижины вышла девушка с сосудом, наполненным толченым известняком, и густо посыпала им лужи крови. Сэр Генри был в бешенстве и едва сдерживал клокотавшее в нем негодование. С большим трудом мы уговорили его успокоиться. — Ради бога, сидите спокойно! — шепнул я ему. — Помните, что от нашего разумного поведения зависит наша жизнь. Сэр Генри это понял и овладел собой. Пока уничтожали следы только что разыгравшейся трагедии, Твала сидел молча, но, как только девушка удалилась, он обратился к нам: — Белые люди, пришедшие сюда не знаю откуда и зачем, привет вам! — Привет и тебе, Твала, король кукуанов! — ответил я. — Белые люди, откуда вы пришли и что вы ищите в нашей стране? — Мы спустились со звезд, чтобы посмотреть на Землю Кукуанов. Не спрашивай нас, как мы это сделали. — Большое же путешествие вы совершили, чтобы взглянуть на столь маленькую страну. А вот этот человек, — сказал он, указывая на Амбопу, — тоже спустился со звезд? — Да, и он, — ответил я. — На небесах есть тоже люди твоего цвета. Но не спрашивай нас о вещах, которые выше твоего понимания, король Твала! — Вы, люди звезд, очень смело со мной разговариваете, — ответил Твала тоном, который не очень мне понравился. — Не забывайте, что звезды далеко, а вы здесь. А что, если я сделаю с вами то же, что сделал с тем, которого только что унесли? Я громко рассмеялся, хотя мне было вовсе не до смеха. — О король! — промолвил я. — Будь осторожен, когда ступаешь по горячим камням, чтобы не обжечь себе ноги, держи копье за рукоять, чтоб не поранить себе руки. Если хоть один волосок упадет с головы моей или моих друзей, тебя поразит смерть. Разве твои люди, — продолжал я, указывая на Инфадуса и мерзавца Скраггу, который в это время вытирал кровь несчастного юноши со своего копья, — не сказали тебе о том, что мы за люди? И видел ли ты человека, подобного этому? — И я указал на Гуда, совершенно уверенный в том, что никогда ничего похожего он не мог видеть. — Правда, таких людей я никогда не видел, — ответил король. — Разве они не говорили тебе, как мы поражаем смертью издали? — Говорили, но я им не верю. Дай мне посмотреть, как вы это делаете. Убей одного из тех воинов, что стоят вон там, — и он указал на противоположную сторону крааля, — и тогда я поверю. — Нет, — ответил я, — мы не проливаем невинной крови. Мы убиваем лишь тогда, когда человек в чем-нибудь провинился и заслуживает такой кары. Если же ты хочешь убедиться в нашем могуществе, вели своим слугам пригнать в твой крааль быка, и он упадет мертвым прежде, чем пробежит двадцать шагов. — Нет, — рассмеялся король, — убей человека, и тогда я поверю. — Хорошо, о король! Пусть будет по-твоему, — сказал я спокойно. — Пройди через площадь к воротам крааля, и, прежде чем ты дойдешь до них, ты будешь мертв. Если не хочешь идти сам, пошли твоего сына Скраггу (надо сказать, что в тот момент мне бы доставило большое удовольствие подстрелить этого негодяя). Услышав эти слова, Скрагга с воплем ужаса бросился в хижину. Твала высокомерно взглянул на меня и нахмурился: мое предложение ему было явно не по душе. — Пусть пригонят молодого быка, — приказал он двум слугам. Те со всех ног бросились исполнять его приказание. — Теперь, — сказал я, обращаясь к сэру Генри, — стреляйте вы. Я хочу показать этому бандиту, что я не единственный колдун в нашей компании. Сэр Генри тотчас же взял винтовку и взвел курок. — Надеюсь, что я не промахнусь, — сказал он с тяжелым вздохом. — Если не попадете с первого раза, стреляйте второй раз. Цельтесь на сто пятьдесят ярдов и ждите, пока животное не повернется к вам боком. Снова наступило молчание. Вдруг в воротах крааля показался бык. Увидев такое скопление народа, он остановился, обводя толпу испуганными, бессмысленными глазами, затем круто повернулся и замычал. — Стреляйте! — прошептал я. Бум! Бум! — раздался оглушительный выстрел, и все увидели, что бык лежит на спине, конвульсивно дергая ногами: разрывная пуля угодила ему прямо в ребра. Многотысячная толпа замерла от удивления и ужаса. С невозмутимым видом я повернулся к королю: — Ну что, солгал я тебе, о король? — Нет, белый человек, ты сказал правду, — ответил Твала с почти благоговейным ужасом. — Слушай, Твала, — продолжал я, — ты все видел. Знай же, мы пришли сюда с миром, а не с войной. Посмотри! — И я высоко поднял винчестер. — Вот этой палкой с дырой посередине ты сможешь убивать, как мы. Только помни, что я ее заколдовал. Если ты поднимешь эту волшебную палку против человека, она убьет не его, а тебя. Погоди! Я хочу показать тебе еще кое-что. Пусть один из твоих воинов отойдет от нас на сорок шагов и вонзит в землю рукоять копья так, чтобы его лезвие было обращено к нам плоской стороной. Это приказание было мгновенно исполнено. — Теперь, о король, смотри! Отсюда я вдребезги разнесу это копье. Тщательно прицелившись, я выстрелил, и пуля, ударив в середину лезвия, раздробила его на куски. На площади снова пронесся вздох ужаса и изумления. — Так вот, Твала, мы дарим тебе эту заколдованную трубку, и со временем я научу тебя, как с ней обращаться. Но берегись направить волшебство жителей звезд против человека на земле! — И с этими словами я подал ему винтовку. Король взял наш подарок очень осторожно и положил его у своих ног. В эту минуту я заметил, что сморщенная обезьяноподобная фигурка выползла из-под навеса хижины. Она ползла на четвереньках, но, когда приблизилась к месту, где сидел король, поднялась на ноги, сбросила с себя скрывавший ее меховой плащ, и перед нами предстало самое необыкновенное и жуткое человеческое существо. Это была древняя старушонка, лицо которой так высохло и съежилось от возраста, что по величине было не больше, чем у годовалого ребенка. Все оно было изрыто глубокими желтыми морщинами, среди которых проваленная щель обозначала рот, а ниже выдавался далеко вперед острый, загнутый подбородок. Носа у этого существа не было, и вообще его можно было принять за высушенный на солнце труп, если бы на лице его не горели ярким пламенем большие черные, умные глаза, смотревшие осмысленно и живо из-под совершенно белых бровей, над которыми выступал желтый, как пергамент, лоб. Что касается самой головы, она была совершенно лысая, желтого цвета, и сморщенная кожа на черепе двигалась и сокращалась, как кожа на капюшоне кобры. Мы невольно вздрогнули от ужаса и отвращения при виде этой страшной старухи. С минуту она стояла неподвижно, потом вдруг вытянула свою костлявую руку, похожую на лапу хищной птицы с когтями длиной почти в дюйм и, положив ее на плечо Твалы, вдруг заговорила тонким, пронзительным голосом: — О король, слушай меня! Слушайте меня, о воины! Слушайте, о горы, равнины и реки, и вся родная Страна Кукуанов! Слушайте, о небеса и солнце, о дождь и бури, и туманы! Слушайте, о мужчины и женщины, юноши и девушки, и вы, младенцы, лежащие в утробе матерей! Слушай меня все, что живет и должно умереть! Слушай меня все, что умерло и должно снова ожить и снова умереть! Слушайте! Дух жизни находится во мне, и я пророчествую. Я пророчествую! Я пророчествую! Последние ее слова замерли в слабом вопле, и ужас охватил всех присутствующих, включая и нас. Старуха была поистине страшна. — Кровь! Кровь! Кровь! Реки крови, кровь всюду! — снова завопила она. — Я вижу ее, слышу ее запах, чувствую ее вкус — она соленая! Она бежит по земле красным потоком и падает с неба дождем. Шаги! Шаги! Шаги! Это поступь белого человека. Он идет издалека. Земля содрогается от его шагов; она дрожит и трепещет перед своим господином. Как хороша эта кровь, эта красная, яркая кровь! Нет ничего лучше запаха свежей крови. Львы, рыча, будут жадно лакать ее, хищные птицы будут омывать в ней свои крылья и пронзительно кричать от радости! Я стара! Стара! Я видела в своей жизни много крови. Ха! Ха! Ха! Но я увижу ее еще больше, прежде чем умру, и душу мою охватит радость и веселье. Сколько мне лет, как вы думаете? Ваши отцы знали меня и их отцы знали меня, и отцы их отцов. Я видела белого человека и знаю его желания. Я стара, но горы старее меня. Скажите мне, кто проложил Великую Дорогу? Кто начертал изображения на скалах? Кто там воздвиг трех Молчаливых, что сидят в горах у колодца и созерцают нашу страну? — И она указала на три крутые скалистые горы, на которые мы обратили внимание еще накануне. — Вы не знаете, а я знаю. Задолго до вас здесь были белые люди. И они снова придут сюда, и вас не станет, ибо они пожрут и уничтожат вас. Да! Да! Да! И зачем они приходили сюда, эти Белые, Грозные, Мудрые, Могучие, настойчивые и столь искусные в колдовстве люди? О король! Откуда у тебя блестящий камень, что украшает твое чело? О король! Чьи руки сделали железное одеяние, которое ты носишь на своей груди? Ты не знаешь, а я знаю. Я — Старая, Мудрая, я — Изанузи, великая колдунья! Потом она повернула свою лысую голову хищной птицы в нашу сторону и воскликнула: — Чего вы ищете у нас, белые люди, спустившиеся со звезд… да, да, со звезд! Вы ищете потерявшегося человека? Вы его здесь не найдете. Его нет в нашей стране. Уже давным-давно ни один белый человек не вступал на нашу землю, кроме одного, но и тот покинул ее, чтобы умереть. Вы пришли за блестящими камнями! Я знаю это, знаю. Вы найдете их, когда высохнет кровь. Но вернетесь ли вы туда, откуда пришли, или останетесь со мной? Ха! Ха! Ха! А ты, ты, с темной кожей и горделивой осанкой, — и она указала своим костлявым пальцем на Амбопу, — кто ты, и чего ты ищешь? Конечно, не сверкающих камней, не желтого мерцающего железа — это ты оставляешь для «белых жителей звезд». Мне кажется, я знаю, тебя. Мне кажется, я чую запах крови в твоем сердце. Сбрось свою мучу… Вдруг лицо этого отвратительного существа стало дергаться, изо рта ее выступила пена, и в припадке эпилепсии она забилась на земле. Ее подняли и унесли в хижину. Король встал, дрожа с головы до ног, взмахнул рукой, и полки в безукоризненном строе направились к выходу. Через десять минут огромная площадь опустела, и мы остались наедине с королем и его немногочисленными приближенными. — Белые люди, — сказал он, — я думаю, всех вас надо предать смерти. Гагула произнесла странные слова. Что вы скажете? Я рассмеялся: — О король, будь осторожен! Нас не так легко убить. Ты видел, что мы сделали с быком? Неужели ты хочешь, чтобы мы сделали с тобой то же самое? Твала нахмурился. — Не подобает угрожать королю, — сказал он угрюмо. — Мы не угрожаем, а говорим истину. О король! Попробуй нас убить, и тебе несдобровать. Огромный дикарь приложил руку ко лбу и на минуту задумался. — Идите с миром, — промолвил он наконец. — Сегодня вечером будет великая пляска. Вы увидите ее. Не бойтесь, я не готовлю вам западню. А завтра я подумаю, что мне с вами делать. — Хорошо, король, — ответил я равнодушно. Мы встали и в сопровождении Инфадуса отправились в наш крааль.Глава 10
ОХОТА НА КОЛДУНОВ
Когда мы подошли к своей хижине, я знаком пригласил Инфадуса войти вместе с нами. — Послушай, Инфадус, — обратился я к нему, — мы желаем говорить с тобой. — Пусть мои повелители говорят. — Нам кажется, Инфадус, что король Твала — жестокий человек. — Это так, мои повелители. Увы! Страна стонет от его жестокости. Сегодня ночью вы многое увидите сами. Ночью будет великая охота на колдунов. Многих выследят и убьют. Никто не может быть спокоен за свою жизнь. Если король пожелает отнять у человека его скот, или его жизнь, или же если он подозревает, что человек может поднять против него мятеж, тогда Гагула, которую вы видели, или другая женщина из охотниц за колдунами, обученных ею, почуют, будто этот человек — колдун, и его убьют. Многие умрут этой ночью, прежде чем побледнеет луна. Так бывает всегда. Может быть, и мне угрожает смерть. До сих пор меня щадили, потому что я опытен в военном деле и меня любят мои воины, но я не знаю, долго ли еще мне удастся сохранить жизнь. Страна стонет от жестокости короля Твалы. Она изнемогает под его кровавым гнетом. — Так почему же, Инфадус, народ не свергнет его? — О нет, повелитель, все же он король, да и если бы его убили, Скрагга стал бы править вместо него, а сердце Скрагги еще чернее, чем сердце его отца, Твалы. Если бы Скрагга стал королем, то ярмо, которое он надел бы на наши шеи, было бы тяжелее ярма Твалы. Если бы Имоту был жив или если бы не погиб его сын Игнози, все было бы иначе. Но их нет уже среди живых. — Почему ты знаешь, что Игнози умер? — спросил чей-то голос позади нас. Мы оглянулись в изумлении, чтобы посмотреть, кто это говорит. Это был Амбопа. — Что хочешь ты сказать, юноша? — спросил Инфадус. — И почему ты осмеливаешься говорить? — Послушай, Инфадус, — сказал Амбопа. — Выслушай мой рассказ. Много лет назад в этой стране был убит король Имоту, а его жена вместе с сыном, которого звали Игнози, спаслась бегством. Не так ли? — Это так. — Говорили, что женщина и мальчик умерли в горах. Правда ли это? — И это так. — Хорошо. Но случилось иначе — и мать и сын, Игнози, не умерли. Они перебрались через горы и вместе с каким-то кочевым племенем прошли через пески, лежащие за горами, и добрались наконец до земли, где тоже есть вода и растут трава и деревья. — Как ты узнал это? — Слушай. Они шли все дальше и дальше в течение многих месяцев, пока не достигли наконец земли, где живет воинственный народ амазулу, родственный кукуанам. Среди этого народа они и влачили существование в течение многих лет, пока наконец мать не умерла. Тогда сын ее, Игнози, вновь стал скитальцем и ушел в страну чудес, где живут белые люди, и там он еще много лет учился мудрости белых. — Странную историю ты рассказываешь, — недоверчиво сказал Инфадус. — Долгие годы он провел там — был и слугой и воином, но в сердце своем хранил все, что его мать рассказывала ему о родине. Он измышлял способы вернуться, чтобы увидеть свой народ и дом своего отца прежде, чем ему самому суждено будет умереть. Много лет он ждал, и вот пришло время, когда судьба свела его с белыми людьми, которые хотели разыскать эту неизвестную страну, и он присоединился к ним. Белые люди отправились в путь и шли все вперед и вперед в поисках того, кто исчез. Они прошли через пылающую пустыню, они переправились через горы, увенчанные снегом, и достигли Страны Кукуанов и встретились с тобой, о Инфадус! — Ты, конечно, безумен, иначе ты так не говорил бы, — отвечал старый воин, пораженный тем, что он услышал. — Напрасно ты так думаешь. Смотри же, что я покажу тебе, о брат моего отца! Я Игнози, законный король кукуанов! С этими словами он одним движением сорвал набедренную повязку и предстал перед нами совершенно обнаженный. — Смотри, — сказал он. — Знаешь ли ты, что это такое? — И он указал на знак Великой Змеи, вытатуированный синей краской на его теле. Хвост змеи исчезал в ее открытой пасти чуть-чуть повыше бедра. Инфадус смотрел, и глаза его чуть не вылезли из орбит от изумления. Затем он упал на колени. — Куум! Куум! — воскликнул он. — Это сын моего брата, это король! — Разве я не сказал тебе то же самое, брат моего отца? Встань — я еще не король, но с твоей помощью и с помощью моих друзей, отважных белых людей, я буду королем. Престарелая Гагула сказала правду — сначала земля обагрится кровью, но я добавлю, что прольется и ее кровь, если она течет в жилах этой ведьмы, потому что она убила своими словами моего отца и изгнала мою мать. А теперь, Инфадус, выбирай. Пожелаешь ли ты вложить свои руки в мои и помогать мне? Пожелаешь ли ты делить со мною опасности, которые угрожают мне, и помочь мне свергнуть тирана и убийцу или не пожелаешь? Теперь выбирай. Старик задумался, приложив ко лбу руку. Затем он поднялся, приблизился к месту, где стоял Амбопа, или, вернее, Игнози, преклонил перед ним колени и коснулся его руки: — Игнози, законный король кукуанов, я согласен вложить мои руки в твои, и я буду служить тебе до самой смерти. Когда ты был ребенком, я качал тебя на своем колене, теперь же моя старая рука возьмется за оружие, чтобы сражаться за тебя и за свободу. — Ты хорошо сказал, Инфадус! Если я одержу победу, ты будешь первым человеком в стране после короля. Если меня ждет поражение, ты можешь всего только умереть, а твоя смерть и так недалека. Встань, брат моего отца. А вы, белые люди, поможете ли вы мне? Что я могу вам предложить? Если я одержу победу и смогу найти эти сверкающие камни, вы получите их столько, сколько будете в состоянии унести отсюда. Но достаточно ли будет этого? Я перевел его слова. — Скажите ему, — отвечал сэр Генри, — что он неправильно судит об англичанах. Богатство — хорошая вещь, и, если оно повстречается на нашем пути, мы не откажемся от него, но джентльмен не продается за богатство. Однако от своего имени я хочу сказать следующее. Мне всегда нравился Амбопа, и что касается меня, я буду стоять с ним рядом в борьбе за его дело. Я с большим удовольствием попытаюсь свести счеты с этим злобным дьяволом Твалой. А что скажете вы, Гуд, и вы, Квотермейн? — Что ж, — отозвался капитан, — вы можете ему передать, выражаясь цветистым языком гипербол, от которого, кажется, в восторге все эти люди, что драка безусловно неплохая штука и радует сердце настоящего человека. Поэтому, поскольку дело идет обо мне, на меня он может рассчитывать. Я ставлю ему единственное условие — пусть он разрешит мне ходить в брюках. Я перевел оба ответа. — Благодарю, друзья мои, — сказал Игнози, в прошлом Амбопа. — А что скажешь ты, Макумазан? Останешься ли ты также со мной, старый охотник, более мудрый, чем раненый буйвол? Я почесал в затылке, слегка призадумавшись. — Амбопа, или Игнози, — отвечал я наконец, — я не люблю революций. Я человек мирный и даже немного трусоват (тут Игнози улыбнулся), но, с другой стороны, я остаюсь верным своим друзьям, Игнози. Ты был верен нам и вел себя как настоящий мужчина, и я не оставлю тебя. Но имей в виду, что я торговец и вынужден зарабатывать на жизнь, поэтому я принимаю твое предложение относительно этих алмазов, в случае если нам когда-нибудь удастся завладеть ими. И еще одно: мы пришли сюда, как тебе известно, на поиски пропавшего брата Инкубу. Ты должен помочь нам найти его. — Я это сделаю, — отвечал Игнози. — Послушай, Инфадус, — продолжал он, обратившись к старому воину, — заклинаю тебя священным знаком змеи, обвившейся вокруг моего тела, скажи мне правду: известно ли тебе, чтобы нога какого-нибудь белого человека ступала на эту землю? — Нет, о Игнози. — Если бы белого человека видели здесь или слышали о нем, ты знал бы об этом? — Конечно, знал бы. — Ты слышишь, Инкубу? — обратился Игнози к сэру Генри. — Его здесь не было. — Да, да, — со вздохом проговорил сэр Генри, — это так. Я думаю, что ему не удалось добраться сюда. Несчастный Джордж! Итак, все наши усилия напрасны. Да будет воля господня! — Ну, а теперь к делу, — прервал его я, желая избежать дальнейшего разговора на эту печальную тему. — Конечно, очень хорошо быть королем по божественному праву, Игнози, но каким образом ты намереваешься стать королем в действительности? — Не знаю. Есть ли у тебя какой-нибудь план, Инфадус? — Игнози, сын молнии, — отвечал его дядя, — сегодня ночью будет великая пляска и охота на колдунов. Многих выследят, и они погибнут, и в сердцах многих других останется горе и боль и гнев на короля Твалу. Когда пляска окончится, я обращусь к некоторым из главных военачальников, которые, в свою очередь, если мне удастся привлечь их на свою сторону, будут говорить со своими полками. Сначала я поговорю с военачальниками тайно и приведу их сюда, чтобы они могли воочию убедиться в том, что ты действительно король. Я думаю, что к рассвету завтрашнего дня ты будешь иметь под своим командованием двадцать тысяч копий. А теперь я должен удалиться, чтобы думать, слушать и готовиться. Когда окончится пляска, если все мы останемся в живых, я встречусь с тобой здесь, и мы поговорим. Знай, что в лучшем случае нам предстоит война. В этот момент наше совещание было прервано громкими возгласами, возвещавшими прибытие посланцев короля. Подойдя к двери хижины, мы приказали их пропустить, и сейчас же вошли трое гонцов. Каждый из них нес сверкающую кольчугу и великолепный боевой топор. — Дары моего повелителя короля белым людям, спустившимся со звезд! — провозгласил сопровождавший их герольд. — Мы благодарим короля, — отвечал я. — Ступайте. Посланцы ушли, а мы с огромным интересом принялись рассматривать доспехи. Такой великолепной кольчуги нам никогда не приходилось видеть. Звенья ее были настолько тонки, что, когда ее складывали, всю ее целиком можно было накрыть двумя ладонями. — Неужели эти вещи делают в вашей стране, Инфадус? — спросил я. — Они очень красивы. — Нет, мой господин, они дошли до нас от наших предков. Мы не знаем, кем они сделаны. Теперь их осталось совсем мало, и только люди, в жилах которых течет королевская кровь, имеют право их носить. Это заколдованные одеяния, сквозь которые не может проникнуть копье. Тем, кто их носит, почти совершенно не угрожает опасность в бою. Король или чем-то очень доволен, или же очень страшится чего-то, иначе он не прислал бы их. Наденьте их сегодня вечером, повелители. Остаток дня мы провели спокойно. Мы отдыхали и обсуждали свое положение, которое, надо сказать, вселяло некоторое беспокойство. Наконец солнце село, вспыхнули сотни сторожевых костров, и в темноте мы услышали тяжелую поступь многих ног и лязг сотен копий — это шли полки, чтобы занять предназначенное для каждого из них место и подготовиться к великой пляске. Взошла ослепительная полная луна. Мы стояли, любуясь лунной ночью, когда прибыл Инфадус. На нем было полное военное одеяние, и его сопровождал эскорт из двадцати человек, который должен был доставить нас на место пляски. По совету Инфадуса, мы уже облачились в кольчуги, которые прислал нам король, причем поверх них мы надели обычную одежду. К своему удивлению, мы обнаружили, что в них нам было легко и удобно. Эти стальные рубашки, которые, очевидно, были когда-то сделаны для людей огромного роста, свободно болтались на Гуде и на мне, но могучую фигуру сэра Генри кольчуга облегала, как перчатка. Затем мы пристегнули к поясу револьверы, взяли боевые топоры, присланные нам королем вместе с кольчугой, и отправились. Когда мы прибыли в большой крааль, где утром нас принимал король, мы увидели, что весь он заполнен людьми. Около двадцати тысяч воинов было построено по кругу, каждый полк в отдельности. Полки, в свою очередь, делились на отряды, между которыми были оставлены узкие проходы, чтобы дать возможность охотницам за колдунами двигаться по ним взад и вперед. Невозможно себе представить зрелище более грандиозное, чем это огромное скопление вооруженных людей, стоящих в безупречном строю. Они стояли в абсолютном молчании, и луна заливала своим светом лес их поднятых копий, их величественные фигуры, развевающиеся перья и гармоничные очертания их разноцветных щитов. Куда бы мы ни бросили взгляд, всюду ряд за рядом виднелись неподвижные, застывшие лица, над которыми вздымались бесчисленные ряды копий. — Конечно, вся армия здесь? — спросил я Инфадуса. — Нет, Макумазан, — отвечал он, — лишь третья ее часть. Одна треть ежегодно присутствует на этом празднестве, другая треть собрана снаружи, вокруг крааля, для охраны в случае, если произойдут беспорядки, когда начнется избиение, а еще десять тысяч несут гарнизонную службу на передовых постах вокруг Луу, остальные же охраняют по всей стране краали. Ты видишь, это великий народ. — Они очень молчаливы, — заметил Гуд. Действительно, напряженная тишина при таком огромном скоплении живых людей вызывала какое-то тяжелое чувство. — Что говорит Бугван? — спросил Инфадус. Я перевел. — Те, над нем витает тень Смерти, всегда молчаливы, — мрачно ответил он. — Многие из них будут убиты? — Очень многие! — Кажется, — обратился я к своим спутникам, — нам предстоит присутствовать на гладиаторских играх, на организацию которых не жалеют затрат. По телу сэра Генри пробежала дрожь, а Гуд заявил, что ему очень хотелось бы, чтобы мы могли уклониться от участия в этом развлечении. — Скажи мне, — вновь обратился я к Инфадусу, — не угрожает ли нам опасность? — Не знаю, мой повелитель. Думаю, что нет. Во всяком случае, не проявляйте боязни. Если вы переживете эту ночь, все еще может обойтись благополучно. Воины ропщут на короля. Все это время мы шли к центру свободного пространства посередине крааля, где стояло несколько табуретов. Направляясь туда, мы увидели другую маленькую группу людей, приближающуюся со стороны королевской хижины. — Это король Твала, его сын Скрагга и престарелая Гагула, и с ними те, кто убивает. — Инфадус указал на людей, сопровождающих короля. Их было человек двенадцать, все гигантского роста и устрашающей внешности. В одной руке каждый держал копье, а в другой — тяжелую «кэрри» (то есть дубину). Король опустился на табурет, стоявший в самом центре, Гагула скорчилась у его ног, а Скрагга и палачи стали позади него. — Привет вам, белые повелители! — воскликнул Твала, когда мы подошли. — Сядьте, не тратьте напрасно драгоценного времени — ночь слишком коротка для тех дел, которые должны свершиться. Вы приходите в добрый час, вам предстоит увидеть великое зрелище. Оглянитесь вокруг, белые повелители, оглянитесь! — Своим единственным злобным глазом он обвел полки один за другим. — Могут ли звезды показать вам подобное зрелище? Смотрите, как они трепещут в своей низости, все те, кто хранит в сердце злобу и страшится небесного правосудия! — Начинайте! Начинайте! — крикнул Гагула своим тонким, пронзительным голосом. — Гиены голодны, они воют и просят пищи. Пора! Пора! Затем на мгновение наступила напряженная тишина, ужасная из-за предчувствия того, что должно было произойти. Король поднял свое копье, и внезапно двадцать тысяч ног поднялись, как будто они принадлежали одному человеку, и гулко опустились на землю, сотрясая ее. Это повторилось трижды. Затем в какой-то отдаленной точке круга одинокий голос затянул песню, похожую на причитание. Припев ее звучал примерно так: — Каков удел человека, рожденного от женщины? И из груди каждого участника этого огромного сборища вырвался ответный вопль: — Смерть! Постепенно один отряд за другим подхватывал песню, пока наконец ее не запела вся масса вооруженных людей. Мне было трудно разобрать все ее слова, но я понял, что в ней говорилось о человеческих страстях, печалях и радостях. Казалось, это была то любовная песня, то величественно нарастающий боевой гимн и, наконец, погребальная песня, которая внезапно завершилась надрывающим сердце воплем. Эхо его, от звуков которого кровь застывала в жилах, прокатилось по окрестностям. Затем вновь воцарилось молчание, но король поднял руку, и тишина была нарушена снова. Послышался быстрый топот ног, и из рядов воинов выбежали, приближаясь а нам, странные и зловещие существа. Когда они приблизились, мы увидели, что это женщины, почти все старые. Их седые космы, украшенные рыбьими пузырями, развевались на бегу. Лица их были раскрашены полосами желтого и белого цвета, змеиные шкуры болтались у них за плечами, вокруг талии постукивали пояса из человеческих костей. Каждая из них держала в сморщенной руке маленький раздвоенный жезл. Всего их было десять. Приблизившись к нам, они остановились, и одна из них, протянув свой жезл по направлению к скорченной фигуре Гагулы, воскликнула: — Мать, старая мать! Мы пришли! — Так! Так! Так! — отозвалось престарелое олицетворение порока. — Зорки ли ваши глаза, изанузи, те, которые видят во тьме? — Наши глаза зорки, Мать. — Так! Так! Так! Открыты ли ваши уши, изанузи, те, которые слышат слова, не сошедшие с языка? — Наши уши открыты, Мать. — Так! Так! Так! Бодрствуют ли ваши чувства, изанузи, можете ли вы почуять запах крови, можете ли вы очистить страну от преступников, которые злоумышляют против короля и против своих соседей? Готовы ли вы вершить правосудие небес, вы, которых я обучила, кто вкусил от хлеба моей мудрости и утолил жажду из источника моего волшебства? — Мы готовы, Мать. — Тогда идите! Не мешкайте вы, хищницы. Посмотрите на убийц, — и она показала на зловещую группу палачей, стоявших позади нас. — Пусть они наточат свои копья. Белые люди, пришедшие сюда издалека, хотят видеть. Идите. С диким воплем страшные исполнительницы ее воли рассыпались, подобно осколкам разбившейся раковины, по всем направлениям и, сопровождаемые стуком костей, висящих у них на поясе, направили свой бег в различные точки плотного круга, образованного массами людей. Мы не могли следить за ними всеми и поэтому сосредоточили свое внимание на той изанузи, которая оказалась ближе других. В нескольких шагах от воинов она остановилась и начала дикий танец, кружась с почти невероятной быстротой и выкрикивая нечто вроде: «Я чую его, злодея!», «Он близко, тот, кто отравил свою мать!», «Я слышу мысли того, кто злоумышлял на короля!» Все быстрее и быстрее становилась ее пляска, пока она не довела себя до такого безумного возбуждения, что пена хлопьями полетела с ее скрежещущих челюстей, глаза ее, казалось, выкатились из орбит, и видно было, что все ее тело сотрясает дрожь. Внезапно она замерла на месте и вся напряглась, как охотничья собака, почуявшая дичь. Затем, вытянув вперед свой жезл, она начала крадучись подползать к стоявшим перед ней воинам. Нам казалось, что, по мере того как она приближалась, их стоическая выдержка поколебалась, и они подались назад. Что касается нас, мы следили за ее движениями, окаменев от ужаса. Наконец, передвигаясь ползком, на четвереньках, она оказалась перед ними вновь, остановилась, как собака, делающая стойку, и затем проползла еще шага два. Конец наступил внезапно. С криком она вскочила и коснулась высокого воина своим раздвоенным жезлом. Сейчас же два его товарища, стоявшие рядом с ним, схватили за руки обреченного на смерть человека и вместе с ним приблизились к королю. Человек не сопротивлялся, но мы заметили, что он переставляет ноги с трудом, как будто они парализованы, а его пальцы, из которых выпало копье, безжизненны, как у только что умершего человека. Пока его вели, двое из группы отвратительных палачей вышли ему навстречу. Поравнявшись со своей жертвой, они повернулись к королю, словно ожидая приказа. — Убить! — сказал король. — Убить! — проскрипела Гагула. — Убить! — эхом отозвался Скрагга с довольным смешком. Не успели еще отзвучать эти слова, как страшное дело уже свершилось. Один из палачей вонзил свое копье в сердце жертвы, а другой для полной уверенности разбил ему череп своей огромной дубиной. — Один, — открыл счет король Твала. Тело оттащили на несколько шагов в сторону и бросили. Едва успели это сделать, как привели другого несчастного, словно быка на бойню. На этот раз по плащу из шкуры леопарда мы увидели, что это важный человек. Вновь прозвучали ужасные слова, и жертва упала мертвой. — Два, — считал король. Так продолжалась эта кровавая игра, пока около сотни мертвых тел не было уложено рядами позади нас. Я слышал о состязании гладиаторов при цезарях и о боях быков в Испании, но я беру на себя смелость усомниться в том, было ли все это хоть вполовину настолько ужасно, как эта кукуанская охота за колдунами. Во всяком случае, состязание гладиаторов и испанские бои быков доставляли хоть какое-то развлечение зрителям, что здесь, конечно, совершенно отсутствовало. Самый отъявленный любитель острых ощущений постарался бы избежать подобного зрелища, если бы он знал, что именно он, собственной персоной, может быть участником следующего «номера». Один раз мы не выдержали, поднялись и пытались протестовать, но Твала резко остановил нас. — Пусть свершается правосудие, белые люди. Эти собаки — преступные колдуны, и то, что они должны умереть, справедливо. — Таков был единственный ответ, которым он нас удостоил. Около половины одиннадцатого наступил перерыв. Охотницы за колдунами собрались вместе, очевидно утомленные своей кровавой работой, и мы думали, что все представление закончено. Но это было не так. Неожиданно, к нашему удивлению, старуха Гагула поднялась со своего места, где она сидела до этого скрючившись. Опираясь на палку, она заковыляла по открытой площадке, где сидели мы. Эта ужасная старая ведьма с головой стервятника, согнувшаяся почти вдвое под грузом неисчислимых лет, представляла собой омерзительное зрелище, в особенности когда, постепенно набираясь сил, она наконец начала метаться из стороны в сторону с не меньшей энергией, чем ее зловещие ученицы. Взад и вперед бегала она, монотонно напевая что-то себе под нос, и наконец внезапно бросилась на высокого человека, стоящего во главе одного из полков, и коснулась его. Когда она это сделала, оттуда, где стоял полк, которым, он, очевидно, командовал, послышалось нечто вроде стона. Но тем не менее два воина этого полка схватили жертву и повели на казнь. Впоследствии мы узнали, что этот человек обладал огромным богатством и влиянием, так как он был двоюродным братом короля. Его прикончили, и король подвел итог: было убито сто три человека. Затем Гагула вновь начала скакать взад и вперед, постепенно все ближе подходя к нам. — Пусть меня повесят, если мне не кажется, что она собирается испытать свои фокусы на нас! — в ужасе воскликнул Гуд. — Глупости! — сказал сэр Генри. Что касается меня, должен сказать, что, когда я увидел, как эта старая ведьма, продолжая свою дьявольскую пляску, подходит все ближе и ближе, у меня буквально душа ушла в пятки. Я оглянулся на длинные ряды трупов, и меня охватила дрожь. Все ближе и ближе вальсировала Гагула, точь-в-точь как ожившая кривая палка. Глаза ее сверкали дьявольским огнем. Все ближе подходила она, все ближе и ближе. Глаза огромного количества людей следили за ее движениями с напряженным вниманием. Наконец она замерла и сделала стойку. — Который из нас? — сказал, как бы про себя, сэр Генри. Через мгновение все сомнения рассеялись — старуха стремительным движением коснулась плеча Амбопы, или Игнози. — Я чую его! — вскричала она. — Убейте его, убейте его — он исполнен зла! Убейте его, незнакомца, прежде чем из-за него прольются потоки крови. Убей его, о король! Наступила пауза, которой я немедленно воспользовался. — О король, — воскликнул я, поднимаясь со своего сиденья, — этот человек — слуга твоих гостей, он их собака. Тот, кто прольет кровь нашей собаки, тем самым прольет нашу кровь. Во имя священного закона гостеприимства я прошу у тебя защиты для него. — Гагула, мать всех знахарок, почуяла его. Он должен умереть, белые люди, — угрюмо ответил Твала. — Нет, он не умрет, — отвечал я, — умрет тот, кто осмелится его коснуться. — Схватить этого человека! — громовым голосом крикнул Твала палачам, которые стояли вокруг, с ног до головы покрытые кровью своих жертв. Они шагнули было к нам, но вдруг заколебались. Что же касается Игнози — он поднял свое копье, очевидно намереваясь дорого продать свою жизнь. — Назад, собаки, — крикнул я, — если вы хотите увидеть свет завтрашнего дня! Коснитесь хоть одного волоса на его голове, и ваш король умрет, — и я навел на Твалу револьвер. Сэр Генри и Гуд также схватили револьверы. Сэр Генри навел свой на главного палача, который сделал шаг вперед, чтобы привести приговор в исполнение, а Гуд тщательно прицелился в Гагулу. Твала заметно вздрогнул, когда ствол моего револьвера остановился на уровне его широкой груди. — Ну, — сказал я, — что же будет, Твала? Тогда он заговорил: — Уберите ваши заколдованные трубки, — сказал он. — Вы просили меня во имя гостеприимства, и ради этого, а не из страха перед тем, что вы можете сделать, я щажу его. Идите с миром. — Хорошо, — ответил я спокойно. — Мы устали от кровопролития и хотели бы отдохнуть. Пляска окончена? — Окончена, — угрюмо ответил Твала. — Пусть этих собак, — тут он указал на длинные ряды трупов, — выбросят на корм гиенам и хищным птицам, — и он поднял свое копье. Сейчас же в глубоком молчании полки начали один за другим выходить из ворот крааля. Осталась только команда, получившая, очевидно, задание убрать трупы несчастных жертв. Затем мы также поднялись, распрощались с его величеством, причем он едва соблаговолил выслушать наши прощальные приветствия, и отбыли в свой крааль. Войдя в хижину, мы прежде всего зажгли лампу, которой пользуются кукуаны. Фитиль ее сделан из волокон какой-то разновидности пальмового листа, а горит в ней очищенный жир гиппопотама. — Знаете ли, — сказал сэр Генри, когда мы сели, — я ощущаю сильнейшую тошноту. — Если у меня и были какие-либо сомнения насчет того, помогать ли Амбопе поднять мятеж против этого дьявольского негодяя, — заметил Гуд, — то теперь они рассеялись. Я едва мог усидеть на месте, пока шло это избиение. Я пытался закрывать глаза, но они, как нарочно, открывались в самый неподходящий момент. Интересно, где сейчас Инфадус. Амбопа, мой друг, ты должен быть нам благодарен — твою шкуру чуть не продырявили насквозь. — Я благодарен вам, Бугван, — отвечал Амбопа, когда я перевел ему слова Гуда, — и никогда не забуду этого. А Инфадус скоро будет здесь. Мы должны ждать. Мы зажгли свои трубки и стали ждать.Глава 11
МЫ СОВЕРШАЕМ ЧУДО
В течение долгого времени — думаю, что не менее двух часов — мы сидели в полном молчании, ожидая прихода Инфадуса. Никто из нас не разговаривал: слишком мы были подавлены воспоминаниями о тех ужасах, которые только что видели во время охоты на колдунов. Наконец, перед самым рассветом, когда мы уже собирались ложиться спать, послышались шаги и оклик часового, стоящего у ворот нашего крааля. Шаги продолжали приближаться, так как, очевидно, на оклик ответили, но так тихо, что слов нельзя было разобрать. Затем дверь распахнулась, и вошел Инфадус. За ним следовали шесть полных величия и достоинства вождей. — Мои повелители и ты, Игнози, законный король кукуанов, — обратился он к нам, — я пришел, как обещал, и привел этих людей. — И Инфадус указал на выстроившихся в ряд военачальников. — Это великие люди нашей страны. Каждый из них командует тремя тысячами воинов, которые беспрекословно выполняют их приказания по указу короля. Я рассказал им, что видели мои глаза и что слышали мои уши. Пусть эти люди тоже взглянут на священную змею, опоясывающую тебя, Игнози, и выслушают твой рассказ, чтобы решить, перейти ли им на твою сторону и выступить ли им против Твалы, нашего короля. Вместо ответа Игнози сорвал с себя набедренную повязку, и все увидели на его теле знак королевского достоинства — змею, вытатуированную вокруг его бедер. Каждый вождь по очереди подходил к Игнози, рассматривал ее при тусклом свете лампы и, не говоря ни слова, отходил в сторону. Затем Игнози снова надел свою набедренную повязку и, обратившись к военачальникам, рассказал им историю своей жизни, которую мы слышали от него утром. — Что вы скажете, вожди, после того, как сами выслушали этого человека? — спросил их Инфадус, как только Игнози закончил свой рассказ. — Будете ли вы стоять за него и поможете ли ему занять трон его отца? Страна стонет под игом Твалы, и кровь нашего народа заливает ее, как выступившие из берегов вешние воды. Вы видели это сегодня вечером. Были еще два вождя, с которыми я хотел поговорить об этом же, и где они? Гиены воют над их трупами. Если вы не выступите против Твалы, то и вас скоро постигнет та же участь. Выбирайте же, братья мои. Самый старый из шести вождей, плотный, небольшого роста человек с седыми волосами, выступил вперед и промолвил: — Ты верно сказал, Инфадус: страна стонет и люди ропщут под игом Твалы. Мой родной брат был среди тех, кто погиб сегодня вечером. Ты задумал великое дело, но нам трудно поверить тому, что мы сейчас слышали. Откуда мы знаем, не поднимем ли мы копья за обманщика?… Дело это великое, говорю я, и никто не может сказать, чем оно кончится.Прольются реки крови, прежде чем оно совершится. Многие останутся верными Твале, ибо люди преклоняются перед солнцем, которое светит на небесах, а не перед тем, которое еще не взошло. Колдовство белых жителей звезд велико, и Игнози находится под защитой их крыльев. Если он действительно законный король нашей страны, пусть белые люди совершат какое-нибудь чудо, чтобы все наши люди могли его увидеть. Тогда народ пойдет за нами, убедившись, что колдовство белых людей — на нашей стороне. — Но вы же видели знак змеи! — сказал я. — Повелитель мой, этого недостаточно. Может быть, изображение священной змеи было начертано на его теле много позже его рождения. Соверши чудо, говорю я, иначе мы не тронемся с места. То же самое повторили остальные вожди. В полном недоумении, обратившись к сэру Генри и Гуду, я объяснил им положение вещей. — Я знаю, что нам делать! — воскликнул Гуд, и его лицо просияло от радости. — Только попросите их дать нам несколько минут на размышление. Я сказал об этом вождям, и они вышли. Гуд тотчас же бросился к маленькому ящику, где он держал лекарства, открыл его и вынул записную книжку, на первых страницах которой был календарь. — Послушайте, друзья, — спросил он нас, — ведь завтра четвертое июня? Мы тщательно вели счет дням и, взглянув на наши записи, подтвердили, что он не ошибся. — Прекрасно! Так вот, слушайте: «Четвертого июня, в восемь часов пятнадцать минут вечера по Гринвичскому времени начнется полное затмение Луны. Его можно будет наблюдать на Тенерифе, в Южной Африке…» ну, и прочих местах… Вот вам и чудо! Квотермейн, скажите вождям, что завтра вечером мы потушим Луну. Идея была превосходная, но нас несколько смущало, что календарь Гуда мог оказаться не совсем точным. Если бы мы ошиблись в предсказании, наш престиж был бы навсегда подорван, и тогда все шансы возвести Игнози на престол разлетелись бы прахом. — А что если ваш календарь неверен? — спросил сэр Генри Гуда, который в это время сосредоточенно делал какие-то вычисления на отрывном листе свой записной книжки. — Нет никаких оснований так думать, — возразил Гуд. — Затмения всегда происходят в точно вычисленное время: в этом убедил меня личный опыт. А в сообщении, которое я только что вам прочел, подчеркивается, что это затмение можно будет наблюдать в Южной Африке. Сейчас я сделал только приблизительные вычисления, так как не знаю нашего точного местонахождения. Я высчитал, что оно должно начаться завтра около десяти часов вечера и продолжаться до половины первого, так что в течение примерно полутора часов здесь будет полная темнота. — Ну что ж, — сказал сэр Генри, — думаю, что мы должны рискнуть. Я согласился с ним, хотя в глубине души очень сомневался, удастся ли наша затея, так как с моей точки зрения затмения — штука хитрая и на них полагаться довольно рискованно. «А вдруг, — думал я, — небо будет затянуто тучами и Луны вообще не будет видно?» Озабоченный этими размышлениями, я послал Амбопу за вождями, которые тотчас же явились, и я обратился к ним со следующей речью: — Великие люди Страны Кукуанов и ты, Инфадус, слушайте! Мы не любим хвастаться нашим могуществом, ибо это значит вмешиваться в естественный ход природы и погружать мир в страх и смятение. Но так как наше дело великое и мы разгневаны на короля за кровавую резню, которую мы видели и на изанузи Гагулу, желавшую умертвить нашего друга Игнози, мы решили совершить чудо и подать вам знамение, которое увидят все ваши люди. Подойдите сюда, — сказал я, отворяя дверь хижины и указывая вождям на красный шар заходящей Луны. — Что вы видите? — Мы видим умирающую Луну, — ответил один из них, который был, по-видимому, избран для того, чтобы вести с нами переговоры. — Ты прав. Теперь скажи мне, может ли смертный человек погасить Луну до назначенного часа ее захода и набросить покров черной ночи на всю Землю? Вождь тихо засмеялся: — Нет, повелитель, ни один человек не может этого сделать. Луна сильнее человека. Человек может только смотреть на нее, и никто не может нарушить ее небесный путь. — Ты так думаешь? А я говорю тебе, что завтра вечером, за два часа до полуночи, мы сделаем так, что Луна исчезнет с неба и Землю окутает глубокий мрак, который будет продолжаться час и еще полчаса в знак того, что Игнози действительно является законным королем кукуанов. Если мы это сделаем, поверите вы в это? — Да, мои повелители, — ответил с улыбкой старый вождь, и все остальные вожди тоже улыбнулись. — Если вы это совершите, мы поверим. — В таком случае, это будет совершено. Мы трое — Инкубу, Бугван и Макумазан — заявляем вам, что завтра вечером мы потушим Луну. Ты слышишь, Инфадус? — Слышу, мой повелитель. Ты обещаешь потушить Луну, мать нашего мира, да еще в полнолуние, когда она ярче всего светит. Но то, что ты говоришь, слишком удивительно. — Однако мы это сделаем, Инфадус. — Хорошо, повелитель. Сегодня, через два часа после захода солнца, Твала пошлет за повелителями, чтобы они присутствовали на пляске дев. Через час после начала пляски та девушка, которую Твала сочтет самой прекрасной, будет умерщвлена королевским сыном Скраггой. Она будет принесена в жертву Молчаливым, которые сторожат те горы, — и он указал на три скалистые вершины, где, как мы уже слышали, кончалась Великая Дорога царя Соломона. — Пусть мои повелители потушат Луну и спасут жизнь девушки. Тогда наш народ уверует в них. — Да, — подтвердил старый вождь, все еще слегка улыбаясь, — тогда наши люди вам поверят. — В двух милях от Луу, — продолжал Инфадус, — находится холм, изогнутый, как молодой месяц. В этом укрепленном месте находится мой полк и еще три полка, которыми командуют эти вожди. Утром мы подумаем о том, как перебросить туда еще два или три полка. Если мои повелители в самом деле потушат Луну, я в темноте возьму их за руку, выведу из Луу и провожу их туда. Там они будут в безопасности. И оттуда мы будем сражаться против короля Твалы. — Прекрасно! — ответил я. — А теперь оставьте нас, ибо мы хотим немного отдохнуть и подготовить все нужное для колдовства. Инфадус встал и, отдав нам салют, вышел из хижины в сопровождении вождей. — Друзья мои! — обратился к нам Игнози после их ухода. — Неужели вы действительно можете потушить Луну или говорили этим людям пустые слова? — Мы полагаем, что сможем это сделать, Амбопа… то есть я хотел сказать — Игнози, — ответил я. — Это очень странно, — сказал он. — Если бы вы не были англичанами, я ни за что бы этому не поверил. Но английские джентльмены не говорят лживых слов. Если нам суждено остаться в живых, вы можете быть уверены, что я вас вознагражу за все. — Игнози, — обратился к нему сэр Генри, — обещай мне только одно. — Я обещаю тебе все, друг мой Инкубу, прежде чем даже выслушаю тебя, — ответил наш гигант с улыбкой. — О чем ты хочешь меня просить? — Вот о чем. Если ты будешь королем кукуанов, ты запретишь выслеживание колдунов, то, которое мы видели вчера вечером, и не будешь карать смертью людей без справедливого суда. После того как я перевел эти слова, Игнози на момент задумался и затем ответил: — Обычаи черных людей не похожи на обычаи белых, Инкубу, и они не ценят свою жизнь так высоко, как вы, белые. Но все же я тебе обещаю, что, если будет в моих силах справиться с охотницами за колдунами, они не будут больше выслеживать людей и ни один человек не будет умерщвлен без суда. — Я верю тебе, Игнози. Ну, а теперь, когда мы решили этот вопрос, — сказал сэр Генри, — давайте немного отдохнем. Мы смертельно устали и тут же крепко уснули, проспав до одиннадцати часов утра. Нас разбудил Игнози. Мы встали, умылись и, плотно позавтракав, вышли погулять. Во время прогулки мы с любопытством рассматривали кукуанские постройки и с большим интересом наблюдали быт женщин. — Я надеюсь, что затмение все же состоится, — сказал сэр Генри, когда мы возвращались домой. — Если же его не будет, то всем нам крышка, — ответил я угрюмо. — Ручаюсь головой, что кто-нибудь из вождей непременно расскажет королю все, о чем мы с ним говорили, и он устроит такое «затмение», что нам не поздоровится. Вернувшись к себе, мы пообедали, остальная же часть дня ушла у нас на прием гостей. Некоторые приходили с официальным визитом, другие просто из любопытства. Наконец солнце зашло, и мы, оставшись одни, насладились двумя часами покоя, насколько позволяло наше невеселое настроение и мрачные мысли. Около половины девятого явился от Твалы гонец и пригласил нас на ежегодное празднество — великую пляску дев, которая должна была скоро начаться. Мы быстро надели кольчуги, присланные королем, и, взяв оружие и патроны, чтобы они были у нас под рукой в случае, если бы нам пришлось бежать, как говорил Инфадус, довольно храбро направились к королевскому краалю, хотя в душе трепетали от страха и неизвестности. Большая площадь перед жилищем короля имела совсем другой вид, чем накануне. Вместо мрачных, стоявших сомкнутыми рядами воинов она вся была заполнена девушками. Одежды на них — скажу прямо — не было почти никакой, но зато на голове у каждой был венок, сплетенный из цветов, и каждая из них держала в одной руке пальмовую ветвь, а в другой — большую белую лилию. В центре площади, на открытом месте, залитом лунным светом, восседал сам король, у ног которого сидела Гагула. Позади него стояли Инфадус, Скрагга и двенадцать телохранителей. Тут же присутствовали десятка два вождей, среди которых я узнал большую часть наших новых друзей, приходивших ночью с Инфадусом. Твала сделал вид, что он очень рад нашему приходу, и сердечно нас приветствовал, хотя я заметил, что он злобно устремил свой единственный глаз на Амбопу. — Привет вам, белые люди звезд! — сказал он. — Сегодня вас ожидает совсем иное зрелище, чем то, которое видели ваши глаза при свете вчерашней луны. Но это зрелище будет хуже, чем вчерашнее. Вид девушек ласкает взор, и если бы не они, — тут он указал вокруг себя, — то и нас бы не было здесь сегодня. Лицезреть мужчин приятнее. Сладки поцелуи и ласки женщин, но звон копий и запах человеческой крови гораздо слаще. Хотите иметь жен из нашего народа, белые люди? Если так, выбирайте самых красивых и столько, сколько пожелаете. Все они будут ваши. — И он замолк, ожидая ответа. Такое предложение было бы, конечно, заманчиво для Гуда, так как он, как, впрочем, и большинство моряков, имеет большое пристрастие к женскому полу. Я же, как человек пожилой и умудренный опытом, заранее предвидел, что это повлечет за собой одни лишь бесконечные осложнения и неприятности, которые женщины, к сожалению, всегда приносят, что так же неизбежно, как то, что за днем следует ночь. — Благодарю тебя, о король! — поспешно ответил я. — Но белые люди женятся только на белых, то есть на подобных себе. Ваши девушки прекрасны, но они не для нас! Король рассмеялся. — Хорошо, — сказал он, — пусть будет по-вашему, хотя в нашей стране есть пословица: «Женские глаза всегда хороши, какого бы они ни были цвета», и другая: «Люби ту, которая с тобой, ибо знай, что та, которая далеко, наверно тебе неверна». Но, может быть, у вас на звездах это не так. В стране, где люди белые, все возможно. Пусть же будет по-вашему, белые люди, — наши девушки не будут умолять вас взять их в жены! Еще раз приветствую вас и также тебя, черный человек. Если бы вчера Гагула добилась своего, ты был бы мертв, и труп твой уже окоченел бы! Твое счастье, что ты тоже спустился со звезд! Ха! Ха! — О король! Я убью тебя раньше, чем ты меня, — спокойно ответил Игнози, — и ты окоченеешь раньше, чем мои члены утратят свою гибкость. Твала вздрогнул. — Ты говоришь смело, юноша! — ответил он гневно. — Смотри не заходи так далеко! — Тот, чьи уста говорят истину, может быть смелым. Истина — это острое копье, которое попадает в цель и не дает промаха. Звезды шлют тебе это предупреждение, о король! Твала грозно нахмурился, и его единственный глаз свирепо сверкнул, но он ничего не ответил. — Пусть девушки начнут пляску! — закричал он. И тотчас же выбежала толпа увенчанных цветами танцовщиц. Они мелодично пели и при грустно-нежном свете луны казались бесплотными, воздушными существами из иного мира. Грациозно изгибаясь, они то плавно и медленно кружились, то носились в головокружительном вихре, изображая сражение, то приближались к нам, то отступали, то рассыпались в разные стороны в кажущемся беспорядке. Каждое их движение вызывало восторг у зрителей. Вдруг танец прекратился, и из толпы танцовщиц выбежала очаровательная молодая девушка, которая, став перед нами, начала делать пируэты с такой ловкостью и грацией, что могла бы посрамить большую часть наших балерин. Когда в изнеможении она отступила, ее сменили другие девушки. Они поочередно танцевали перед нами, но никто из них не мог сравниться с первой по красоте, мастерству и изяществу. Когда все эти красавицы кончили танцевать, Твала поднял руку и, обращаясь к нам, спросил: — Какая же из всех этих девушек самая красивая, белые люди? — Конечно, первая, — невольно вырвалось у меня, и я тут же спохватился, так как вспомнил, что Инфадус сказал нам, что самая красивая должна быть принесена в жертву Молчаливым. — Ты прав. Мое мнение — твое мнение, и мои глаза — твои глаза. Я согласен с тобой, что она самая прекрасная из всех, но ее ждет печальная участь, ибо она должна умереть! — Да, должна умереть! — как эхо, пропищала Гагула, бросив быстрый взгляд на несчастную жертву, которая, не подозревая своей страшной участи, стояла ярдах в десяти от своих подруг, нервно обрывая лепестки цветов из своего венка. — Почему, о король, она должна умереть? — воскликнул я, с трудом сдерживая свое негодование. — Девушка так хорошо танцевала и доставила нам большое удовольствие. И она так хороша! Было бы безжалостно вознаградить ее смертью. Твала засмеялся и ответил: — Таков наш обычай. И те каменные изваяния, что сидят там, — он указал на три отдаленные вершины, — должны получить то, чего они ждут. Если сегодня я не умерщвлю прекраснейшую из дев, на меня и на мой дом падет несчастье. Вот что гласит пророчество моего народа: «Если в день пляски дев король не принесет красивейшую девушку в жертву Молчаливым, которые несут стражу в горах, то и он и его королевский дом падут». Слушайте, что я вам скажу, белые люди! Мой брат, правивший до меня, не приносил этих жертв из-за слез женщины, и он пал, так же как и его дом, и я правлю вместо него. Но довольно об этом! — закричал он. — Она должна умереть. — И, повернувшись к страже, он воскликнул: — Приведите ее сюда, а ты, Скрагга, точи свое копье. Два человека вышли вперед и направились к девушке. Только тогда, поняв грозящую ей опасность, она громко вскрикнула и бросилась бежать. Но сильные руки королевских телохранителей схватили ее и привели к нам, несмотря на ее слезы и сопротивление. — Как тебя зовут, девушка? — запищала Гагула. — Что? Ты не желаешь отвечать? Или ты хочешь, чтобы сын короля убил тебя сразу? Услышав эти слова, Скрагга, зловеще усмехаясь, сделал шаг вперед и поднял свое копье. В этот момент я увидел, что Гуд инстинктивно положил руку на свой револьвер. Хотя глаза девушки были полны слез, но, увидав тусклый блеск стали, она вдруг перестала отбиваться и теперь стояла перед нами, дрожа всем телом, судорожно ломая руки. — Смотрите! — закричал Скрагга в полном восторге. — Она содрогается от одного вида моей маленькой игрушки, которая еще до нее не дотронулась! — И он погладил рукой широкое лезвие своего копья. В это время я вдруг услышал, как Гуд пробормотал про себя: — При первом же удобном случае ты мне заплатишь за это, негодяй! — Ну, а теперь, когда ты успокоилась, скажи нам, как тебя зовут, дорогая, — ехидно улыбаясь, спросила Гагула. — Ну, говори, не бойся. — О мать! — ответила дрожащим голосом несчастная девушка. — Я из дома Суко, и зовут меня Фулатой. О мать, скажи мне, почему я должна умереть? Я никому не сделала зла. — Успокойся, — продолжала старуха со злорадной усмешкой. — Ты должна быть принесена в жертву сидящим там Молчаливым, — и она указала своим костлявым пальцем на вершины гор, — и поэтому тебя ждет смерть. Лучше покоиться вечным сном, чем трудиться изо дня в день в поте лица своего. Вот почему лучше умереть, чем жить. А ты умрешь от царственной руки самого королевского сына! Фулата в отчаянии заломила руки и громко воскликнула: — О жестокие! Ведь я так молода! Что я сделала? Неужели мне никогда больше не суждено видеть, как восходит солнце из мрака ночи и как звезды одна за другой вспыхивают вечером на небесном своде? Неужели никогда в жизни я не буду больше собирать цветы, покрытые свежей утренней росой, и не услышу, как журчат ручьи в яркий солнечный день? Горе мне! Не увижу я больше хижины отца своего, не почувствую поцелуя матери своей, не буду смотреть за больным ягненком! Горе мне! Ни один возлюбленный не обовьет моего стана и не взглянет мне в глаза, и не быть мне матерью воина! О жестокие! Жестокие! И вновь она начала ломать руки, подняв свое залитое слезами лицо к небу. Эта увенчанная цветами красавица была прелестна в своем отчаянии, и я уверен, что менее жестокие люди, чем те три дьявола, перед которыми она стояла, прониклись бы к ней состраданием. Я думаю, что мольбы принца Артура, обращенные к негодяям, которые пришли его ослепить, были не менее трогательны, чем мольбы этой дикарки[53]. Но это никак не тронуло ни Гагулу, ни ее господина, хотя я заметил выражение сочувствия и жалости на лицах вождей и стражи, стоявшей позади короля. Что касается Гуда, он скрежетал зубами и едва сдерживал охватившее его негодование; наконец, не выдержав, он сделал шаг вперед, словно желая броситься к ней на помощь. С проницательностью, столь свойственной женщинам, девушка поняла, что происходит у него в душе. Она подбежала к нему, и бросившись перед ним на колени, обняла его «прекрасные белые ноги». — О белый отец с далеких звезд! — воскликнула она. — Набрось на меня плащ твоей защиты, возьми меня под сень твоего могущества и спаси от этих жестоких людей! — Хорошо, моя милочка, я позабочусь о тебе! — взволнованно отвечал Гуд на английском языке. — Ну, встань, встань, детка, успокойся! — И, наклонившись к ней, он взял ее за руку. Твала обернулся, и по его знаку Скрагга выступил вперед с поднятым копьем. — Пора начинать! — шепнул мне сэр Генри. — Чего вы ждете? — Жду затмения, — отвечал я. — Вот уже полчаса я не свожу глаз с Луны, но в жизни не видал, чтобы она так ярко светила. — Все равно, нужно идти на риск и немедленно, иначе девушку убьют. Твала теряет терпение. Я не мог не согласиться с этим доводом и, прежде чем действовать, еще раз взглянул на яркий диск Луны. Думаю, что никогда ни один самый ревностный астроном, желающий доказать новую теорию, не ждал с таким волнением начала небесного явления. Сделав шаг вперед и приняв самый торжественный вид, на какой был только способен, я стал между распростертой девушкой и поднятым копьем Скрагги. — Король! — промолвил я. — Этому не бывать! Мы не позволим тебе убить эту девушку. Отпусти ее с миром. Твала вскочил в бешеном гневе, и шепот изумления пронесся среди вождей и сомкнутых рядов девушек, робко окруживших нас в ожидании развязки этой трагедии. — Этому не бывать? Белая собака, как смеешь ты тявкать на льва, находящегося в своей пещере? Этому не бывать? В уме ли ты? Берегись, как бы судьба этой девчонки не постигла и тебя и тех, с кем ты пришел! Ты думаешь, что сможешь спасти и ее и себя? Кто ты такой, что осмеливаешься становиться между мной и моими желаниями? Прочь с дороги, говорю тебе! Скрагга, убей ее! Эй, стража! Схватить этих людей! Услышав это приказание, несколько вооруженных воинов быстро выбежали из-за хижины, куда их, очевидно, предусмотрительно спрятали до нашего прихода. Сэр Генри, Гуд и Амбопа стали около меня и подняли свои винтовки. — Остановитесь! — грозно закричал я, хотя, признаться, душа моя в этот момент ушла в пятки. — Остановитесь! Мы, белые люди, спустившиеся со звезд, говорим, что этого не будет, ибо берем девушку под свою защиту. Если вы сделаете хоть один шаг, мы погасим Луну. Мы, живущие в ее чертогах, сделаем это и погрузим всю Землю во мрак. Осмельтесь лишь ослушаться, и вы увидите воочию всю силу нашего колдовства. Моя угроза подействовала. Стража отступила, а Скрагга остановился как вкопанный с поднятым наготове копьем. — Слушайте, слушайте этого лжеца, который хвастается, что может потушить луну, словно светильник! — пищала Гагула. — Пусть же он это сделает, и тогда девушку можно будет пощадить. Да, да, пусть он это сделает или сам умрет с ней, сам и все, кто с ним пришел! С отчаянием я взглянул на луну и, к моей невероятной радости, увидел, что календарь Гуда нас не подвел: на краю огромного яркого диска появилась легкая тень и поверхность луны начала заметно тускнеть. Я торжественно поднял руку к небу, причем моему примеру тотчас же последовали сэр Генри и Гуд, и с пафосом продекламировал несколько строф из легенд Инголдзби. Сэр Генри внушительно и громко произнес несколько строк из Ветхого завета, а Гуд обратился к царице ночи с длиннейшим потоком самых отборных классических ругательств, на которые только он был способен. Тень медленно наползала на сияющую поверхность луны, и, по мере того как она двигалась, в толпе начались раздаваться сдержанные возгласы изумления и страха. — Смотри, о король! — вскричал я. — Смотри, Гагула! Смотрите и вы, вожди, воины и женщины! Скажите, держат ли свое слово белые жители звезд или они пустые лжецы? Луна темнеет на ваших глазах; скоро наступит полный мрак, да, мрак, в час полнолуния! Вы просили чуда — вот оно! Гасни, о Луна! Потуши же свой свет, ты, чистая и непорочная, сломи гордые сердца кукуанов, окутай глубоким мраком весь мир! Вопль ужаса вырвался у всех присутствующих. Толпа окаменела от страха; некоторые с криками бросились на колени и начали громко причитать. Что касается Твалы, он сидел неподвижно, оцепенев от страха, и я увидел, что, несмотря на свою темную кожу, он побледнел. Только одна Гагула не испугалась. — Тень пройдет! — кричала она. — Не бойтесь, в своей жизни я видела это не раз! Ни один человек не может погасить Луну. Не падайте духом! Все равно это пройдет! — Подождите, и вы еще не то увидите, — кричал я в ответ, подпрыгивая на месте от волнения. — «О Луна! Луна! Луна! Почему ты так холодна и непостоянна?» Эта подходящая цитата была позаимствована мною из одного весьма популярного любовного романа, который я случайно где-то читал. Теперь, вспоминая это, я думаю, что с моей стороны было весьма неблагодарным оскорблять владычицу небес, так как в этот вечер она доказала, что была нашим самым верным другом, и, в сущности, меня не должно было трогать то, как она себя вела в романе по отношению к пылкому влюбленному. И, обращаясь к капитану, я добавил: — Ну, а теперь валяйте вы, Гуд: я не помню больше никаких стихов. Прошу вас, начинайте снова ругаться, дружище! Гуд с величайшей готовностью отозвался на мой призыв к его таланту. Я никогда не предполагал, как виртуозно может ругаться морской офицер и сколь необъятны его способности в этой области. В течение десяти минут он ругался без передышки, причем почти ни разу не повторился. Тем временем темное кольцо все больше закрывало лунный диск, и огромная толпа в полном молчании, как зачарованная, пристально глядела на небо, не в силах отвести глаз от этого поразительного зрелища. Странные, жуткие тени поглощали свет луны. Царила зловещая тишина. Все замерло, словно скованное дыханием смерти. Медленно текло время среди этого торжественного безмолвия. С каждой минутой полный диск луны все более и более входил в тень земли, и тьма неумолимо и величественно наплывала на лунные кратеры. Казалось, что огромный бледный шар приблизился к земле и стал еще больше. Луна приобрела медный оттенок, а затем та часть ее поверхности, которая не была еще охвачена мраком, стала пепельно-серой, и, наконец, перед наступлением полного затмения сквозь багровый туман вырисовались зловещие, мерцающие очертания лунных гор и равнин. Кольцо тени все больше и больше закрывало луну — оно теперь уже заволокло более половины ее кроваво-красного диска. Стало душно. А тень наползала все дальше и дальше, багровая мгла сгущалась все больше и больше, и мы уже едва могли различить свирепые лица находившихся около нас людей. Толпа безмолвствовала, и Гуд прекратил ругаться. — Луна умирает — белые волшебники убили Луну! — вдруг громко закричал Скрагга. — Мы все теперь погибнем во мраке! И, объятый не то яростью, не то ужасом, а может быть, и тем и другим, он поднял свое копье и изо всей силы ударил им сэра Генри в грудь. Но он забыл про кольчуги, подаренные нам королем, которые мы носили под одеждой. Копье его отскочило, не причинив никакого вреда, и, прежде чем он успел нанести второй удар, Куртис вырвал у него оружие и пронзил его насквозь. Скрагга упал мертвый. Увидев это, девушки, уже обезумевшие от ужаса при виде сгущающейся тьмы и зловещей тени, которая, как они думали, поглощает луну, пронзительно закричали и в дикой панике бросились бежать к воротам крааля. Но паника охватила не только девушек. Сам король в сопровождении своих телохранителей и нескольких вождей, а также Гагула, которая умела ковылять с необычайным проворством, кинулись в хижины. Минуту спустя площадь опустела, остались только мы, Фулата, Инфадус, большая часть посетивших нас ночью военачальников и бездыханное тело Скрагги, сына Твалы. — Вожди! — воскликнул я. — Мы совершили чудо, которое вы от нас требовали. Если вы удовлетворены, нам немедленно нужно оставить Луу и бежать в то место, о котором вы говорили. Наши чары будут продолжаться час и еще полчаса. Приостановить их действие мы сейчас не можем. Воспользуемся же темнотой! — Идемте! — сказал Инфадус и направился к воротам крааля. За ним последовали в благоговейном трепете полководцы, мы сами и красавица Фулата, которую Гуд вел за руку. Не успели мы дойти до ворот, как луна окончательно скрылась, и на черном, как чернила, небе стали загораться звезды. Мы взяли друг друга за руки и, спотыкаясь на каждом шагу, исчезли во мраке.Глава 12
ПЕРЕД БОЕМ
К счастью для нас, Инфадус и другие вожди прекрасно знали каждую тропинку в городе, так что, несмотря на непроглядную тьму, мы быстро двигались вперед. Мы шли уже более часа, когда наконец затмение начало идти на убыль и тот край луны, который исчез первым, выглянул вновь. Внезапно мы увидели, как серебряный луч прорвался сквозь мрак, и с его появлением возник какой-то удивительный, красный, как пламя, отблеск, вспыхнувший, словно яркий светильник на темном фоне неба. Это было необычайное и поистине прекрасное зрелище. Минут пять спустя звезды начали бледнеть и стало настолько светло, что мы могли осмотреться вокруг. Оказалось, что мы уже вышли за пределы города Луу и приближались к большому холму с плоской вершиной, имевшему примерно две мили в окружности. Этот холм, представляющий собой вполне обычную для Южной Африки формацию, был не очень высок — не более двухсот футов в самой высшей своей точке, — однако склоны его, покрытые валунами, были довольно обрывисты. Холм имел форму подковы. Вершина его образовывала плато, покрытое травой, которое, по словам Инфадуса, использовалось как военный лагерь для большого количества войск. Обычно его гарнизон состоял из одного полка, то есть трех тысяч человек, однако, с трудом поднявшись по крутому склону, мы увидели при свете вновь показавшейся луны, с каждой минутой сиявшей все ярче, что там собралось несколько полков. Когда мы вышли наконец на плато, оно оказалось заполненным толпами дрожащих от страха людей. Необычайное явление природы прервало их сон, и теперь, сбившись в плотную и оцепеневшую от ужаса массу, они наблюдали его. Мы молча прошли через эту толпу и подошли к хижине, стоявшей в центре плато. К нашему большому удивлению, там нас ожидали два человека, нагруженные нашими немногочисленными пожитками, которые нам, конечно, пришлось оставить при поспешном бегстве. — Я послал за ними, — объяснил мне Инфадус, — а также и за этой вещью, — и он поднял давно утерянные брюки Гуда. С восторженным воплем Гуд бросился к ним и немедленно начал их натягивать. — Неужели мой повелитель желает скрыть от нас свои прекрасные белые ноги? — с сожалением воскликнул Инфадус. Но Гуд упорствовал в своем намерении, и его прекрасные белые ноги в последний раз мелькнули перед восхищенными взорами кукуанов. Гуд очень скромный человек. С этих пор кукуанам пришлось удовлетворять свои эстетические запросы лишь лицезрением его единственной бакенбарды, прозрачного глаза и движущихся зубов. Все еще созерцая брюки Гуда взглядом, исполненным блаженных воспоминаний, Инфадус сообщил нам, что он приказал с наступлением рассвета собрать полки, чтобы разъяснить им цель восстания, которое решили поднять военачальники, а также для того, чтобы представить им законного наследника престола — Игнози. Как только взошло солнце, войско, общей численностью почти в двадцать тысяч воинов, представлявших собой цвет кукуанской армии, было собрано на обширном плато, куда проследовали и мы. Воины были построены в плотное каре. Зрелище было грандиозное. Мы остановились на открытой стороне квадрата, где нас быстро окружили главные вожди и военачальники. К ним-то, после того, как воцарилось молчание, и обратил свою речь Инфадус. Подобно большинству представителей кукуанской знати, он был прирожденным оратором. Красочным и изящным языком он поведал историю отца Игнози — как он был предательски убит королем Твалой, как его жена и сын были изгнаны и обречены на голодную смерть. Затем он напомнил о том, как страна стонет и страдает под жестоким игом Твалы, приведя в пример события предыдущей ночи, когда много лучших людей страны было предано страшной смерти под тем предлогом, что они якобы являются преступниками. Затем он перешел к рассказу о том, как белые вожди, созерцая со звезд землю, увидели эти страдания и решили ценою собственных лишений облегчить участь кукуанов; как они взяли поэтому за руку законного короля этой страны, Игнози, который томился в изгнании, и провели его через горы; как они воочию увидели темные деяния Твалы и как, чтобы убедить колеблющихся и спасти жизнь девушки Фулаты, они силой своего могущественного волшебства погасили луну и убили молодого дьявола Скраггу. Они и впредь готовы быть верными друзьями кукуанов и помочь им свергнуть Твалу и возвести законного короля, Игнози, на захваченный Твалой трон. Он закончил свою речь среди одобрительного шепота. Затем вперед выступил Игнози, и, в свою очередь, обратился к собравшимся. Повторив все, что сказал его дядя Инфадус, он закончил свою сильную речь следующими словами: — О вожди, военачальники, воины и народ! Вы слышали мои слова. Теперь вы должны сделать выбор между мною и тем, кто восседает на моем троне, тем, кто убил своего брата и изгнал сына своего брата, чтобы тот умер во мраке и холоде. Они, — указал он на вождей, — могут сказать вам, действительно ли я король, так как они видели змею, обвивающуюся вокруг моего тела. Если бы я не был королем, то разве эти белые люди, владеющие тайнами волшебства, были бы на моей стороне? Трепещите, вожди, военачальники, воины и народ! Разве тьма, которой они покрыли землю, чтобы вселить страх в душу Твалы, не находится еще перед вашими глазами? — Это так, — отвечали воины. — Я — ваш король. Я говорю вам, что я — король, — продолжал Игнози, выпрямляясь во весь свой исполинский рост и поднимая над головой боевой топор с широким лезвием. — Если есть среди вас человек, который скажет, что это не так, пусть он выйдет вперед, и я сражу его, и кровь его будет багряным знаком того, что я говорю вам правду. Пусть он выйдет вперед, говорю я, — и он потряс в воздухе своим огромным топором, который засверкал на солнце. Так как никто, по-видимому, не был склонен к тому, чтобы отозваться на этот героический вариант песенки «Выходи-ка, Дилли, чтоб тебя убили», то наш бывший слуга продолжил свою тронную речь: — Я действительно ваш король, и если вы будете стоять в битве рядом со мною, то я поведу вас к победе и к славе. Я дам вам быков и жен, и вы займете первое место в моем войске. Если же вам суждено пасть в бою, я паду вместе с вами. Выслушайте обет, который я даю вам. Когда я взойду на престол моих предков, я положу конец кровопролитию в нашей стране. Вам больше не придется возмущаться несправедливыми убийствами, и охотницы за колдунами не будут выслеживать людей и предавать их смерти без всякой причины. Ни один человек не умрет насильственной смертью, если он не совершил преступления. Окончится захват ваших краалей. Каждый из вас будет спать спокойно в своей хижине, не страшась ничего, и правосудие будет царить на всей нашей земле. Сделали ли вы выбор, вожди, военачальники, воины и народ? — Наш выбор сделан, о король! — последовал ответ. — Хорошо. А теперь обернитесь и посмотрите, как посланцы Твалы спешат из великого города на восток и на запад, на север и на юг, чтобы собрать могучую армию и предать смерти меня, и вас, и моих белых друзей и защитников. Завтра или, быть может, послезавтра Твала придет сюда со всеми, кто еще верен ему. Тогда я смогу увидеть, кто из вас действительно предан мне, кто не страшится умереть в борьбе за правое дело. И я говорю вам, что об этих людях я не забуду, когда придет время делить добычу. Я сказал, о вожди, военачальники, воины и народ. А теперь идите в свои хижины и готовьтесь к бою. Наступило молчание. Затем один из вождей поднял руку, и прогремел королевский салют: «Куум!» Это был знак того, что полки признали Игнози своим королем. Затем они разошлись, построившись в отряды. Полчаса спустя мы держали военный совет, на котором присутствовали все командующие полками. Нам было ясно, что вскоре нас атакуют численно превосходящие силы противника. Действительно, с нашего удобного наблюдательного пункта нам было видно, как стягиваются войска и как из Луу выходят во всех направлениях посланцы, безусловно для того, чтобы собрать войска на помощь королю. У нас было около двадцати тысяч воинов, составляющих семь лучших полков страны. По подсчетам Инфадуса и вождей, в настоящее время у Твалы было собрано в Луу по крайней мере тридцать — тридцать пять тысяч воинов, которые оставались верными ему. Кроме того, они полагали, что к середине следующего дня он сможет собрать еще не менее пяти тысяч. Не исключалась возможность, что часть его войск дезертирует и перейдет на нашу сторону, но на этом, конечно, нельзя было строить никаких расчетов. Пока что было ясно одно: что ведутся деятельные приготовления для того, чтобы нанести нам поражение. Большие отряды вооруженных воинов уже появились у подножия холма. Все указывало на то, что готовится атака. Однако Инфадус и другие вожди держались того мнения, что в эту ночь противник не перейдет в наступление, так как это время будет посвящено подготовке. Кроме того, необходимо было всеми возможными средствами рассеять тяжелое впечатление, произведенное на воинов затмением Луны, которое кукуаны считали колдовством. Военачальники утверждали, что атака произойдет утром, и оказалось, что они были правы. Тем временем мы принялись за работу, стараясь как можно лучше укрепить свои позиции. Почти все без исключения принимали в этом участие. Казалось, что не хватит времени, чтобы закончить все, что нужно, но в течение дня были сделаны настоящие чудеса. Холм, на котором мы находились, представлял собою скорее санаторий, чем крепость, так как обычно он служил лагерем для тех военных частей, которым ранее приходилось нести службу в районах страны, отличавшихся нездоровым климатом. Поэтому теперь пришлось тщательно завалить грудой камней все пути, ведущие на вершину холма, и сделать все другие возможные подступы настолько неприступными, насколько можно было это осуществить за столь короткое время. В разных точках были сложены груды валунов, которые предполагалось сбрасывать на наступающего противника. Для всех полков были намечены определенные позиции. Одним словом, мы осуществили все подготовительные мероприятия, какие нам удалось сообща придумать. Перед самым заходом солнца мы заметили небольшую группу воинов, направляющуюся к нам из Луу. У одного из них в руке был пальмовый лист в знак того, что он идет в качестве парламентера. Когда он приблизился, Игнози, Инфадус, представители военачальников и мы сами спустились к подножию холма, к нему навстречу. Это был человек мужественной внешности, в форменном плаще из леопардовой шкуры. — Приветствую вас! — крикнул он, когда подошел ближе. — Король приветствует тех, кто начал святотатственную войну против него. Лев шлет приветствия шакалам, злобно рычащим у его ног. — Говори! — сказал я. — Вот слова короля. Сдайтесь на его милость, или вас постигнет худшая участь. У черного быка уже вырвано плечо, и король гоняет его, истекающего кровью, по лагерю[54]. — Каковы же условия Твалы? — осведомился я из любопытства. — Его условия милосердны, как подобает великому королю. Вот слова Твалы, Одноглазого, Великого, Мужа тысячи жен, Повелителя кукуанов, Хранителя Великого Пути, Возлюбленного тех, что сидят в безмолвии там, в горах, Тельца Черной Коровы, Слона, чья поступь сотрясает землю, Ужаса Злодеев, Страуса, чьи ноги пожирают пустыню, Исполинского, Черного, Мудрого, короля по древнему праву наследования! Вот слова Твалы: «Я буду милосерден, и для меня достаточно немного крови. Один человек из каждого десятка должен будет умереть, остальным будет предоставлена свобода. Но белый человек, по имени Инкубу, который убил моего сына Скраггу, и черный человек, его слуга, заявляющий притязания на мой трон, и Инфадус, мой брат, который затевает мятеж против меня, — эти люди должны умереть в мучениях — их принесут в жертву Молчаливым. Таковы милосердные слова Твалы. После краткого совещания с остальными я ответил ему очень громким голосом, чтобы меня могли услышать все воины: — Возвращайся, пес, к Твале, который послал тебя, и скажи ему, что мы — Игнози, законный король кукуанов, Инкубу, Бугван и Макумазан — белые мудрецы, спустившиеся со звезд, колдуны, которые могут гасить Луну, Инфадус, родом из королевского дома, вожди, военачальники и народ, собравшиеся здесь, — отвечаем Твале и заявляем, что мы не покоримся и что, прежде чем дважды зайдет солнце, труп Твалы застынет у ворот его крааля и Игнози, отца которого убил Твала, будет царствовать вместо него. А теперь иди, пока мы не выгнали тебя плетью, и берегись поднять руку на людей, подобных нам. Парламентер громко рассмеялся. — Мужчину не испугаешь напыщенными речами! — крикнул он. — Посмотрим, будете ли вы завтра такими же храбрецами, вы, которые можете погасить Луну! Сражайтесь же, будьте отважны и веселы, пока вороны не обклюют ваши кости так, что они станут белее, чем ваши лица. Прощайте! Быть может, мы встретимся в бою. Прошу вас, не улетайте пока обратно на звезды, дождитесь меня, белые люди! И, пустив в нас последнюю стрелу сарказма, он удалился. Почти сейчас же вслед за его уходом солнце село, и на землю спустилась тьма. В ту ночь у нас было много работы, несмотря на то что все были чрезвычайно утомлены. Продолжалась подготовка к завтрашнему бою, поскольку это было возможно при свете луны. Посланцы уходили, чтобы передать наши распоряжения, и вновь возвращались туда, где сидели мы, совещаясь. Наконец, примерно в час пополуночи, мы сделали все, что было в наших силах, и весь лагерь погрузился в сон. Только оклики часовых изредка нарушали тишину. Мы с сэром Генри в сопровождении Игнози и одного из вождей спустились с холма и обошли передовые посты. По мере того, как мы шли, в самых неожиданных местах перед нами внезапно вырастали копья, сверкавшие в лунном свете, и мгновенно исчезали, как только мы произносили пароль. Ясно было, что никто не спит на своем посту. Затем мы вернулись, осторожно пробираясь среди тысяч спящих воинов, многие из которых в последний раз вкушали сон на этой земле. Лунный свет играл на их копьях и скользил по лицам спящих, делая их похожими на мертвецов. Холодный ночной ветер развевал их плюмажи, похожие на те, что украшают катафалки. Они лежали в беспорядке, разметавшись во сне, и их рослые, мужественные фигуры казались призрачными и странными при лунном свете. — Как вы думаете, многим ли из них суждено дожить до завтрашней ночи? — спросил сэр Генри. Я лишь покачал головой в ответ, продолжая смотреть на спящих. Мое воображение было возбуждено, несмотря на усталость, и мне казалось, что ледяная рука смерти уже коснулась этих людей. Я мысленно отмечал тех, на которых лежала роковая печать, и мною овладело ощущение великой тайны человеческой жизни и глубокая печаль от сознания ее трагической обреченности. Сегодня ночью эти тысячи людей спят здоровым сном, а завтра они, а может быть, и мы вместе с ними, и многие другие погибнут, и холодное дыхание смерти скует их тела. Их жены станут вдовами, их дети — сиротами, а их хижины никогда более не увидят своих хозяев. Только древняя луна будет продолжать безмятежно сиять, и ночной ветер по-прежнему будет шевелить траву, и широкие земные просторы будут вкушать счастливый отдых, так же как и за целую вечность до того, как эти люди появились на них, так же как и целую вечность спустя после того, как они будут забыты. Однако, пока существует мир, человек не умирает. Правда, имя его забывается, но ветер, которым он дышал, продолжает шевелить верхушки сосен в горах, эхо слов, которые он произносил, еще звучит в пространстве, мысли, рожденные его мозгом, делаются сегодня нашим достоянием. Его страсти вызвали нас к жизни, его радости и печали близки и нам, а конец, от которого он пытался в ужасе бежать, ждет также каждого из нас. Вселенная действительно полна призраков — не кладбищенских привидений в погребальных саванах, а неугасимых, бессмертных частиц жизни, которые, однажды возникнув, никогда не умирают, хотя они незаметно сливаются одна с другой и изменяются, изменяются вечно. Подобные мысли проходили в моем сознании, пока я стоял и смотрел на мрачные, фантастические очертания тел воинов, спящих, как сказано в их поговорке, «на своихкопьях». По мере приближения старости мною, к великому моему сожалению, все более овладевает отвратительная привычка размышлять. — Куртис, — обратился я к сэру Генри, — я нахожусь в состоянии самой постыдной паники. Сэр Генри погладил свою белокурую бороду и засмеялся. — Мне уже не раз приходилось от вас слышать подобные замечания, Квотермейн, — сказал он. — Да, но сейчас я говорю это всерьез. Я, знаете ли, сильно сомневаюсь, чтобы кому-нибудь из нас удалось дожить до следующей ночи. Нас атакуют превосходящие силы противника, и очень мало надежды, что нам удастся удержать свои позиции. — Во всяком случае, мы дешево их не отдадим. Послушайте, Квотермейн, дело это скверное и, по правде говоря, не надо было нам в него вмешиваться, но раз уж так вышло, мы должны сделать все, что в наших силах. Относительно же себя я могу вам сказать, что если мне суждено умереть, то я предпочитаю быть убитым в бою. К тому же теперь, когда осталось так мало шансов на то, что я найду моего несчастного брата, мне легче примириться с мыслью о смерти. Но смелым сопутствует удача, — может быть, нас еще ждет успех. Резня, конечно, будет ужасная, и, так как мы должны поддержать свою репутацию, нам придется быть в самых опасных местах. Последнее замечание сэр Генри произнес мрачным голосом, но в глазах его вспыхивали искорки, говорившие совсем иное. Мне даже кажется, что сэру Генри на самом деле нравилось воевать. Затем мы ушли к себе и проспали два часа. Как раз перед восходом солнца нас разбудил Инфадус, который пришел нам сказать, что в Луу наблюдается большое оживление и что мелкие отряды королевских войск движутся к нашим передовым постам. Мы встали и оделись для боя. Все мы надели кольчуги, за которые при настоящем положении дел мы были весьма благодарны Твале. Сэр Генри занялся этим с увлечением и оделся, как кукуанский воин. — Когда вы в Стране Кукуанов, поступайте, как кукуаны, — заметил он, натягивая кольчугу на свои широкие плечи, которые она облегала, как перчатка. Но на этом он не остановился. По его просьбе, Инфадус снабдил его полной боевой формой. Он надел плащ из леопардовой шкуры, какой носили вожди, увенчал свое чело плюмажем из черных страусовых перьев, который являлся привилегией высших военачальников, и опоясался великолепной муча из белых буйволовых хвостов. Сандалии, тяжелый боевой топор, круглый железный щит, обтянутый белой буйволовой кожей, и положенное по уставу количество толл, или метательных ножей, дополняли его снаряжение, к которому он все же добавил еще и свой револьвер. Туалет был, конечно, дикарский, но я должен сказать, что никогда не видел более внушительного зрелища, чем сэр Генри в этом одеянии, которое еще более подчеркивало его могучее сложение. Когда же вскоре прибыл Игнози, облаченный в такой же костюм, я подумал про себя, что впервые вижу двух столь великолепных богатырей. Не могу похвастаться, чтобы кольчуга была так же к лицу Гуду и мне. Дело в том, что капитан не захотел расстаться со своими брюками. Нужно признаться, что приземистый джентльмен плотного телосложения, с моноклем в глазу и лицом, чисто выбритым с одной стороны, облаченный в кольчугу, тщательно заправленную в довольно-таки обтрепанные вельветовые брюки, производит несомненно потрясающее, но отнюдь не внушительное впечатление. О себе могу сказать, что, так как моя кольчуга была мне велика, я надел ее поверх всей своей одежды, и она довольно неуклюже торчала во все стороны. Кроме того, я решил идти в бой с голыми ногами, чтобы в случае, если придется стремительно отступать, легче было бежать; поэтому я пожертвовал брюками, оставшись в одних лишь вельдскунах. Копье и щит, которыми я не умел пользоваться, пара толл, револьвер и, наконец, огромный плюмаж, прикрепленный мною к охотничьей шляпе, чтобы сделать свою внешность еще более кровожадной, завершали мою скромную экипировку. В добавление ко всему этому с нами, конечно, были наши винтовки. Но так как у нас было очень мало патронов, они были бесполезны во время атаки, поэтому мы распорядились, чтобы их несли воины, следовавшие за нами. Снарядившись в поход, мы поспешно поели и отправились посмотреть, как идут дела. В одном пункте горного плато был небольшой холмик из коричневого камня, который одновременно служил штабом и наблюдательным пунктом. Здесь мы нашли Инфадуса, окруженного его полком Серых, который был безусловно лучшим в кукуанской армии. Это был тот полк, который мы впервые видели в пограничном краале. Полк, в настоящее время численностью в три тысячи пятьсот человек, оставался в резерве, и воины группами лежали на траве, наблюдая, как длинные колонны королевских войск, подобно веренице муравьев, выползают из Луу. Казалось, этим колоннам нет конца. Всего их было три, и каждая насчитывала не менее одиннадцати — двенадцати тысяч человек. Выйдя за пределы города, они построились в боевом порядке. Затем один отряд повернул направо, другой — налево, а третий стал медленно приближаться к нам. — А-а! — сказал Инфадус. — Они собираются атаковать нас сразу с трех сторон! Эта новость была весьма серьезной, так как наша позиция на вершине горы, по крайней мере полторы мили в окружности, была очень растянутой и важно было сконцентрировать для обороны наши сравнительно малые силы. Но поскольку мы не могли указывать противнику, каким образом следует нас атаковать, нам нужно было в этих сложных условиях сделать все, что возможно. Поэтому мы отправили во все концы приказы подготовиться к отражению отдельных атак.Глава 13
НАПАДЕНИЕ
Без малейшего признака поспешности и суеты все три колонны медленно продвигались вперед. На расстоянии около пятисот ярдов от нас средняя — она же главная — колонна остановилась в том месте, где начиналась та узкая полоса земли, которая врезывалась в наш холм, имевший приблизительно форму подковы и боковые отроги которого были обращены к Луу. Этот маневр был рассчитан на то, чтобы дать возможность другим двум колоннам обойти холм и напасть на рас одновременно с трех сторон. — Эх, если бы у нас был гетлинг![55] — со вздохом сожаления сказал Гуд, смотря на сомкнутые фланги воинов, стоявших внизу. — Через двадцать минут я очистил бы всю равнину! — Но так как его нет, — ответил сэр Генри, — не стоит и вздыхать о нем. А что, если вы, Квотермейн, попробуете в них выстрелить? Сможет ли ваша пуля долететь до того рослого малого, который, как мне кажется, командует всем отрядом? Однако полагаю, что у вас столько же шансов попасть в него, сколько и промахнуться. Держу пари на целый соверен, который честно плачу, — если, конечно, мы выпутаемся из этой истории, — что ваша пуля не долетит до него по крайней мере на пять ярдов. Это задело меня за живое, и, зарядив «экспресс» разрывной пулей, я стал ждать, пока моя мишень в сопровождении ординарца не отошла ярдов на десять от отряда, чтобы получше рассмотреть наши позиции. Я лег и, положив «экспресс» на скалу, прицелился. Принимая в соображение траекторию и то обстоятельство, что моя винтовка била лишь на триста пятьдесят ярдов, я прицелился в горло, рассчитав, что пуля должна попасть воину прямо в грудь. Он стоял совершенно спокойно и попасть в него, казалось, было легко, но оттого ли, что подул ветер, или от волнения, или оттого, что мишень была от меня далеко, расчеты мои не оправдались. Прицелившись, как мне казалось, совершенно точно, я спустил курок, и, когда облако дыма рассеялось, то, к своей величайшей досаде, я увидел, что мой воин стоит цел и невредим, а ординарец, стоявший не менее чем в трех шагах левее, лежит на земле, по-видимому, убитый. Командир, в которого я целился, быстро повернулся и в явном смятении бросился бежать к своему отряду. — Браво, Квотермейн! — закричал Гуд. — Вы его здорово напугали! Это меня ужасно разозлило, так как нет для меня ничего неприятнее, чем промахнуться в присутствии свидетелей, и я по мере возможности стараюсь этого избегать. Когда человек является знатоком лишь одного дела, он стремится поддерживать свой авторитет своим мастерством. Эта неудача так меня взбесила, что я тут же совершил весьма опрометчивый поступок. Поспешно прицелившись в бегущего генерала, я послал ему вдогонку вторую пулю. На этот раз я не промахнулся — бедняга высоко взмахнул руками и упал ничком, как подкошенный. Я же от этого пришел в необузданный восторг, как самый настоящий зверь. Все это я привожу в подтверждение того, как мало мы думаем о других, когда дело касается нашей безопасности, тщеславия или репутации. Наши воины, видевшие мой подвиг, приветствовали его громкими, восторженными криками, как новое доказательство чародейства белых людей и счастливое предзнаменование нашего успеха. Отряд же, которым командовал только что убитый военачальник (впоследствии мы узнали, что он действительно был командиром колонны), начал в беспорядке отступать. Сэр Генри и Гуд тотчас же схватили винтовки и принялись стрелять; особенно усерден в этом отношении был Гуд, посылавший из своего винчестера пулю за пулей в сплошную массу отступающих воинов; я тоже пальнул в них раза два. В результате, насколько мы могли судить, нам удалось вывести из строя человек шесть-восемь, прежде чем они оказались на расстоянии, где наши выстрелы не могли причинить им вреда. Как только мы прекратили стрельбу, откуда-то справа раздался угрожающий рев, тотчас же подхваченный неприятелем с левой стороны, и обе неприятельские колонны одновременно бросились на нас с обоих фронтов. Услышав этот зловещий рев, вся сплошная масса воинов, стоявшая перед нами, немного раздалась и, распевая какую-то дикую песню, неторопливо побежала к нашей возвышенности, а затем — по узкой зеленой полосе, зажатой между отрогами холма. Мы трое (Игнози лишь время от времени помогал нам) встретили их частым ружейным огнем, но нам удалось убить лишь нескольких человек. На нас шла могучая лавина вооруженных людей, и стрелять в нее было все равно, что бросать мелкие камешки навстречу огромной, надвигающейся волне. А они, размахивая и звеня копьями, с криком продвигались вперед и уже теснили наши сторожевые охранения, расставленные у подножия холма. После этого наступление несколько замедлилось, так как хотя мы еще не оказали им серьезного сопротивления, но нападающим приходилось взбираться в гору, и они пошли медленнее. Наша первая линия обороны была расположена примерно на полпути между подножием холма и его вершиной, вторая линия находилась на пятьдесят ярдов выше, а третья шла по самому краю плато. А враги подходили все ближе и ближе с громким воинственным кличем:— Twala! Twala! Chiйlй! Chiйlй(Твала! Твала! Бей! Бей!) А наши воины отвечали:
— Ignosi! Ignosi! Chiйlй! Chiйlй!Теперь неприятель был совсем близко. В воздухе взад и вперед засверкали толлы, и противники с пронзительным, диким воплем бросились друг на друга. Завязался бой и дерущиеся насмерть люди стали падать, как листья от осеннего ветра. Но вскоре превосходящие силы противника взяли верх, и наша первая линия обороны стала медленно отступать, пока не слилась со второй. Тут битва разгорелась с новой силой, и вновь наши воины вынуждены были отступить выше, пока наконец через двадцать минут после начала сражения не вступила в бой наша третья линия обороны. Но так как к этому времени нападающие были уже крайне утомлены и, кроме того, потеряли много людей убитыми и ранеными, то прорваться сквозь сплошную стену копий им оказалось не под силу. В течение некоторого времени битва то разгоралась, то затихала, обезумевшие от ярости полчища дикарей то продвигались вперед, то подавались назад, и поэтому исход сражения был еще сомнителен. Сэр Генри следил за этой отчаянной схваткой загоревшимися глазами и вдруг, не говоря ни слова, бросился в самый разгар боя. Гуд последовал за ним. Что касается меня, я предпочел остаться на своем месте. Наши воины увидели исполинскую фигуру сэра Генри среди сражающихся и с удвоенной яростью бросились на врага с криком:
— Nanzia Inkubu! Nanzia Unkungunklovo!(С нами Слон!)
Chiйlй! Chiйlй!С этого момента можно было не сомневаться в исходе боя. Шаг за шагом, отчаянно сопротивляясь, воины Твалы начали отступать вниз по склону холма, пока наконец в некотором замешательстве не соединились со своими резервами. В этот момент явился гонец и сообщил, что атака отбита и с левого фланга. Я уже начал поздравлять себя с тем, что хоть на некоторое время сражение прервалось, как вдруг, к нашему ужасу, мы увидели, что наши воины, сражавшиеся на правом фланге, бегут к нам через плато и за ними гонится огромная толпа врагов, которым, очевидно, удалось прорваться в этом месте. Игнози, стоявший возле меня, сразу понял создавшееся положение и немедленно отдал приказ, по которому резервный полк Серых, находившийся вокруг нас, тотчас же построился и приготовился к бою. Игнози вновь отдал приказ, который был подхвачен и передан военачальникам, и буквально в следующее мгновение я, к своей величайшей досаде, сам не знаю как, оказался вовлеченным в гущу бешеной атаки наших войск, бросившихся навстречу врагу. Оказавшись в таком положении, мне ничего не оставалось делать, как бежать с ними, и я, стараясь держаться как можно ближе к огромной фигуре Игнози, несся за ним так, как будто очень хотел, чтобы меня убили. Минуты через две — мне казалось, что время летит невероятно быстро — мы врезались в толпу наших убегающих от врага воинов, которые тут же построились позади нас. А затем — затем я не знаю, что произошло. Я лишь помню ужасный, оглушительный шум сталкивающихся щитов, внезапное появление огромного бандита, глаза которого, казалось, были готовы выскочить из орбит, и устремленное на меня окровавленное копье. Я уверен, что от одного вида этого зрелища большинство людей тут же упали бы без сознания, но должен с гордостью признаться, что я не растерялся, сразу сообразив, что если останусь на месте, то мне несдобровать. Поэтому, как только я увидел, что это страшное видение готово на меня ринуться, я бросился к нему прямо под ноги, и так ловко, что мой бандит не смог остановиться и со всего разбега перепрыгнул через мое распростертое тело и грохнулся на землю. Прежде чем он смог подняться, я вскочил на ноги и тут же свел с ним счеты, выстрелив в него из револьвера. Вскоре после этого кто-то сбил меня с ног, и я упал без сознания. Очнувшись, я увидел склоненное над собой лицо Гуда, державшего в руке тыквенную бутыль с водой, и заметил, что нахожусь у каменного холма, то есть на плато, у нашего наблюдательного пункта. — Как вы себя чувствуете, старина? — спросил он меня с беспокойством. Я встал и, прежде чем ответить, отряхнулся. — Ничего, благодарю вас. — Слава богу! Когда я увидел, что вас сюда несут, у меня подкосились ноги: я подумал, что с вами все кончено. — На этот раз обошлось благополучно, дружище. Думаю, что от удара у меня просто помутилось в голове. Но скажите, чем же все кончилось? — Пока что неприятель отбит со всех сторон. Потери огромные: мы потеряли целых две тысячи убитыми и ранеными, они же, наверно, — не менее трех. Посмотрите-ка на это зрелище! — И он указал на длинные ряды приближающихся к нам людей. Они шли группами по четыре человека и держали нечто вроде носилок, сделанных из шкур, к которым в каждом углу были прикреплены петли, чтобы их удобнее было нести. Между прочим, таких носилок всегда очень много в каждом отряде кукуанской армии. На этих шкурах, число которых казалось бесконечным, лежали раненые. По мере того как их приносили, они наспех осматривались лекарями, которых полагалось десять на каждый полк. Если рана была не тяжелая, пострадавшего воина уносили и тщательно лечили, поскольку, конечно, позволяли существующие условия. Но если состояние раненого было безнадежно, то под предлогом врачебного осмотра один из лекарей вскрывал ему острым ножом артерию, и несчастный быстро и безболезненно умирал. Конечно, это ужасно, но, с другой стороны, не истинное ли это проявление милосердия? В тот день таких случаев было много. Обычно к этому прибегают, когда рана нанесена в туловище, так как огромные лезвия кукуанских копий наносят такие глубокие и страшные ранения, что лечить их невозможно. В большинстве случаев несчастные страдальцы находились в бессознательном состоянии; тем же, которые были в памяти, роковой надрез артерии делался так быстро и безболезненно, что они, казалось, этого не замечали. Но эта картина была настолько жутка, что мы с Гудом поспешили уйти. На своем веку я не помню случая, который бы произвел на меня более удручающее впечатление, чем эта операция, когда окровавленные руки лекаря, вскрывая жилы, избавляли храбрецов от мук таким страшным образом. Лишь однажды в жизни мне пришлось испытать то же самое: когда после сражения я видел, как войска племени свази закапывали в землю своих смертельно раненных воинов ЖИВЫМИ. Чтобы не видеть этого страшного зрелища, мы поспешно направились к противоположной стороне холма, где увидели сэра Генри, все еще державшего в руках боевой топор, Игнози, Инфадуса и одного или двух вождей. Они очень серьезно о чем-то совещались. — Слава богу, что вы пришли, Квотермейн! Я не совсем понимаю, что хочет делать Игнози. Хотя мы отбили нападение, но, кажется, к Твале прибывают большие подкрепления и он намеревается окружить нас с тем, чтобы взять измором. — В таком случае, дело наше плохо. — Несомненно. Тем более что Инфадус говорит, что у нас кончается вода. — Да, это так, мои повелители, — подтвердил старый воин. — Ручей не может обеспечить такое огромное количество людей, и вода в нем быстро убывает. Еще до наступления ночи мы будем страдать от жажды. Послушай, Макумазан! Ты мудр и, разумеется, видел много войн в стране, откуда пришел, — конечно, если вы, белые люди, вообще сражаетесь у себя на звездах. Скажи, что нам делать? Твала собрал новых воинов, которые займут места тех, кто пал. Но мы дали Твале урок: ястреб не думал, что цапля окажет ему сопротивление. Наш клюв пронзил ему грудь, и он боится напасть на нас вновь. Мы тоже измучены. Теперь он будет ждать, когда мы умрем; он обовьется вокруг нас, как змея вокруг своей добычи, и будет ждать, пока мы сами не сдадимся. — Понимаю, — сказал я. — Итак, Макумазан, ты видишь, что у нас нет воды и очень мало пищи, поэтому мы должны выбрать одно из трех: либо томиться и слабеть подобно льву, умирающему от голода в своем логове, либо пытаться проложить себе путь на север, либо, — тут он встал и указал на тесно сомкнутые ряды наших врагов, — броситься прямо на них и схватить Твалу за горло. Инкубу — великий воин. Сегодня он дрался, как буйвол в сетях, и люди Твалы падали под ударами его топора, как молодые колосья пшеницы, побитые градом. Инкубу говорит: «Нападай!», но Слон всегда нападает. Что скажет Макумазан, хитрая старая лиса, который столь много видел в жизни и любит жалить своего врага сзади, исподтишка? Решающее слово будет, конечно, за Игнози, ибо он король и это его право, но перед этим мы хотим выслушать твой голос, о Макумазан, и голос человека с прозрачным глазом. — А что скажешь ты, Игнози? — спросил я. — Нет, отец мой, — ответил бывший слуга, облаченный в пышные дикарские военные доспехи и имевший вид настоящего короля-воина, — говори ты и позволь мне выслушать твои слова. Ты мудр; по сравнению с тобой я лишь неразумный ребенок. Выслушав столь настоятельную просьбу Игнози и наспех посоветовавшись с Гудом и сэром Генри, я в нескольких словах высказал ему свое мнение, сказав, что, поскольку мы были окружены и у нас уже ощущается недостаток воды, нам нужно самим напасть на Твалу. Я посоветовал Игнози сделать это немедленно, прежде чем «затянутся наши раны» и пока вид превосходящих сил противника не заставит сердца наших воинов «растопиться подобно жиру на огне». Иначе, заметил я, некоторые военачальники могут передумать и, помирившись с Твалой, перейти на его сторону и даже предать нас. Мое мнение было, по-видимому, выслушано с одобрением. Должен сказать, что ни до этого, ни после мои советы не встречали нигде такого уважения, как у кукуанов. Но последнее слово было предоставлено Игнози, который, с тех пор как был признан законным королем, пользовался почти неограниченными правами своей верховной власти, включая, конечно, окончательное решение в вопросах военного руководства. Поэтому все глаза присутствующих устремились на него. Некоторое время Игнози молчал, очевидно обдумывая создавшееся положение, и затем сказал: — Инкубу, Макумазан и Бугван, храбрые белые люди и друзья мои. И ты, Инфадус, брат отца моего, и вы, вожди! Я решил: я нападу на Твалу сегодня, и от этого удара будет зависеть моя судьба и моя жизнь — да, моя жизнь и жизнь всех вас. Слушайте, что я решил. Вы видите, что этот холм изгибается подобно полумесяцу и равнина врезывается в его изгиб зеленым языком? — Мы это знаем, — подтвердил я. — Так вот, — продолжал Игнози. — Теперь полдень. Пусть наши воины утолят свой голод и отдохнут после утомительной битвы. Когда солнце повернется и немного пройдет по небу, приближаясь к закату, пусть твой полк, Инфадус, спустится еще с одним на зеленый язык. Когда Твала это увидит, он бросит туда свои полки, чтобы истребить твоих воинов. Но место это узкое, и полки врага будут бросаться против тебя лишь по одному, и твои воины будут уничтожать их один за другим. Глаза всей армии Твалы будут устремлены на битву, равной которой не видел ни один живущий на земле. С тобой, Инфадус, пойдет мой друг Инкубу. Когда Твала увидит его боевой топор, сверкающий в первом ряду Серых, сердце его охватит волнение, и он падет духом. Я же поведу другой полк, который будет стоять позади тебя, ибо, если Серые будут уничтожены, — что может случиться, — останется король, за которого будут сражаться. Со мной пойдет мудрый Макумазан. — Хорошо, о король! — отвечал Инфадус, по-видимому относившийся с величайшим хладнокровием к предстоящему истреблению своего полка. Действительно, эти кукуаны удивительный народ! Их не пугает смерть, если этого требует исполнение долга. — И пока глаза всей армии Твалы будут устремлены на эту битву, — продолжал Игнози, — одна треть наших оставшихся в живых воинов, то есть около шести тысяч человек, спустится ползком с правого отрога нашего холма и нападет на левый фланг армии Твалы, а другая треть так же незаметно спустится с левого отрога и нападет на его правый фланг. И когда я увижу, что спустившиеся с отрогов воины готовы броситься на Твалу, тогда я с моими воинами нападу на него спереди. Если счастье нам будет сопутствовать, то победа будет за нами, и прежде чем Ночь промчится по горам на своих черных волах, мы уже будем спокойно сидеть в Луу. А теперь давайте подкрепимся пищей и приготовимся к бою. А ты, Инфадус, распорядись, чтобы мои приказания были точно выполнены. Да! Пусть мой белый отец Бугван пойдет с правым крылом, чтобы его сверкающий глаз вселял отвагу в сердца воинов. Эти краткие распоряжения были приведены в исполнение с удивительной быстротой, что еще лишний раз убедило меня, насколько совершенна военная организация в Стране Кукуанов. Потребовалось всего лишь немного более часа, чтобы раздать воинам пищу (которую они тут же уничтожили), сформировать три отряда и разъяснить вождям план нападения. Наши войска, насчитывавшие теперь около восемнадцати тысяч человек, были приведены в боевую готовность, за исключением стражи, оставленной присматривать за ранеными. Тут подошел Гуд и пожал руку мне и сэру Генри. — Прощайте, друзья, — сказал он. — Согласно приказу, я ухожу с правым крылом и поэтому пришел с вами проститься. Может быть, нам уже не придется больше встретиться, — добавил он многозначительно. Мы молча пожали друг другу руки, проявив при этом традиционно установленную для англичан норму волнения. — Дело наше рискованное, — сказал сэр Генри, и его звучный голос слегка дрогнул. — Признаться, я не уверен, что увижу завтрашнее солнце. Насколько я понимаю, Серые, с которыми мне предстоит идти, должны сражаться до тех пор, пока не будут полностью уничтожены, чтобы дать возможность боковым отрядам незаметно спуститься с отрогов холма, обойти полки Твалы и напасть на них врасплох. Ну что ж, пусть будет так. Во всяком случае, это будет смерть, достойная мужчины! Прощайте и вы, старина, — обратился он ко мне. — Да хранит вас бог! Я надеюсь, что вы выпутаетесь из всей этой истории и завладеете алмазами, но, если вам суждено остаться в живых, Квотермейн, послушайтесь моего совета: никогда больше не имейте дела с претендентами на престол! Гуд еще раз крепко пожал нам руки и ушел. Затем к нам подошел Инфадус и проводил сэра Генри в предназначенное для него место в первом ряду Серых. А я с самыми мрачными мыслями отправился с Игнози и занял свое место в полку, который должен был идти в атаку во вторую очередь.
Глава 14
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ СЕРЫХ
Через несколько минут полки, которые получили задание атаковать противника с флангов, выступили в полном молчании. Они двигались осторожно, под прикрытием холмистой гряды, чтобы скрыть свой маневр от зорких глаз разведчиков Твалы. Через полчаса полки заняли свои позиции, образовав «рога», или фланги, армии. Тем временем Серые вместе с подкреплением в составе полка, известного под названием Буйволов, стояли неподвижно. Это было основное ядро армии, которое должно было принять на себя главный удар противника. Оба эти полка были совершенно свежими и в полном составе. Утром Серые были в резерве, а в стычке с атакующими частями, прорвавшими нашу линию обороны, когда я, сражаясь в их рядах, получил в вознаграждение ошеломляющий удар по голове, они потеряли очень мало людей. Что же касается Буйволов, то они утром образовывали третью линию обороны на левом фланге, и, поскольку атакующим не удалось прорвать в этом пункте вторую линию, им совсем не пришлось участвовать в бою. Инфадус был предусмотрительный старый военачальник. Он прекрасно знал, как важно поднять боевой дух воинов перед такой горячей схваткой. Поэтому он воспользовался этим получасовым затишьем, чтобы обратиться к своему полку Серых с речью. Поэтическим языком он разъяснил воинам, какая огромная честь им оказана, что их посылают сражаться на передовой линии, да к тому же с белым воином в их рядах, спустившимся со звезд. В случае же, если войско Игнози одержит победу, он обещал всем, кто уцелеет в бою, много скота, а также повышение в звании. Я оглядел длинные ряды развевающихся черных плюмажей и суровые лица воинов и со вздохом подумал, что всего лишь через один короткий час если не все, то большинство этих замечательных воинов-ветеранов, каждому из которых было не менее сорока лет, будут лежать мертвыми или умирающими. Иначе не могло быть — они присутствовали при чтении своего приговора, вынесенного с тем мудрым пренебрежением к человеческой жизни, которое отмечает великого военачальника. Это часто помогает ему сберечь свои силы и осуществить задачу — он идет на уничтожение известного количества людей, чтобы обеспечить остатку своей армии успех в борьбе за достижение поставленной цели. Серые были заранее приговорены к смерти и знали это. Задача их заключалась в том, чтобы вступать в бой с полками армии Твалы по мере того, как они один за другим будут входить на узкую зеленую полосу равнины, зажатую между отрогами холма. Они должны были сражаться до полного уничтожения противника или же до тех пор, пока фланговым частям не представится благоприятный момент для атаки. Все это было им известно, и тем не менее они ни минуты не колебались, и я не заметил ни тени страха на их лицах. Они стояли перед нами — люди, идущие на верную смерть, готовые вот-вот навек расстаться с благословенным светом дня, но без трепета ожидающие свершения приговора. Несмотря на напряженность момента, я не мог не сравнивать состояние их духа с моим собственным, которое было далеко не спокойным, и у меня вырвался невольный вздох зависти и восхищения. Никогда раньше мне не приходилось встречать такой полной преданности идее долга и такого полного безразличия к ее горьким плодам. — Вот ваш король! — закончил свою речь старый Инфадус, указывая на Игнози. — Идите, чтобы сражаться и пасть за него, — таков долг отважных. Да будет навеки проклято и покрыто позором имя того, кто боится умереть за своего короля, того, кто бежит от врага. Вот ваш король, вожди, военачальники и воины! Теперь принесите присягу священному знаку змеи, а потом идите за нами — Инкубу и я покажем вам путь в самое сердце войск Твалы. Наступило минутное молчание. Затем внезапно среди сомкнутых фаланг, стоящих перед нами, возник легкий шум, подобный отдаленному рокоту моря: это рукоятки шести тысяч копий начали тихо стучать по щитам. Постепенно этот шум усиливался, как бы расширяясь, углубляясь и нарастая, пока наконец не превратился в оглушительный грохот, эхо которого, отражаемое горами, казалось раскатами грома и заполняло воздух тяжелыми волнами звуков. Затем он стал затихать и наконец замер совсем. В тишине внезапно прогремел оглушительный королевский салют. Я подумал про себя, что Игнози был вправе испытывать огромную гордость в этот день, — наверно, ни одного из римских императоров так не приветствовали идущие на смерть гладиаторы. Игнози выразил свою признательность за это грандиозное выражение почтения тем, что поднял свой боевой топор. Затем Серые построились, образовав три колонны, каждая численностью около тысячи воинов, не считая командиров, и направились к своей позиции. Когда последняя колонна прошла около пятисот ярдов, Игнози стал во главе Буйволов, которые также построились в три колонны. По его команде мы двинулись вперед. Нечего и говорить о том, что я в этот момент возносил самые горячие молитвы, чтобы мне удалось спасти свою шкуру и выйти невредимым из этой неприятной истории. Мне приходилось бывать в необычайных положениях, но в таком скверном я оказался впервые. Никогда мои шансы на спасение не были так ничтожны. К тому времени, как мы достигли края плато, Серые прошли уже половину пути, спускаясь по склону холма. У его подножия начинался покрытый травой клин, врезывавшийся в центр подковы, которую образовывали отроги холма. Этот клин был похож на стрелку в лошадином копыте, смыкающуюся с подковой. В лагере Твалы, на равнине, было заметно большое движение. Полки один за другим выходили быстрым шагом, переходящим в бег, торопясь достигнуть основания зеленого треугольника прежде, чем атакующие части выйдут на равнину Луу. Этот клин, примерно сотни три ярдов глубиной даже у основания, был не более трехсот пятидесяти шагов в поперечнике, а в узкой своей части, или вершине, — едва ли девяносто шагов. Спустившись с холма, Серые вышли на вершину зеленого треугольника одной колонной, но, дойдя до места, где треугольник становился достаточно широким, вновь построились в три ряда и замерли на месте. Тогда мы — то есть Буйволы — также спустились на вершину треугольника и заняли позицию в резерве, примерно на сто ярдов позади последней линии Серых и несколько выше их. Воспользовавшись временным бездействием, мы наблюдали, как вся армия Твалы быстро движется по направлению к нам. Очевидно, со времени утренней атаки успели подойти подкрепления, и в настоящий момент, несмотря на понесенные потери, армия насчитывала не менее сорока тысяч человек. По мере того как наступающие войска приближались к основанию треугольника, они явно начали колебаться — что предпринять дальше, так как увидели, что одновременно только один полк может пройти в ущелье, образованное отрогами холма. Кроме того, на расстоянии примерно семидесяти ярдов от входа в ущелье стоял знаменитый полк Серых, краса и гордость кукуанской армии, готовый преградить им дорогу, подобно тому как некогда трое римлян удерживали мост против тысяч атакующих. Напасть на Серых можно было только с фронта, так как с обоих флангов их защищали высокие склоны холма, покрытые валунами. Наступающие заколебались и наконец остановились. Очевидно, они не очень стремились скрестить свои копья с этими мрачными, мужественными воинами, построенными в три линии и готовыми принять бой. Из рядов наступающих внезапно выбежал какой-то высокий военачальник в обычном головном уборе из страусовых перьев, в сопровождении группы вождей и ординарцев, — вероятно, это был сам Твала. Он отдал приказ, и первый полк с криком бросился в атаку на Серых, которые продолжали в полном молчании стоять не двигаясь, пока атакующие не оказались на расстоянии ярдов сорока от них и град толл не обрушился со звоном на их ряды. Тогда внезапным броском Серые с громким криком устремились вперед, подняв свои копья, и оба полка смешались в смертельной рукопашной схватке. В следующее мгновение звон сталкивающихся щитов, подобный раскатам грома, донесся до нашего слуха, и вся равнина, казалось, запылала вспышками солнечного света, отражаемого разящими копьями. Колеблющаяся, подобно морским волнам, масса поражающих друг друга людей раскачивалась из стороны в сторону, но это продолжалось недолго. Внезапно линии атакующих начали заметно редеть, и затем медленной, длинной волной Серые прокатились по ним, совершенно так же, как морская волна нарастает и перекатывается через подводную скалу. Цель была достигнута — полк нападающих был полностью уничтожен, но и от Серых осталось теперь только два ряда. Они потеряли убитыми треть полка. Вновь сомкнув свои ряды, они стояли плечом к плечу в молчании, ожидая новой атаки. Я с радостью заметил среди них белокурую бороду сэра Генри. Он ходил взад и вперед, устанавливая порядок. Итак, он был еще жив! Тем временем мы подошли к полю боя, покрытому телами убитых, раненых и умирающих. Их было не менее четырех тысяч человек, и земля была буквально залита кровью. Игнози отдал приказ, который был быстро передан по рядам стоявших в строю. Этот приказ запрещал убивать раненых врагов, и, насколько мы могли видеть, выполнялся неукоснительно. В противном случае зрелище было бы ужасным. Правда, думать об этом у нас не было времени. Второй полк, у воинов которого, в отличие от других, плюмажи, короткие юбочки и щиты были белого цвета, приближался, чтобы атаковать оставшиеся в живых две тысячи Серых, которые стояли, как и в первый раз, в зловещем молчании. И вновь, когда противник подошел на расстояние сорока ярдов или около того, Серые обрушились на него с сокрушительной силой. Вновь послышался оглушительный звон сталкивающихся щитов, и мрачная трагедия повторилась полностью. Некоторое время казалось почти невозможным, что Серым вновь удастся одержать верх. Атакующий полк, состоявший из молодых воинов, сражался необычайно яростно, и сначала казалось, что Серые подаются под напором этой массы людей. Резня была ужасающая, сотни воинов ежеминутно падали ранеными и убитыми. Среди криков сражающихся и стонов умирающих, сопровождаемых лязгом скрещивающихся копий, слышался непрерывный возглас торжества «S’gee, s’gee!», который издавал победитель в тот момент, когда он вонзал свое копье в тело павшего врага. Однако превосходная дисциплина, стойкость и мужество могут совершить чудо. Кроме того, один опытный солдат стоит двух новичков — это вскоре стало ясно. Только мы подумали, что Серым пришел конец, и приготовились занять их место, как я услышал низкий голос сэра Генри, покрывающий шум сражения. На мгновение я увидел его боевой топор, которым он вращал в воздухе, высоко над своим плюмажем. Затем произошла какая-то перемена. Серые прекратили отступление. Они стояли неподвижно, как скала, о которую вновь и вновь разбивались яростные волны копьеносцев лишь для того, чтобы откатиться обратно. Внезапно они двинулись вновь, и на этот раз — вперед. Так как не было дыма от огнестрельного оружия, мы могли все ясно видеть. Еще минута — и атака ослабела. — Да, это настоящие воины! Они вновь одержат победу! — воскликнул Игнози, который скрежетал зубами от волнения, стоя рядом со мной. — Смотри, вот она, победа! Вдруг, подобно клубам дыма, вырвавшимся из жерла пушки, атакующий полк раскололся на отдельные группы бегущих людей, вслед за которыми летели, развеваясь по ветру, их белые плюмажи. Их противники остались победителями, но — увы! — полка больше не было. От тройной линии доблестных воинов численностью в три тысячи человек, сорок минут назад вступивших в бой, осталось самое большее шесть сотен людей, с ног до головы забрызганных кровью. Остальные лежали убитыми. Размахивая копьями в воздухе, оставшиеся в живых воины издали победный клич. Мы ожидали, что теперь они отойдут туда, где стояли мы, но вместо этого они бросились вперед, преследуя бегущего противника. Пробежав около ста ярдов, они захватили небольшой холм с пологими склонами и, вновь построившись в три ряда, образовали вокруг него тройное кольцо. Затем — о счастье! — я на мгновение увидел сэра Генри, по всей видимости невредимого, стоящим на вершине холма. С ним был наш старый друг Инфадус. Но вот полки Твалы вновь атаковали обреченных на смерть смельчаков, и завязался новый бой. Вероятно, всякий, кто читает эту историю, давно уже понял, что я, честно говоря, немного трусоват и, несомненно, совершенно не стремлюсь ввязываться в сражения. Правда, мне приходилось часто попадать в неприятное положение и проливать человеческую кровь, но я всегда питал к этому величайшее отвращение и старался, насколько возможно, не терять ни капли собственной крови, иногда даже не стесняясь удирать, если здравый смысл подсказывал мне, что это необходимо. Однако в этот момент я впервые в жизни почувствовал боевой пыл в своей груди. Отрывки воинственных стихов из легенд Инголдзби вместе с кровожадными строками из Ветхого завета вырастали в моей памяти, как грибы в темноте. Кровь моя, которая до этого момента наполовину застыла от ужаса, начала бурно пульсировать в венах, и меня охватило дикое стремление убивать, никого не щадя. Я оглянулся на сомкнутые ряды воинов, стоявших позади нас, и на мгновение меня заинтересовало, такое ли у меня выражение лица, как у них. Они стояли, напряженно вытянув шеи, их руки судорожно вздрагивали, губы были полуоткрыты, свирепые лица выражали безумную жажду боя, глаза смотрели пристальным взглядом ищейки, заметившей свою жертву. Только сердце Игнози, если судить по его относительной способности владеть собой, билось, очевидно, спокойно, как всегда, под плащом из леопардовой шкуры, хотя и он непрерывно скрежетал зубами. Дальше я не мог выдержать. — Неужели мы должны стоять здесь, пока мы не пустим корни, Амбопа, то есть Игнози, и ждать, чтобы Твала уничтожил наших братьев там, у холма? — спросил я. — О нет, Макумазан, — ответил он, — смотри. Настает удобный момент — воспользуемся им! В это время свежий полк стремительным маневром обошел кольцо Серых у небольшого холма и, повернувшись, атаковал их с тыла. Тогда, подняв свой боевой топор, Игнози дал сигнал к атаке. Прогремел боевой клич кукуанов, и Буйволы, подобно морскому приливу, стремительно бросились в атаку. Я не в силах рассказать, что за этим последовало. Я помню только яростный, но планомерный натиск, от которого, казалось, содрогнулась земля, внезапное изменение линии фронта, переформирование полка, против которого была направлена атака, затем страшный удар, приглушенный гул голосов и непрерывное сверкание копий, которое я видел сквозь кроваво-красный туман. Когда мое сознание прояснилось, я увидел, что стою среди остатка полка Серых, недалеко от вершины холма. Прямо передо мной стоял не кто иной, как сам сэр Генри. Тогда я не имел ни малейшего представления о том, каким образом я туда попал. Сэр Генри впоследствии рассказал мне, что неистовая атака Буйволов вынесла меня почти прямо к его ногам, где я и остался, когда они подались назад. Он вырвался из кольца, образованного Серыми, и втащил меня внутрь его. Что же касается сражения, которое последовало за этим, — кто возьмется описать его? Вновь и вновь массы воинов волнами устремлялись на наше ежеминутно уменьшающееся кольцо, вновь и вновь мы отражали их натиск. Мне кажется, что где-то очень красиво рассказано о подобном сражении:Глава 15
БОЛЕЗНЬ ГУДА
Когда поединок окончился, сэра Генри и Гуда отнесли в хижину Твалы, куда последовал и я. Оба они были едва живы от потери крови и крайнего утомления, да и мое состояние было немногим лучше. Хоть я человек крепкий и выносливый и могу выдержать большее напряжение, чем многие другие, благодаря тому что худощав, хорошо закален и тренирован, но в тот вечер я тоже едва стоял на ногах. Когда же я бываю переутомлен, рана, нанесенная мне львом, особенно сильно меня мучает. К тому же моя голова буквально раскалывалась на части от полученного утром удара, после которого я лишился чувств. В общем, трудно было себе вообразить более жалкое трио, чем то, которое представляли мы собой в тот памятный вечер. Мы утешали себя тем, что нам еще необыкновенно повезло, так как хотя наше состояние было весьма печальным, но мы были живы, тогда как многие тысячи храбрых воинов, еще утром полные жизни и сил, теперь лежали мертвыми на поле битвы. Кое-как с помощью прекрасной Фулаты, которая, с тех пор как мы ее спасли от неминуемой гибели, добровольно стала нашей служанкой, и в особенности заботилась о Гуде, нам удалось стащить с себя кольчуги, несомненно спасшие жизнь двоим из нас, и тут увидели, что мы все покрыты ссадинами и синяками. Хотя стальные кольца кольчуги и помешали копьям вонзиться в наше тело, но предохранить нас от этих синяков и ссадин они, конечно, не могли. У сэра Генри и Гуда все тело было сплошь покрыто кровоподтеками, да и у меня их было немало. Фулата принесла нам какое-то лекарство из растертых листьев с очень приятным запахом, которое значительно облегчило наши страдания, когда мы его приложили, как пластырь, к больным местам. Но хотя кровоподтеки и были болезненны, они не так нас тревожили, как раны сэра Генри и Гуда. У капитана была сквозная рана в мягкой части его «прекрасной белой ноги», и он потерял много крови, а у сэра Генри, помимо прочих повреждений, была глубокая рана на верхней челюсти, которую ему нанес боевой топор Твалы. К счастью, Гуд — очень недурной хирург, и, как только нам принесли его маленький ящик с лекарствами, он тщательно промыл обе раны и затем, несмотря на тусклый свет примитивной кукуанской лампы, находящейся в хижине, ухитрился довольно тщательно их зашить. После этого он густо смазал раны какой-то антисептической мазью, маленький горшочек которой находился в его аптечке, и мы перевязали их остатками носового платка. Тем временем Фулата сварила нам крепкий бульон, так как мы были слишком слабы, чтобы есть иную пищу. Кое-как проглотив его, мы бросились на груду великолепных каросс — ковров из звериных шкур, разбросанных по полу большой хижины убитого короля. И вот странная ирония судьбы: на собственном ложе Твалы, под его собственным плащом спал той ночью сэр Генри — человек, который его убил! Я говорю «спал», но после дневного побоища спать было, конечно, трудно. Начать с того, что воздух в буквальном смысле слова был полон «по дорогим погибшим горького рыданья и с умирающими скорбного прощанья». Со всех сторон доносились вопли и жалобные причитания женщин, потерявших в битве мужей, сыновей и братьев. И неудивительно, что они так горько плакали, потому что в этом страшном сражении было уничтожено свыше двадцати тысяч воинов, то есть третья часть кукуанской армии. У меня сердце разрывалось на части, когда я лежал и слушал эти стоны и рыдания по тем, кто никогда уже более не вернется. И только тогда я особенно ясно осознал весь ужас того, что произошло в угоду человеческому честолюбию. К полуночи непрерывные крики и причитания стали понемногу стихать, и наступила тишина, время от времени нарушаемая протяжными, пронзительными воплями, доносившимися из хижины, стоявшей позади нашей: это Гагула выла над бездыханным телом Твалы. Наконец я заснул беспокойным сном, вздрагивая и беспрестанно просыпаясь. Мне все казалось, что я снова являюсь действующим лицом трагедии, разыгравшейся в течение последних суток: то я видел, что воин, которого я собственной рукой послал на смерть, вновь на меня нападает на вершине холма, то я опять находился в славном кольце Серых, стяжавших себе бессмертие в бою против полков Твалы, то украшенная плюмажем окровавленная голова самого Твалы катилась мимо моих ног, скрежеща зубами и свирепо сверкая своим единственным глазом. Но так или иначе, эта ночь наконец прошла. Когда же наступил рассвет, я увидел, что мои товарищи спали не лучше меня. У Гуда была сильная лихорадка, и вскоре он начал бредить, а также, к моей величайшей тревоге, харкать кровью. Вероятно, это был результат какого-нибудь внутреннего кровоизлияния, вызванного отчаянными усилиями кукуанского воина проткнуть кольчугу Гуда своим огромным копьем. Зато сэр Генри чувствовал себя значительно лучше и был довольно свеж и бодр, хотя все его тело болело и онемело до такой степени, что он едва мог двигаться, а из-за раны на лице он не мог ни есть, ни смеяться. Около восьми часов утра нас пришел навестить Инфадус. Он сказал, что не спал всю ночь и даже еще не ложился: потрясения минувшего дня, по-видимому, мало на нем отразились — это был старый, закаленный в боях воин. Инфадус был очень рад нас видеть и сердечно пожал нам руки, хотя его сильно огорчило тяжелое состояние Гуда. Я заметил, что он относится к сэру Генри с благоговением, словно он не был обыкновенным человеком, и действительно, впоследствии мы узнали, что вся Страна Кукуанов считала могучего англичанина сверхъестественным существом. Воины говорили, что ни один человек не может сравниться с ним в бою, и удивлялись, как после такого утомительного кровавого дня он смог вступить в единоборство с самим Твалой — королем и сильнейшим в стране воином — и одним взмахом перерубить его бычью шею. Этот удар вошел у Кукуанов в пословицу, и с тех пор проявление исключительной силы или необыкновенный военный подвиг были известны в стране как «удар Инкубу». Инфадус сообщил нам, что все полки Твалы подчинились Игнози и что такие же изъявления покорности прибывают от военачальников всей Страны Кукуанов. Смерть Твалы от руки сэра Генри положила конец всем волнениям, так как Скрагга был единственным сыном низвергнутого короля и, таким образом, у Игнози не осталось в живых ни одного соперника, который мог бы претендовать на королевский престол. Когда я сказал Инфадусу, что Игнози пришел к власти через потоки крови, старый воин пожал плечами: — Да, — ответил он, — только время от времени проливая кровь, можно держать в спокойствии кукуанский народ. Да, много убито, но остались женщины, и скоро подрастут новые воины, которые займут места тех, кто пал. Теперь страна на некоторое время успокоится. После посещения Инфадуса, в то же утро, к нам ненадолго пришел Игнози. Голова его была увенчана королевской диадемой. Глядя на него, когда он приближался к нам с царственным величием, окруженный подобострастной свитой, я невольно вспомнил высокого зулуса, который всего несколько месяцев назад пришел к нам в Дурбане просить принять его в услужение. И я невольно подумал о превратностях судьбы и о том, как неожиданно изменяет свой ход колесо фортуны. — Привет, о король! — сказал я вставая. — Да, Макумазан, наконец я король. И все по милости ваших трех правых рук! Игнози сообщил нам, что у него все идет хорошо и что он надеется через две недели устроить большое празднество, чтобы показаться на нем своему народу. Я спросил его, что он решил сделать с Гагулой. — Она злой дух нашей страны, — ответил он. — Я ее убью и вместе с нею всех охотниц за колдунами. Она столько жила, что никто не может вспомнить то время, когда она не была стара, и это она обучала чародейству охотниц за колдунами. Небеса, находящиеся над нами, видят, что именно Гагула сделала нашу страну такой жестокой. — Однако она многое знает, — возразил я. — Уничтожить знания легче, чем их собрать, Игнози. — Это верно, — ответил он задумчиво. — Она и только она знает тайну Трех Колдунов, которые находятся там, где проходит Великая Дорога, где погребены наши короли и сидят Молчаливые. — И где находятся алмазы! Не забудь своего обещания, Игнози! Ты должен повести нас в копи, даже если для этого тебе придется пощадить жизнь Гагулы, так как она одна знает туда дорогу. — Я этого не забуду, Макумазан, и подумаю над твоими словами. После посещения Игнози я пошел взглянуть на Гуда и нашел его в сильнейшем бреду. Лихорадка, вызванная раной, крепко в нем засела, и ему с каждым часом становилось все хуже и хуже. В течение четырех или пяти дней он был почти безнадежен. Я совершенно уверен, что он умер бы, если бы Фулата так самоотверженно за ним не ухаживала. Женщины остаются женщинами во всем мире, независимо от цвета их кожи. Я с удивлением наблюдал, как эта темнокожая красавица день и ночь, склонившись над ложем человека, сжигаемого лихорадкой, исполняла все обязанности, связанные с уходом за больным, как опытная сестра милосердия. Первые две ночи я пытался ей помочь, так же как и сэр Генри, насколько ему позволяло его состояние, так как он сам едва двигался, но Фулате не нравилось наше вмешательство, и она с трудом его переносила. В конце концов она настояла на том, чтобы мы предоставили уход за Гудом ей одной, ссылаясь на то, что наше присутствие его беспокоит. Думаю, что в этом отношении она была права. День и ночь она бодрствовала и ухаживала за ним, отгоняя от него мух и давая ему только одно лекарство — прохладительное питье из молока, настоенного на соке луковицы из породы тюльпановых. Как сейчас, вижу я эту картину, которую мог наблюдать ночь за ночью при свете нашей тусклой лампы. Гуд, мечущийся из стороны в сторону, с исхудалым лицом, с блестящими, широко открытыми глазами, беспрерывно бормочущий всякий вздор, и сидящая близ него на полу, прислонившись к стене хижины, стройная кукуанская красавица. Ее усталое лицо с бархатными глазами было одухотворено бесконечным состраданием. А может быть, это было что-то большее, чем сострадание? В течение двух дней мы были уверены, что Гуд умрет, и бродили по нашему краалю в состоянии глубочайшего уныния. Только одна Фулата не думала так и все время говорила, что он будет жить. На расстоянии трехсот ярдов и даже больше вокруг главной хижины Твалы царила полная тишина. По приказу короля все, кто жил в домах позади этой хижины, были выселены, кроме сэра Генри и меня, чтобы никакой шум не долетал до ушей больного. Однажды ночью, на пятый день болезни Гуда, перед тем как лечь спать, я, как обычно, пошел его проведать. Я тихо вошел в хижину. Лампа, поставленная на пол, освещала фигуру Гуда. Он больше не метался, а лежал совершенно неподвижно. Итак, это свершилось! Сердце мое сжалось, и из груди вырвался звук, похожий на рыдание. — Тсс!.. — донеслось до меня, и я увидел какую-то неясную черную тень у изголовья Гуда. Тогда, осторожно подойдя ближе, я увидел, что он не был мертв, а спал глубоким сном, крепко сжимая своей исхудалой белой рукой точеные пальцы Фулаты. Кризис миновал, и он должен был жить! Так он спал восемнадцать часов подряд, и боюсь сказать, так как вряд ли кто мне поверит, но в течение всего этого времени эта преданная девушка сидела около него, не осмеливаясь пошевельнуться и освободить свою руку, чтобы он не проснулся. Никто никогда не узнает, как она должна была страдать и как, вероятно, затекло все ее тело, не говоря уж о том, что в течение этих восемнадцати часов она ничего не пила и не ела. Когда же Гуд проснулся и выпустил ее руку, бедную девушку пришлось унести — так затекли ее ноги и руки. Как только в здоровье Гуда произошел этот перелом к лучшему, он стал быстро поправляться. И только тогда сэр Генри рассказал ему, чем он обязан Фулате, как она в течение восемнадцати часов сидела у его изголовья, боясь сделать малейшее движение, чтобы его не разбудить. На глазах честного моряка показались слезы, он повернулся и тотчас же пошел в хижину, где Фулата готовила нам полуденную трапезу, так как к этому времени мы снова вернулись в свои хижины. Он взял меня в качестве переводчика на тот случай, если она его не поймет, хотя должен сказать, что Фулата обычно понимала его удивительно хорошо, несмотря на то, что его познания в иностранных языках, в том числе и зулусском, были чрезвычайно ограничены. — Скажите ей, — сказал Гуд, — что я обязан ей жизнью и никогда не забуду ее доброту. Я перевел эти слова и увидел, как ярко она вспыхнула, несмотря на свою темную кожу. Повернувшись к нему одним из тех быстрых и грациозных движений, которые мне всегда напоминали полет дикой птицы, она тихо ответила, взглянув на Гуда своими большими темными глазами: — Мой господин забывает: разве не он спас мою жизнь и разве я не служанка моего господина? Надо заметить, что эта молодая леди, очевидно, совсем забыла о том, что и мы с сэром Генри принимали участие в ее спасении из когтей Твалы. Но так уж созданы женщины! Я помню, моя дорогая жена поступала точно так же. Надо сказать, что после этой беседы я вернулся домой с тяжелым сердцем: мне не понравились нежные взгляды мисс Фулаты, ибо мне была знакома роковая влюбчивость моряков вообще и Гуда в частности. Мною обнаружены две вещи на свете, которых нельзя предотвратить: это удержать зулуса от драки, а моряка — от того, чтобы он не влюбился. Через несколько дней после разговора Гуда с Фулатой Игнози созвал Великий Совет, называемый в Стране Кукуанов «индаба», на котором «индуны» — то есть старейшины — официально признали его королем. Вся эта церемония произвела сильное впечатление, так же как и последовавший за нею величественный смотр войск. Остатки Серых принимали в этот день участие в грандиозном параде, и перед лицом всей армии им была объявлена благодарность за их исключительную отвагу в великой битве против Твалы. Каждого из этих воинов король одарил большим количеством скота и всех их произвел в военачальники в новом полку Серых, находившемся в процессе формирования. По всей Стране Кукуанов было обнародовано, что нас троих, пока мы оказывали им честь своим присутствием, должны приветствовать королевским салютом и воздавать нам те же почести, что и королю. Было так же провозглашено, что нам предоставлена власть над жизнью и смертью людей. В присутствии всех собравшихся Игнози еще раз подтвердил свои обещания, что человеческая кровь не будет проливаться без суда и что охота за колдунами будет прекращена. После окончания торжества, оставшись наедине с Игнози в его хижине, куда мы пришли навестить его, мы сказали ему, что хотим знать тайну копей, к которым вела Великая Дорога, и спросили его, не узнал ли он что-нибудь об этом. — Друзья мои, — ответил он, — вот что я узнал. Это там сидят три огромных изваяния, называемые у нас Молчаливыми, которым Твала хотел принести в жертву Фулату. Это там, в огромной пещере глубоко в горах, хоронят наших королей. Там теперь можно видеть мертвое тело Твалы, сидящее с теми, кто ушел из жизни раньше его. Там же находится глубочайший колодец, который вырыли давно умершие люди, чтобы добыть себе камни, о которых вы говорите. Когда я жил в Натале, я слышал от людей, что такие колодцы есть в Кимберли[57]. Там же, в Чертоге Смерти, находится тайник, который был известен только Твале и Гагуле. Но Твала, знавший о нем, мертв, я же не знаю ни тайника, ни того, что в нем находится. У нас в стране существует предание о том, что много поколений назад один белый человек перешел наши горы. Какая-то женщина повела его в этот тайник и показала ему спрятанные там сокровища. Но прежде чем он успел их взять, она предала его, и в тот же день король выгнал его из страны в горы, и с той поры ни один человек туда не входил. — Это, наверно, так и было, Игнози. Ведь мы нашли в горах белого человека, — сказал я. — Да, мы видели его. А теперь, поскольку я обещал вам, что, если вы найдете этот тайник и если там действительно есть камни… — Алмаз на твоем челе доказывает, что они существуют, — прервал я его, указывая на громадный камень, который я сорвал со лба мертвого Твалы. — Может быть, — сказал он. — Если камни там, вы возьмите их столько, сколько сможете унести с собой отсюда, если вы в самом деле захотите покинуть меня, братья мои. — Прежде всего мы должны найти тайник, — сказал я. — Только один человек может показать его вам — это Гагула. — А если она не захочет? — Тогда она умрет, — сурово ответил Игнози. — Только для этого я сохранил ей жизнь. Погодите! Она сама должна сделать выбор — жить ей или умереть. И, позвав слугу, он приказал привести Гагулу. Через несколько минут старая карга вошла, подгоняемая двумя стражниками, которых она всю дорогу проклинала. — Оставьте ее, — приказал король. Как только они вышли, эта мерзкая старая груда тряпок, ибо она была похожа именно на узел старого тряпья, из которого горели два ярких, злых, как у змеи, глаза, упала на пол, как бесформенная масса. — Что ты хочешь со мной сделать, Игнози? — запищала она. — Ты не смеешь меня трогать. Если ты до меня дотронешься, я уничтожу тебя на месте. Берегись моих чар! — Твое колдовство не могло спасти Твалу, старая волчица, и не может причинить мне вреда, — ответил он. — Слушай, вот что я хочу от тебя: ты покажешь тайник, где находятся сверкающие камни. — Ха-ха-ха! — захохотала старая ведьма. — Никто этого не знает, я же ничего тебе не скажу. Белые дьяволы уйдут отсюда с пустыми руками. — Ты мне все скажешь. Я заставлю тебя сказать. — Каким образом, о король? Ты велик, но может ли все твое могущество вырвать правду из уст женщины? — Это трудно, но все же я это сделаю. — Как же ты это сделаешь, о король? — Если ты не скажешь, ты умрешь медленной смертью. — Умру? — завизжала она в ужасе и ярости. — Ты не смеешь меня трогать! Человек! Ты не знаешь, кто я. Сколько ты думаешь, мне лет? Я знала ваших отцов и отцов ваших отцов. Когда страна была молода, я уже была здесь, когда страна состарится, я все еще буду здесь. Я не могу умереть. Меня лишь могут случайно убить, но никто не посмеет этого сделать. — Все же я убью тебя. Слушай, Гагула, мать зла, ты так стара, что не можешь больше любить жизнь. Что может дать жизнь такой ведьме, как ты, не имеющей ни человеческого образа, ни волос, ни зубов — ничего, кроме ненависти и злых глаз? Я окажу тебе милость, если убью тебя, Гагула. — Ты глупец! — снова завизжала женщина. — Проклятый глупец! Ты думаешь, что жизнь сладка только для молодых? В таком случае, ты ничего не знаешь о человеческом сердце. Молодые иногда приветствуют смерть, ибо они умеют чувствовать. Они любят и страдают, они сокрушаются, когда их возлюбленные уходят в мир теней. Но старые лишены этих чувств, они не любят, и — ха! ха! — они смеются, когда видят, как другие уходят во мрак. Ха-ха! Они радуются, когда видят зло, существующее под солнцем. Все, что они любят, — это жизнь, теплое-теплое солнце и сладкий-сладкий воздух. Они боятся холода — холода и мрака. Ха-ха-ха! — И старая ведьма корчилась и дико хохотала, катаясь по полу. — Прекрати свое злобное шипенье и отвечай мне! — гневно сказал Игнози. — Покажешь ты место, где хранятся камни, или нет? Если нет, то ты умрешь, и умрешь сейчас же! — И, схватив копье, но поднял его над нею. — Я не покажу вам это место, ты не смеешь меня убивать, не смеешь! Тот, кто меня убьет, будет навеки проклят! Игнози медленно опустил копье, и его острие укололо груду тряпок. С диким воплем Гагула вскочила на ноги, потом упала и снова начала кататься по полу. — Я согласна показать это место! Согласна! Только дай мне жить! Позволь мне греться на солнце и иметь кусок мяса, чтобы его сосать, и я все тебе покажу. — Хорошо. Я знал, что найду способ образумить тебя. Завтра ты отправишься туда с Инфадусом и моими белыми братьями. Берегись обмануть меня, потому что тогда ты умрешь медленной смертью. Я сказал. — Я не обману, Игнози. Я всегда держу свое слово. Ха! Ха! Ха! Однажды, давным-давно, одна женщина показала этот тайник белому человеку — и что же? Горе пало на его голову! — И при этих словах ее злые глаза загорелись. — Ее тоже звали Гагулой. Может быть, это была я? — Ты лжешь! — сказал я. — После того прошло десять поколений. — Может быть, может быть. Когда живешь так долго, забываешь. Может быть, мать моей матери мне это рассказывала, но женщину ту звали Гагулой, это я точно знаю. Запомните! — сказала она, обращаясь к нам. — В том месте, где хранятся сверкающие игрушки, вы найдете мешок из козьей шкуры, наполненный камнями. Его наполнил белый человек, но он не мог взять его с собой: беда пала на его голову, говорю я, беда пала на его голову! Может быть, мать моей матери рассказывала мне об этом… Наш путь будет веселым — по дороге мы увидим тела тех, кто погиб в битве. Их глаза уже выклеваны воронами, а ребра обглоданы хищниками. Ха! Ха! Ха!Глава 16
ЧЕРТОГ СМЕРТИ
Шел третий день после сцены, описанной в предыдущей главе. Было уже темно, когда все мы расположились на отдых в нескольких хижинах у подножия Трех Колдунов — так назывались три горы, образовывавшие треугольник, у вершины которого оканчивалась Великая Дорога царя Соломона. Нас сопровождали Фулата, которая последовала за нами главным образом из-за Гуда, Инфадус, Гагула и отряд слуг и охраны. Гагулу несли на носилках, и оттуда весь день слышались ее бормотанье и ругань. Горы, или, точнее, три горные вершины, возникшие, очевидно, в результате одного и того же геологического сдвига, как я уже сказал, были расположены в форме треугольника, основание которого было обращено к нам. Одна вершина была справа от нас, другая — слева, а третья — прямо перед нами. Никогда я не забуду зрелища, которое представилось нашим глазам утром следующего дня, когда мы увидели эти три величественные вершины, освещенные лучами солнца. Высоко-высоко над нами вздымались в синее небо их снеговые венцы. Там, где кончался снежный покров, горы были пурпурного цвета от сплошь покрывавшего их вереска. Такого же цвета были и поросшие вереском торфянистые болота, которые поднимались из долины на склоны гор. Прямо перед нами, как белая лента, пролегала Великая Дорога царя Соломона, взбегая вверх, к подножию средней вершины, находившейся от нас примерно в пяти милях. Там дорога оканчивалась. Трудно описать чувство огромного волнения, с которым мы отправились в то утро в дальнейший путь. Пусть лучше читатель сам постарается представить себе наше состояние. Ведь наконец мы приблизились к этим удивительным копям, которые были причиной трагической гибели не только старого португальца три столетия назад, но и его злополучного потомка, а также, как мы предполагали, и брата сэра Генри, Джорджа Куртиса. Был ли нам после всего, что нам пришлось перенести, уготован лучший удел? Их постигло несчастье, как сказала эта старая ведьма Гагула. Не такова ли будет и наша судьба? Так или иначе, когда мы проходили последний участок этой замечательной дороги, я не мог отделаться от чувства суеверного страха и думаю, что то же самое испытывали Гуд и сэр Генри. Не менее полутора часов мы шагали вперед по окаймленной вереском дороге. От волнения мы шли настолько быстро, что люди, которые несли Гагулу, едва поспевали за нами, а из носилок слышался ее пронзительный голос, требовавший, чтобы мы остановились. — Идите помедленнее, белые люди! — кричала она, выставляя свою жуткую сморщенную физиономию из-за занавесок и устремив на нас пристальный взгляд своих горящих глаз. — Зачем так спешить навстречу гибели, которая вас ожидает, искатели сокровищ! — И она рассмеялась своим жутким смехом, от которого по моему телу всегда пробегала холодная дрожь. На короткое время этот смех охладил наш пыл. Однако мы упорно продолжали идти вперед. Наконец мы увидели прямо перед собой большую круглую яму с пологими склонами, не менее трехсот футов глубиной и более полумили в окружности. — Вы, конечно, догадываетесь, что это такое? — обратился я к сэру Генри и Гуду, которые в изумлении заглядывали в это огромное воронкообразное углубление. Они отрицательно покачали головой. — В таком случае мне ясно, что вам никогда не приходилось видеть алмазные копи в Кимберли. Можете быть уверены, что это и есть алмазные копи царя Соломона. Смотрите сюда, — сказал я, указывая на твердый голубой ил, который виднелсякое-где среди травы и кустарника, покрывавших склоны копи. — Это типичная геологическая формация. Я уверен, что, если бы мы спустились в эту копь, мы обнаружили бы алмазоносные трубки, заполненные кимберлитовой магмой или алмазосодержащей брекчией[58]. А теперь посмотрите сюда, — и я указал на многочисленные плоские плиты из выветрившейся скальной породы на пологом склоне копи, ниже уровня водостока, прорытого в глубокой древности. — Я не я, если эти плиты не служили некогда для промывки породы. У края этой огромной ямы, которая, конечно, представляла собой именно ту копь, которая была нанесена на карту старого португальца, Великая Дорога разветвлялась и огибала ее кругом. Во многих местах эта идущая по краю копи дорога была сплошь вымощена большими каменными глыбами, очевидно для того, чтобы укрепить края копи и предотвратить возможный обвал пустых сланцев, окружающих алмазосодержащую брекчию. Мы быстро пошли по дороге, подгоняемые желанием поскорее увидеть, что представляют собой три гигантские фигуры, видневшиеся на противоположной стороне огромной ямы, у которой мы стояли. Подойдя ближе, мы поняли, что это какие-то колоссы, и правильно угадали: это и были трое Молчаливых, перед которыми кукуанский народ испытывал такой благоговейный страх. Но только подойдя к ним совсем близко, мы полностью осознали царственное величие Молчаливых. Там, на колоссальных пьедесталах из темной скалы, на которых на расстоянии двадцати шагов один от другого были высечены непонятные иероглифы, созерцая дорогу, простирающуюся на шестьдесят миль до Луу, восседали три колоссальные фигуры — две мужские и одна женская. Каждая из них была около восемнадцати футов высотой от темени до пьедестала. Одна из них, изображавшая обнаженную женщину, отличалась исключительной, хотя и строгой красотой. К сожалению, черты ее лица сильно пострадали от времени, так как в течение многих веков они подвергались влиянию погоды. По обе стороны ее головы подымались рога полумесяца. Две мужские фигуры были, в противоположность ей, изображены задрапированными в мантии. Лица их были ужасны, в особенности у сидевшего справа. У него было лицо дьявола. Лицо сидевшего слева было безмятежно-спокойно, но спокойствие это вселяло ужас. Оно выражало бесчеловечную жестокость, ту жестокость, которой, по словам сэра Генри, в древности фантазия человека наделяла могущественные существа, может быть способные совершать и добрые дела, но тем не менее созерцающие страдания человечества если не с наслаждением, то и без всяких терзаний. Три фигуры, одиноко сидящие в вышине и веками созерцающие расстилающуюся внизу долину, действительно вселяли благоговейный ужас. Мы смотрели на Молчаливых, как их называли кукуаны, и нами овладевало огромное желание узнать, чьи руки высекли из камня этих колоссов, проложили дорогу и вырыли огромную копь. Когда я в изумлении смотрел на них, мне внезапно припомнилось (так как я хорошо знал Ветхий завет), что Соломон отрекся от своей веры и стал поклоняться иноземным богам. Имена трех из этих богов я также вспомнил: Ашторет — богиня Сидонян, Чемош — бог Моабитов и Мильком — бог детей Аммона. Я высказал своим спутникам предположение, что три фигуры, сидящие перед нами в вышине, возможно, изображают именно эти три ложных божества. — Может быть, в этом и есть доля истины, — задумчиво сказал сэр Генри. Он был очень образованный человек и, когда еще учился в колледже, достиг больших успехов в изучении классиков. — Ведь древнееврейская Ашторет, — продолжал он, — называлась Астартой у финикийцев, которые вели крупнейшую торговлю во времена Соломона. Астарту же, которую греки впоследствии называли Афродитой, изображали с рогами, напоминающими полумесяц, а на голове женской фигуры отчетливо видны рога полумесяца. Возможно, что эти колоссы были созданы по воле какого-нибудь финикийского должностного лица, управлявшего копями. Кто знает! Мы все еще рассматривали эти необычайные памятники глубокой древности, когда к нам подошел Инфадус. Сначала, подняв свое копье, он отдал салют Молчаливым, а затем, обратившись к нам, спросил, намереваемся ли мы немедленно войти в Чертог Смерти, или же пойдем туда позднее, после полуденной трапезы. Он сказал, что если мы готовы отправиться сейчас же, то Гагула выражает желание быть нашим проводником. Так как не было еще и одиннадцати часов, мы, обуреваемые безудержным любопытством, заявили, что намерены идти немедленно. Я предложил на всякий случай, если нам придется задержаться в пещере, захватить с собой немного пищи. Принесли носилки с Гагулой, и почтенная леди наблюдала из них за нашими сборами. Тем временем Фулата, по моей просьбе, положила в тростниковую корзину немного билтонга и пару тыквенных бутылей, наполненных водой. Прямо перед нами, на расстоянии шагов пятидесяти от спин колоссов, поднималась отвесная стена из камня, не менее восьмидесяти футов высотой. Кверху она постепенно сужалась и образовывала подножие величественной вершины, увенчанной снегом, которая возвышалась над нами на три тысячи футов. Как только Гагула сошла со своих носилок, она злобно усмехнулась в нашу сторону и, опираясь на палку, заковыляла по направлению к отвесной каменной стене. Мы последовали за ней и вскоре подошли к узкому порталу, окаймленному массивной аркой, похожему на вход в галерею шахты. Здесь ожидала нас Гагула. На ее ужасном лице все еще играла злобная усмешка. — Что же, белые люди, спустившиеся со звезд, — пропищала она, — великие воины Инкубу, Бугван и мудрый Макумазан, готовы ли вы? Смотрите, я здесь, чтобы выполнить волю короля, моего господина, — показать вам сокровищницу блестящих камней. — Мы готовы, — сказал я. — Так! Так! Укрепите же ваши сердца, чтобы вынести то, что вам предстоит увидеть. Идешь ли и ты с нами, Инфадус, предавший своего господина? Инфадус, нахмурившись, ответил: — Нет, я не иду, — мне входить туда нельзя, но ты, Гагула, обуздай свой язык и берегись причинить зло моим повелителям. Ты мне ответишь за них, и если хоть единый волос упадет с их головы, то пусть ты, Гагула, будешь тысячу раз ведьмой, но ты должна будешь умереть. Слышишь ли ты мои слова? — Я слышу, Инфадус. И я знаю тебя хорошо — ты всегда любил хвастливые речи. Помню, что когда ты был еще ребенком, ты угрожал своей собственной матери. А это было совсем недавно. Но не бойся, не бойся, я живу лишь для того, чтобы повиноваться воле короля. Я выполняла веления многих королей, Инфадус, пока в конце концов они не выполняли мои. Ха! Ха! Я иду туда, чтобы еще раз взглянуть на их лица, а также и на лицо Твалы! Идемте же, идемте! Вот лампа. — И она извлекла из-под своего мехового плаща огромную выдолбленную тыкву, наполненную маслом, с фитилем из тростникового волокна. — Пойдешь ли ты с нами, Фулата? — спросил Гуд на своем отвратительном ломаном кукуанском языке, в котором он упорно совершенствовался под руководством этой молодой леди. — Я боюсь, мой господин, — робко ответила девушка. — Тогда дай мне корзину. — Нет, мой господин. Куда идешь ты, туда пойду и я. «И правда ведь пойдешь, черт тебя побери! — подумал про себя я. — И это создаст изрядные осложнения, если мы когда-нибудь отсюда выберемся». Без дальнейших церемоний Гагула нырнула в совершенно темный проход, который был достаточно широк, чтобы вместить двух идущих рядом людей. Она пропищала нам приказание следовать за ней, и мы в некотором смятении пошли на звук ее голоса. Внезапный шум крыльев каких-то вспуганных нами существ несомненно не мог успокоить наше волнение. — Хэлло! Что это такое? — воскликнул Гуд. — Кто-то ударил меня по лицу. — Летучие мыши, — отозвался я. — Идите дальше! Пройдя шагов пятьдесят, мы заметили, что проход стал немного светлее. Еще минута, и мы оказались в совершенно необычайном месте, какого, вероятно, не приходилось видеть ни одному человеку. Пусть же читатель попытается представить себе внутренность величайшего собора, в котором ему когда-либо случилось бывать, и тогда он получит отдаленное представление о размерах гигантской пещеры, в которой мы очутились. Но этот храм, созданный великим архитектором — природой, был выше и шире любого построенного людьми. Окон не было, но откуда-то сверху лился слабый свет. Вероятно, в своде, вздымавшемся на сотню футов над нами, были проложены шахты, по которым проникал воздух извне. Однако огромные размеры пещеры были наименее значительным из всех чудес, представившихся нашим глазам. По всей длине пещеры рядами стояли гигантские колонны, которые казались сделанными из льда. В действительности же это были огромные сталактиты[59]. Невозможно передать потрясающую красоту и величие этих белых колонн. Некоторые из них были не менее двадцати футов в диаметре у основания, и их грандиозные и вместе с тем изящные контуры уходили вверх, прямо к далекому своду. Другие колонны были еще в процессе формирования и, по словам сэра Генри, напоминали обломки колонн в древнегреческом храме, а высоко вверху смутно вырисовывались острия огромных сосулек, свисавших со свода. Созерцая в молчаливом изумлении все это великолепие, мы в то же время слышали, как идет процесс формирования колонн, потому что время от времени с далекой сосульки, свисавшей со свода, с еле слышным всплеском вдруг падала капля воды, попадая прямо на колонну, стоявшую на каменном полу. На некоторые колонны капли падали по одной через каждые две-три минуты. Интересно было бы подсчитать, сколько времени при такой скорости просачивания понадобится, чтобы образовалась колонна примерно в восемьдесят футов высотой и десять футов в диаметре. Достаточно будет следующего примера, чтобы показать, каким неизмеримо медленным был этот процесс. Мы обнаружили, что на одной из колонн высечено грубое подобие мумии, у изголовья которой виднелось изображение сидящего божества. Это было явно одно из египетских божеств, созданное рукой человека, в глубокой древности работавшего в копях. Неизвестный художник высек это «произведение искусства» на уровне нормального человеческого роста, то есть на высоте около пяти футов. Очевидно, во все времена находилось достаточно бездельников — от жившего в древности финикийского рабочего до современного английского мальчишки, — желающих во что бы то ни стало обессмертить себя за счет шедевра, созданного природой. Однако, когда мы рассматривали это изображение, то есть почти три тысячи лет спустя после того, как оно было сделано, колонна была еще только восемь футов вышиной и процесс формирования ее еще далеко не закончился, из чего следует, что скорость его равнялась одному футу за тысячу лет, или дюйму с небольшим за столетие. Мы высчитали это, стоя у колонны и прислушиваясь к мерному падению водяных капель. В некоторых случаях сталагмиты[60] принимали причудливые формы, в особенности там, где капли воды, падая, не всегда попадали в одну и ту же точку. Так, одна огромная глыба, по всей вероятности весом не менее ста тонн, имела форму церковной кафедры и была снаружи украшена красивым резным узором, похожим на кружево. Другие напоминали фантастических чудовищ, а на стенах пещеры виднелся красивый веерообразный орнамент, как будто сделанный из слоновой кости, похожий на морозный узор на оконном стекле. Из огромного главного зала открывались многочисленные выходы в пещеры меньшего размера, по словам сэра Генри, совсем как выходы, ведущие в маленькие часовни в больших соборах. Некоторые из них были обширны, но одна или две оказались совсем крошечными, и все они представляли собой изумительный пример того, как природа совершает свою работу, руководствуясь теми же самыми неизменными законами, совершенно независимо от ее масштаба. Одна крошечная пещерка была, например, размером с большой кукольный дом, и тем не менее она могла бы сойти за архитектурную модель огромного зала: в ней так же падали капли воды, так же свисали крошечные сосульки и точно так же формировались белые колонны из шпата. К сожалению, у нас было недостаточно времени для того, чтобы осмотреть это красивое место так внимательно, как хотелось бы, потому что, к несчастью, Гагула проявляла полное отсутствие интереса к сталактитам и, очевидно, стремилась покончить с делом как можно скорее. Это ужасно меня раздражало, в особенности потому, что мне страшно хотелось узнать, если возможно, каким образом в пещеру проникал свет, была ли создана эта система руками человека или самой природой и использовалась ли она каким-нибудь образом в древности — что казалось вполне вероятным. Однако мы утешали себя мыслью, что на обратном пути осмотрим все как следует, и последовали за нашей зловещей проводницей. Все вперед и вперед вела она нас, прямо к дальнему концу огромной молчаливой пещеры. Там мы увидели другую дверь. Она не образовывала наверху арку, как первая, а была квадратная и напоминала вход в египетский храм. — Готовы ли вы вступить в Чертог Смерти? — спросила Гагула, очевидно, с специальной целью, чтобы нам стало не по себе. — Веди же нас, Макдуф[61], — торжественно произнес Гуд, пытаясь сделать вид, что ему совсем не страшно. Мы все притворялись спокойными, за исключением Фулаты, которая схватила Гуда за руку, как бы в поисках защиты. — Становится немного страшновато, — заметил сэр Генри, заглядывая в темный пролет двери. — Ступайте вперед, Квотермейн: seniores priores[62]. Не заставляйте ждать почтенную леди! — И он вежливо пропустил меня вперед, за что я в душе совершенно не был ему благодарен. Тук-тук! — стучала по полу палка старой Гагулы. Она ковыляла вперед по темному проходу, зловеще посмеиваясь. Охваченный безотчетным предчувствием несчастья, я начал отставать. — Ну, идите же вперед, дружище, — сказал Гуд, — а не то мы отстанем от нашей прекрасной проводницы. После этого замечания я пошел быстрее и шагов через двадцать оказался в мрачной пещере около сорока футов длиной, футов тридцать в ширину и высоту. Очевидно, в глубокой древности она была высечена человеческими руками. Это помещение было освещено гораздо хуже, чем огромная сталактитовая пещера, через которую мы только что прошли. Единственное, что я различил в полутьме с первого взгляда, был массивный каменный стол, простиравшийся по всей длине пещеры, во главе которого сидела колоссальная белая фигура. Вокруг стола также сидели белые фигуры нормальной величины. Затем мне удалось рассмотреть в центре стола какой-то коричневый предмет, а еще через мгновение мои глаза привыкли к полутьме, и я увидел, что представляли собой все эти фигуры, и опрометью бросился бежать со всей скоростью, на которую были способны мои ноги. Вообще говоря, я не из нервных людей и к тому же человек почти совсем не суеверный, так как имел много случаев убедиться в нелепости суеверий, но я должен сознаться, что то, что я увидел, потрясло меня до такой степени, что если бы сэр Генри не удержал меня, ухватив за шиворот, то, честно говоря, через пять минут меня не было бы уже в сталактитовой пещере. Даже если бы мне посулили все алмазы Кимберли, то и это не заставило бы меня туда вернуться. Но сэр Генри держал меня так крепко, что мне не оставалось ничего иного, как покориться своей участи. А через секунду, когда и его глаза привыкли к темноте, он тотчас же отпустил меня и начал вытирать со лба покрывший его холодный пот. Что касается Гуда — он тихо ругался, а Фулата с криком бросилась ему на шею. Только Гагула хихикала громко и непрерывно. Действительно, зрелище было страшное. На дальнем конце длинного каменного стола, держа в костлявых пальцах огромное белое копье, сидела сама Смерть в виде колоссального человеческого скелета, более пятнадцати футов высотой. Высоко над головой она держала копье, как бы собираясь нанести удар. Другой костлявой рукой она опиралась на каменный стол, как человек, поднимающийся с своего сиденья, а весь скелет наклонился вперед, так что его шейные позвонки и ухмыляющийся блестящий череп были напряженно вытянуты в нашу сторону. Пустые глазницы скелета были устремлены на нас, а челюсти немного разомкнуты, как будто он вот-вот заговорит. — Силы небесные! — прошептал я наконец. — Что же это такое? — А это что за фигуры? — спросил Гуд, указывая на белое общество, сидящее за столом. — А что же там за предмет, черт возьми? — взволнованно сказал сэр Генри, указывая на коричневое существо, сидящее на столе. — Хи-хи-хи! — смеялась Гагула. — Горе тем, кто входит в Чертог Смерти. Хи-хи-хи! Ха-ха! Приблизься же, Инкубу, столь отважный в бою, приблизься и взгляни на того, кого ты убил! — И с этими словами старуха схватила его за рукав своими костлявыми пальцами и потянула к столу. Мы последовали за ними. Вдруг она остановилась и указала на коричневую фигуру, сидящую на столе. Сэр Генри посмотрел туда и с восклицанием отпрянул назад. Неудивительно, что он был так взволнован, — там, на столе, сидел огромный труп Твалы, последнего короля кукуанов. Он был совершенно обнажен, а голова его, отсеченная боевым топором сэра Генри, покоилась у него на коленях. Вся поверхность мертвого тела была покрыта тонкой стекловидной пленкой, отчего оно казалось еще более ужасным. Сначала мы совершенно не могли догадаться о происхождении этой пленки, но вдруг заметили, что с потолка комнаты регулярно падают капли воды — кап… кап… кап! — Прямо на шею трупа, откуда вода сбегала, растекаясь по всей его поверхности, и наконец уходила в скалу через крошечное отверстие, пробуравленное в столе. Тогда мне все стало ясно: тело Твалы превращалось в сталагмит. Взгляд, брошенный на белые фигуры, сидящие на каменной скале, окаймлявшей этот жуткий стол, подтвердил правильность моей догадки. Это несомненно были человеческие тела, вернее то, что некогда было человеческим телом, превратившиеся в сталактиты. Таким образом кукуаны с незапамятных времен сохраняли тела своих умерших королей: они превращали их в камень. Мне так и не удалось узнать, в чем заключался весь метод петрификации, если он вообще существовал, кроме того, что умерших сажали на много лет туда, где каплями просачивалась вода. Так или иначе, они сидели за столом, покрытые похожей на лед оболочкой, образовавшейся из кремневой жидкости, которая сохраняла их на вечные времена. Невозможно представить себе что-либо вселяющее больший ужас, чем зрелище этого длинного ряда царственных мертвецов, облаченных в саваны из прозрачного, как лед, шпата, сквозь которые можно было смутно различить их черты. Всего их было двадцать семь, и последним был отец Игнози. Они сидели вокруг этого негостеприимного стола, за которым председательствовала сама Смерть. По общему количеству мертвецов можно было заключить, что этот способ сохранения трупов начал применяться не менее четырех с четвертью веков назад. Если предположить, что сюда помещали всех царствовавших королей, что, пожалуй, невероятно, так как безусловно некоторые из них погибали в бою, и считать, что каждый из них царствовал в среднем пятнадцать лет, то получится примерно эта цифра. Но колоссальная фигура Смерти, сидящая во главе стола, несомненно была гораздо старше этого обычая и, если я не ошибаюсь, обязана была своим происхождением рукам того же художника, который создал трех колоссов. Она была высечена из цельного сталактита и, если рассматривать ее как произведение искусства, была задумана и выполнена с исключительным мастерством. Гуд, который разбирался в анатомии, заявил, что, по его мнению, в анатомическом отношении этот скелет был совершенным и точно воспроизводил подлинный человеческий скелет до мельчайших косточек. Я считаю, что эта ужасная фигура была плодом извращенной фантазии какого-то древнего скульптора и что кукуанам уже впоследствии пришла мысль сажать своих царственных мертвецов за этот стол, за которым председательствовал страшный призрак Смерти. Возможно также, что скелет был некогда помещен здесь, чтобы отпугивать грабителей, которые могли делать попытки пробраться в сокровищницу, находящуюся рядом. Не знаю, действительно ли это так. Единственно, что я могу сделать, — это описать все, как оно есть, а читатель пусть делает собственные выводы. Такова была, во всяком случае, Белая Смерть, и таковы были Белые Мертвецы.Глава 17
СОКРОВИЩНИЦА ЦАРЯ СОЛОМОНА
Пока мы осматривали наводящие ужас чудеса Чертога Смерти, пытаясь преодолеть охватившее нас чувство страха, Гагула была занята совсем иными делами. Каким-то образом, мгновенно вскарабкавшись на громадный стол (когда ей было нужно, она была чрезвычайно проворна), старая ведьма направилась к месту, где под регулярно падающими каплями воды сидел наш покойный друг Твала, чтобы посмотреть, как он там, по выражению Гуда, «маринуется», или для других, ей одной известных тайных целей. Затем она заковыляла обратно, время от времени останавливаясь, чтобы обратиться то к одной, то к другой облаченной в саван фигуре со словами, смысл которых я не мог уловить. При этом вид у нее был точно такой же, как и у меня или у тебя, читатель, когда мы приветствуем доброго старого знакомого. Закончив этот таинственный и жуткий ритуал, она уселась на корточках прямо против фигуры Белой Смерти и начала, насколько я мог разобрать, возносить ей молитвы. Вид этого злого старого существа, возносящего мольбы несомненно самого зловещего характера заклятому врагу человечества, был настолько непереносим, что мы поторопились закончить осмотр Чертога Смерти. — Ну, а теперь, Гагула, — сказал я очень тихим голосом, так как в таком месте не осмеливаешься говорить иначе чем шепотом, — веди нас в сокровищницу. Старуха проворно сползла со стола. — Повелители не боятся? — спросила она, покосившись на меня. — Веди дальше. — Хорошо, повелители. — И она, прихрамывая, обошла вокруг стола и остановилась у задней стены пещеры, позади фигуры Смерти. — Здесь вход в тайник. Пусть мои повелители зажгут лампу и войдут. — И, поставив выдолбленную тыкву, наполненную маслом, на пол, она прислонилась к стене пещеры. Я взял спичку (в коробке еще было несколько штук), зажег тростниковый фитиль и начал искать глазами вход, но передо мной не было ничего, кроме сплошной стены. Гагула усмехнулась: — Вход здесь, повелители! Ха! Ха! Ха! — Не шути с нами! — сказал я сурово. — Я не шучу, повелители. Взгляните сюда! — И она указала на стену. Я поднял лампу, и мы увидели, что какая-то огромная каменная глыба медленно поднимается вверх и уходит выше, в скалу, где для нее несомненно было высечено специальное углубление. Поднимавшийся кусок скалы был шириной с дверь большого размера, около десяти футов высоты, не менее пяти футов толщины и весил по крайней мере двадцать или тридцать тонн. Двигался он, конечно, по принципу простого баланса с противовесами. Как приводилось в действие это устройство, никто из нас не заметил, ибо Гагула постаралась сделать так, чтобы мы этого не видели. Но я не сомневаюсь, что где-то был самый простой рычаг, на который надо было слегка нажать в секретной точке, чтобы привести в действие скрытый противовес, благодаря чему вся каменная глыба двигалась вверх. Медленно и легко поднимался кусок скалы, пока не исчез совсем, и на его месте перед нашими глазами появилось мрачное отверстие. Трудно передать охватившее нас волнение при виде широко распахнувшегося входа в сокровищницу царя Соломона. Что касается меня, я весь затрепетал, и по моему телу пробежала холодная дрожь. А вдруг все это обман, мистификация, думал я, или, наоборот, все, что писал старый да Сильвестра, окажется правдой? Действительно ли спрятан в этом темном месте огромный клад? Клад, который сделал бы нас самыми богатыми людьми на свете! Через одну — две минуты мы должны были это узнать. — Входите, белые люди со звезд! — сказала наша зловещая проводница, переступая порог. — Но сначала послушайте служанку вашу, престарелую Гагулу. Яркие камни, которые вы сейчас увидите, были некогда выкопаны из колодца, над которым сидят Молчаливые, и сложены здесь, но кем, я не знаю. Те люди, которые это сделали, поспешно покинули это место, не взяв их с собой. С тех пор сюда входили лишь один раз. Молва о сверкающих камнях передавалась из века в век людьми, жившими в нашей стране, но никто не знал ни где находятся сокровища, ни тайны двери. Но однажды в нашу страну пришел из-за гор один белый человек, — может быть, он тоже спустился со звезд, как вы, и правивший в то время король принял его радушно. Это вот тот, что сидит там, — и она указала на пятую с края фигуру, сидевшую за столом Мертвых. — И случилось так, что этот белый человек и какая-то женщина из нашего народа пришли в это место. Эта женщина случайно узнала тайну двери, хотя вы можете искать ее тысячу лет и все равно не найдете. Белый человек вошел сюда вместе с нею и наполнил этими камнями мешок из козьей шкуры, в котором женщина принесла еду. А когда он уходил из сокровищницы, он взял еще один камень, очень большой, и держал его в руке. — Тут старуха замолчала. — Ну, и что же? — спросил я, задыхаясь от волнения, так же как и мои спутники. — Что же случилось с да Сильвестра? Услышав эти слова, старая ведьма вздрогнула. — Откуда ты знаешь имя человека, который давно умер? — резко спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Никто не знает, что случилось, но, видно, белый человек чего-то испугался, ибо бросил наземь козью шкуру с камнями и убежал с одним лишь камнем, тем, что был в его руке. Этот камень у него отобрал король, и это тот самый, который ты, Макумазан, сорвал со лба Твалы. — И с тех пор никто здесь не был? — спросил я, вглядываясь в темный проход. — Никто, мои повелители. Но тайна двери хранилась, и все короли открывали ее, но не входили, ибо предание гласит, что тот, кто войдет сюда, умрет не позже, чем через месяц, как умер тот белый человек в горах, в пещере, где ты его нашел, Макумазан. Вот почему наши владыки сюда не входят. Ха! Ха! Я всегда говорю правду! В эту минуту наши глаза встретились, и я весь похолодел. Откуда старая ведьма все это знала? — Входите, мои повелители. Если я говорю правду, козья шкура с камнями должна лежать на полу. А действительно ли правда, что тому, кто входит сюда, грозит смерть, — это уж вы узнаете потом. Ха! Ха! Ха! — И, переступив порог, она заковыляла вперед, неся с собой свет. Признаюсь, я еще раз заколебался, идти ли мне за нею. — Будь она проклята! — закричал Гуд. — Идем! Эта старая чертовка меня не запугает! — И он тотчас же бросился в проход вслед за Гагулой. За ним шла Фулата, которой все это, очевидно, было не по душе. Бедняжка боялась и от страха дрожала всем телом. Мы с сэром Генри немедленно последовали за ними. Через несколько ярдов в узком проходе, высеченном в сплошной скале, Гагула остановилась. Она нас ждала. — Видите, повелители, — сказала она, держа перед собой лампу, — те, кто спрятали здесь сокровища, должны были поспешно покинуть это место. Они боялись, что кто-нибудь узнает тайну двери, и, чтобы оградить вход в тайник, решили воздвигнуть здесь стену, но у них на это не хватило времени. И она указала на преграждавшие проход уложенные друг на друга два ряда больших квадратных каменных блоков высотой в два фута и три дюйма. Вдоль прохода лежали такие же глыбы шлифованного камня, предназначенные для дальнейшей работы, и, что самое любопытное, известковый раствор и пара лопат, которые, насколько мы имели время их рассмотреть, по внешнему виду были точно такие же, какими пользуются рабочие и по сей день. Тут Фулата, которая вся тряслась от страха и волнения, вдруг почувствовала себя дурно и сказала, что будет ждать нас в этом месте, так как дальше идти не может. Мы усадили ее около незаконченной стены, положили около нее корзинку с провизией и оставили одну, чтобы она успокоилась. Пройдя по проходу еще шагов пятнадцать, мы вдруг оказались перед тщательно раскрашенной деревянной дверью. Она была широко открыта. Тот, кто был здесь последним, или забыл, или не имел времени ее закрыть. На пороге этой двери лежал мешок из козьей шкуры, который, казалось, был наполнен камнями… — Хи! Хи! Белые люди, — захихикала Гагула, когда на него упал свет от лампы. — Я говорила вам, что белый человек бежал в испуге из этого места и бросил наземь козью шкуру, принадлежавшую женщине. Посмотрите, вот она! Гуд наклонился и поднял мешок. Он был тяжел, и внутри него что-то с легким стуком перекатывалось. — Клянусь небом, мне кажется — он полон алмазами! — сказал он благоговейным шепотом. Действительно, одна лишь мысль, что маленький мешок из козьего меха полон алмазами, была достаточна, чтобы заставить кого угодно ощутить священный трепет. — Идем дальше, — сказал сэр Генри с нетерпением. — Ну, почтенная леди, дайте-ка мне лампу. — И, взяв ее из рук Гагулы, он высоко поднял лампу над головой и переступил порог комнаты. Мы поспешили за ним, забыв на время о мешке с алмазами, и очутились в сокровищнице Соломона. При тусклом свете лампы мы прежде всего увидели высеченную в массиве скалы комнату размером не более десяти квадратных футов, а затем — превосходную коллекцию слоновых бивней, сложенных друг на друга до самого свода. Сколько их тут, сказать было трудно, так как мы не могли видеть, какое пространство они занимают до задней стены, но то, что мы могли охватить глазами, составляло несомненно не менее четырехсот — пятисот самых отборных клыков. Одной этой слоновой кости было бы достаточно, чтобы обогатить человека на всю жизнь. «Возможно, — подумал я, — что из этого огромного запаса Соломон взял материал для своего «великого трона из слоновой кости», равного которому не было ни в одном царстве». По другую сторону комнаты находилось десятка два ящиков, похожих на ящики для патронов фирмы Мартини-Генри, только несколько побольше и выкрашенных в красный цвет. — Тут алмазы! — вскричал я. — Дайте сюда свет! Сэр Генри подошел с лампой и осветил верхний ящик, крышка которого, сгнившая от времени, несмотря на то что здесь было сухо, в одном месте была взломана, по-видимому самим да Сильвестра. Поспешно запустив руку в отверстие, я вынул полную горсть, но не алмазов, а золотых монет очень странной формы. Мы никогда не видели таких денег, и нам показалось, что на них были начертаны древнееврейские письмена. — Во всяком случае, — сказал я, кладя золото обратно, — мы отсюда с пустыми руками не уйдем. В каждом ящике, должно быть, не менее двух тысяч монет, а всего их здесь восемнадцать. Я полагаю, эти деньги предназначались для уплаты рабочим и купцам. — А я думаю, — перебил меня Гуд, — это и есть сокровище. Я что-то не вижу алмазов, разве что старый португалец сложил их все в мешок. — Пусть мои повелители посмотрят вон в тот темный угол, может быть, они там найдут камни, — сказала Гагула, поняв по выражению наших лиц, о чем мы говорим. — Там мои повелители найдут углубление, и в нем три каменных ящика — два запечатанных и один открытый. Прежде чем перевести ее слова сэру Генри, у которого в руках была лампа, я не мог утерпеть и спросил ее, откуда она это знает, если никто сюда не входил с тех пор, как здесь был белый человек столь много поколений назад. — О Макумазан, ты, который бодрствуешь по ночам! — насмешливо ответила Гагула. — И вы, живущие на звездах! Разве вы не знаете, что у некоторых людей есть глаза, которые видят сквозь скалы? Ха! Ха! Ха! — Посмотрите в этом углу, Куртис, — сказал я, указывая на место, о котором говорила Гагула. — Хэлло, друзья! — закричал он. — Здесь есть ниша. Силы небесные! Посмотрите-ка сюда! Мы бросились туда, где он стоял. В углублении, похожем на небольшое полукруглое окно, было три каменных ящика, каждый площадью в два фута. Два из них были покрыты каменными крышками, третья же крышка была прислонена к ящику, который был открыт. — Взгляните! — сказал сэр Генри сдавленным от волнения голосом, держа над ящиком лампу. Мы посмотрели вниз, но сначала ничего не могли различить из-за ослепившего нас серебристого сияния. Когда же наши глаза с ним освоились, мы увидели, что этот ящик был на три четверти наполнен нешлифованными бриллиантами, большая часть которых была значительной величины. Я наклонился и взял несколько штук в руку. Сомнений не оставалось: это были алмазы. В них была та легко узнаваемая на ощупь, присущая им одним, особая скользкость. Я буквально задыхался, когда бросил их обратно в ящик. — Мы самые богатые люди в мире! — вскричал я. — Монте-Кристо перед нами бедняк! — Мы наводним рынок алмазами! — воскликнул Гуд. — Сначала их надо туда доставить, — спокойно возразил сэр Генри. С побледневшими от волнения лицами, смотря друг на друга широко открытыми глазами, мы стояли вокруг лампы, бросавшей свет на сверкающие драгоценные камни, словно заговорщики, собирающиеся совершить преступление, а не самые счастливые люди в мире, какими мы себя считали. — Хи! Хи! Хи! — злорадно смеялась у нас за спиной Гагула, бесшумно носясь по сокровищнице, как огромная летучая мышь. — Вот они, эти яркие камни, которые вы так любите, белые люди! Их тут много, берите сколько пожелаете, любуйтесь ими, запускайте в них свои руки! Ешьте их! Хи! Хи! Пейте их! Ха! Ха! В тот момент эти последние слова показались мне столь нелепыми, что я вдруг дико расхохотался. Сэр Генри и Гуд тоже начали неистово хохотать, не отдавая себе отчета, над чем они смеются. Мы стояли и надрывались от смеха возле ящиков с алмазами. Это были наши алмазы. Они были найдены для нас тысячи лет назад терпеливыми тружениками в том огромном колодце и сложены были тоже для нас каким-нибудь давно умершим доверенным лицом царя Соломона, чье имя, возможно, было начертано иероглифами на еще видневшихся остатках воска, прилипшего к крышке ящика. Они не принадлежали ни Соломону, ни Давиду, ни да Сильвестра, никому на свете. Они принадлежали нам. Перед нами сверкали камни, стоившие миллионы фунтов стерлингов, и лежали груды золота и слоновой кости на тысячи и тысячи фунтов. Они только ждали, чтобы мы их унесли. Внезапно наш истерический припадок прекратился, и мы перестали хохотать. — Откройте другие ящики, белые люди, — закаркала Гагула. — В них камней еще больше. Берите их, белые повелители. Ха! Ха! Берите их больше, больше! Под ее выкрики мы принялись срывать каменные крышки с двух других ящиков, в глубине души чувствуя, что кощунствуем, ломая скрепляющие их печати. Ура! Они были полны тоже, полны до краев, по крайней мере второй ящик, — несчастный да Сильвестра не взял отсюда ни одного камня в свой мешок из козьей шкуры. Что касается третьего, он был наполнен только на одну четверть, но камни в нем были отборные, не менее чем двадцать карат каждый, а некоторые величиной в голубиное яйцо. Однако, поднеся их к лампе, мы увидели, что многие из самых крупных имели желтоватый оттенок, то есть были «с цветом», как говорят в Кимберли. Но мы не видели страшного, злорадного взгляда, брошенного на нас Гагулой, когда она тихо-тихо, как змея, выползала из сокровищницы, чтобы направиться дальше по проходу, к высеченной в скале потайной двери.* * *
Чу! Что это такое? До нас доносятся крики, они раздаются под сводами прохода. Это голос Фулаты! — О Бугван! На помощь! На помощь! Камень падает! — Отпусти меня, девушка! Или… — Помогите, помогите! Она ударила меня ножом! Мы бежим по проходу, и вот что мы видим при свете лампы: каменная дверь медленно опускается и уже находится футах в трех от пола. Около нее в отчаянной схватке сцепились Фулата и Гагула. Отважная девушка обливается кровью, но, несмотря на это, она держит старую колдунью, которая защищается, как дикая кошка. Ах! Она вырвалась! Фулата падает, а Гагула бросается ничком на пол, и, извиваясь, как змея, протискивается в щель под опускающимся камнем. Она под ним. О боже! Слишком поздно! Огромная каменная глыба уже придавила ее, и она пронзительно кричит от нечеловеческой боли. Все ниже и ниже опускается скала, и все ее тридцать тонн медленно придавливают к полу уродливое тело колдуньи. Последние отчаянные крики, такие, каких нам никогда не приходилось слышать, затем хруст раздавливаемых костей, от которого стынет в жилах кровь, и каменная дверь закрывается как раз в тот момент, когда мы со всего разбега ударяемся о нее. Все это произошло в течение нескольких секунд. Мы кинулись к Фулате. Нож Гагулы пронзил ее грудь, и я сразу увидел, что смерть ее близка. — О Бугван! Я умираю! — задыхаясь, прошептала красавица. — Она, Гагула, выползла… я не видела ее, мне было плохо… камень начал опускаться; потом она вернулась и стала глядеть в проход… Я видела, как она вошла через медленно опускающуюся дверь… я схватила и стала держать ее, и тогда она ударила меня ножом. Я умираю, Бугван! — Бедная, бедная Фулата! — в отчаянии кричал Гуд и вдруг, словно он ничего другого не мог для нее сделать, бросился к ней и стал ее целовать. — Бугван, — сказала она после небольшого молчания, — здесь ли Макумазан? У меня темнеет в глазах, я ничего не вижу. — Я здесь, Фулата. Макумазан, будь моим языком, прошу тебя. Бугван не понимает моих речей, а я, прежде чем отойду во мрак, хочу сказать ему несколько слов. — Говори, Фулата, я все повторю ему. — Скажу Бугвану, моему господину, что я… люблю его и рада умереть, потому что знаю, что он не может связать свою жизнь с моею, ибо как солнце не может сочетаться с тьмой, так белый человек не может сочетаться с черной девушкой. Скажи ему, что временами я чувствовала, словно в моей груди бьется птица, которая рвется вылететь оттуда и петь. Даже сейчас, когда я не могу поднять руку и мой мозг холодеет, я не чувствую, что сердце мое умирает. Оно так полно любовью, что, если бы я жила тысячу лет, оно все еще было бы молодо. Скажи ему, что, если я буду жить вновь, может быть, я увижу его на звездах… Я буду искать его там повсюду, хотя, возможно, и тогда я буду черной, а он белым. Скажи ему… нет, Макумазан, не говори ничего, кроме того, что я люблю… О, прижми меня ближе к себе, Бугван, я больше не чувствую твоих объятий… О Бугван, Буг… — Она умерла! Умерла! — воскликнул Гуд, поднимаясь на ноги. По его лицу текли слезы. — Не стоит так отчаиваться, старина, — сказал сэр Генри. Гуд вздрогнул: — Что вы хотите этим сказать? — Я хочу сказать, что вы очень скоро разделите ее судьбу и последуете за нею. Разве вы не видите, что мы здесь заживо погребены? Мы были до такой степени потрясены трагической смертью Фулаты, что, пока сэр Генри не произнес этих слов, до нашего сознания не дошел еще весь ужас нашего положения. Теперь мы поняли все. Огромная скала опустилась, вероятно, навсегда, так как единственный мозг, знавший тайну двери, лежал раздавленным под ее тяжестью. Нельзя было и думать о том, чтобы взломать эту дверь, разве лишь при помощи большого количества динамита. Мы оказались в западне. В течение нескольких минут мы стояли, оцепенев от ужаса, над распростертым телом Фулаты, совершенно подавленные сознанием того, что нам предстоит медленная и мучительная смерть от голода и жажды. Казалось, что мужество нас покинуло. Нам стало все ясно: эта женщина-дьявол, Гагула, заранее подготовила эту ловушку. Это была как раз одна из тех «шуток», которую могло породить только ее адское воображение, только в ее злорадном мозгу мог созреть такой зловещий план — сразу погубить трех белых людей, которых она почему-то всегда ненавидела, заставить их медленно умирать среди сокровищ, к которым они так жадно тянулись. Теперь я понял смысл ее насмешек, когда она, носясь, как летучая мышь, по пещере, предлагала нам «есть и пить алмазы». Быть может, кто-нибудь хотел посмеяться таким же образом над бедным старым да Сильвестра, иначе отчего же он так внезапно бросил наземь козью шкуру с драгоценными камнями? — Надо взять себя в руки, — сказал сэр Генри хриплым от волнения голосом. — Лампа скоро погаснет. Пока она горит, поищем, не найдем ли мы пружину, приводящую в действие скалу. С энергией отчаяния мы бросились ко входу и, стоя в липкой крови, стали исследовать дверь и стены прохода по всем направлениям. Но мы не могли нащупать ничего, что напоминало бы рычаг или пружину. — Будьте уверены, — сказал я, — что с этой стороны дверь открыть нельзя. Если бы она открывалась изнутри, Гагула не рискнула бы бросится в щель под опускающуюся скалу. Она это знала и поэтому пыталась бежать во что бы то ни стало, будь она проклята! — Во всяком случае, — сказал сэр Генри с нервным смехом, — возмездие пришло очень скоро. Ее смерть была ужасна, но нам предстоит не менее ужасная. С дверью сделать ничего нельзя. Пойдем обратно в сокровищницу. Мы повернулись и пошли. Пройдя несколько шагов, я увидел у незаконченной стены корзину с провизией, которую принесла несчастная Фулата. Я поднял эту корзину и взял с собой в проклятую комнату, полную сокровищ, которая должна была стать нашей могилой. Затем мы вновь вернулись и с благоговением перенесли тело Фулаты, положив его около ящиков с золотом. Сами же мы уселись на полу, прислонившись к трем каменным ящикам, полным несметных сокровищ. — Давайте разделим нашу провизию так, чтобы ее хватило на возможно долгое время, — предложил сэр Генри. Мы тотчас же поделили все, что находилось в корзине, и оказалось, что на каждого приходилось по четыре бесконечно малые порции, иначе говоря — нам хватило бы этой пищи не более чем дня на два. Кроме билтонга, у нас были две тыквенные бутыли с водой, каждая емкостью в кварту. — Ну, а теперь, — угрюмо сказал сэр Генри, — давайте есть и пить, хотя нам все равно предстоит смерть. Мы съели по маленькому кусочку вяленого мяса и выпили по глотку воды. Нечего говорить о том, что у нас не было почти никакого аппетита, но наш организм требовал пищи, и после еды мы почувствовали себя немного лучше. Затем мы встали и начали тщательнейшим образом осматривать и выстукивать стены нашей темницы в смутной надежде найти какой-нибудь выход, но, увы, его не было! Да и было бы невероятно, чтобы он оказался там, где хранились такие сокровища. Свет лампы стал тускнеть; масло почти все выгорело. — Квотермейн, — обратился ко мне сэр Генри, — идут ли ваши часы? Сколько сейчас времени? Я вынул часы и посмотрел. Было шесть пополудни, а в пещеру мы вошли в одиннадцать. — Я думаю, Инфадус нас хватится, — заметил я. — Если мы не вернемся сегоднявечером, он начнет нас искать завтра с утра, Куртис. — Он напрасно будет искать, так как не знает ни тайны двери, ни где она находится. До вчерашнего дня этого не знал ни один человек, кроме Гагулы, а теперь не знает никто. Если бы Инфадус даже нашел дверь, он не смог бы ее взломать. Вся кукуанская армия не в состоянии пробить скалу в пять футов толщиной. Друзья мои, нам ничего более не остается, как склониться пред волею всевышнего. Погоня за сокровищами привела многих к печальному концу. Мы лишь увеличим их число. Свет лампы стал еще более тусклым. Вдруг она вспыхнула и ярко осветила всю картину: огромную массу белых клыков, ящики с золотом, распростертое возле них тело Фулаты, козью шкуру, полную драгоценностями, мерцающее сияние алмазов и безумные, измученные лица трех белых людей, сидящих на полу и ожидающих смерти от голода и жажды. Пламя в последний раз вспыхнуло и погасло.Глава 18
НАС ПОКИДАЕТ НАДЕЖДА
Невозможно описать весь ужас последовавшей ночи. Лишь милосердный сон, который время от времени овладевал нами, помог нам ее пережить. Даже в таком безвыходном положении, как наше, физическая усталость предъявляет свои права. Однако я не мог спать подолгу. Страшная мысль о неизбежности нашей гибели не покидала меня ни на минуту. Эта мысль могла бы заставить содрогнуться даже самого отважного человека в мире, я же никогда не претендовал на то, чтобы меня считали храбрым. Кроме того, сама тишина была такой беспредельной и подавляющей, что заснуть было почти невозможно. Читатель! Может быть, тебе приходилось лежать без сна ночью, когда тишина кажется гнетущей, но я уверен, что ты не имеешь никакого представления о том, какой страшной и почти осязаемой может быть полная тишина. На поверхности земли всегда есть какие-нибудь звуки и движение, и хотя сами они могут быть неощутимыми, но они безусловно притупляют острое лезвие полной тишины. Но сюда не проникал ни единый звук. Мы были погребены в недрах горной вершины, увенчанной снегом. Там, высоко, за тысячи футов от нас, свежий ветер взметал вихри белого снега, но шум его не долетал до нас. Длинный туннель и каменная стена в пять футов толщиной отделяли нас даже от ужасного Чертога смерти, а ведь мертвые не шумят. Даже грохот всей земной и небесной артиллерии не достиг бы наших ушей. Мы были заживо погребены, и наша гробница была отрезана от всего мира. Вдруг я остро почувствовал всю иронию нашего положения. Нас окружали несметные сокровища, которых хватило бы, чтобы оплатить национальный долг или построить флотилию броненосцев, и, однако, мы с радостью отдали бы все эти сокровища за самую слабую надежду вырваться отсюда. Вскоре же мы, без сомнения, будем рады отдать их за крохотный кусочек пищи или чашку воды, а потом даже за то, чтобы нашим страданиям пришел поскорее конец. Действительно, богатство, накоплению которого люди часто посвящают жизнь, теряет всю свою цену, когда приходит последний час. Медленно тянулись часы ночи. — Гуд, — вдруг произнес сэр Генри, и его голос жутко прозвучал в напряженной тишине, — сколько у вас осталось спичек? — Восемь, Куртис. — Зажгите одну. Посмотрим, который час. Гуд зажег спичку, и после непроглядной тьмы ее пламя ослепило нас. По моим часам было пять утра. В это время высоко над нами, на снеговых вершинах, розовела прекрасная утренняя заря и свежий ветерок начинал рассеивать ночные туманы в горных ущельях. — Нам надо бы поесть, чтобы поддержать свои силы, — заметил я. — Чего ради? — отозвался Гуд. — Чем скорее мы умрем, тем лучше. — Пока человек жив, нельзя терять надежду, — сказал сэр Генри. Мы поели и выпили по глотку воды. Прошло еще некоторое время. Сэр Генри предложил подойти как можно ближе к двери и кричать, так как у нас теплилась слабая надежда, что кто-нибудь снаружи услышит звук голоса. Поэтому Гуд, у которого за время его многолетней службы во флоте выработался чрезвычайно пронзительный тембр голоса, ощупью добрался до двери и поднял там самый дьявольский шум. Мне никогда раньше не приходилось слышать подобных воплей, но они произвели не больший эффект, чем жужжание москитов. Через некоторое время он перестал кричать и вернулся, испытывая такую сильную жажду, что ему пришлось напиться. После этого мы решили не возобновлять криков, так как это наносило ущерб нашему скудному запасу воды. Мы вновь сели, прислонившись к нашим ящикам, наполненным никому не нужными алмазами, и сидели так в мучительном бездействии, которое в нашем положении было совершенно невыносимым. Признаюсь, что я дал волю отчаянию — положив голову на широкое плечо сэра Генри, я зарыдал. Мне кажется, что и Гуд, сидевший по другую сторону, с трудом сдерживал слезы и при этом хриплым голосом ругал себя за свою слабость. Но как добр и отважен был сэр Генри, этот замечательный человек! Если бы мы были двумя перепуганными детьми, а он нашей нянькой, то и в таком случае он не мог бы проявить больше нежности. Совершенно забывая о своих собственных переживаниях, он делал все возможное, чтобы хоть немного успокоить наши взвинченные нервы. Он рассказывал нам истории о людях, которые попадали в подобные положения и чудесным образом избегали гибели. Когда же он понял, что эти рассказы не могут нас ободрить, он начал говорить о том, что наше состояние — это лишь предчувствие неизбежного конца, который ожидает всех нас, что все это скоро кончится и что смерть от истощения — один из самых милосердных ее видов (что является чистейшей ложью). Затем он с легким смущением предложил нам положиться на волю провидения. Что касается меня, я последовал его совету с большой охотой. Замечательный у сэра Генри характер — очень спокойный и сильный. Так вслед за ночью тянулся день, если вообще возможно употреблять эти слова, когда речь идет о сплошной непроглядной ночи. Когда я зажег спичку, чтобы посмотреть, который час, оказалось, что уже семь. Мы вновь принялись за еду и питье, и в это время мне пришла в голову неожиданная мысль. — Почему, — сказал я, — воздух здесь все время остается свежим? Тут душно, но воздух такой же, как и прежде. — Боже мой! — воскликнул Гуд, вскакивая на ноги. — Мне это не приходило в голову! Воздух не может проходить через каменную дверь, потому что она совершенно герметична. Если бы здесь не было притока воздуха, то мы бы давно задохнулись. Давайте поищем! Эта слабая искра надежды вызвала совершенно изумительную перемену в нашем состоянии. Через мгновение все мы, передвигаясь ползком, на четвереньках, тщательно ощупывали скалу в поисках хоть самой слабой тяги. Внезапно мой пыл на мгновение угас. Моя рука нащупала что-то холодное. Это было мертвое лицо бедной Фулаты. Не менее часа продолжались наши поиски, пока наконец мы с сэром Генри не прекратили их в полном отчаянии и изрядно пострадав от того, что в темноте мы беспрестанно натыкались то на слоновые бивни, то на ящики, то на стены сокровищницы. Но Гуд все еще продолжал поиски, говоря довольно бодро, что это все же лучше, чем бездействовать. — Послушайте-ка, друзья, — сказал он вдруг каким-то странным сдавленным голосом, — подойдите сюда! Нечего и говорить, что мы, спотыкаясь и сталкиваясь в темноте, бросились к нему без промедления. — Квотермейн, положите вашу руку туда, где я держу свою. Ну, чувствуете ли вы что-нибудь? — Мне кажется, что здесь проходит воздух. — А теперь слушайте. — Он поднялся и топнул ногой, и пламя надежды вспыхнуло в наших сердцах: звук был глухой. Дрожащими руками я зажег спичку. Мы увидели, что находимся в дальнем углу комнаты: очевидно, до сих пор мы еще ни разу не добирались до этого места, под которым несомненно была пустота. Пока горела спичка, мы внимательно осмотрели пол. В сплошной каменной поверхности мы увидели какую-то трещину, и — силы небесные! — там, на одном уровне с поверхностью пола, было врезано каменное кольцо. Мы не произнесли ни слова, так как были слишком взволнованы, и сердца наши так неистово забились надеждой, что мы не в состоянии были говорить. У Гуда был нож, на котором имелся крючок, с помощью которого извлекают камешки, застрявшие в лошадином копыте. Он открыл его и попытался подцепить им кольцо. Наконец ему удалось подсунуть крючок под кольцо, и он начал поднимать его очень осторожно, так как боялся сломать крючок. Кольцо начало двигаться. Так как оно было сделано из камня, то, несмотря на то что оно пролежало много столетий, его все же можно было сдвинуть с места, чего не удалось бы сделать, будь кольцо сделано из железа. Вскоре оно пришло в вертикальное положение. Тогда Гуд продел в кольцо руки и начал дергать его изо всех сил, но камень не подавался. — Дайте мне попробовать, — сказал я, горя нетерпением. Положение камня как раз в углу комнаты было таково, что двое не могли одновременно взяться за кольцо. Я ухватился за него и напряг все свои силы, но безуспешно. Затем сэр Генри сделал такую же тщательную попытку. Гуд снова взял крючок и прочистил им всю трещину, через которую проходил воздух. — А теперь, Куртис, — сказал он, — принимайтесь за работу. Вам придется потрудиться всерьез, а силы у вас хватит на двоих. Подождите-ка. — И, сняв шейный платок из прочного черного шелка, который упорно продолжал носить, он пропустил его сквозь кольцо. — Квотермейн, ухватитесь руками за Куртиса и дергайте изо всей силы, когда я подам команду. Тяните! Сэр Генри напряг всю свою колоссальную силу, то же самое сделали и мы с Гудом в меру отпущенных нам природой сил. — Тяните! Тяните! Он подается! — крикнул, задыхаясь, сэр Генри, и я буквально услышал, как трещат мышцы его могучей спины. Внезапно послышался звук открывающейся плиты, струя воздуха ворвалась в отверстие, и оказалось, что все мы лежим, опрокинувшись навзничь, на полу, придавленные огромной каменной плитой. Только колоссальная физическая сила сэра Генри могла это сделать, и, вероятно, никогда сила не приносила большую пользу человеку. — Зажгите спичку, Квотермейн, — сказал он, как только мы поднялись и немного отдышались. — Осторожно! Зажигайте! При свете спички мы — благодарение богу! — увидели первую ступеньку каменной лестницы. — Что же мы теперь будем делать? — спросил Гуд. — Конечно, спустимся по этой лестнице и доверимся провидению. — Подождите! — сказал сэр Генри. — Квотермейн, захватите остатки билтонга и воды — они могут нам понадобиться. Я начал ощупью пробираться обратно к тому месту, где мы сидели, прислонившись к сундукам, и по дороге мне пришла в голову неожиданная мысль. В течение последних двадцати четырех часов мы мало думали об алмазах, самая мысль о них казалась нам невыносимой, так как именно они привели нас к гибели. Однако, подумал я, пожалуй, не помешает захватить с собой несколько штук на случай, если нам удастся выбраться из этой кошмарной дыры. Поэтому я запустил руку в первый ящик и наполнил алмазами все карманы моей старой охотничьей куртки, захватив в завершение — и это была счастливая идея — пару пригоршней крупных камней из третьего ящика. — Послушайте-ка, друзья, — крикнул я, — не возьмете ли и вы с собой немного алмазов? Я набил ими все свои карманы. — О, черт бы побрал эти алмазы! — отозвался сэр Генри. — Надеюсь, что я никогда больше не увижу ни единого. Что касается Гуда, то он вовсе не ответил. Я думаю, что он был занят прощанием с останками несчастной девушки, которая так сильно его любила. Тебе, мой читатель, когда ты сидишь спокойно дома и размышляешь об огромном, неисчислимом богатстве, которое мы таким образом оставляли, может показаться странным подобное к нему безразличие. Однако если бы тебе самому пришлось провести часов двадцать восемь в таком месте, почти без еды и питья, то и тебе не захотелось бы обременять себя алмазами, перед тем, как спуститься в неизведанные недра земли, в безумной надежде избежать мучительной смерти. Если бы в течение всей моей жизни у меня не вошло в привычку никогда не бросать того, что может пригодиться, то, конечно, и я не позаботился бы о том, чтобы набить алмазами свои карманы. — Идите же, Квотермейн, — сказал сэр Генри, который уже стоял на первой ступеньке лестницы. — Спокойно! Я пойду вперед. — Ступайте осторожно — там, внизу, может оказаться ужаснейшая яма, — заметил я. — Скорее там окажется еще одна пещера, — сказал сэр Генри, медленно спускаясь по лестнице и считая на ходу ступени. Отсчитав пятнадцать ступеней, он остановился. — Здесь лестница кончается, — сказал он. — Слава богу! Мне кажется, что здесь есть проход. Спускайтесь! Следующим спустился по лестнице Гуд, а за ним и я. Достигнув конца лестницы, я зажег одну из двух оставшихся спичек. При ее свете мы увидели, что стоим в узком туннеле, идущем вправо и влево под прямым углом к лестнице, с которой мы только что спустились. Больше нам не удалось увидеть ничего, так как спичка обожгла мои пальцы и погасла. Тут возникла сложная проблема — в какую сторону нам повернуть. Конечно, совершенно невозможно было предугадать, что это были за туннели и куда они ведут, и тем не менее возможно было, что один из них приведет нас к спасению, а другой — к гибели. Мы совершенно не знали, как нам поступить, пока Гуд внезапно не припомнил, что, когда я зажег спичку, тяга воздуха в проходе отклонила пламя влево. — Пойдемте навстречу воздушной струе, — сказал он. — Воздух проникает сюда извне, а не наоборот. Мы с этим согласились и, держась за стену и осторожно нащупывая почву, прежде чем сделать хоть шаг, отправились в наш страшный путь, удаляясь от проклятой сокровищницы. Если туда суждено когда-нибудь прийти человеку, чего, я полагаю, не случится, то в доказательство того, что мы там побывали, он найдет открытый ящик с драгоценностями, пустую лампу и белые кости несчастной Фулаты. Мы шли, пробираясь ощупью по туннелю, около четверти часа, как вдруг он сделал резкий поворот. Очевидно, мы дошли до места пересечения его с другим туннелем. Мы пошли дальше, и через некоторое время нам пришлось повернуть в третий туннель. Так продолжалось в течение нескольких часов. Казалось, мы попали в каменный лабиринт, из которого не было выхода. Конечно, я не знаю, что представляли собой все эти проходы, но мы решили, что, по всей вероятности, это древние галереи копей, причем туннели были проложены в разных направлениях, в зависимости от того, как проходила жила. Только этим можно объяснить такое большое количество туннелей. Наконец мы остановились в совершенном изнеможении. Наши сердца сжимались от сознания того, что надежды на спасение нет. Мы съели жалкий остаток билтонга и выпили последний глоток воды, потому что у нас совершенно пересохло в горле. Казалось, что нам удалось избежать смерти во тьме сокровищницы лишь для того, чтобы погибнуть во тьме бесчисленных туннелей. Когда мы стояли таким образом, совершенно подавленные, мне показалось, что я уловил какой-то звук, и попросил моих спутников прислушаться. Это был, правда очень слабый и очень далекий, но все же действительно журчащий звук, потому что мои спутники услышали его тоже. Нет слов, которыми можно было бы описать охватившее нас блаженство, когда после бесконечных часов, проведенных среди полной, мертвой тишины, до нашего слуха донесся этот звук. — Клянусь небом, это течет вода! — проговорил Гуд. — Пойдемте вперед. И мы вновь двинулись в том направлении, откуда слышалось тихое журчание, как и прежде пробираясь вдоль каменной стены. По мере того как мы шли вперед, этот звук становился все более и более слышным, пока наконец в тишине он не показался нам очень громким. Вперед, все вперед. Теперь ошибки быть не могло — мы отчетливо слышали шум стремительно текущей воды. И все же, каким образом могла оказаться проточная вода в недрах земли? Теперь мы были уже совсем близко от нее, и Гуд, который шел впереди, клялся, что он чувствует запах воды. — Идите осторожно, Гуд, — сказал сэр Генри, — мы, наверное, уже недалеко от нее. Внезапно послышался всплеск и крик Гуда. Он упал в воду. — Гуд! Гуд! Где вы? — кричали мы в смертельном испуге. К нашему огромному облегчению, до нас донесся задыхающийся голос Гуда: — Все в порядке, я ухватился за скалу. Зажгите спичку, чтобы показать мне, где вы находитесь. Я поспешно зажег последнюю спичку. Ее слабое мерцание осветило темную массу воды, текущую у самых наших ног. Мы не могли рассмотреть, широка ли эта река, но на некотором расстоянии заметили темный силуэт нашего товарища, висящего на выступе скалы. — Приготовьтесь вытащить меня! Мне придется к вам плыть! — крикнул Гуд. Затем мы услышали всплеск — это плыл Гуд, отчаянно борясь с течением. Еще минута — и он очутился около нас. Сэр Генри протянул ему руку. Гуд ухватился за нее, и мы его вытащили. — Честное слово, — проговорил он, жадно ловя ртом воздух, — я был на волосок от гибели. Если бы я не ухватился за эту скалу и не умел бы плавать, мне пришел бы конец. Течение невероятно быстрое, и я не чувствовал под ногами дна. Ясно было, что дальше нам не пройти. Гуд немного отдохнул, все мы досыта напились воды из подземной реки, оказавшейся пресной и приятной на вкус, и смыли насколько возможно грязь со своих лиц, а затем покинули берега этого африканского Стикса[63] и пошли обратно по туннелю. Гуд, с промокшей одежды которого беспрестанно капала вода, шел впереди. Наконец мы добрались до того места, откуда вправо отходил другой туннель. — Ну что ж, можно повернуть сюда, — устало сказал сэр Генри. — Здесь все дороги одинаковы. Нам остается только идти, пока мы не упадем. Медленно, в течение долгого-долгого времени, мы ковыляли, еле волоча ноги, по этому новому туннелю. Теперь впереди шел сэр Генри. Внезапно он остановился, и мы столкнулись с ним в темноте. — Смотрите! — прошептал он. — Я схожу с ума или это в самом деле свет? Мы пристально вгляделись в темноту. Там, далеко впереди, действительно виднелось неясное, тусклое пятно, не больше, чем окно коттеджа. Свет был настолько слаб, что только наши глаза, не видевшие в течение долгого времени ничего, кроме темноты, могли его рассмотреть. Задыхаясь от волнения, со вновь вспыхнувшей надеждой мы устремились вперед. Пять минут спустя все наши сомнения окончательно рассеялись — действительно это было пятно слабого света. Еще минута, и мы ощутили дуновение настоящего свежего воздуха. Борясь с усталостью, мы шли все вперед и вперед. Вдруг туннель сузился, и сэру Генри пришлось двигаться дальше уже на четвереньках. Туннель все продолжал суживаться, пока не достиг размера большой лисьей норы, но теперь он был прорыт в земле. Каменный туннель окончился. Еще одно отчаянное усилие — и сэр Генри выполз из туннеля, а за ним и мы с Гудом. Благословенные звезды сияли над нами в вышине, и мы вдыхали благоуханный воздух. Затем почва вдруг подалась под нашими ногами, и все мы покатились кубарем, приминая траву и ломая кустарник, по мягкой, влажной земле. Я ухватился за что-то и остановился. Сев, я закричал во всю силу своих легких. Где-то поблизости, немного ниже, послышался ответный крик сэра Генри. Небольшой плоский участок земли задержал его стремительный спуск. Я подполз к нему и обнаружил, что он, хоть и едва мог перевести дыхание, был цел и невредим. Затем мы принялись искать Гуда. Неподалеку мы нашли и его — он застрял в развилке какого-то корня. Его сильно потрепало, но вскоре он пришел в себя. Мы сели на траву, и реакция, наступившая после всего пережитого нами, была настолько сильна, что, как мне кажется, мы даже зарыдали от счастья. Нам удалось бежать из этой страшной темницы, которая чуть не стала нашей могилой. Вероятно, какая-то милосердная высшая сила направила наши шаги в нору шакала там, где кончался туннель, так как, по всей вероятности, это была именно нора. И вот перед нами на вершинах гор сиял розовато-красный отсвет зари, которую мы уже не рассчитывали когда-либо увидеть вновь. Вскоре серый рассвет скользнул по склонам гор, и мы увидели, что находимся на дне огромной копи, перед входом в пещеру, и могли уже различить смутные очертания трех колоссов, сидящих на краю шахты. Несомненно, эти ужасные туннели, по которым мы бродили в течение ночи, длившейся, как нам казалось, целую жизнь, некогда сообщались с огромной алмазной копью. Что же касается подземной реки, протекающей в недрах горы, то только небесам известно, что это за река и куда или откуда она течет. Что касается меня, я отнюдь не стремлюсь исследовать ее течение. Становилось все светлее и светлее. Теперь мы могли рассмотреть друг друга, и нужно сказать, что ни до, ни после этого мне не приходилось видеть такого зрелища, какое представляли мы в то памятное утро. Наши щеки ввалились и глаза глубоко запали, с ног до головы мы были покрыты пылью, грязью, синяками и ссадинами. На наших лицах все еще отражался длительный ужас перед неминуемой смертью. Словом, это было такое зрелище, которого мог испугаться сам дневной свет. Но, несмотря на все это, монокль Гуда торжественно красовался в его глазу. Не думаю, чтобы он вообще вынул его хоть раз за все это время. Ни темнота, ни купанье в подземной реке, ни стремительный спуск по склону копи не смогли заставить Гуда расстаться со своим моноклем. Вскоре мы поднялись, так как боялись, что если мы долго будем сидеть таким образом, то у нас затекут ноги, и начали медленно карабкаться вверх по крутым склонам огромной воронки. Каждый шаг причинял нам боль. Более часа мы упорно ползли вверх по голубой глине, цепляясь за покрывавшие ее корни и траву. Наконец путешествие было закончено, и мы стояли на Великой Дороге, на краю шахты, против колоссов. На расстоянии сотни ярдов от дороги, перед группой хижин, горел костер, вокруг которого сидели какие-то фигуры. Мы направились к ним, поддерживая друг друга и останавливаясь через каждые несколько шагов, чтобы передохнуть. Вдруг один из людей, сидевших возле костра, поднялся и, заметив нас, упал на землю, крича от страха. — Инфадус, Инфадус! Это мы, твои друзья! Он поднялся и побежал нам навстречу, глядя на нас обезумевшими от ужаса глазами и все еще дрожа от страха. — О мои повелители, мои повелители! Вы на самом деле вернулись из Царства Мертвых! Вернулись из Царства Мертвых! И старый воин бросился перед нами ниц, охватил руками колени сэра Генри и громко зарыдал от радости.Глава 19
МЫ ПРОЩАЕМСЯ С ИГНОЗИ
Прошло десять дней с того памятного утра, когда мы спаслись из нашей подземной темницы. Мы были вновь в нашем прежнем жилище в Луу. Странно сказать, но мы уже совсем оправились после нашего ужасного приключения, только мои похожие на щетину волосы, когда я вышел из пещеры, оказались совсем седыми, а Гуд сильно изменился после смерти Фулаты. Должен сказать, что, рассматривая эту трагедию с точки зрения стареющего светского человека, я прихожу к убеждению, что все совершается к лучшему. Если бы она не погибла, создалось бы безусловно весьма затруднительное положение. Бедняжка не было заурядной туземной девушкой, она обладала выдающейся, почти величественной красотой и довольно тонким умом. Но никакая красота и утонченность ума не смогли бы сделать желательным ее союз с Гудом, потому что, как сама она говорила: «Может ли солнце сочетаться с тьмой, или белый человек — с черной девушкой?» Нечего и говорить, что мы больше не пытались проникнуть в сокровищницу царя Соломона. Придя в себя после ужасов, которые нам пришлось пережить, на что понадобилось сорок восемь часов, мы спустились в огромную копь в надежде найти нору, через которую мы выбрались из недр горы, но поиски наши не увенчались успехом. Во-первых, прошел дождь и смыл наши следы, а кроме того, склоны колоссальной копи были испещрены норами муравьедов и других животных. Немыслимо было угадать, которой из этих нор мы были обязаны спасением. Перед возвращением в Луу мы еще раз осмотрели чудеса сталактитовой пещеры и даже, движимые каким-то странным беспокойством, еще раз проникли в Чертог Смерти. Пройдя под копьем белой Смерти, мы с чувством, которое мне трудно было бы описать, долго смотрели на каменную стену, которая когда-то отрезала нам путь к спасению. В эти минуты мы думали о неисчислимых сокровищах, лежащих за этой стеной, о таинственной старой ведьме, и о прекрасной девушке, вход в чью гробницу был навсегда закрыт. Я говорю, что мы смотрели на «каменную стену», потому что, сколько мы ни искали, мы не могли обнаружить никаких следов подъемной двери и, конечно, не смогли открыть секрет механизма, приводившего ее в движение, так что теперь он утерян навеки. Несомненно, это был какой-то замечательный механизм, массивность и загадочность которого была типичной для создавшей его эпохи. Думаю, что другого такого не найти во всем мире. Наконец мы с чувством раздражения оставили дальнейшие попытки. Если бы даже масса камня внезапно поднялась перед нашими глазами, у нас, вероятно, едва ли хватило бы мужества перешагнуть через изуродованные останки Гагулы и вновь вступить в сокровищницу. Нет, даже полная и безусловная уверенность в том, что мы станем обладателями неисчислимой массы алмазов, не могла бы заставить нас решиться на такой шаг. И тем не менее я чуть не плакал от досады, думая о том, какое там остается сокровище, — вероятно, величайшее сокровище, которое было когда-либо собрано в одном месте в течение всей истории человечества. Но делать было нечего. Только динамит мог проложить дорогу через сплошную скалу толщиной в пять футов. Итак, мы покинули это мрачное место. Возможно, что в отдаленном будущем, когда настанет век, который еще не родился, более счастливый исследователь наткнется случайно на секрет потайной двери, произнесет магическое «Сезам, отворись!»[64] и наводнит мир драгоценностями. Но все же мне кажется, что сокровищам стоимостью во много миллионов фунтов стерлингов, лежащим в трех каменных ящиках, никогда не суждено украшать белоснежные шеи земных красавиц. Пока существует мир, они будут лежать там, связанные холодными узами смерти с костями Фулаты. Со вздохом разочарования мы ушли и на следующий день отправились обратно в Луу. Надо сказать, что с нашей стороны было весьма неблагодарно чувствовать себя разочарованными, потому что, как, вероятно, помнит читатель, перед тем как мы покинули свою темницу, мне пришла в голову счастливая мысль наполнить на всякий случай алмазами карманы своей старой охотничьей куртки. Много драгоценных камней потерялось, когда мы катились по склону ямы, в том числе большая часть крупных алмазов, которые я положил сверху. Но и так их осталось довольно много, включая восемнадцать крупных камней весом от тридцати до сотни каратов каждый. Да, в моей старой охотничьей куртке уцелело еще достаточно драгоценностей, чтобы сделать нас всех если не миллионерами, то, во всяком случае, чрезвычайно богатыми людьми, да еще чтобы при этом у каждого из всех нас троих осталось по лучшей коллекции алмазов в Европе. Так что нельзя сказать, что нам совсем не повезло. По возвращении в Луу нас очень тепло и сердечно принял Игнози, которого мы нашли в добром здоровье. Он был очень занят укреплением своей власти и реорганизацией полков, которые понесли наибольшие потери в жестокой битве с Твалой. Затаив дыхание, он с огромным интересом выслушал наш удивительный рассказ, но, услышав о страшной смерти Гагулы, задумался. — Подойди сюда, — позвал он престарелого индуну (старейшину) из числа своих приближенных, которые сидели на таком расстоянии, что им не был слышен наш разговор. Старик поднялся, приблизился к нам, приветствовал короля и сел. — Ты стар, — сказал Игнози. — Да, король, мой повелитель! Отец твоего отца и я родились в один и тот же день. — Скажи мне, знал ли ты знахарку Гагулу, когда ты был ребенком? — Да, король, мой повелитель! — Была ли она в то время молода, подобно тебе? — Нет, король, мой повелитель! Она была такова же, как ныне и как в те дни, когда жил мой дед, — стара, сморщенна, очень безобразна и полна злобы. — Ее более нет. Она умерла. — Так, о король! Тогда древнее проклятие снято с нашей земли. — Ступай! — Куум! Я ухожу, о Черный Щенок, перегрызший глотку старой собаке. Куум! — Вы видите, братья мои, — сказал Игнози, — это была таинственная женщина, и я радуюсь тому, что она умерла. Она обрекла вас на смерть в этой темной пещере, а потом, быть может, нашла бы какой-нибудь способ убить меня, как некогда нашла способ убить моего отца, чтобы возвести на трон Твалу, которого любило ее сердце. Теперь продолжайте ваш рассказ, равного которому не приходилось слышать никому! Рассказав ему историю нашего спасения, я, как мы заранее договорились между собой, воспользовался удобным случаем, чтобы сказать Игнози о нашем намерении покинуть Страну Кукуанов. — А теперь, Игнози, пришло время нам попрощаться с тобой и вновь отправиться в долгий путь, на поиски своей страны. Слушай же, Игнози, ты пришел с нами сюда как слуга, а теперь мы оставляем тебя могущественным королем. Если ты чувствуешь к нам благодарность, то не забывай никогда поступать так, как ты обещал нам. Правь справедливо, уважай закон и не убивай никого без причины. Тогда ты будешь благоденствовать. Завтра на рассвете ты, Игнози, дашь нам отряд воинов, который поможет нам перебраться через горы. Не так ли, о король? Игнози закрыл лицо руками и некоторое время молчал. — Сердце мое болит, — сказал он наконец. — Ваши слова раскололи его надвое. Что сделал я вам, Инкубу, Макумазан и Бугван, чтобы вы покинули меня и причинили мне этим такое горе? Вы, которые стояли рядом со мной во время мятежа и сражения, неужели вы оставите меня в день мира и победы? Что желаете вы? Жен? Выбирайте любых девушек в моей стране. Места, где поселиться? Смотрите — вся страна принадлежит вам. Домов, в каких живут белые люди? Вы научите мой народ, как их строить. Скота, чтобы иметь мясо и молоко? Каждый женатый человек приведет вам быка или корову. Дичи для охоты? Разве не бродят по моим лесам слоны, и разве не спит в тростниках гиппопотам? Может, вы хотите сражаться? Мои полки ожидают ваших приказаний. Если же я могу дать вам еще что-нибудь, я дам вам и это. — Нет, Игнози, нам все это не нужно, — отвечал я. — Мы хотим разыскать свой родной дом. — Так, значит, — с горечью сказал Игнози, и глаза его сверкнули, — вы больше любите эти блестящие камни, чем меня, своего друга. Теперь у вас есть камни. Теперь вы вернетесь в Наталь и пересечете волнующуюся черную воду, чтобы продать их и стать богатыми, так как этого жаждет сердце каждого белого человека. Да будут прокляты из-за вас эти камни, и да будет проклят тот, кто их ищет! Пусть Смерть будет уделом того, чья нога ступит в Пещеру Мертвецов в поисках богатства! Я сказал, белые люди. Вы можете идти. Я коснулся его руки. — Игнози, — сказал я, — скажи нам, когда ты странствовал в Стране Зулусов, а потом среди белых людей в Натале, разве твое сердце не томилось по стране, о которой рассказывала тебе мать? Твоей родной стране, где ты впервые увидел свет, где ты играл мальчиком? По стране, которая была твоей родиной? — Да, это было так, Макумазан. — Вот так же и наши сердца томятся по нашей стране, по нашим родным местам. Наступило молчание. Когда Игнози вновь заговорил, голос его изменился: — Я понимаю, что значат твои слова. Как всегда, они мудры и исполнены благоразумия, Макумазан. Тот, кто привык летать, не любит ползать по земле. Белый человек не может жить жизнью чернокожих. Да, вы должны уйти, но сердце мое полно печали, потому что оттуда, где будете вы, до меня не дойдут вести о вас. Но выслушайте меня, и пусть мои слова станут известны всем белым людям. С этого дня путь через горы закрыт для всех белых людей, если даже кому-нибудь из них удастся дойти до них. Я не потерплю здесь торговцев с их ружьями и ромом. Мои соплеменники будут и впредь сражаться копьями и пить лишь воду, как их праотцы. И я не допущу, чтобы проповедники вселяли страх смерти в их сердца, чтобы они восстанавливали их против короля и прокладывали дорогу для белых людей, которые всегда следуют за ними. Если какой-нибудь белый человек подойдет к воротам моей страны, я отошлю его обратно. Если придет сотня белых, я отброшу их назад. Если придут армии, я двину против них все мое войско, и им не удастся торжествовать победу. Ни один человек не придет более сюда за сверкающими камнями, нет, — даже если это будет целая армия, потому что, если они придут, я пошлю своих воинов, чтобы они засыпали копь, разбили белые колонны в пещерах и заполнили их камнями, так чтобы никто не смог приблизиться к той двери, о которой вы говорили и секрет которой утерян. Но для вас троих, Инкубу, Макумазан и Бугван, дорога сюда всегда будет открыта, потому что нет среди живых никого, кто был бы дороже моему сердцу, чем вы. И я позволю вам уйти отсюда. Инфадус, брат моего отца, возьмет вас за руку и выведет отсюда под охраной своего полка. Я узнал, что есть другой путь через горы, который он вам укажет. Прощайте, братья мои, отважные белые люди. Не ищите более встречи со мной, потому что я не смогу этого вынести. Слушайте меня! Я издам указ, и его огласят, передавая с одного горного хребта на другой, чтобы все узнали о нем. Отныне народ будет чтить ваши имена подобно именам наших усопших королей, и смерть будет уделом того, чьи уста произнесут их[65]. Таким образом, память о вас вечно будет жить в нашей стране. Идите же теперь, пока мои глаза, подобно глазам женщины, не стали источать слезы. Когда-нибудь, когда вы состаритесь и соберетесь вместе погреться у огня, — ибо солнечного тепла уже будет не достаточно, чтобы согреть вас, — вы будете вспоминать, как мы стояли плечом к плечу в великой битве, исход которой предрешили твои мудрые слова, Макумазан. Вы будете вспоминать, как ты, Бугван, был острием рога, ударившего по флангам Твалы, как ты, Инкубу, стоял, окруженный кольцом Серых, и люди падали под ударами твоего топора, как колосья под ударами серпа. Вы будете вспоминать о том, как Инкубу сокрушил силу дикого буйвола Твалы и поверг в прах его гордыню. Прощайте же навек, Инкубу, Макумазан и Бугван, мои повелители и друзья! С этими словами Игнози поднялся. В течение нескольких минут он смотрел на нас в глубоком раздумье, а затем накинул на голову край плаща, как будто для того, чтобы скрыть от нас свое лицо. Мы молча ушли. На рассвете следующего дня мы покинули Луу. Нас сопровождали полк Буйволов и наш старый друг Инфадус, который тяжело переживал неизбежную разлуку с нами. Хотя было еще очень рано, вдоль главной улицы города, на всем ее протяжении, стояли массы людей. Они приветствовали нас королевским салютом, когда мы проходили мимо во главе полка, а женщины бросали нам под ноги цветы и благословляли нас за то, что мы освободили страну от Твалы. Все это производило чрезвычайно волнующее впечатление и было совершенно не похоже на то, с чем обычно приходится встречаться, живя среди туземцев. Однако дело не обошлось без очень забавного эпизода, чему я был даже рад, так как он дал нам повод немного развеселиться. Как раз перед тем, как мы вышли за пределы города из толпы выбежала хорошенькая молодая девушка. У нее в руке было несколько прекрасных лилий, которые она преподнесла Гуду (почему-то он нравился, кажется, всем им, — я думаю, что монокль и единственная бакенбарда капитана придавали ему особую романтическую прелесть в их глазах). Затем она сказала, что у нее есть к нему просьба. — Говори. — Пусть мой повелитель покажет своей рабе его прекрасные белые ноги, чтобы она могла еще раз взглянуть на них и сохранить на всю жизнь это воспоминание и рассказывать об этом своим детям. Его раба шла четыре дня, чтобы увидеть его ноги, потому что слава о них разнеслась по всей стране. — Черт меня возьми, если я это сделаю! — взволнованно воскликнул Гуд. — Полно, полно, мой дорогой друг, — сказал сэр Генри. — Не сможете же вы отказать леди в просьбе. — Не покажу! — упрямо проговорил Гуд. — Это совершенно неприлично. Однако в конце концов он согласился засучить брюки до колен среди восторженных возгласов присутствующих женщин, в особенности же благодарной молодой леди. В таком виде ему пришлось следовать дальше, пока мы не вышли за черту города. Боюсь, что никогда уже ноги Гуда не будут предметом такого восхищения. Его исчезающие зубы и даже прозрачный глаз успели за это время уже несколько надоесть кукуанам, чего нельзя сказать о его ногах. По дороге Инфадус рассказал нам, что существует другой перевал через горы, к северу от того, продолжением которого является Великая Дорога царя Соломона, или, вернее говоря, есть место, где можно спуститься со склона скалистого хребта, отделяющего Страну Кукуанов от пустыни, того самого, на котором возвышаются огромные вершины двух гор Царицы Савской. Оказалось также, что немного более двух лет до этого группа кукуанских охотников спустилась по этому пути с гор в пустыню в поисках страусов, перья которых очень ценятся в стране и идут на военные головные уборы. Во время охоты они забрели далеко в пустыню и испытывали сильную жажду. Увидев на горизонте очертания деревьев, они направились туда и обнаружили большой плодородный и прекрасно орошенный оазис протяженностью в несколько миль. По плану Инфадуса, наш обратный путь должен был проходить по этому оазису. Мы одобрили его план, так как он избавлял нас от трудностей перехода через горы. Кроме того, нас должны были сопровождать до оазиса несколько охотников, которые когда-то его открыли. Они утверждали, что оттуда они заметили вдали в пустыне другие плодородные оазисы[66]. Мы шли вперед не спеша и в ночь на четвертый день нашего путешествия вновь очутились на горном хребте, отделяющем Страну Кукуанов от пустыни, которая вздымала свои песчаные волны у наших ног, простираясь примерно на двадцать пять миль к северу от гор Царицы Савской. На рассвете следующего дня наши проводники доставили нас к месту, откуда начинался крутой спуск к пустыне, с высоты не менее двух тысяч футов. Здесь мы распрощались с нашим верным другом, стойким старым воином Инфадусом. Он торжественно пожелал нам счастья и удачи, чуть не плача от горя. — Никогда более, мои повелители, — сказал он, — не суждено моим старым глазам увидеть людей, подобных вам. Как Инкубу поражал в битве врагов! Что было за зрелище, когда он снес одним ударом голову Твалы! Это было прекрасно, прекрасно! Больше я никогда не увижу такого удара, разве только в блаженных сновидениях. Нам было очень жаль с ним расставаться. Гуд так расчувствовался, что даже подарил ему на память свой монокль! (Впоследствии мы обнаружили, что у него был еще один, запасной.) Инфадус был в восторге, предвидя, что обладание подобным предметом колоссально повысит его престиж. После нескольких тщетных попыток ему все же удалось вставить монокль себе в глаз. Никогда я не видывал ничего более несуразного, чем этот старый воин с моноклем в глазу. Это, признаться, совсем не гармонировало с плащом из леопардовой шкуры и плюмажем из черных страусовых перьев. Затем, удостоверившись в том, что наши проводники захватили с собой достаточно воды и провизии, и выслушав громовой прощальный салют Буйволов, мы крепко пожали руку старого воина и начали спускаться с горного хребта. Это оказалось весьма нелегким делом, но, так или иначе, к вечеру того же дня мы благополучно добрались до подножия горы. — Знаете ли, — сказал сэр Генри, когда мы сидели в эту ночь у костра и смотрели на нависшие над нами утесы, — мне кажется, что на свете есть немало мест похуже, чем Страна Кукуанов, и что бывали времена, когда я чувствовал себя гораздо более несчастным, чем за последний месяц или два, хоть со мной никогда не происходили такие странные вещи. А вы как думаете, друзья? — Мне кажется, что я почти сожалею о том, что покинул эту страну, — со вздохом отозвался Гуд. Что же касается меня, я подумал, что все хорошо, что хорошо кончается, но за всю мою долгую жизнь, полную опасностей, мне никогда не приходилось столько раз быть на краю гибели, как за последнее время. При одном воспоминании о сражении, в котором мне пришлось принимать участие, у меня проходит по коже мороз, не говоря уж о наших переживаниях в сокровищнице! На следующее утро мы отправились в трудный путь через пустыню. Наши пятеро проводников несли большой запас воды. Мы провели ночь под открытым небом, а на рассвете двинулись дальше. На третий день нашего путешествия, около полудня, мы увидели деревья того оазиса, о котором говорили наши проводники, и за час до захода солнца мы уже вновь шли по траве и слышали журчание воды.Глава 20
НАЙДЕН
А теперь я перехожу к самому удивительному приключению во всей этой необыкновенной истории, приключению, которое показывает, какие удивительные вещи случаются в жизни. Опередив немного своих спутников, я спокойно шел вдоль берега ручья, который, вытекая из оазиса, терялся в раскаленных песках пустыни, и вдруг остановился, не веря своим глазам. И было от чего: ярдах в двадцати передо мной, в очаровательном месте, под сенью большого фигового дерева стояла маленькая уютная хижина. Она была обращена фасадом к ручью и построена по образцу кафрских из ивовых прутьев и травы, но имела обычную дверь, а не маленькую лазейку, похожую на летку в ульях. «Что за чертовщина! — сказал я про себя. — Откуда взялась здесь хижина?» Не успел я это подумать, как дверь отворилась, и из нее, прихрамывая, вышел белый человек с огромной черной бородой, одетый в звериные шкуры. Я решил, что со мной, должно быть, случился солнечный удар. Это было совершенно невероятно! Ни один охотник никогда сюда не забирался, и ни один безусловно не мог здесь жить. Я смотрел на него широко открытыми от изумления глазами. С не меньшим изумлением глядел на меня и человек в звериных шкурах. В это время подошли сэр Генри и Гуд. — Послушайте, друзья, — сказал я, обращаясь к ним, — я схожу с ума, или это в самом деле белый человек? Сэр Генри и Гуд взглянули на незнакомца, и в тот же момент белый человек с черной бородой громко закричал и, хромая, заковылял в нашу сторону, но, не дойдя до нас нескольких шагов, упал без сознания. Одним прыжком сэр Генри был возле него. — Силы небесные! — вскричал он. — Это мой брат Джордж! Услышав этот крик, другой человек, тоже одетый в шкуры, вышелиз хижины с ружьем в руках и подбежал к нам. Увидев меня, он тоже громко вскрикнул. — Макумазан! — заговорил он. — Ты меня не узнаешь? Я Джим, охотник. Я потерял записку, которую ты мне дал для бааса, и вот мы здесь живем уже почти два года. И, упав к моим ногам, он начал кататься по земле, плача от радости. — Ах ты, негодная разиня! — сказал я. — Тебя следовало бы хорошенько выпороть! Тем временем человек с черной бородой пришел в себя, поднялся на ноги, и они с сэром Генри начали молча трясти друг другу руки, так как, очевидно, от полноты чувств были не в состоянии выговорить ни единого слова. Подозреваю, что в прошлом они поссорились из-за какой-нибудь леди (хотя я никогда сэра Генри об этом не спрашивал), но из-за чего бы это ни случилось, сейчас их ссора была, по-видимому, совершенно забыта. — Дорогой мой! — вырвалось наконец у сэра Генри. — Я думал, что тебя уже нет в живых! Ведь я искал тебя по ту сторону Сулеймановых гор и вдруг нахожу в оазисе среди пустыни, где ты себе свил гнездо, словно старый aasvцgel[67]. — Около двух лет назад и я пытался перейти горы Соломона, — послышался ответ, сказанный неуверенным голосом человека, отвыкшего говорить на родном языке, — но когда я попал сюда, мне на ногу упал огромный камень и раздробил мне кость. Поэтому я не мог ни продолжать свой путь, ни вернуться в крааль Ситанди. Тут подошел я. — Здравствуйте, мистер Невилль. Вы меня помните? — Боже мой! — воскликнул он. — Неужели это Квотермейн? Как! И Гуд тоже здесь? Поддержите меня, друзья, — у меня снова закружилась голова… Как все это неожиданно и странно… И когда человек уж перестал надеяться, какое это счастье!* * *
Вечером, у походного костра, Джордж Куртис рассказал нам свою историю, которая, так же как и наша, была полна событиями и вкратце сводилась к следующему. Около двух лет назад он вышел из крааля Ситанди, пытаясь достичь Сулеймановых гор. Записку, посланную ему через Джима, он не получил и ничего до этого дня о ней не слышал, так как этот олух Джим ее потерял. Но, пользуясь указаниями туземцев, он направился не к горам Царицы Савской, а к тому крутому перевалу, который мы сами только что пришли. Это был безусловно более легкий путь, чем тот, который был отмечен на карте старого да Сильвестра. В пустыне они с Джимом перенесли большие лишения, но наконец добрались до этого оазиса, где в тот же день Джорджа Куртиса постигло большое несчастье. Он сидел на берегу ручья, а Джим, стоя на высоком скалистом берегу как раз над ним, извлекал из расщелин мед диких пчел, у которых нет жала (такие пчелы водятся в пустыне). Карабкаясь по скалам, он расшатал большой камень, который обрушился и раздробил правую ногу Джорджа Куртиса. С тех пор он стал сильно хромать и, так как не мог много ходить, предпочел остаться и умирать в оазисе, чем наверняка погибнуть в пустыне. Что касается пищи, то в этом отношении они не терпели никакой нужды, так как у них был большой запас патронов, а в оазис, особенно по ночам, приходило на водопой много животных. Они стреляли в них или ставили капканы, используя мясо для еды, а шкуры, после того как их одежда износилась, — для одежды. — Таким образом, — сказал в заключение Джордж Куртис, — мы жили здесь почти два года, как Робинзон Крузо с Пятницей, уповая на счастливую случайность, что вдруг в оазис забредут какие-нибудь туземцы и помогут нам отсюда выбраться. Но никто не появлялся. Наконец вчера вечером мы с Джимом решили, что он меня покинет и отправится за помощью в крааль Ситанди, хотя, признаться, у меня было очень мало надежды, что он вернется. А теперь ТЫ, именно ТЫ, — сказал он, обращаясь к сэру Генри, — которого я никак не рассчитывал увидеть, вдруг неожиданно появляешься и находишь меня там, где сам этого не ожидал. Ведь я был уверен, что ты преспокойно живешь в Англии и давным-давно меня забыл. Это самая удивительная история, которую мне когда-либо приходилось слышать, и какое счастье, что она окончилась столь благополучно! Затем сэр Генри в свою очередь рассказал своему брату главные эпизоды наших приключений, и, так разговаривая, мы просидели до глубокой ночи. — Слава богу, — сказал Джордж Куртис, когда я показал ему несколько алмазов, — что, помимо моей никчемной особы, вы нашли еще кое-что в награду за все ваши злоключения. Сэр Генри засмеялся: — Камни принадлежат Квотермейну и Гуду. У нас был договор, что они будут делить между собой всю добычу, которая может встретиться нам в пути. Это замечание заставило меня призадуматься. Переговорив с Гудом, я сказал сэру Генри, что мы оба просим его взять третью часть алмазов, а если он откажется, то его часть должна быть передана Джорджу Куртису, который, в сущности, пострадал из-за этих драгоценностей больше всех нас. Наконец, с большим трудом, мы уговорили его согласиться на это предложение, но Джордж Куртис узнал о нашем решении значительно позже.* * *
На этом я думаю закончить свой рассказ. Наш обратный путь через пустыню в крааль Ситанди был чрезвычайно труден, особенно потому, что нам приходилось поддерживать Джорджа Куртиса, так как его правая нога была в очень плохом состоянии и из нее время от времени выделялись осколки раздробленной кости. Но так или иначе, мы преодолели пустыню, и рассказывать подробности этого путешествия значило бы повторять многое из того, что нам пришлось пережить ранее. Через шесть месяцев после нашего возвращения в Ситанди, где мы нашли наши ружья и прочие вещи в сохранности, хотя старый негодяй, которому мы их доверили, был чрезвычайно огорчен тем, что мы остались живы и пришли за ними, все мы, живые и невредимые, собрались в моем маленьком домике в Береа, возле Дурбана, где я теперь и пишу эти строки. Отсюда я прощаюсь со всеми, кто сопровождал меня в самое необыкновенное путешествие, которое мне когда-либо приходилось совершать за свою долгую и богатую приключениями жизнь.P.S. Не успел я написать последнее слово, как увидел кафра, идущего с почты по моей апельсиновой аллее с письмом, зажатым в расщепленную палку. Письмо это было от сэра Генри, и так как оно имеет непосредственное отношение к моему рассказу, я привожу его полностью:
Брейли-Холл, Йоркшир. Дорогой Квотермейн! С одной из последних почт я послал вам несколько строк, чтобы сообщить, что мы трое — Джордж, Гуд и я — благополучно прибыли в Англию. Мы сошли на берег в Саутгемптоне и немедленно отправились в Лондон. Вы бы только видели, каким щеголем стал Гуд на следующий же день! Великолепно выбрит, потрясающий фрак, облегающий его, как перчатка, новый замечательный монокль, и т. д., и т. д. Мы гуляли с ним в парке, где встретили кое-кого из знакомых, и я тут же рассказал им историю о его «прекрасных белых ногах». Он взбешен, особенно после того, как один весьма язвительный журналист напечатал все это в фешенебельной газете. А теперь о деле. Чтобы узнать стоимость алмазов, мы с Гудом обратились в ювелирную фирму Стритер, и я просто боюсь сказать вам, во что они их оценили. Сумма баснословная. Оценка их только приблизительная, так как они сказали, что не помнят, чтобы когда-нибудь на рынке были в таком количестве столь замечательные камни. Оказывается, что, за исключением одного или двух из наиболее крупных, они самой чистой воды и во всех отношениях не уступают лучшим бразильским бриллиантам. Я спросил, купит ли их фирма, но они ответили, что это им не под силу, и рекомендовали продавать по частям, чтобы не наводнять ими рынок. Тем не менее они все же предлагают сто восемьдесят тысяч фунтов стерлингов за весьма небольшую их часть. Вы должны приехать в Англию, Квотермейн, и сами позаботиться об этом, тем более что вы настаиваете на великолепном подарке моему брату — целой трети алмазов, не принадлежащих мне. Что касается Гуда, он совсем обезумел: почти все его время занято бритьем и делами, связанными с суетными украшениями своей особы. Но все же я думаю, что он еще не забыл Фулату. Он мне сказал, что с тех пор как приехал в Англию, он не видел ни одной женщины, которая была бы так очаровательна и так сложена, как она. Я хочу, чтобы вы приехали на родину, мой дорогой старый друг, и поселились около меня. Вы достаточно потрудились на своем веку, и у вас уйма денег, а у меня по соседству продается имение, которое вам чудесно подойдет. Приезжайте же, и чем скорее, тем лучше! А книгу о наших приключениях вы можете закончить на пароходе. Мы отказались рассказывать нашу историю, пока вы ее не напишете, так как боимся, что нам не поверят. Если вы послушаетесь моего совета, вы приедете сюда на рождество, и я очень прошу вас остановиться у меня. К этому времени приедут Гуд и Джордж и, между прочим, ваш сын (это чтобы вас соблазнить!). Он уже приезжал ко мне на недельку поохотиться и произвел очень приятное впечатление. Ваш Гарри чрезвычайно хладнокровный молодой человек: во время охоты он выпустил мне в ногу целый заряд дроби, сам вырезал все дробинки и затем сделал замечание о том, как удобно иметь среди охотников студента-медика. До свидания, старина! Не буду вас больше уговаривать, но я знаю, что вы приедете, хотя бы для того, чтобы сделать одолжение вашему искреннему другу Генри Куртису.Сегодня вторник. В пятницу отходит пароход, и мне кажется, что я должен воспользоваться приглашением Куртиса и отправиться на нем в Англию, хотя бы для того, чтобы повидать моего мальчика Гарри и позаботиться о напечатании этой истории, так как мне не хотелось бы доверить это дело кому-либо другому.
P.S. Бивни огромного слона, разорвавшего беднягу Хиву, прибиты у меня в холле над той парой буйволовых рогов, которые вы мне подарили, и выглядят замечательно. А топор, которым я отрубил голову Твале, висит над моим письменным столом. Как жаль, что нам не удалось привезти кольчуги!Г. К.
Аллан Квотермейн
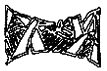
Книга II. АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН
История о захватывающих приключениях отважных путешественников, попавших в затерянный мир в сердце еще не исследованной Африки, в удивительную страну Зу-Венди. Они оказываются в центре романтической любви и соперничества двух прекрасных сестер-правительниц, ввергнувших свой народ в гражданскую войну.
Вступление
Я похоронил недавно моего мальчика, моего милого мальчика, которым я так гордился. Сердце мое разбито. Так тяжело — иметь только одного сына и потерять его. Божья воля! И я не мог ничего поделать. Смею ли я, могу ли жаловаться? Неумолимо вертится колесо судьбы и ловит всех нас поочередно, — одних скорее, других позже, — в конце концов, уничтожает всех. Мы не подаем ниц перед неумолимым роком, как бедные индейцы, мы пытаемся убежать туда или сюда, мы вопим о пощаде… но бесполезно! Как гром, разражается над нами мрачный рок и обращает нас в пыль и прах. Бедный Гарри! Умереть так рано, когда целая жизнь раскрывалась перед ним! Он так усердно работал в больнице, так блестяще сдал последние экзамены, и я так гордился этим, полагаю, даже больше, чем он сам. Ему нужно было отправиться в другую больницу для изучения оспенной заразы. Он писал мне оттуда, что не боится оспы, и что ему необходимо изучить болезнь и набраться опыта. Страшная болезнь унесла его, и я, старый, седой, слабый, остался оплакивать его, совсем одинокий на свете. У меня нет никого, ни детей, ни близких, чтобы пожалеть и утешить меня. Я мог бы спасти его, — не пускать туда, у меня достаточно средств для нас обоих, — более, чем нужно, рудники царя Соломона в изобилии снабжают меня деньгами. Но я говорил себе: нет, пусть мальчик учится жить, пусть работает, чтобы насладиться потом отдыхом! Но этот отдых застал его среди работы. О, мои мальчик, мой дорогой мальчик! Судьба моя похожа на судьбу библейского Иова, который имея много имущества, много житниц с хлебом, — я тоже припасал много добра для моего мальчика! Бог прислал за его душой, и я остался один, в полном отчаянии. О, я хотел бы умереть вместо моего милого мальчика! Мы похоронили его после полудня, под сенью древней, серой церковной башни, в той деревне, где я живу. Это был печальный декабрьский день. Тяжелые снеговые тучи облегали небо. Как только гроб поставили в могилу, несколько снежных хлопьев упало на него. Чистой девственной белизной сияли они на черных покровах! Перед тем, как опустить гроб в могилу, произошло замешательство, — забыли нужные веревки. Мы стояли молча и ждали, наблюдая, как пушистые снежные хлопья падали на гроб, словно благословение неба, таяли и превращались в слезы над телом бедного Гарри. Это еще не все. Красногрудый снегирь смело спустился, сел на гроб и начал петь. Я испугался и упал на землю с растерзанным сердцем. Сэр Генри Куртис, человек более сильный и смелый, чем я, также упал на колени, а капитан Гуд отвернулся. Как ни велико было мое горе, я не мог не заметить этого. Эта книга «Аллан Квотермейн» — извлечение из моего дневника, который я вел более двух лет тому назад. Я переписываю его вновь, так как мне кажется, что он может служить началом истории, которую я собираюсь рассказать, если Богу угодно будет дозволила мне окончить ее. Невелика беда, если я и не окончу. Этот отрывок из дневника был написан за семь тысяч миль от того места, где я лежу теперь, больной, и пишу это, а красивая девушка стоит около меня и отмахивает мух от моего августейшего лица. Гарри — там, а я здесь, и все же я чувствую, что и я скоро уйду к нему. В Англии я жил в маленьком, красивом доме, — говорю в красивом доме, сравнительно с домами, к которым я привык, живя в Африке, — не дальше, чем в 500 ярдах от старой церкви, где спит вечным сном мой Гарри. После похорон я вернулся домой и немного поел, потому что может ли быть хороший аппетит у того, кто похоронил все свои земные надежды! Немножко закусив, я принялся ходить, вернее ковылять, — я давно уже хромаю благодаря укусу льва, — взад и вперед по отделанной под дуб передней комнате, потому что в моем английском доме есть комнаты. На четырех стенах комнаты были размещены около сотни пар рогов. Тут были действительно прекрасные образцы, так как я хранил только лучшие рога. В центре комнаты, над большим камином, находилось пустое пространство, где я повесил свои винтовки. Некоторые из них были старинного образца, которых теперь уже не увидишь, я достал их 40 лет тому назад. Одно старое ружье я купил несколько лет тому назад у бура, который сказал мне, что из этого ружья стрелял его отец в битве при Кровавой реке, после того как Динган напал на Наталь и убил шестьсот человек, включая женщин и детей. Буры назвали это место местом плача, и так называется оно и до сих пор. Много слонов убил я из этого ружья. Оно вмещает горсть черного пороху и три унции пулек и дает сразу двойной выстрел. Итак, я прохаживался взад и вперед, посматривая на ружья и на рога, и великая тревога заползала в мою душу. Я должен уехать прочь из этого дома, где я живу праздно и спокойно, опять в дикую страну, где я провел лучшую половину жизни, где встретил мою дорогую жену, где родился мой бедный Гарри, где случилось со мной столько хорошего и дурного. Во мне жила жажда пустыни, дикой страны, я не мог выносить более моей жизни здесь, я должен уехать и умереть там, где я жил, среди дикарей и диких зверей! Расхаживая по комнате, я думал и смотрел на лунный свет, серебристым блеском заливавший небесный свод, и таинственное море кустарника, наблюдал за причудливой игрой его на воде. Господствующая в человеке страсть сильнее всего отзывается перед смертью, как говорят, а мое сердце умерло в эту ночь. Независимо от моего волнения, понятно, что ни один человек, проживший сорок лет так, как я, не может безнаказанно запереться в Англии, с ее нарядными, огороженными, возделанными полями, с ее чопорными, образцовыми манерами, ее разодетой толпой. Мало-помалу, он начнет тосковать, о свежем дыхании воздуха пустыни, грезить безбожными зулусами, которые, подобно орлам, бросаются на врагов со скалы, и сердце его возмущается против узких границ цивилизованной жизни. И эта цивилизация! Что дает она? Целых сорок лет провел я среди дикарей, изучая их нравы и обычаи, потом несколько лет я прожил в Англии, и, по собственному глупому разумению, присматривался к детям цивилизации. И что же я нашел? Огромную пропасть между теми и другими? Нет, небольшое расстояние, которое простодушный человек легко перепрыгнет. Дикарь и цивилизованный человек очень похожи друг на друга, только последний — изобретательнее и обладает способностью комбинации. Зато дикарь, насколько я узнал его, не знает жадности к деньгам, которые, подобно раку, впиваются в сердце белого человека. В общих чертах дикарь и дитя цивилизации сходны между собой. Смею думать, что высокообразованная дама, читая эти строки, улыбнется наивности старого глупца-охотника, когда подумает о своих черных, увешанных бусами сестрах! Улыбнется также высококультурный прожигатель жизни, смакуя свой обед в клубе. Цена этого обеда могла бы прокормить целую неделю не одну голодную семью! Моя дорогая барышня! Что это за прелестные вещи надеты на вашей шейке? Они имеют странное сходство, особенно, когда вы надеваете низко вырезанное платье, с украшениями дикой женщины. Ваша привычка вертеться под звуки музыки, ваше пристрастие к притираниям и пудрам, уловки, к которым вы прибегаете, чтобы заполучить себе богатого завоевателя, который должен сделаться вашим супругом, ловкость, с которой вы убираете себе голову перьями и всякой всячиной — все это приближает вас к вашим черным сестрам! Вспомните, что в основных принципах вашей природы — вы совершению схожи с ними! Вы, сударь, также смеетесь? Пусть дикарь придет и ударит вас по лицу, пока вы наслаждаетесь удивительно приготовленным блюдом, мы увидим тогда, не сидит ли в вас самих такой же дикарь?! Я уеду навсегда отсюда, и что здесь хорошего? Цивилизованные люди — те же дикари, посеребренные сверху! Цивилизация — суетные слова, подобно северному сиянию, она сверкнет и исчезнет, и окружающий мрак сгустится еще сильнее. Она подобна дереву, выросшему на почве варварства, и я уверен, рано или поздно, она падет, как пала цивилизация Египта, культура эллинов и римлян и много других, которых не перечесть. Не подумайте, что я осуждаю современные учреждения, представляющие из себя экстракт человеческих опытов на пользу общую! Цивилизация дала нам большие преимущества, напр., больницы. Но, подумайте, эти больницы наполнены больными людьми, жертвами той же цивилизации! В диких странах больниц нет. Является вопрос: насколько эти благословленные небом люди обязаны больше христианству, чем цивилизации? Весы качаются, поднимаются, — здесь больше, там меньше, природа дает средний вывод на обеих чашках весов, и общая сумма является главным фактором в этом огромном уравнении, результат которого равен неизвестному количеству целей и намерений. Разумеется, на все это можно смотреть только как на вступление молодого народа на путь прогресса. Мне приятно думать, что мы пытаемся иногда понять границы нашей природы, что серьезность познаний вовсе не пугает нас! Человеческое искусство необъятно и растяжимо, подобно эластичной ленте, но человеческая природа похожа на железное кольцо. Вы можете его обойти кругом, можете отлично отполировать его, сплющить, можете прицепить его к другому кольцу, но никогда, пока существует мир и человек, не увеличите его постоянную окружность. Это — вещь неизменяемая, как звезды на небе, более прочная, чем горы, неизменная, как пути Вечного. Природа человека — это калейдоскоп Бога, — маленькие цветные стекла, в которых отражаются наши страсти, надежды, страхи, радости, стремления к добру и злу. Всемогущая Десница управляет ими, как звездами, уверенно и спокойно направляя их в новые сочетания и комбинации. Но основные элементы природы остаются неизменными, независимо от того, будет ли больше цветных стекол, или меньше. Цивилизация должна осушить человеческие слезы, а мы плачем и не можем утешиться. Война отвратительна ей, а мы деремся ради домашнего очага, ради дома, чести и славы и находим удовлетворение в драке. И так везде и во всем. Когда сердце убито, а голова лежит в прахе, нам не надо цивилизации. Назад, назад! Мы ползем назад, укладываемся на великой груди Природы, как малютки, и ждем, что она утешит нас, заставит нас забыть пережитое или спасет от жала воспоминаний! Кто из нас, в своем великом горе, не чувствовал желания смотреть в дивное лицо природы, нашей всеобщей матери? Кто не стремился лежать где-нибудь на горе и следить, как облака плывут по небу, слушать раскаты отдаленного грома, слиться, хотя бы ненадолго, своей бедной, жалкой жизнью с жизнью природы, почувствовать биение ее сердца, забыть все свои печали, погрузиться в ее вечную энергию и жизненную силу! Она создала нас, от нее мы произошли, к ней и вернемся! Она дала нам жизнь и поглотит нас в своих недрах. Расхаживая по комнате моего дома в Йоркшире,[68] я мечтал о нежных объятиях матери-природы. Не той природы, которую вы знаете и видите — в ровных зеленеющих лесах, в улыбающихся нивах, но дикой природы, такой, какой она была создана, нетронутой, девственной, не знающей борющегося и мятущегося человечества. Я уйду туда, где на свободе бегают звери, назад, в страну, история которой никому неизвестна, к дикарям, которых я люблю, хотя некоторые из них так же беспощадны, как политическая экономия. Там я научусь спокойнее думать о бедном Гарри, который лежит под сенью старой церкви, и сердце мое не будет разрываться от тоски. Декабря 23.Глава 1
СОВЕТ КОНСУЛА
Прошла неделя со времени похорон бедного Гарри. Однажды вечером я ковылял по комнате и раздумывал, как вдруг позвонили у наружной двери. Спустившись с лестницы, я сам открыл дверь. Вошли мои старые друзья — сэр Генри Куртис и капитан Джон Гуд. Они уселись перед камином, где, я хорошо помню это, горел яркий огонь. — Вы очень добры, что зашли ко мне, — сказал я, — не очень приятно гулять по такой погоде! Они ничего не сказали, но сэр Генри молча набил свою трубку и наклонился закурить ее у камина. В это время большое сосновое полено ярко вспыхнуло и озарило всю его фигуру. Он был удивительно красивый человек. Спокойное, властное лицо, тонкие правильные черты, большие серые глаза, золотистые волосы и борода — великолепный образец утонченного человеческого типа. Его фигура не уступала по красоте лицу. Я никогда не видел таких могучих плеч и такой широкой груди. В сущности, сэр Генри так пропорционально сложен, что несмотря на свой рост — 5 футов — он выглядит довольно высоким человеком. Я смотрел на него и не мог не подумать, какой курьезный контраст с его лицом и рослой фигурой представляет моя собственная тщедушная особа. Вообразите себе маленького, слабого человека, шестидесяти трех лет, с пожелтевшим лицом, тонкими руками, большими темными глазами и коротко остриженными, поседевшими волосами на голове, торчащими, как щетина, худого, утонувшего в своем платье, — и вы будете иметь полное понятие об Аллане Квотермейне, которого обыкновенно называют «охотник Квотермейн», а по месту рождения «Макумацан-англичанин». Капитан Гуд мало походил на нас. Коротенький, мрачный, очень коренастый человек, с мерцающими черными глазами, с вечным стеклышком в одном глазу. Я назвал его коренастым, но это сказано слишком мягко, скорее он дюжий человек. В последующие годы я должен, к сожалению, сознаться, Гуд начал очень некрасиво толстеть. Сэр Генри уверяет, что все происходит от праздности и обжорства. Гуду это не нравится, хотя он не может отрицать данного факта. Некоторое время мы сидели молча, потом я зажег лампу, стоявшую на столе, потому что печальный полумрак в комнате сильнее нагонял тоску, наполнявшую сердце человека, похоронившего неделю тому назад все надежды своей жизни. Я открыл шкап, находившийся в стене, и нашел там бутылку виски, несколько бокалов и воду. Я люблю делать все сам, для меня невыносимо вечно видеть кого-нибудь около себя, под боком. Куртис и Гуд сидели молча, я полагаю потому, что им нечего было сказать мне, что они рады были утешить меня своим присутствием, своим молчаливым сочувствием моему горю, так как это был их второй визит после похорон. И это верно, что иногда, в тяжелые минуты тоски, нас лучше успокаивает молчаливое присутствие людей, чем разговор, который только раздражает. Мои друзья сидели, курили, пили виски с водой, я стоял у камина, также курил и смотрел на них. Наконец, я заговорил. — Старые друзья, — сказал я, — как давно мы вернулись из страны Кукуана? — Три года, — сказал Гуд. — Почему ты спрашиваешь? — Я спрашиваю потому, что я довольно попробовал цивилизации. Я поеду обратно к дикарям! Сэр Генри откинул голову на спинку кресла и улыбнулся своей глубокой, загадочной улыбкой. — Как странно! — сказал он. — А, Гуд? Гуд таинственно взглянул на меня сквозь свое стеклышко. — Да, странно, очень странно! — Я ничего не понимаю, — произнес я, смотря то на одного, то на другого, — и не люблю загадок! — Не понимаешь, старый дружище? — сказал сэр Генри. — Я объясню тебе. Мы с Гудом шли сюда и толковали. Он говорил… — Если Гуд что-либо и говорил, — возразил я саркастически, — он ведь мастер болтать. Что же это такое? — Как ты думаешь? — спросил сэр Генри. Я покачал головой. Как я мог знать, что болтал Гуд? Он болтает о массе вещей. — Это относительно маленького плана, который я составил, — именно, если ты захочешь, мы можем отправиться в Африку, в новую экспедицию! Я подпрыгнул при этих словах. — Что ты говоришь? — воскликнул я. — Да, я это говорю, и Гуд тоже говорит! Неправда ли, Гуд? — Верно! — ответил джентльмен. — Выслушай, старый дружище! — продолжал сэр Генри, заметно оживляясь. — Я устал, смертельно устал от безделья, разыгрывая роль сквайра. Больше года я не могу найти себе покоя, как старый слон, почуявший опасность. Я вечно грежу о стране Кукуана, о рудниках царя Соломона и сделался жертвой непреодолимого стремления бежать отсюда, уверяю тебя! Мне до смерти надоело убивать фазанов и куропаток, я нуждаюсь в путешествии. Ты поймешь это чувство, — раз попробовал виски с водой, молока не возьмешь и в рот! Год, проведенный нами в стране Кукуана, кажется мне, стоит всех остальных лет моей жизни, сложенных вместе. Добавлю, что я глуп, что страдаю от этого, но помочь ничем не могу. Я скучаю и, более того, только и думаю убраться отсюда! Он помолчал и продолжал. — В конце концов, почему мне не ехать? У меня нет ни жены, ни родных, ни ребят, ни цыплят. Если со мной что-либо случится, то баронетство перейдет к моему брату Георгу и его сыну, как известно. Мне нечего делать здесь! — А, я так и думал, что, рано или поздно, ты придешь к этому. Ну, теперь ты, Гуд, какие у тебя резоны для путешествия? Есть они? — Да, — ответил торжественно Гуд, — я ничего не делаю без причины, и если тут замешана дама, то не одна, а несколько! Я взглянул на него. Гуд — удивительно суетный человек. — Что же у тебя? — спросил я. — Если вы желаете знать, — хотя мне нежелательно было бы говорить о деликатном и лично касающемся меня деле, — я скажу вам: я начал слишком толстеть! — Замолчи, Гуд! — сказал сэр Генри. — Квотермейн, скажи нам, что ты можешь предложить? Я зажег свою трубку, прежде чем ответить. — Слыхали ли вы, господа, о горе Кениа? — спросил я. — Нет, я не знаю такого места! — отвечал Гуд. — Слыхали ли вы об острове Ламу? — Нет. Погоди. Не он ли находится почти в 300 милях к северу от Занзибара? — Да. Слушайте. Вот что я предлагаю вам. Отправимся в Ламу, и оттуда надо сделать 250 миль до Кениа. От Кениа до Лекакизара еще 200 миль, или вроде этого, и там, я уверен, никогда еще не ступала нога белого человека. Затем, если мы пойдем дальше, то вступим в совершенно неизведанную область. Что вы скажете на это, друзья мои? — Трудный план? — сказал сэр Генри задумчиво. — Ты прав, — ответил я, — но я решил это, потому что все мы трое отправимся выполнять этот трудный план. Нам нужна перемена жизни, и мы найдем совершенно иную природу, иных людей — полную перемену. Всю мою жизнь я мечтал посетить эти страны, и я надеюсь сделать это раньше, чем умру. Смерть моего мальчика порвала последнюю связь между мной и цивилизованным миром, и я вернулся к моей природной дикости. Теперь я скажу вам другую вещь. В продолжение нескольких лет до меня доходили слухи о великой белой расе, которая, как предполагали, обитает где-то в этом направлении, и я мечтаю увидать этих людей, если они действительно существуют. Если вы, друзья, желаете отправиться со мной, отлично! Если нет, я поеду один! — Я с тобой, хотя и не верю в твою белую расу! — сказал сэр Генри Куртис, вставая и кладя руку та мое плечо. — Я тоже! — заметил Гуд. — Я потащусь за тобой! Всеми силами я постараюсь добраться до Кениа и в другое место с трудно произносимым названием и увижу несуществующую белую расу! Вот все, что я скажу! — Когда ты предполагаешь отправиться? — спросил сэр Генри. — В этом месяце, — отвечал я. — На пароходе Британской Индии. Ты не уверен в существовании расы, потому что не слыхал о ней, Гуд! Вспомни о рудниках царя Соломона! Четырнадцать недель прошло со времени этого разговора. После долгих рассуждений и справок, мы пришли к заключению, что нашим исходным пунктом для путешествий к горе Кениа должен быть не Момбаза, а устье реки Тана, на 100 миль ближе к Занзибару. Мы решили это, благодаря сведениям, которые дал один немецкий путешественник, встретившийся нам на пароходе по пути в Аден. Я думаю, что это самый грязный немец, которого я когда-либо знал, но он был хороший товарищ и дал нам драгоценные сведения. — Ламу? — сказал он. — Вы едете в Ламу? О, какое это прекрасное место! — он повернул к нам свое жирное лицо и подмигнул с выражением кроткого восхищения. — Полтора года я прожил там и никогда не менял рубашки, совсем никогда! Прибыв на остров, мы сошли с парохода со всем своим имуществом, и не зная, куда идти, смело направились к дому консула, где были очень гостеприимно приняты. Ламу — курьезное местечко, но больше всего остались у меня в памяти необычайная грязь и вонь. Это было нечто ужасное. Около консульства тянется взморье, или, вернее, грязный берег, называемый взморьем. Во время отлива берег совершенно гол и служит местом свалки всяких нечистот, отбросов города. Здесь женщины зарывают в прибрежную грязь кокосы, оставляя их тут, пока верхняя шелуха совершенно не сгниет, тогда их вырывают из грязи и из волокон плетут циновки и разные другие вещи. Это занятие переходит по наследству из поколения в поколение, поэтому трудно вообразить и описать все ужасное состояние берега. Я знал много дурных запахов в течение моей жизни, но никогда не ощущал такой ужасающей вони, как здесь, на берегу, когда мы сидели, при свете месяца, под гостеприимной кровлей нашего друга консула. Неудивительно, что народ здесь умирает от лихорадки. Местечко, само по себе, не лишено известной прелести, но это впечатление исчезает под гнетом зловония. — Куда вы думаете направиться, джентльмены? — спросил гостеприимный консул, когда мы закурили наши трубки после обеда. — Мы предполагаем отправиться в Кениа, а оттуда в Лекакизера, — отвечал сэр Генри. — Квотермейн слышал что-то о белой расе людей, живущих на неизведанных территориях! Консул посмотрел на нас, заинтересованный, и ответил, что он также слышал об этом. — Что вы слышали? — спросил я. — О, немного. Все, что я знаю, знаю из письма, полученного мною год тому назад от Мекензи, шотландского миссионера, пост которого находится на самом возвышенном пункте реки Тана! — У вас есть его письмо? — спросил я. — Нет, я уничтожил его, но помню, что он писал, как один человек явился к нему и заявил, что он путешествовал два месяца, пока добрался до Лекакизера, где не бывал никогда еще белый человек. Там он нашел озеро по имени Лага, затем он пошел дальше, к северо-востоку, и странствовал целый месяц, через пустыни, целые заросли колючего терновника и огромные горы, и, наконец, достиг страны, где жили белые люди в каменных домах. Сначала его приняли очень гостеприимно, но потом жрецы сочли его за дьявола, и народ хотел убить его. Он убежал от них и путешествовал 8 месяцев, добрался, наконец, до миссионерского дома и умер, как я слышал. Вот все, что я знаю. И если вы спросите меня, я отвечу вам, что все это ложь. Но, быть может, вам нужно узнать об этом повернее, поезжайте к миссионеру Мекензи на Тану и расспросите его! Сэр Генри и я переглянулись. Все это было загадочно. — Я думаю, что нам придется отправиться туда! — сказал я. — Отлично, — отвечал консул, — это самое лучшее, что вы можете сделать, но я должен предостеречь вас, что вы имеете ввиду тяжелое путешествие, потому что я слышал, что Мазаи бродят неподалеку, а с ними шутки плохи. Лучше всего, если вы найдете несколько людей в качестве ваших слуг и охотников, и нескольких носильщиков. Правда, с ними вам будет немало хлопот, но все же это окажется дешевле и выгоднее, чем нанимать целый караван. Кроме того, у вас будет меньше риска, что они убегут. К счастью, в Ламу находилась в это время партия солдат (Ваквафи Аскари). Ваквафи — это скрещенное племя Мазаи и Ватавета. Они представляют собой мужественный народ обладающий многими хорошими качествами зулусов и большой способностью к цивилизации. Все они отличные охотники. Случилось так, что эти люди совершили длинное путешествие с одним англичанином, по имени Джутсон, который отправился из Момбаза — гавань на расстоянии 150 миль от Ламу, — и обошел вокруг Килиманджаро, одной из высочайших гор Африки. Бедняга, он умер от лихорадки на обратном пути, на расстоянии одного дня дороги до Момбаза. Он перенес массу опасностей и не дожил нескольких часов, которые отделяли его от спасения. Охотники похоронили его и прибыли в Ламу. Наш друг консул убедил нас нанять этих людей. На следующее утро мы отправились повидаться с ними, сопровождаемые переводчиком. Мы нашли их в грязной лачуге, в предместье города. Трое из них сидели у лачуги и выглядели добродушными молодцами, более или менее цивилизованного вида. Мы осторожно объяснили им цель нашего посещения, сначала совсем безуспешно. Они прямо заявили, что не хотят и говорить об этом, что они слишком устали и измучились в долгом путешествии, что сильно горюют о смерти своего хозяина. Они думают отправиться домой и отдохнуть. Все это звучало неутешительно, и чтобы отвлечь их внимание, я спросил, где находятся остальные. Мне сказали, что их шестеро, а я видел только троих. Один из них сказал мне, что остальные трое спят в лачуге, отдыхают от трудов. — Сон отягчил их веки, — добавил он, — и сердце их облегчилось. Самое лучшее — это спать, потому что сон дает забвение! К несчастью, человек должен просыпаться! Наконец, трое остальных мужчин, зевая, вышли из хижины. Первые два были, очевидно, той же самой расы, как те, что стояли передо мной. Но, увидя третьего, я готов был выпрыгнуть из своей собственной кожи. Это был человек высокого роста, грубый, но худощавый, с крепкими стальными мускулами. Один взгляд на него сказал мне, что он был не из Ваквафов, а чистейшей крови зулус. Он вышел, прикрывая рот тонкой, почти аристократической рукой, чтобы скрыть зевоту. Я сейчас же заметил, что он «Кашла» или человек с кольцом![69] Он отнял руку ото рта, и я увидел энергичное лицо зулуса, с насмешливым ртом, короткой бородой, уже поседевшей, и парой темных соколиных глаз. Я сразу узнал этого человека, хотя не видал его 12 лет. — Как ты поживаешь, Умслопогас? — спросил я его. Высокий человек, о происхождении и приключениях которого на его родине ходят целые легенды, известный под именем «Дятла» или «Губителя», взглянул на меня и в удивлении выронил из рук длинный боевой топор. Сейчас же он узнал меня и поклонился. — Начальник! — сказал он. — Старинный начальник! Великий начальник! Отец! Макумацан! Старый охотник! Губитель слонов, пожиратель львов! Зоркий, осторожный, смелый, спокойный! Его выстрелы всегда метки, его глаза зорки! Он верен друзьям! Отец! Мудрость говорит голосом нашего народа: гора никогда не встретится с горой, но, на рассвете, человек встретится с другим человеком! Слушай! Пришел вестник из Наталя. Макумацан умер! — вскричал он. — Макумацана больше нет на земле. Это было несколько лет тому назад. Теперь, в этом странном месте, я нахожу Макумацана, моего друга. Тут нечего сомневаться. Старый шакал поседел, но разве глаза его не зорки и зубы не остры? Ха! Ха! Макумацан, помнишь как ты всадил пулю между глаз буйвола? Помнишь… Я позволил ему болтать, потому что видел впечатление его слов на лицах остальных охотников, которые, казалось, поняли его болтовню. Но потом я прервал его, потому что ненавижу эту манеру зулусов чрезмерно восхвалять человека. — Молчи! — сказал я. — Я удивляюсь, что вижу тебя с этими людьми! Я оставил тебя начальником на твоей родине. Как ты попал сюда вместе с этими чужеземцами? Умслопогас облокотился на ручку своего длинного топора, с прекрасно сделанной роговой рукояткой, и лицо его омрачилось. — Отец мой! — отвечал он. — Мне надо сказать тебе, но я не могу говорить перед этой сволочью, — он взглянул на солдат Ваквафи, — мои слова годны только для твоих ушей. Отец мой, я скажу тебе, — лицо его еще более потемнело, — одна женщина смертельно оскорбила и обманула меня, покрыла мое имя позором, моя собственная жена, круглолицая девушка, обманула меня. Но я избежал смерти, убил тех, которые искали убить меня. Вот этим топором я ударил три раза: направо, налево и в лоб, — ты помнишь, как я бью, и убил трех человек. Потом я убежал, и хотя я не молод, но ноги мои легки, как ноги антилопы, и никто не поймает меня на бегу. Я бежал из своего собственного крааля, и за мной гнались убийцы и выли, словно собаки на охоте. Спрятавшись, я выследил ту, которая меня обманула, когда она шла за водой к источнику. Подобно тени смерти, я налетел на нее и ударил ее топором. Ее голова упала в воду. Тогда я бежал к северу. Три месяца блуждал я, не останавливаясь, не отдыхая, все подвигаясь вперед, пока не встретил белого охотника. Он умер, а я пришел сюда с его слугами. Ничего у меня нет. Я происхожу от высокого рода, от крови Чеки, великого царя-начальника — и теперь я странник, человек, не имеющий крааля. Ничего у меня нет, кроме топора. Они отняли у меня мой скот, взяли моих жен, мои дети не увидят более моего лица! Вот этим топором, — он вертел вокруг головы свое ужасное оружие, — я пробью себе новую дорогу. Я все сказал! — Умслопогас, — сказал я, — я давно знаю тебя. Ты самолюбив, родился от царственной крови и, пожалуй, превзошел самого себя теперь. Несколько лег тому назад, когда ты составил заговор против Цетивайо, я предостерег тебя, и ты послушался. Теперь, когда меня не было с тобой, ты натворил всяких бед. Но что сделано, то сделано. Забудем это! Я знаю тебя, Умслопогас, за великого воина царской крови, презиравшего смерть. Выслушай меня. Видишь ли ты этого высокого человека, моего друга? — я показал ему на сэра Генри. — Он такой же великий воин, как ты, так же силен, как ты, и, пожалуй, шире тебя в плечах. Его зовут Инкубу. А вот другой, видишь, с круглым животом, блестящими глазами и веселым лицом. Его зовут Бугван «Стеклянный глаз», он хороший человек и происходит из странного племени, которое проводит всю жизнь на воде и живет в плавучих краалях. Нас трое, и мы отправляемся путешествовать внутрь страны, пройдем белую гору (Кениа) и вступим в неизведанные области. Мы не знаем, что будет с нами, мы будем охотиться, искать приключений, новых мест, потому что нам надоело сидеть в городе и видеть одно и то же вокруг себя. Хочешь идти с нами? Ты будешь начальником наших слуг, но что с нами будет, я не знаю. Раньше мы путешествовали уже втроем, брали с собой одного человека — Умбона — и оставили его начальником великой страны, повелителем убранных перьями воинов, которые повиновались одному его слову. Что будет теперь — неизвестно. Может быть, смерть ждет нас. Хочешь идти с нами, или боишься, Умслопогас? Старый воин засмеялся. — Ты не совсем прав, Макумацан, — сказал он, — не самолюбие довело меня до падения, — а позор и стыд мне, — красивое женское лицо! Но забудем это. Я иду с вами. Жизнь или смерть впереди, что мне за дело, если можно убивать, если кровь потечет рекой. Я старею, старею, и все-таки я великий воин среди воинов! Посмотри! — он показал мне бесчисленные рубцы, шрамы, царапины на груди и руках. — Знаешь, Макумацан, сколько человек убил я в рукопашном бою? Сосчитай, Макумацан! — он указал мне на пометки, сделанные на роговой рукоятке топора. — Сто три! Я не считаю тех, кому я вскрыл живот.[70] — Довольно, — сказал я, заметив, что его трясет, как в лихорадке, — замолчи! Ты поистине «Губитель»! Мы не любим слушать об убийствах. Слушай, нам нужны слуги. Эти люди, — я указал на Ваквафи, которые отошли в сторону во время нашего разговора, — не хотят идти с нами! — Не хотят идти? — вскричал Умслопогас. — Какая это собака не хочет идти, когда мой отец приказывает? Ты, слушай! — одним сильным прыжком он очутился около солдата, с которым я говорил ранее, схватил его за руку и крепко сжал. — Собака! — повторил он, сильно сжимая руку испуганного человека. — Ты сказал, что не пойдешь с моим отцом? Скажи еще раз, и я задушу тебя… — его длинные пальцы впились в горло Ваквафи, — скажи, и те остальные… Разве ты забыл, как я служил твоему брату? — Нет, мы пойдем с белым человеком! — пробормотал тот. — Белый человек! — продолжал Умслопогас с притворно усиливающейся яростью. — О ком ты говоришь, дерзкая собака? — Мы пойдем с великим начальником! — То-то! — сказал Умслопогас спокойным голосом и внезапно отнял руку, так что солдат упал назад. — Я так и думал! — Этот Умслопогас имеет сильное нравственное воздействие на своих спутников! — заметил потом Гуд.Глава 2
ЧЕРНАЯ РУКА
Скоро мы покинули Ламу и через десять дней очутились в местечке Чарра, на реке Тана, испытав много разных приключений, о которых не стоит говорить. Между прочим, мы посетили разрушенный город, который, судя по многочисленнымразвалинам мечетей и каменных домов, был очень населенным местом. Эти разрушенные города, а их тут несколько, — относятся к глубокой древности, и, я думаю, были богаты и имели значение еще во времена Ветхого Завета, когда они служили центром торговли с Индией. Но слава их исчезла, когда прекратилась торговля невольниками. Там, где когда-то богатые торговцы, собравшиеся со всех концов мира, толпились и торговали на площадях, громко ревет лев, охраняя свое логовище, и вместо болтовни невольников и пронзительных голосов барышников по разрушенным проходам и коридорам звучит эхо его ужасного рычанья. Тут, в ограде, где валялся всевозможный мусор, мы нашли два огромных камня удивительной красоты и жалели, что не могли унести их особой. Нет сомнения, что они украшали собой вход во дворец, от которого не осталось и следа. Исчезло, все исчезло! Подобно благородным господам и дамам, жившим за этими воротами, города эти кипели когда-то жизнью, теперь погибли, как Вавилон и Ниневия, как погибнут в свое время Лондон и Париж. Ничто не вечно — таков непреложный закон. Мужчины, женщины, империи, города, троны, власть, могущество, горы, реки, моря, миры, пространства — все погибнет. В этих заброшенных развалинах моралист увидит символ участи всей вселенной. В Чарра мы жестоко поссорились с начальником наших носильщиков, которых мы наняли идти дальше. Он вздумал заломить с нас небывалую цену. В конце концов, он грозил нам призвать Мазаи. В эту же ночь он бежал со всеми носильщиками, стащив большую часть нашего имущества, которую им поручено было нести. К счастью, им не удалось утащить наши винтовки, одежду; разумеется, не из деликатности, а потому, что вся поклажа оказалась в руках пятерых Ваквафи. После этого мы ясно поняли, что нам надо бросить всякую мысль о караванах и носильщиках, да и имущества у нас осталось немного. Куда и как нам отправиться теперь? Гуд быстро решил эту задачу. — Здесь вода, — сказал он, указывая на реку, — и вчера я видел туземцев, которые в пирогах охотились за гиппопотамами. Я знаю, что дом миссионера Мекензи находится на реке Тане. Почему бы не поехать туда в лодках? Это блестящее предложение было встречено с радостью. Я решил купить нужные пироги у туземцев. Через три дня я успел заполучить две больших пироги, каждая из них была выдолблена из огромного бревна и могла вместить шесть человек с багажом. За эти две пироги мы отдали все оставшееся у нас платье и некоторые веши. На следующий день мы пустились в путь на двух пирогах. В первой находились Гуд, сэр Генри и трое солдат Ваквафи, во второй сидели я, Умслопогас и остальные двое солдат. Нам пришлось ехать вверх по реке, и мы попробовали пустить в дело наши четыре весла и работали все, кроме Гуда, как невольники. Это была тяжелая, утомительная работа. Гуд, едва успев войти в лодку, очутился в родной стихии и принял команду над нами. Он хорошо командовал. На суше Гуд был вежливый джентльмен, с мягкими манерами, любивший подурачиться. На воде же он стал сущий демон. Он знал в совершенстве все, что касалась воды и плавания, от морской торпеды до уменья держать весло в африканских пирогах, а мы ровно ничего не знали. Его понятия о дисциплине были очень строги, можно сказать, он оказался нашим повелителем на воде и сторицей отплатил нам за небрежность, с которой мы относились к нему на суше. Но, с другой стороны, я должен сказать, что он удивительно хорошо правил лодкой. Через день Гуду удалось с помощью кой-какого платья приделать паруса к каждой пироге, что несколько облегчило наш труд. Течение было очень сильно, и мы с трудом плыли по двадцать миль в день. Мы отправлялись в путь на рассвете и плыли до десяти часов, когда солнце начинало жечь так, что грести было невозможно. Тогда мы выходили на берег, съедали наш скромный обед, после которого спали или занимались чем-нибудь до трех часов. В три часа мы снова отправлялись в путь, до заката солнца, когда останавливались на ночлег. Однажды вечером, пристав к берегу. Гуд задумал, с помощью Аскари, устроить загородку из терновых кустов и развести огонь. Я, сэр Генри и Умслопогас отправились подстрелить что-нибудь к ужину. Задача была легкая, потому что на берегах Таны водится много всякого зверья и дичи. Однажды ночью сэр Генри убил самку жирафа, мозговая кость которой — великолепное блюдо. Мне удалось убить пару косуль. Иногда мы разнообразили наш стол, убивая гвинейских кур или павлинов, или ловили прекрасную рыбу, которой изобилует Тана. Через три дня с нами произошло неприятное приключение. Мы пристали к берегу, по обыкновению, на ночлег, как вдруг заметили невдалеке человеческую фигуру, очевидно, поджидавшую нас. Одного взгляда было достаточно, чтобы я узнал молодого воина из племени Мазаи Эльморен. Если бы я даже усомнился в этом, то все сомнения мои рассеялись при испуганном крике наших Ваквафи: «Мазаи!» Какую дикую, воинственную фигуру представлял он из себя! Я привык к виду дикарей, но скажу, что никогда не видел лица более свирепого и внушающего ужас. Он был громадного роста, почти как Умслопогас, и красив, но красотой дьявола. В правой руке он держал копье в пять с половиной футов длины, причем только клинок имел два с половиной фута. В его левой руке находился большой эллиптической формы щит из кожи буйвола, на котором были нарисованы странные геральдические надписи. На плечах его лежал капюшон из соколиных перьев, а вокруг шеи была надета полоса бумажной пестрой материи. Обычная его одежда из козлиной кожи была завязана узлом, в виде пояса, а на боку торчал меч, который представляет из себя кусок стали, вложенный в деревянные ножны. Самой замечательной принадлежностью из всего его одеяния была шапка из страусовых перьев, которая сходилась у подбородка и шла кругом всего лица, удивительно оттеняя сатанинское выражение физиономии дикаря в рамке пестрых перьев. Вокруг лодыжек болталась черная бахрома, а на ногах были надеты шпоры, из-под которых торчали пучки прекрасного черного обезьяньего волоса. В таком наряде стоял Мазаи Эльморен, поджидая наши пироги. Я не мог различить всех подробностей его костюма, совершенно подавленный общим впечатлением и мыслью о том, что мы должны предпринять. Пока мы размышляли о том, что нам делать, воин двинулся с места, махнул на нас копьем и исчез. — Гола! — закричал сэр Генри с другой лодки. — Наш друг, начальник каравана, сдержал свое слово и выдал нас Мазаи. Не опасно ли пристать к берегу? Я думал, что это небезопасна; но, с другой стороны, мы не могли ничего состряпать в пироге, чтобы поесть, а есть хотелось всем. Наконец, Умспопогас ускорил наше решение, заявив, что пойдет на разведку, и пополз в кустарник, как змея, а мы остались ждать его на воде. Через полчаса он вернулся и сказал нам, что мы видели не Мазаи, а просто воина-дикаря, что он сам выследил место, где они, действительно, расположились лагерем, и по некоторым признакам думает, что Мазаи тронулись не более, как час тому назад. Воин, которого мы видели, был послан с донесением о нашем появлении. Мы причалили к берегу, расположились кружком, поужинали и принялись обсуждать всю опасность нашего положения. В сущности, возможно, что появление воина вовсе не грозит нам ничем, что он один из шайки, посланный грабить и убивать людей из вражеского племени. Но когда мы вспомнили угрозу наших носильщиков и зловещее помахивание копьем в нашу сторону, дело показалось нам несколько иным. Одно было несомненно, что отряд Мазаи следил за нами и ждал удобного случая, чтобы напасть на нас. У нас было два выхода: или идти вперед, или убираться назад. Последнее было отвергнуто всеми, тем более, что, отступая, мы могли наткнуться на еще большие опасности. Поэтому решили отправиться вперед во что бы то ни стало. Рассудив, что спать на берегу небезопасно, мы забрались в пироги и отвели их на середину реки, прикрепив их, вместо якоря, к большим камням толстыми веревками, сделанными из волокон кокоса. Здесь москиты усердно накинулись на нас, и это, вместе с боязнью за свою безопасность, отогнало сон от меня, хотя другие спали, не обращая внимания на москитов. Я лежал, курил, размышлял, обдумывал, главным образом, как бы избежать Мазаи. Была чудная лунная ночь, и, несмотря на москитов и на опасность заболеть лихорадкой, ночуя на реке, несмотря на судорогу в моей правой ноге от неудобного положения в пироге, на то, что спящие Ваквафи отчаянно храпели, я поистине наслаждался чудной ночью. Лучи месяца играли на поверхности реки, воды которой неуклонно стремились к морю, как человеческая жизнь к могиле. На берегах царил мрак, и ночной ветер печально вздыхал в тростниках. Слева от нас, на берегу реки, находилась песчаная отмель, на которой не было деревьев. Тут я мог различить целое стадо антилоп, подошедших к воде пить. Как вдруг раздалось зловещее рычание, и все они испуганно убежали. Через несколько минут я увидел массивную фигуру его величества, царя зверей, явившегося запивать свой обед. Он медленно двигался в тростниках в пятидесяти шагах от нас, а еще через несколько минут исполинская черная масса выделилась из воды и захрапела. Это был гиппопотам. Он был так близко от меня, что я видел, как он, движимый любопытством узнать, что такое представляют из себя наши пироги, открыл свою пасть, посмотрел и широко зевнул, давая мне возможность полюбоваться своими клыками. Я хотел было всадить ему пулю, но, подумав, оставил его в покое, тем более, что он был слишком тяжел дли нашей пироги. Скоро он бесшумно исчез из виду. При взгляде вправо, на берег, мне показалось, что я вижу темную фигуру, прячущуюся за деревьями. У меня очень острое зрение, так что я был уверен, что вижу кого-то, но был ли это зверь, птица или человек — я не мог различить. В это время темное облачко закрыло месяц, лес затих. Вдруг раздался резкий, хорошо мне знакомый крик совы, повторившийся настойчиво несколько раз. После этого наступила полнейшая тишина, только ветер шумел среди деревьев и в тростнике. Неизвестно почему, меня охватило странное нервное возбуждение. Особых причин пока не было, потому что путешественник в Центральной Африке постоянно окружен опасностями, но, тем не менее, я не мог успокоиться. Обыкновенно я смеюсь и не верю разным предчувствиям, но теперь, помимо моей воли, мной овладело гнетущее предчувствие близкой опасности. Холодный пот выступил на моем лбу, но мне не хотелось будить других. Я чувствовал, что страх мой возрастает, пульс слабо бился, как у умирающего человека, нервное состояние дошло до крайности. Это ощущение вполне знакомо тому, кто подвержен кошмарам. Но моя воля торжествовала над страхом, я продолжал полулежать в пироге, повернув лицо в сторону Умслопогаса и двоих Ваквафи, спавших около меня. На некотором расстоянии я слышал всплески гиппопотама, затем крик совы повторился неестественно визгливым вскриком.[71] Ветер жалобно тянул раздирающую сердце песню. Над нашими головами стояло мрачное облако, а под нами — холодная, черная масса воды. И я ощущал дыхание смерти в окружающем мраке! Это было гнетущее ощущение. Вдруг я почувствовал, что кровь застала в моих жилах, и сердце перестало биться. Показалось это мне, или мы двигаемся? Я перевел взгляд на другую лодку за нами, но не видел ее, а вместо нее заметил худую, черную руку, протянутую над пирогой. Неужели это кошмар? В ту же минуту темное дьявольское лицо показалось из воды. Пирога покачнулась, блеснул нож, раздался ужасный крик одного из спавших Ваквафи, и что-то теплое брызнуло мне в лицо. В одно мгновение я очнулся, понял, что это не кошмар, а нападение Мазаи. Схватив первое, что попалось под руку — это был топор Умслопогаса — я изо всей силы ударил им по тому месту, где видел руку с ножом. Удар пришелся прямо по руке и отрубил всю кисть. Дикарь не издал ни стона, ни крика. Явившись, как привидение, он исчез так же таинственно, оставив после себя отрубленную руку, все еще сжимающую меч, воткнутый в сердце нашего бедного Ваквафи. Между дикарями произошло смятение, и мне показалось, не знаю, верно ли это было, что несколько голов скользнули по воде к правому берегу, у которого должна была скоро очутиться наша пирога, так как якорная веревка была перерезана. Как только я освоился с обстановкой, я понял план дикарей. Они перерезали веревку, чтобы пирогу естественным течением реки прибило к берегу, где ждал отряд воинов с копьями, готовый перебить всех нас. Схватив весло, я велел Умслопогасу взять другое, — оставшийся в живых Аскари был ни жив, ни мертв от страха, — и мы принялись усердно грести к середине реки, и как раз вовремя, потому что через несколько минут мы оказались бы у берега, и тогда нам всем грозила смерть. Как только мы достаточно отдалились от берега, то поспешили узнать, уцелела ли наша другая пирога. Тяжелая и опасная это была работа к окружающем мраке! Очевидно милосердный Бог руководил нами. Наконец, усердно работая веслами, мы увидали нашу другую пирогу и были рады узнать, что на ней все благополучно. Несомненно, та же самая черная рука дикаря, которая перерезала нашу веревку, намеревалась сделать это и с другой пирогой, если бы дикаря не погубила непреодолимая наклонность убивать при всяком удобном случае. И хотя это стоило жизни одному из нас, но зато спасло всех остальных от гибели! Не явись эта черная рука, этот призрак около лодки, — я никогда до смерти не забуду этой минуты, — пирога была бы у берега, прежде, чем я мог понять, что случилось, и эта история не была бы написана мной!Глава 3
У МИССИОНЕРА
Мы прикрепили остатки нашей веревки к другой пироге и стали ожидать рассвета, поздравляя друг друга с избавлением от страшной опасности, что было скорее милостью к нам Провидения, чем результатом наших собственных усилий. Наконец, начало светать. Редко так радостно встречал я рассвет. На дне пироги лежал несчастный Аскари и около него окровавленная рука дикаря. Я не мог выносить этого зрелища. Взяв камень, который служил якорем для пироги, я привязал к нему убитого человека и бросил его в воду. Он пошел ко дну, и только пузыри остались на воде после него. Ах! Когда придет время, большинство из нас канет в Лету, оставив за собой только пузыри — единственный след нашего существования! Руку дикаря мы также бросили в реку. Меч, который мы вытащили из груди убитого, был очень красивой, очевидно, арабской работы, с рукояткой из слоновой кости, отделанной золотом. Я взял его себе вместо охотничьего ножа, и он оказался очень полезным мне. Один из Ваквафи перебрался в мою пирогу, и мы снова пустились в путь в невеселом расположении духа, надеясь добраться до миссии только ночью. Через час после восхода солнца полил сильный дождь, еще более ухудшивший наше положение. Мы промокли до костей, так как не могли укрыться от дождя в пирогах. Ветер упал, и паруса были бесполезны; мы ползли потихоньку с помощью весел. В одиннадцать часов мы пристали к левому берегу; дождь несколько утих, и мы развели огонь, поймали и зажарили рыбу, не смея пойти в лес поохотиться. В два часа мы тронулись в путь, взяв с собой запас жареной рыбы. Дождь полил еще сильнее. Плыть по реке становилось все труднее, благодаря камням, мелководью и чрезвычайно сильному течению. Очевидно было, что к ночи нам не добраться до гостеприимной кровли миссии — перспектива не особенно приятная! В пять часов пополудни, совершенно измученные, мы могли ясно определить, что находимся почти в 10 милях от миссии. Примирившись с этим, мы должны были позаботиться о безопасном ночлеге. Мы не решились пристать к берегу, покрытому густой растительностью, где могли спрятаться Мазаи. К счастью, мы заметили маленький скалистый островок на середине реки. Мы сейчас же пристали к нему, крепко привязали пироги и вышли на землю, стараясь устроиться возможно комфортабельнее, насколько позволяли обстоятельства. Что касается погоды, то она была отвратительна: дождь пронизывал нас до костей, мешая развести огонь. Одно обстоятельство несколько утешало нас. Наши Аскари объявили, что ничто не заставит Мазаи напасть на нас в такую погоду, так как они не любят дождя и ненавидят даже самую мысль о мытье. Мы поели невкусной холодной рыбы, все, за исключением Умслопогаса, который, как истый зулус, не выносил ее, и выпили водки, которой у нас, к счастью, осталось несколько бутылок. Это была самая тяжелая ночь, которую мне пришлось пережить, за исключением, пожалуй, той ночи, когда мы, трое белых людей, готовы были погибнуть от холода во время нашего путешествия в страну Кукуанов. Ночь тянулась бесконечно, и я боялся, что наши Ваквафи умрут от дождя и холода; они, наверное, умерли бы, если бы я не давал им небольших порций водки. Даже такой закаленный, старый воин, как Умслопогас, живо ощущал все неудобство нашего положения, хотя, в противоположность Ваквафи, которые стонали и жаловались на свою судьбу, он не произнес ни одной жалобы. Под утро мы услыхали крик совы и начали готовиться к нападению врага, хотя я не думаю, чтобы мы могли оказать серьезное сопротивление. Но сова на этот раз оказалась настоящей, да и сами Мазаи, наверное, чувствовали себя так скверно, что и не помышляли о нападении. Наконец, первые лучи рассвета скользнули по воде, и дождь перестал. Появилось лучезарное солнце, прогнало туман и обогрело воздух. Измученные, истощенные, мы поднялись и пошли отогреваться в ярких лучах, чувствуя горячую благодарность к солнцу. Я вполне понимаю, почему первобытные народы боготворили солнце, которое играло слишком большую роль в их жизни. Через полчаса мы пустились в путь с помощью попутного ветра. Вместе с солнцем к нам вернулось хорошее расположение духа, и мы готовы были смеяться над опасностями предшествовавшей ночи. В одиннадцать часов, когда ми подумывали, по обыкновению, остановиться на отдых и попытаться застрелить какую-нибудь дичь на обед, внезапный поворот реки открыл перед вами картину настоящего европейского дома, с верандой вокруг, превосходно расположенного на холме и окруженного высокой каменной стеной и рвом. Над домом широко разрослась огромная, ветвистая сосна, верхушку которой мы видели несколько раз за последние два дня, не подозревая, что она растет в самой миссии. Я первый увидел дом и не мог удержаться от радостного возгласа, к которому присоединились другие. Мы и не подумали останавливаться теперь на берегу, а усердно принялись грести, и хотя дом казался близко, однако, мы плыли долго и только в час причалили к берегу, на котором высился дом миссии. Выйдя на берег, мы заметили три фигуры, спешивших нам навстречу, одетых в обычный английский костюм. — Господин, дама и девочка, — воскликнул Гуд, вглядываясь в трио сквозь свое стеклышко, — шествуют самым цивилизованным манером, по прекрасному саду нам навстречу. Повесьте меня, если это не самая любопытная вещь, которую мы видели! Гуд был прав. Странно было видеть здесь этих европейцев; это походило на сон или на сцену из итальянской оперы. Но сон обратился в действительность, когда мы услыхали слова, обращенные к нам на чистейшем шотландском наречии: — Здоровы ли вы, господа? — сказал мистер Мекензи, седоволосый, угловатый человек, с добрым лицом и красными щеками. — Надеюсь, что вижу вас в полном здравии. Туземцы сказали мне, что час тому назад выследили две лодки с белыми людьми, плывущие по реке, и мы поспешили встретить вас! — Я так рада снова увидеть белых людей! — произнесла дама, прелестная, изящная на вид особа. Мы сняли шляпы и представились. — А теперь, вы, наверное, устали и проголодались, господа! — сказал мистер Мекензи. — Пойдемте! Мы очень рады видеть вас! Последний белый человек, который приехал к нам год тому назад, был Альфонс — вы его увидите! Мы пошли по откосу холма, нижняя часть которого была отгорожена и представляла собой сады, полные цветов и овощей. По углам этих садов группировались грибообразные хижины, занимаемые туземцами, которым покровительствовал мистер Мекензи. В центре садов была проложена дорожка, окаймленная по обеим сторонам рядами апельсиновых деревьев; они были посажены не более десяти лет тому назад, но в этом прекрасном климате разрослись до невероятных размеров и были обременены золотистыми плодами. После довольно крутого подъема, мы подошли к прекрасной ограде, заключавшей пространство земли в 4 акра, где находился собственный сад, дом, церковь и другие строения мистера Мекензи, на самой вершине холма. И что это был за сад! Я всегда любил хорошие сады и всплеснул руками от восторга, когда увидел сад миссионера. Рядами стояли здесь все лучшие европейские плодовые деревья. На вершине холма климат был так ровен, что все английские растения, деревья, цветы произрастали великолепно, были даже некоторые разновидности яблок. Была здесь земляника, томаты, и какие еще! Дыни, огурцы, всевозможные виды растений и плодов… — Великолепный у вас сад! — сказал я с восхищением и с некоторой завистью. — Да, — ответил миссионер, — сад очень хорош и вполне вознаграждает все мои труды. И климат здесь благодатный! Если вы посадите в землю персиковую косточку, она принесет вам плод через три года, а черенок розы зацветет через год. Прекрасный климат! Мы подошли ко рву, наполненному водой, на другой стороне которого возвышалась каменная стена с бойницами в 8 футов вышины. — Там, — сказал мистер Мекензи, указывая на ров и стену, — за этой стеной «magnum opus», там — церковь, а по другой стороне — дом. Мне потребовалось двадцать человек туземцев, которые два года рыли ров и строили стену, и я не был спокоен, пока работы не были окончены. Теперь я вполне огражден от всех дикарей Африки, потому что поток, наполняющий ров, вытекает из-под стены, журчит одинаково летом и зимой, и я всегда держу в доме запас провизии на четыре месяца! Пройдя по дощечке через ров, мы пролезли через узкое отверстие в стене и вошли во владения мистера Мекензи, именно, в его чудный сад, красоту которого трудно описать. Я никогда не видел таких роз, гардений, камелий (редкие сорта даже в Англии). Тут была целая коллекция прекрасных луковиц, собранных маленькой дочкой миссионера, мисс Флосси. В середине сада журчал фонтан, с каменным, очень красиво устроенным бассейном. Дом представлял собой массивное строение, с прелестной верандой, и был построен в виде четырёхугольника, четвертая сторона которого, вмещавшая кухню, была отделена от дома. Прекрасный план постройки в такой жаркой стране! В центре четырехугольника находился самый замечательный предмет из всего виденного нами в этом прелестном месте — оригинальное дерево, имевшее триста футов в вышину; ствол его имел 16 футов в диаметре. Высоко, на семьдесят футов, поднимался прямой прекрасный ствол, без единой ветви, а наверху широко разрослись темно-зеленые сучья, имевшие вид гигантских листьев, раскинулись над домом и садом, осенили его благодатной тенью и в то же время, благодаря вышине, не препятствовали свету и воздуху проникать в дом. — Какое замечательное дерево! — воскликнул сэр Генри. — Да, вы правы, удивительно красивое дерево! Во всей стране, насколько я знаю, нет такого другого! — ответил миссионер. — Я называю его сторожевой башней. Когда мне нужно, я прикрепляю веревку к нижним сучьям и поднимаюсь на дерево со зрительной трубой. Я могу видеть с дерева на 15 миль кругом. Но я забыл, что вы голодны, а обед готов. Идемте, друзья мои! Я расскажу вам, как мне удалось заполучить французского повара! Он направился к веранде. Я последовал за ним. В это время дверь, ведущая из дома на веранду, отворилась, и появился маленький, проворный человек, одетый в синюю бумазейную куртку, в кожаных башмаках, замечательный своим хлопотливым видом и огромными черными усами. — Мадам позволит мне доложить, что обед подан? Господа, мой привет вам! — внезапно, увидев Умслопогаса, который стоял позади нас и играл своим топором, он всплеснул руками от удивления. — Ах, какой человек! — вскричал он по-французски. — Какой ужасный дикарь! Заметьте, какой у него страшный топорище! — Что вы там болтаете, Альфонс? — спросил мистер Мекензи. — Болтаю? — возразил маленький француз, не отводя глаз от Умслопогаса, вид которого, казалось, совершенно очаровал его. — Что я болтаю? Я говорю об этом черном господине! Все мы засмеялись, а Умслопогас, заметив, что сделался предметом общего внимания, свирепо нахмурился. — Черт возьми! — вскричал Альфонс. — Он сердится, делает гримасы. Мне это не нравится. Я исчезаю! Он быстро убежал. Мистер Мекензи присоединился к общему смеху. — Странный характер у Альфонса! — сказал он. — Потом я расскажу вам его историю. А пока пойдем пробовать его стряпню! — Скажите мне, — сказал сэр Генри, когда мы уселись за превосходно приготовленный обед, — как вам удалось залучить французского повара в эту дикую страну? — Он приехал сюда по своему собственному желанию и просил принять его в услужение. Вы можете попросить его рассказать вам свою историю! Когда обед был окончен, мы закурили трубки, и сэр Генри описал гостеприимному хозяину все наши путешествие. — Очевидно, — сказал миссионер, — что эти ракалии Мазаи выследили вас, и я очень рад, что вы благополучно добрались сюда. Не думаю, чтобы они решились напасть на вас здесь. К несчастью, почти все мои люди ушли с караваном, около двухсот человек, а здесь осталось не более двадцати человек, чтобы отразить внезапное нападение. Во всяком случае, я отдам сейчас же кое-какие приказания! Подозвав черного человека, стоявшего у сада, он подошел к окну и что-то сказал ему на туземном диалекте. Человек выслушал, поклонился и ушел. — Смею надеяться, — сказал я, когда он вернулся на свое место, — что мы не причиним вам столько тревоги. Мы уйдем раньше, чем эти кровожадные негодяи осмелятся беспокоить вас! — Вы не уйдете. Если Мазаи идут, то придут, и я полагаю, что мы устроим им теплую встречу. Я не способен указать человеку на дверь ради всех дикарей на свете! — Я помню, — продолжал я, — консул в Ламу говорил мне, что у него есть ваше письмо, в котором вы писали, будто к вам приходил человек, заявивший, что он видел белых людей внутри страны. Как вы думаете, правда ли это, или вымысел? Я спрашиваю потому, что до меня доходили слухи о существовании этой белой расы! Вместо ответ миссионер вышел из комнаты и вернулся, держа в руках курьезнейший длинный меч. Весь клинок его, толстый и острый, был странно раскрашен, но меня удивило более всего, что края меча, остро отточенные, несмотря на существование клинка, были великолепно отделаны золотом.[72] — Видели ли вы когда-нибудь такой меч? — спросил мистер Мекензи. Мы осмотрели оружие и покачали головой. — Хорошо, я показал вам меч, потому что его мне принес человек, который сказал, что видел белых людей, и это оружие более или менее подтверждает правдивость его слов, хотя я принял все его россказни за басню. Я скажу вам все, что знаю об этом! — Однажды, после полудня, я сидел на веранде, как вдруг вошел бедный, жалкий, усталый человек. Я спросил его, откуда он пришел, и что ему надо. Он пустился в длинное повествование о том, что он принадлежал к племени, жившему далеко на севере, которое было уничтожено другим, враждебным племенем, что он с немногими, оставшимися в живых, бежал далее на север и прошел озеро, по имени Лага. Затем, кажется, путь его лежал к другому озеру, находившемуся в горах; «озеро без дна» так назвал он его. Здесь его жена и брат умерли от какой-то заразной болезни, — вероятно, от оспы, — и народ прогнал его из своих селений. Десять дней шатался он по горам и, наконец, очутился в густом лесу, где его нашел белый человек, который охотился и привел его к белым людям, жившим в больших каменных домах. Тут он прожил с неделю, пока однажды, ночью, к нему не пришел человек с белой бородой, «человек, который лечит» — так сказал он мне, — исследовал и осмотрел его. После этого его отвели опять в лес, на границу пустыни, дали ему пищи и этот меч и оставили одного. — Так, — произнес сэр Генри, слушавший с большим интересом, — что же дальше? — Согласно его словам, он перенес много страданий и лишений, неделями питался только корнями растений, ягодами и тем, что ухитрялся поймать или убить. Наконец, он добрался до нас. Я так и не узнал всех подробностей его путешествия, потому что велел ему прийти на другой день и приказал старшему из слуг позаботиться о нем. Слуга увел его. Бедняк страдал чесоткой, и жена моего слуги не хотела пустить его в хижину из боязни заразиться. Ему дали одеяло и велели спать на воздухе. К несчастью, поблизости от нас бродил лев, который заметил несчастного, прыгнул на него и откусил ему голову. Никто из людей не подозревал об этом. Так кончилась его жизнь и вся история о белых людях, и я не знаю сам, правда это или вымысел! Как вы думаете, мистер Квотермейн? — Я тоже не знаю, — отвечал я, — но в этой дикой стране так много загадочного, что мне будет досадно, если вся история окажется вымыслом! Во всяком случае, мы попытаемся и поищем! Мы намереваемся отправиться к Лекакизаре, а оттуда, если будем живы, к озеру Лага. Если там живут белые люди, мы найдем их! — Вы — отважный народ, друзья мои, — сказал миссионер с легкой улыбкой.Глава 4
АЛЬФОНС И ЕГО АНЕТА
После обеда мы осмотрели все здание и все строения миссии. Я должен сознаться, что это прекраснейший уголок во всей Африке. Мы вернулись на веранду, где нашли Умслопогаса за его любимым занятием, — он усердно чистил винтовки. Это была единственная работа, которую он признавал, потому что начальник зулусов не мог унизить своего достоинства какой-нибудь другой работой. Курьезное зрелище представлял из себя огромный зулус, сидящий на полу, тогда как его боевой топор стоял около него, прислоненный к стене. Его тонкие аристократические руки деликатно и заботливо чистили механизм винтовок. Он придумал имя каждой винтовке. Одну, принадлежавшую сэру Генри, он называл «Громобой», другую маленькую, но дающую сильный выстрел — прозвал «малюткой, которая говорит, словно хлещет». Винчестеры он называл «женщины, которые говорят так быстро, что не различишь одного слова от другого», винтовки Мартини он называл «обыкновенным народом», и так все до одной. Курьезно было слышать, как он, во время чистки, разговаривал с ними, как с людьми, шутил с самим добродушным видом. Он беседовал также со своим топором, считая его, кажется, задушевным другом, и целыми часами рассказывал ему свои приключения. С присущим ему юмором, он назвал свои топор «Инкози-каас», что значит «начальница» на языке зулусов. Я удивлялся такому названию и, наконец, спросил его об этом. Он объяснил мне, что его топор — женского пола, потому что у него женская привычка глубоко проникать во все. Он добавил, что его топор заслуживает названия «начальницы», так как все люди падают перед ним, подавленные его силой и красотой. Кроме того, Умслопогас советовался со своим топором во всех затруднениях, потому что этот топор, по его словам, обладает большой мудростью, так как «заглянул в мозги многих людей». Я взял топор и долго рассматривал ужасное оружие. Роговая рукоятка имела около трех футов длины, с шишкой на конце, величиной с апельсин, чтобы не скользила рука. Около этого набалдашника было сделано много зарубок, обозначавших число людей, убитых топором. Он был сделай из прекраснейшей стали и хорошо отшлифован. Умслопогас не знал, наверное, происхождения этого топора, так как взял его из рук человека, которого убил несколько лет тому назад.[73] Топор не был тяжел, весил всего 21/2 фунта, как я думаю, но в руках Умслопогаса был смертоносным орудием. Обыкновенно он с силой ударял врага несколько раз набалдашником топора, употребляя острие только в особых случаях. Благодаря этой привычке долбить врага, он и получил прозвище «Дятел». Умслопогас дорожил своим замечательным и ужасным оружием больше собственной жизни. Он выпускал его из рук только, когда ел, но и тогда топор лежал у него под ногой. Едва я успел отдать Умслопогасу топор, явилась мисс Флосси и просила меня посмотреть коллекцию ее цветов, африканских лилий и цветущих кустов. Некоторые были удивительно красивы, хотя совершенно неизвестны мне. Я спросил ее, не слыхала ли она о лилии «Гойа», чудная красота которой поражала африканских путешественников. Эта лилия цветет только однажды в 10 лет и любит сухую почву. Позднее мне удалось увидеть этот редкий цветок, и я не сумею описать его красоту и необыкновенно нежное и сладкое благоухание. Цветок выходит из венчика луковицы толстым мясистым стебельком и иногда имеет до 14 дюймов в диаметре. Сначала образуются зеленые ножны, потом появляются цветистые усики и грациозно вьются по стеблю. В конце концов, выходит сам цветок, ослепительно белая дуга которого заключает в себе чашечку бархатистого малинового цвета; из середины этой чашечки выглядывает золотистый пестик. Я никогда не видел ничего подобного этому роскошному цветку, который мало кому известен. Смотря на него, я невольно подумал, что в каждом цветке отражается величие и слава Создателя! К моему удовольствию, мисс Флосси заявила мне, что хорошо знает цветок, и пыталась вырастить его в своем саду, но безуспешно. — Впрочем, — добавила она, — теперь такое время, что он цветет, и я постараюсь достать вам одни экземпляр! Затем я спросил ее, не скучает ли она здесь и не чувствует ли себя одинокой, среди дикарей, не имея подруг-сверстниц. — Одинока ли я? — возразила мисс Флооси. — О, нет! Я счастлива и занята целый день, у меня есть друзья. Мне противно было бы находиться в толпе белых девочек, таких же, как я! Здесь, — продолжала она, — качнув головкой, — я — это я сама! На несколько миль в окружности туземцы хорошо знают «Водяную лилию», — так называют они меня, — и готовы все сделать для меня. А в книжках, которые я читала о маленьких девочках в Англии, ничего нет подобного. Всего они боятся и делают только то, что нравится их учительнице! О, если б меня посадили в клетку — это разбило бы мне сердце! Я свободна теперь, свободна, как воздух! — Разве вы не любите учиться? — Я учусь. Отец учит меня латыни, французскому языку и арифметике! — Вы не боитесь этих дикарей? — Бояться? О, нет, они не трогают меня. Я думаю, они верят, что я «Нгои» (божество), потому что у меня белая кожа и золотистые волосы. Взгляните! — она сунула свою маленькую ручку за корсаж платья и достала маленький револьвер в виде бочёночка. — Я всегда ношу его с собой заряженным, и если кто-нибудь тронет меня, я убью его! Однажды я убила леопарда, который набросился на моего осла. Он перепугал меня, но я выстрелила ему в ухо, и он упал мертвым. Шкура этого леопарда лежит вместо ковра у моей кровати. — Посмотрите теперь сюда! — продолжала она изменившимся голосом, указывая вдаль. — Я сказала вам, что у меня есть друзья, вот один из них! Я взглянул по тому направлению, куда она показывала и увидал прекрасную гору Кениа. Гора почти всегда скрывалась в тумане, но теперь ее лучезарная вершина сияла издалека, хотя подошва была еще окутана туманом. Вершина, поднимающаяся на 20 000 футов к небу, казалась каким-то видением, висящим между небом и землей. Трудно описать торжественное величие и красоту белой вершины. Я смотрел на нее вместе с девочкой и чувствовал, что сердце мое усиленно бьется, и великие и чудные мысли озаряют мозг, как лучи солнца искрятся на снегах горы Кениа. Туземцы называют гору «Божием перстом», и это название, кажется мне, говорит о вечном мире и торжественной тишине, царящей там, в этих снегах. Невольно вспомнились мне слова поэта: красота — это радость каждого человека! И я в первый раз понял всю глубину его мысли. Разве не чувствует человек, смотря на величественную, снегом покрытую гору, эту белую гробницу протекших столетий, — свое собственное ничтожество, разве не возвеличит Творец в сердце своем? Да, эта вечная красота радует сердце каждого человека, и я понимаю маленькую Флосси, которая называет гору Кениа своим другом. Даже Умслопогас, старый дикарь, когда я указал ему на снежную вершину, сказал: «человек может смотреть на нее тысячу лет и никогда не наглядеться!» Он придал своеобразный колорит своей поэтической мысли, когда добавил протяжно, словно печально пел, что когда он умрет, то желал бы, чтобы его дух вечно находился на снежно-белой вершине, овеянной дыханием свежего горного ветра, озаренный сиянием света, и мог бы убивать, убивать, убивать!.. — Кого убивать, кровожадный старик? — спросил я. Он задумался. — Тени людей! — наконец, ответил он. — Ты хочешь продолжать убивать даже после смерти? — Я не убиваю, — отвечал он важно, — я бью во время боя. Человек рожден, чтобы убивать. Тот, кто не убивает — женщина, а не мужчина! Народ, который не знает убийства, — племя рабов. Я убиваю людей в битве, а когда я сижу без дела «в тени», то надеюсь убивать! Пусть будет проклята навеки моя тень, пусть промерзнет до костей, если я перестану убивать людей, подобно бушмену, когда у него нет отравленных стрел! — и он ушел, полный собственного достоинства. Я засмеялся ему вслед. В это время вернулись люди, посланные нашим хозяином еще рано утром разузнать, нет ли в окрестностях следов Мазаев, и объявили, что обошли на 15 миль всю окружность и не видали ни одного дикаря. Они надеялись, что дикари бросили преследование и ушли к себе. Мистер Мекензи, видимо, обрадовался, узнав это, впрочем, как и мы, так как имели достаточно забот и тревог от Мазаев. В общем, мы полагали, что дикари, зная, что мы благополучно достигли миссии, не рискнули напасть на нас здесь и бросили погоню. Как обманчивы были наши догадки, показало нам дальнейшее! Когда мистер Мекензи и Флосси ушли спать, Альфонс, маленький француз, пришел к нам, и сэр Генри просил его рассказать, как он попал в Центральную Африку. Он рассказал нам все таким странным языком, что я не берусь воспроизводить его. — Мой дедушка, — начал он, — был солдатом и служил в гвардии еще при Наполеоне. Он был в войске при отступлении из Москвы и питался целые 10 дней голенищами своих сапог и чужих, которые он украл у товарища. Он любил выпить и умер пьяный. Помню, я барабанил по его гробу… Мой отец… Здесь мы перебили его, попросив рассказать о себе и оставить предков в покое. — Хорошо, господа! — возразил маленький смешной человек с учтивым поклоном. — Я хотел только указать вам, что военные наклонности не наследственны. Мой дед был великолепный мужчина, 6 футов роста, крепко сложенный и силач. Очень замечательны были его усы. Ко мне перешли только эти усы, и больше ничего. Я, господа, повар и родился в Марселе. В этом милом городе я провел счастливую юность. Годами я мыл посуду в отеле Континенталь. То были золотые дни! — прибавил он со вздохом. — Я — француз, и неудивительно, господа, что я поклоняюсь красоте! Я обожаю красоту. Господа, мы любуемся розами в саду, но срываем одну из них. Я сорвал одну розу, господа, увы! Она больно уколола мне палец. Это была прелестная служанка, Анета, с восхитительной фигуркой, ангельским личиком, а ее сердце! Увы! Я хотел бы обладать им, хотя оно черно и жестко, как книга в кожаном переплете. Я любил ее без ума, обожал ее до отчаяния. Она восхищала меня. Никогда я не стряпал так чудесно, как тогда, когда Анета, дорогая Анета, улыбалась мне! Никогда, — голос его оборвался в рыданиях, — никогда не буду я так хорошо стряпать! Он залился горькими слезами. — Перестаньте! Успокойтесь! — произнес сэр Генри, дружески хлопнув его по спине. — Неизвестно, что может еще случиться. Если сулить по сегодняшнему обеду, то вы на пути к выздоровлению! Альфонс перестал плакать и потер себе спину. — Господин думает, конечно, утешить меня, но рука у него тяжелая. Продолжаю: мы любили друг друга и были счастливы. Птички в своем гнездышке не были счастливее Альфонса и его Анеты. И вдруг разразился удар! Господа простят мне, что я плачу. Мое горе было очень тяжело. Фортуна отомстила мне за обладание сердцем Анеты. Наступила тяжелая минута. Я должен был сделаться солдатом! Я бежал, но был пойман грубыми солдатами, и они колотили меня прикладами ружей до тех пор, пока мои усы от боли не поднялись кверху. У меня был двоюродный брат, торговец материями, очень некрасивый собой. — Тебе, кузен, — сказал я, — тебе, в жилах которого течет геройская кровь наших предков, я поручаю Анету. Береги ее, пока я буду завоевывать славу в кровавых боях! — Будь спокоен! — отвечал он. — Я все сделаю! — И он сделал, как оказалось впоследствии. — Я ушел, жил в бараках и питался жидким варевом. Я — образованный человек, поэт по натуре, я много вытерпел от грубости окружающих. Был у нас один сержант и имел тросточку. Ах, эта трость! Никогда я не забуду ее! — Однажды утром пришли новобранцы. Моему батальону приказано было отправиться в Тонкин. Злой сержант и другие грубые чудовища обрадовались. Я навел справки о Тонкине. В Тонкине жили дикие китайцы, которые вскрывают людям животы. Мои артистические наклонности, — потому что я артист, — возмутились против мысли, что мне могут вскрыть живот. Великие люди принимают великие решения. Я подумал и решил, что не желаю вскрыть себе живот, и дезертировал. Переодетый стариком, я добрался до Марселя, вошел в дом кузена и нашел там Анету. Это было как раз во время сбора вишен. Они забрали себе большой сук вишневого дерева, полный вишен. Мой кузен положил одну вишню себе в рот, Анета съела несколько. Они обрывали сук до тех пор, пока губы их встретились и о, ужас! Они поцеловались! Игра была очень интересна, но наполняла мое сердце яростью. Геройская кровь предков закипела во мне. Я бросился в кухню, ударил кузена моим костылем. Он упал, я убил его. Анета закричала. Прибежали жандармы. Я убежал, добрался до гавани и спрятался на корабле, который шел в море. Капитан нашел и прибил меня, но не высадил на берег, потому что я отлично ему стряпал, стряпал всю дорогу до Занзибара. Когда я попросил заплатить мне, он толкнул меня ногой. Геройская кровь деда снова закипела во мне. Я показал ему кулак и поклялся отомстить. Он снова толкнул меня. В Занзибаре нас ждала телеграмма. Я проклял человека, который изобрел телеграф, и проклинаю теперь. Меня арестовали за дезертирство и за убийство. Я бежал из тюрьмы, долго скрывался и, наконец, наткнулся на людей доброго господина кюре. Они привели меня сюда. Я весь переполнен моим горем, но не возвращусь во Францию. Лучше рисковать жизнью в этом ужасномместе, чем познакомиться с тюрьмой! Он замолчал, а мы задыхались от смеха, отвернувшись от него. — А, вы плачете, господа! — оказал он, — Неудивительно! — Это такая печальная история! — Быть может, геройская кровь ваших предков восторжествует еще раз, — сказал сэр Генри, — быть может, вы еще будете великим человеком! А теперь, пора спать! Я устал до смерти. Мы все плохо спали прошлую ночь! Мы ушли. Как странны казались нам опрятные комнаты и белоснежные простыни после наших недавних приключений!Глава 5
УМСЛОПОГАС ДАЕТ ОБЕЩАНИЕ
На следующее утро, когда мы собрались к завтраку, я заметил отсутствие Флосси и спросил, где она. — Сегодня утром, — сказала ее мать, — я нашла записку у моей двери… Да вот и записка, вы можете сами прочитать ее! Она подала мне кусочек бумаги, на котором рукой Флосси было написано следующее: «Дорогая мама! Уже светло, и я отправляюсь на холм добыть г. Квотермейну цветок лилии, который ему так нравится. Не ждите меня. Я взяла с собой белого ослика, няню и пару мальчиков, а также немножко провизии. Я могу пробыть в лесу долго, целый день, потому что решила достать лилию, хотя бы мне и пришлось пройти 20 миль. Флосси». — Надеюсь, что она вернется благополучно, — оказал я с испугом, — я никогда не подумал бы беспокоить ее этим цветком! — Флосси сама знает, что делает, — ответила мать, — она часто убегает так, как настоящая дикарка! Но мистер Мекензи, который только что вошел и прочитал записку, нахмурился, хотя ничего не сказал. После завтрака я отвел его в сторону и спросил, нельзя ли послать кого-нибудь за девочкой и вернуть ее домой, ввиду того, что поблизости могут скрываться Мазаи, и она попадет прямо к ним в руки. — Я боюсь, что это бесполезно! — ответил он. — Она, может быть, ушла теперь за 15 миль, и кто может сказать, по какому пути она пошла. Повсюду здесь холмы! — он указал на длинный ряд возвышенностей, тянувшихся параллельно течению реки Таны и постепенно спускавшихся в покрытую кустарником равнину, на расстоянии 5 миль от дома. Я предложил взобраться, на большое дерево и посмотреть на окрестность через зрительную трубу. Мы так и сделали, кроме того, мистер Мекензи приказал своим людям пойти поискать следы Флосси. Подъем на дерево был не особенно удобен даже по веревочной лестнице, но Гуд быстро и ловко первым влез туда. Добравшись до вершины дерева, мы взошли без труда на площадку из досок, перекинутых с одного сука на другой, на которой легко могла поместиться дюжина людей. Вид с площадки был великолепный. По всем направлениям кусты казались огромными волнами, катящимися на целые мили, и далеко, насколько можно было видеть, там и здесь пересекались яркой зеленью возделанных полей или сияющей поверхностью озер. К северо-востоку Кениа поднимала свою могучую голову, и мы могли видеть, как река Тана извивалась, словно серебристый змей, у ее подошвы и текла дальше в океан. Это — дивная, чудная страна и ждет руки цивилизованного человека, который бы развил ее производство. Но мы не заметили никакого признака Флосси и ее ослика и сошли с дерева опечаленные. На веранде я нашел Умслопогаса. Он точка свой топор маленьким оселком, который он всегда носил с собой. — Что ты делаешь, Умслопогас? — спросил я. — Пахнет кровью, — был ответ, — я тороплюсь наточить его! После обеда мы опять взобрались на дерево и осмотрели всю окрестность, но безуспешно. Когда мы сошли вниз, Умслопогас все еще точил свой «Инкози-каас», хотя топор был остер, как бритва. Альфонс стоял перед ним и смотрел на него со страхам и восхищением. Действительно, сидя на корточках, по обычаю зулусов, Умслопогас представлял собой странное зрелище со своим диким, но осмысленным лицом, натачивая непрестанно свой убийственный топор. — О, чудовище, ужасный человек! — воскликнул маленький француз, всплеснув руками. — Посмотрите на его голову! Словно у крошечного бэби! И кто только вскормил такого дитятку! — он разразился смехом. С минуту Умслопогас смотрел на него, и злой огонек загорелся в его глазах. — Что такое болтает эта буйволица? (Так называл Альфонса Умслопогас из-за его усов, женственных движений и маленького роста.) Пусть он будет осторожнее, или я обломаю ему рога. Берегись ты, маленькая обезьяна, берегись! К несчастью. Альфонс продолжал смеяться над «смешным черным господином». Я только хотел предупредить его, как вдруг зулус вскочил с веранды, подбежал к нему с лицом, искаженным злобой, и начал вертеть своим топором над головой француза. — Перестань! — закричал я французу. — Стойте смирно, если вам дорога жизнь! Он убьет вас! Сомневаюсь, чтобы Альфонс, совершенно перепуганный, слышал меня. Затем последовали странные манипуляции с топором. Сначала топор летал над головой Альфонса с необыкновенной легкостью и силой все ближе и ближе к голове несчастного, почти касаясь ее. Потом вдруг движение его изменилось, — он начал летать буквально вокруг всего тела Альфонса, не ближе нескольких дюймов, но не задевал его. Странное зрелище представлял из себя маленький человек, скорчившийся, не смевший двинуться с места из опасения неминуемой смерти. Его черный палач продолжал вертеть около него топором, сверху, справа, слева, вокруг всего маленького человека. Более минуты продолжалось это, потом я увидел, как что-то блестящее коснулось лица Альфонса, и что-то черное упало на землю. Это был кончик щегольских усов маленького француза. Умслопогас облокотился на свой топор и громко захохотал, а Альфонс, подавленный страхом, упал на землю. Мы стояли и смотрели, пораженные этим сверхъестественным искусством владения оружием. — Инкози-каас очень остер! — сказал зулус. — Удар, отрубивший рог буйволицы, мог бы разрубить человека с головы до пят. Редко кто умеет так ударить, как я. Смотри, маленькая буйволица! Добрый ли я человек, если смеюсь теперь? Ты был на волосок от смерти. Не смейся опять! Я все сказал! — Зачем ты выкидываешь такие штуки? — спросил я дикаря с негодованием. — Ты, вероятно, помешан! Ты мог убить человека! — Нет, Макумацан, я не убью! Трижды, пока топор летал, недобрый дух шептал мне, чтобы я прикончил его; но я не послушал его. Я пошутил, но «буйволица» нехорошо делает, что насмехается надо мной. Теперь я пойду делать щит, я слышу, что пахнет кровью, Макумацан! Поистине, пахнет кровью! Разве ты не замечал перед битвой, как появляются на небе коршуны? Они слышат запах крови, Макумацан, а мое чутье еще острее. Я иду делать щит! — Этот ваш дикарь довольно неприятная личность! — сказал мистер Мекензи, бывший свидетелем всей сцены. — Он напугал Альфонса, посмотрите! — миссионер указал на француза, который, весь дрожа, с побелевшим лицом, направлялся к дому, — Я не думаю, чтобы он стал еще смеяться над «черным господином»! — Да, — отвечал я, — он зло шутит! Когда он рассердится, с ним беда, а между тем у него предоброе сердце! Я помню, как несколько лет тому назад он нянчил целую неделю больного ребенка. У него странный характер, но он правдив и верный товарищ в опасности! — Он уверяет, что пахнет кровью, — возразил мистер Мекензи, — надеюсь, что он ошибается. Я страшно боюсь за мою дочку. Она или ушла далеко, или сейчас будет дома. Уже больше трех часов теперь! Я напомнил ему, что Флосси взяла с собой провизии и может вернуться не раньше ночи. В душе я сильно опасался за нее. Вскоре после этого, люди, которых мистер Мекензи посылал на поиски Флосси, вернулись и сказали, что они нашли следы ослика за две мили от дома и потом потеряли их на каменистом грунте. Они исходили страну вдоль и поперек, но безуспешно. День прошел очень скучно. К вечеру, когда о Флосси не было и помину, наши опасения дошли до крайнего предела. Бедная мать совершенно растерялась от страха, но отец Флосси еще крепился. Все возможное было сделано. Люди были разосланы по всем направлениям, на большом дереве учредили постоянный наблюдательный пост. Все напрасно. Стемнело. Милая Флосси исчезла. В восемь часов мы сели ужинать. Тяжелый это был ужин. Миссис Мекензи не вышла. Мы сидели молча. Кроме понятного страха за участь ребенка, нас давила мысль, что мы навлекли столько горя и тревоги на дом гостеприимного хозяина. Наконец, я попросил извинения и встал из-за стола. Мне хотелось уйти и подумать обо всем. Я ушел на веранду и, закурив трубку, сел в десяти шагах от конца строения. Как раз напротив меня находилась узкая дверь в стене, огораживающей дом и сад. Я сидел так минут 6 или 7, как вдруг услыхал легкое движение двери. Я взглянул в этом направлении, прислушался и решил, что ошибся. Ночь была очень темна, и месяц еще не взошел. Через минуту вдруг что-то круглое, мягкое упало на каменный пол веранды и покатилось около меня. Я не встал, хотя очень удивился и подумал, что это было какое-нибудь животное. Потом другая мысль пришла мне в голову, я встал и дотронулся рукой до круглого предмета. Он двигался. Очевидно, это не животное. Что-то мягкое, теплое, легкое. Испуганный, я поднял его, чтобы разглядеть при слабом мерцании звезд. Это была только что отрубленная человеческая голова. Я старый воробей и не часто пугаюсь, но при этом зрелище чуть не упал. Как эта голова попала сюда? Что это значит? Я бросил ее и побежал к двери. Никого и ничего. Я хотел войти дальше, в темноту, но, вспомнив, что рискую быть убитым, вернулся назад, запер дверь и заложил ее. Затем я пошел на веранду и, насколько мог, постарался беззаботно позвать Куртиса. Но, вероятно, в моем голосе было что-то особенное, потому что и сэр Генри, и Гуд, и Мекензи встали из-за стола и прибежали ко мне. — Что случилось? — спросил миссионер испуганно. Я рассказал им. Мистер Мекензи повернулся ко мне, бледный, как смерть, схватил голову за волосы и поднес ее к свету, проникающему сюда из комнаты. — Это голова одного из людей, сопровождавших Флосси! — сказал он дрожащим голосом. — Слава Богу, что это не ее голова! Мы стояли и смотрели друг на друга. Что делать? Вдруг раздался стук в дверь, которую я запер. — Открой, отец мой, открой! — кричал чей-то голос. Дверь открыли. Вошел испуганный человек, один из слуг, которые были посланы на разведку. — Отец мой, — кричал он, — Мазаи близко! Большой отряд обошел вокруг холма и двинулся к каменному краалю, через поток. Отец мой! Укрепи свое сердце! В середине отряда я видел белого осла и на нем сидела «Водяная Лилия». Молодой воин ведет осла, а рядом идет и плачет нянька. Другого человека, который пошел с ними, я не видал. — Дитя спокойно? — спросил миссионер хриплым голосом. — Она бела, как снег, но спокойна, отец мой! Они прошли около меня, где я лежал, спрятавшись, и я хорошо видел лицо «Водяной Лилии»! — Помоги ей, Боже! — простонал священник. — Сколько их всех? — спросил я. — Больше двухсот, двести и половина! Снова мы посмотрели друг на друга. Что делать? В это время из-за стены донесся до нас шум и крики. — Открой дверь, белый человек, открой дверь! Вестник хочет говорить с тобой! — крикнул чей-то голос. Умслопогас побежал к стене, взобрался на нее и начал смотреть туда. — Я вижу одного человека! — сказал он. — Он вооружен и несет в руке корзину! — Открой дверь! — сказал я. — Открой, Умслопогас, возьми твой топор и встань около двери. Впусти одного человека. Если за ним последует другой, бей его! Дверь была открыта. В тени встал Умслопогас с поднятым топором. В это время на небе появился месяц. После минутной паузы показался Мазаи Эльморан, в полном вооружении, с корзиной в руке. Луч месяца заблестел на его огромном копье. Это был физически великолепный человек, около 35 лет, высокий, превосходно сложенный. Я никогда не видел между Мазаями людей меньше шести футов роста. Остановившись против нас, он бросил корзину и воткнул копье в землю. — Позволь нам говорить! — оказал он. — Первый вестник, которого мы тебе послали, не может говорить! Он указал на мертвую голову, — ужаснейшее зрелище при свете месяца, — но я имею слово вам сказать, если у вас есть уши, чтобы слышать их. Я принес подарки! Он показал на корзину и засмеялся с небрежным видом, поистине удивительным, так как он был окружен врагами. — Говори! — сказал мистер Мекензи. — Я — лигонини (капитан) из отряда Мазаев. Мы выследили этих трех белых людей, — он указал на сэра Генри, Гуда и меня, — но они скрылись от нас. Мы поссорились с ними и решили убить их! Следя за этими людьми, сегодня утром мы поймали двух черных людей, одну черную женщину, белого осла и белую девочку. Одного из черных людей мы убили — его голова лежит тут! Другом убежал. Черная женщина, белая девочка и белый осел у нас. Мы взяли их и привели сюда. В доказательство этого я принес сюда корзину. Скажи мне, это корзина твоей дочери? Мистер Мекензи кивнул головой. — Хорошо! Мы не ссорились с тобой и твоей дочерью и не желаем беспокоить тебя, хотя мы взяли твой скот — двести сорок голов! Пригодится для наших отцов.[74] Мистер Мекензи застонал, так как высоко ценил свой скот, который заботливо хранил и растил. — Кроме скота, мы никого не тронем, потом, — добавил он простодушно, поглядывая на стену, — из этого места трудно достать кого-нибудь! Но эти люди — другое дело. Мы следили за ними дни и ночи и должны убить их. Если мы вернемся к себе в крааль, не убив их, все девушки будут смеяться над нами. Во что бы то ни стало, они должны умереть. Пусть слышат теперь твои уши мое предложение! Мы не трогали белую девочку. Ома слишком красива, и дух ее смел. Отдай нам одного из этих трех людей, — жизнь за жизнь! Мы отдадим тебе девочку и с ней также черную женщину. Прекрасный обмен, белый человек! Мы просим отдать только одного из трех, мы найдем другой случай убить двух других. Я предпочитаю взять вот этого толстого, — он указал на сэра Генри. — он выглядит силачом и не так скоро умрет! — А если я скажу, что не выдам ни одного? — сказал мистер Мекензи. — Не говори так, белый человек, — отвечал воин. — Тогда дочь твоя умрет, а черная женщина говорит, что у тебя только одно дитя. Будь она старше, я взял бы ее к себе, но она очень мала, и я убью ее моей собственной рукой вот этим копьем! Ты можешь прийти и посмотреть, если хочешь! Вот тебе мое условие! — дикарь громко засмеялся. Все это время я думал и пришел к заключению, что должен заменить Флосси. Я боялся только недоразумения. В моем решении не было ничего героического. Это было дело простого здравого смысла и справедливости. Моя старая, негодная жизнь никому не нужна, девочка только начинала жить. Ее смерть убила бы ее родителей, а обо мне некому горевать. Напротив, несколько благотворительных учреждений порадовались бы моей смерти. Тем более, дорогое, милое дитя ради меня попало в это положение! Кроме того, мужчина легче встретит смерть в такой ужасной форме, чем слабое, нежное дитя. Я не трус и от природы смелый человек, но мой план заключался в том, чтобы выручить прежде всего девочку из беды, а затем убить себя, надеясь, что Всемогущий Бог простит мне самоубийство в таких исключительных обстоятельствах. В несколько секунд все эти мысли промелькнули в моей голове. — Хорошо, Мекензи, — сказал я, — скажи дикарю, что я буду выкупом за Флосси, но что я ставлю условием, чтобы она была дома, прежде чем они убьют меня! — Нет! — вскрикнули вместе и сэр Генри, и Гуд. — Это невозможно! — Нет, нет, — возразил миссионер, — я не запачкаю своих рук человеческой кровью! Если Богу угодно, моя дочь умрет, на то Его святая воля. Вы храбрый и благородный человек, Квотермейн, но я нам не позволю сделать это! — Если другого исхода нет, я сделаю это! — сказал я решительно. — Это важное дело, — сказал мистер Мекензи, обращаясь к лигонини, — мы должны подумать! На рассвете мы дадим ответ! — Очень хорошо, белый человек! — отвечал небрежно дикарь. — Только помни, если запоздаешь с ответом, твое дитя никогда не расцветет в пышный цветок, я убью ее вот этим копьем! Я мог подумать, что ты хочешь сыграть с нами шутку и напасть на нас сегодня ночью, но я знаю, что все твои люди ушли, здесь у тебя только 20 человек. Где ж твоя мудрость, белый человек, оставлять при краале так мало воинов! Ну, доброй ночи, прощай! Доброй ночи вам, белые люди, ваши глаза я скоро закрою навсегда! На заре я буду ждать ответа! — Повернувшись к Умслопогасу, стоявшему позади него, он произнес. — Открой мне дверь, товарищ! Это было уж слишком для старого вождя, который терял терпение. Последние десять минут он не мог стоять спокойно и готов был броситься на дикаря. Положив свою длинную руку на плечо воина, он дал ему такой здоровый толчок, что тот очутился лицом к лицу с ним. Приблизив свое свирепое лицо к злобным чертам Мазаи, он сказал тихим голосам: — Видишь ты меня? — Да, товарищ, я вижу тебя! — А это видишь? — он завертел топором перед его глазами. — Да, товарищ, а вижу эту игрушку. Что из этого? — Ты, дикая собака, хвастливый мешок, захватывающий маленьких девочек! Этой игрушкой я убью тебя! Хорошо, что ты вестник, а то я раздробил бы тебя на кусочки! Воин махнул своим длинным копьем и засмеялся. — Я хотел бы стоять с тобой в бою, как муж с мужем! Тогда бы мы посмотрели! Он повернулся, чтобы уйти, все еще смеясь. — Ты будешь стоять со мной, как муж с мужем, не бойся! — возразил Умслопогас тем же зловещим голосом. — Ты встанешь лицом к лицу с Умслопогасом, происходящим от царственной крови Чеки, из народа Амазулусов, и согнешься под ударами Инкози-кааса. Смейся, смейся! Завтра ночью шакалы будут смеяться и грызть твои кости! Когда воин ушел, один из нас взял корзину Флосси и открыл ее. В корзине находился чудный цветок лилии Гойа, в полном расцвете и совершенно свежий. Там же лежала записочка Флосси, написанная ее детской рукой, карандашом, на кусочке сырой бумаги, в которой, вероятно, была завернута провизия. «Дорогие мои папа и мама! — писала она. — Мазаи схватили нас, когда мы возвращались домой. Я хотела убежать, но не могла. Они убили Тома, другой убежал. Меня и няню они не трогают, но говорят, что потребуют в обмен за нас одного человека из отряда мистера Квотермейна. Я не хочу ничего подобного. Не позволяйте никому рисковать своей жизнью за меня. Попытайтесь напасть на них ночью! Они будут пировать и есть трех быков, которых украли и убили. У меня есть револьвер, и если помощь не придет, я застрелюсь! Им не удастся убить меня. Вспоминайте обо мне, если я умру, дорогие папа и мама! Я очень испугана, но надеюсь на Бога. Не смею больше писать, они начинают замечать! Прощайте! Флосси». С наружной стороны было кое-как начиркано: «Привет мой мистеру Квотермейну! Они обещали отдать вам корзину, и он получит свою лилию!» Я прочитал эти слова, написанные маленькой смелой девочкой в часы тяжелой опасности, когда сильный мужчина мог потерять голову, тихо заплакал и еще раз в душе поклялся, что она не умрет, если моя жизнь может спасти ее! Долго и серьезно обсуждали мы наше положение. Я снова говорил, что пойду к дикарям, снова миссионер не хотел допустить этого, и Куртис, и Гуд, как истинные друзья, поклялись, что пойдут тогда со мной, чтобы умереть вместе. — Необходимо на чем-нибудь остановиться, — сказал я, — до наступления утра! — Тогда нападем на них теми силами, какие у нас есть и попытаем счастья! — сказал сэр Генри. — Да, да, — заворчал Умслопогас на своем языке, — ты говоришь, как муж Инкубу. Чего бояться? Двести пятьдесят Мазаев! А нас сколько? Начальник (мистер Мекензи) имеет двадцать человек, у тебя, Макумацан, 5 человек, еще 5 белых людей, всего 30 человек! Довольно с нас, довольно! Слушай, Макумацан, ты, храбрый и старый воин! Что говорит девочка? Мазаи будут есть и напьются, пусть это будет их похоронный пир! Что сказала мне собака, которую я убью на рассвете? Что он не боится нападения, потому что нас мало. Знаешь ты этот старый крааль, где они расположились? Я видел его утром. — Он начертил овал на полу. — Здесь — вход, через терновый кустарник, он круто поднимает вверх. Инкубу, ты, и я с топорами первые встанем и начнем против сотни человек! Слушай теперь! Это будет славный бой! Как только свет начнет скользить по небу, не раньше, пусть Бугван, твой друг, проскользнет с 10 людьми на верхний конец крааля, где есть узкий вход. Пусть они молча убьют часовых, чтоб не было звука, и стоят наготове. Тогда Инкубу и я, мы двое, и один из Аскари, с широкой грудью, — он смелый человек, — проползем в отверстие входа, через кусты, убьем часовых и с топорами в руках встанем по сторонам дороги, недалеко от ворот. Потом возьмем 16 человек, разделим их на два отряда! С одним пойдешь ты, Макумацан, с другим «молитвенный человек» (Мекензи), и возьмите винтовки. Пусть одни идут по правой стороне от крааля, другие — по левой. Когда ты, Макумацан, заревешь, как бык, все откроют огонь по спящим людям, только осторожно, чтоб не задеть дитя. Тогда Бугван и с ним 10 людей издадут воинственный клич, перепрыгнут через стену и перебьют Мазаев. Если все случится так, то Мазаи, сытые и сонные, как дикие звери побегут ко входу в кустарник, прямо на тех, кто будет стоять у входа, а я, Инкубу и Аскари подождем и перебьем остальных. Вот мои план, если у тебя есть лучше, скажи! Я объяснил остальным все подробности плана, и они присоединились ко мне, выражая величайшее удивление ловко и умно составленному плану атаки. Старый зулус поистине был лучшим командиром, какого я знал. Посте некоторого обсуждения мы порешили принять этот план, представлявший единственный возможный исход и подававшим некоторую надежду на успех. — Ага, старый лев! — сказал я Умслопогасу, — ты умеешь так же хорошо выжидать добычу, как кусать ее, умеешь ловко хватать ее, где ее слишком много! — Да, да, Макумацан! — ответил он, — Сорок лет я воин, и много чего видал. Хороший будет бой! Пахнет кровью, я говорил тебе, пахнет кровью!Глава 6
РАССВЕТ БЛИЗОК
Понятно, что при первом появлении Мазаев все население миссии высыпало наружу, за каменную стену. Мужчины, женщины, дети собрались группами, разговаривая о дикарях, об их обычаях, об участи, которая ждет их, если кровожадным воинам удастся проникнуть за стену. Мы принялись немедленно за выполнение плана. Мистер Мекензи послал привести мальчиков 12–15 лет и направил их в разные места следить за лагерем Мазаев с приказанием доносить время от времени, что там происходит. Несколько парней и женщин были поставлены вдоль стены, чтобы предупредить нас в случае неожиданного нападения. Затем двадцать человек, составлявшие наши главные силы, собрались в доме, и наш хозяин обратился к ним и к нашим Аскари с речью. Это была исключительная сцена, оставившая глубокое впечатление на присутствовавших. Около огромного дерева стояла коренастая фигура миссионера. Он снял шляпу, одна рука его, пока он говорил, была поднята кверху, другая покоилась на гигантском стволе дерева. На добром лице его ясно отражалась душевная скорбь. Близ него сидела на стуле его бедная жена, закрыв лицо руками. Сбоку стоял Альфонс, выглядевший очень печально, а позади него стояли мы трое. За ними Умслопогас, склонив вниз свое угрюмое лицо и опираясь, по обыкновению, на свой топор. Впереди стояла группа вооруженных людей, одни с винтовками в руках, другие — с копьями и щитами, следившие с серьезным вниманием за каждым словом миссионера. Серебристые лучи месяца, проникая через ветви дерева, освещали бледным светом всю сцену, а меланхолическая песня ночного ветра прибавляла еще более тяжелый оттенок грусти всей картине. — Люди, — произнес мистер Мекензи, объяснив всем собравшимся наш план возможно яснее, — много лет я был вашим лучшим другом, защищал вас, учил, берег вас и ваши семьи от всяких тревог, и вы благоденствовали здесь, у меня! — Вы видели все, как мое единственное дитя — «Водяная Лидия», как вы ее называете, моя дочь росла и расцветала, с самого раннего детства до теперешнего времени. Она была товарищем игр ваших детей, она помогала нянчить больных, и вы всегда любили ее! — Мы любим ее, — ответил чей-то глубокий голос, — мы рады умереть за нее! — Благодарю вас от всего сердца! Благодарю. Я уверен в этом теперь, в тяжелый час тревоги. Ее молодая жизнь в опасности, дикари хотят убить ее, ибо, поистине, они сами не знают, что делают! — Вы будете бороться из всех сил, чтоб спасти ее, я знаю это, чтоб избавить меня и мою жену от отчаяния. Подумайте о ваших женах и детях! Дитя умрет, и за ее смертью последует нападение на нас; если вы сами уцелеете, то ваши дома и сады будут разрушены, а имущество и скот сделаются добычей врагов. Вы знаете, что я мирный человек. За все эти годы я не пролил капли человеческой крови, но теперь я буду бороться, во имя Божие. Он поможет нам спасти нашу жизнь и наши дома. Клянитесь, — он продолжал с возрастающим жаром, — клянитесь мне, что пока хотя бы один человек из вас останется в живых, вы будете сражаться рядом со мной и с этими храбрыми людьми, чтобы спасти дитя от ужасной смерти! — Не говори более, отец мой! — произнес тот же глубокий голос, принадлежавший старейшему из обитателей миссии. — Мы клянемся. Пусть мы и наши семьи умрут собачьей смертью, пусть шакалы грызут наши кости, если мы нарушим нашу клятву! Страшное дело, отец мой, нам бороться с множеством врагов, но мы пойдем сражаться и умрем, если нужно! Клянемся! — Клянемся все! — повторили за ним другие. — Все мы обещаем это! — оказал я. — Хорошо! — продолжал миссионер. — Вы все верные, честные люди, на вас можно положиться. А теперь, друзья мои, и черные, и белые, преклоним колени и вознесем наши смиренные молитвы Всемогущему! Его десница управляет нашей жизнью. Он дает жизнь и смерть. Ему угодно будет укрепить нашу руку, чтобы мы одержали верх над врагами сегодня, на рассвете! Он встал на колени. Мы это сделали тоже, все, кроме Умслопогаса, который мрачно стоял позади, опираясь на свой топор. У гордого старого зулуса не было ни семьи, ни имущества, ничего, кроме боевого топора! Хозяин поднялся на ноги. Мы последовали его примеру и начали готовиться к сражению. Люди были заботливо выбраны, им дана подробная инструкция, что и как делать. После долгих обсуждений мы решили, что 10 человек, предводительствуемые Гудом, не возьмут огнестрельного оружия, кроме самого Гуда, у которого был револьвер и меч, тот самый, который я вытащил из груди убитого в лодке Аскари. Мы боялись, что их перекрестные выстрелы могут убить наших собственных людей. Кроме того, мы думали, что они отлично обойдутся и холодным оружием, так же, как Умслопогас, горячий защитник стали. У нас было четыре винтовки Винчестера и полдюжины винтовок Мартини. Я вооружился своей собственной винтовкой, превосходным оружием. Мистер Мекензи также взял винтовку. Остальные были розданы двоим людям, которые умели хорошо стрелять из них. Винтовки Мартини были вручены тем, которые должны были открыть огонь с разных сторон крааля в спящих Мазаев и более или менее привыкли к употреблению оружия. Умслопогас остался со своим топором. Сэр Генри и один из Аскари должны были засесть у входа в крааль и перебить дикарей, если бы они вздумали спасаться бегством; также они попросили дать им какое-нибудь холодное оружие. К счастью, у мистера Мекензи был выбор великолепнейших, английского изделия, топориков. Сэр Генри выбрал один из них, Аскари взял другой, Умслопогас прикрепил рукоятки, сделанные из какого-то туземного дерева, похожего на ясень, потом опустил их на полчаса в ведро с водой, чтоб дерево разбухло к рукоятки вошли прочнее. В это время я ушел в свою комнату и принялся открывать маленький жестяной ящик, содержавший в себе — что вы думаете? Не более, не менее, как 4 кольчуги. В предпоследнем нашем путешествии по Африке этим кольчугам мы были обязаны спасением своей жизни. Припомнив это, я решил, что мы наденем их, прежде чем отравимся в нашу опасную экспедицию. Работа бирмингамских мастеров была превосходна, кольца сделаны из лучшей стали. Моя кольчуга весила только семь фунтов, я мог носить ее несколько дней, и она не нагревалась. У сэра Генри было целых две кольчуги, одна — обыкновенная, облегающая тело, как джерси, и другая, сделанная по его собственному указанию и весившая 12 фунтов. Она покрывала все тело до колен, но была не так удобна, так как застегивалась позади и была несколько тяжела. Несколько странно, конечно, говорить о кольчугах в наши дни, так как они совершенно бесполезны против пуль. Но в борьбе с дикарями, которые вооружены копьями и топорами, кольчуги непроницаемы для ударов и оказывают несомненную услугу. Мы благословляли теперь свою предусмотрительность, не забыв захватить их с собой, радуясь, что наши носильщики не успели украсть их, когда бежали со всем нашим имуществом. Так как Куртис имел две кольчуги, то я предложил ему одолжить одну Умслопогасу, который также подвергался немалой опасности. Он согласился и позвал зулуса, который пришел, неся топор сэра Генри, совершенно готовый к употреблению. Мы показали ему стальную рубашку и объяснили, что ее надо надеть на себя; он сначала заявил, что носит свою собственную кожу целых сорок лет и не хочет надевать на себя железную. Тогда я взял острое копье, бросил рубашку на пол и изо всей силы ударил ее копьем. Копье отскочило, не оставив даже знака на стали. Этот опыт, видимо, убедил его. Когда я ему указал на то, что предосторожность необходима, если она может сохранить жизнь человека, что, одев эту рубашку, он может свободно владеть щитом, так как обе руки будут свободны, он согласился надеть на себя «железную кожу». Рубашка, сделанная для сэра Генри, отлично сидела на зулусе. Оба они были почти одинакового роста, и хотя Куртис выглядел толще, но мне кажется, эта разница существовала только в нашем воображении. В сущности, он вовсе не был толст. Руки Умслопогаса были тоньше, но крепки и мускулисты. Когда оба они встали рядом, одетые в кольчуги, облегавшие как платье их могучие члены, выказывая сильные мускулы и изгибы тела — это была такая пара, что десять человек могли отступить при встрече с ними! Было около часу пополудни. Разведчики донесли, что Мазаи, напившись крови быков и наевшись до отвалу, отправились спать вокруг костров. Часовые расставлены у всех отверстий крааля. — Флосси, — добавили они, — сидит недалеко от стены у западной стороны крааля, с ней няня и белый осел, который привязан. Ноги девочки связаны веревкой, и воины улеглись вокруг нее. Мы закусили и пошли заснуть часа на два перед экспедицией. Я только удивлялся, когда Умслопогас повалился на пол и сейчас же заснул глубоким сном. Не знаю, как другие, но я не мог спать. Обыкновенно, в таких случаях, хотя мне досадно в этом сознаться, я чувствовал всегда некоторый страх. Но теперь я спокойно обдумывал наше предприятие, которое мне совсем не нравилось. Нас было 30 человек, большая часть наших людей совершенно не умела стрелять, а мы готовились сражаться с сотнями храбрых, свирепых и ужаснейших дикарей Африки, защищенных каменной стеной. В сущности, это было сумасшедшее предприятие, в особенности потому, что мы должны были занять свои позиции, не привлекая внимания часовых. Какая-нибудь случайность, шум разрядившегося ружья — и мы пропали, потому что весь лагерь поднимется на ноги, а все наши надежды основывались на неожиданном нападении. Кровать, на которой я лежал, предаваясь таким печальным размышлениям, стояла близ открытого окна, выходившего на веранду. Вдруг я услыхал странные стоны и плач. Сначала я не мог понять, что это такое, но, наконец, встал, высунул голову в окно и огляделся. Я увидел на веранде человеческую фигуру, которая стояла на коленях, била себя в грудь и рыдала. Это был Альфонс. Не разобрав слов, я позвал его и спросил, что с ним делается. — Ах, сударь, — вздохнул он, — я молюсь за души тех, которых я должен убить сегодня ночью! — Но я желал бы, — возразил я, — чтобы вы молились немножко потише! Альфонс ушел, и все стихло. Прошло несколько времени. Наконец, мистер Мекензи шепотом позвал меня в окно. — Три часа, — оказал он, — через полчаса мы должны двинуться! Я попросил его войти ко мне. Он вошел. Если бы мне не было стыдно, я готов был разразиться смехом при виде миссионера, явившегося ко мне в полном вооружении. На нем была широкая одежда священника, пояс и широкополая шляпа, которую он, по его словам, ценил за ее темный цвет. Он опирался на большую винтовку, которую держал в руке; за резиновым поясом, который обыкновенно носят английские мальчики, был засунут огромный, с роговой ручкой, разрезной нож и десятиствольный револьвер. — Друг мой, — сказал он, — заметив, что я изумленно уставился на пояс, — вы смотрите на мой нож? Я думаю, что он будет удобен, он сделан из превосходной стали, я убил им нескольких свиней! В это время все остальные встали и уже одевались. Я одел легкий жакет сверх стальной рубашки, чтоб иметь под рукой, в кармане, патроны, и пристегнул револьвер. Гуд сделал то же самое. Но сэр Генри ничего не надел, кроме стальной рубашки и пары мягких башмаков, так что ноги его были обнажены от колен. Револьвер висел на ремне, надетом поверх кольчуги. Между тем Умслопогас собрал всех наших людей под большим деревом и ходил кругом, осматривая их вооружение. В последнюю минуту мы кое-что изменили. Двое из людей, вооруженных ружьями, не умели стрелять, но отлично владели копьем; мы отобрали у них винтовки, дав щиты и длинные копья, и велели присоединиться к Куртису, Умслопогасу и Аскари. Нам было ясно, что три человека, как бы они ни были сильны, не справятся с делом!Глава 7
СТРАШНАЯ РЕЗНЯ
С минуту мы стояли тихо, ожидая момента выступления. Это было тяжелое ожидание, и как долго оно тянулось! Казалось, минуты шли черепашьим шагом. Воцарилось торжественное молчание, еще более угнетавшее душу. Помню, как-то раз мне привелось видеть повесившегося человека. Я ушел от этого зрелища с ощущением, похожим на мое теперешнее чувство, с той разницей, что в нем теперь преобладал живой и личный элемент. Торжественные лица людей, которые знали, что, быть может, несколько минут отделяют их от перехода к вечному покою и забвению, странный шепот, постоянное поглядывание сэра Генри на свой топор, даже особая манера, с которой Гуд протирал свое стеклышко, — все говорило, что нервы людей возбуждены до крайности. Один Умслопогас стоял, опираясь на топор и держа щепотку нюхательного табаку я руке, и был совершенно спокоен и неподвижен. Трудно было потрясти его железные нервы! Месяц склонялся все ближе к горизонту, наконец, исчез. Стало темно. Только на востоке небо начало бледнеть, предвещая скорое появление зари. Мистер Мекензи стоял, с часами в руке, жена держала его за руку, стараясь подавить рыдания. — 20 минут четвертого, — произнес он, — скоро будет достаточно светло. Капитан Гуд мог бы двинуться, три или четыре минуты пройдет в дороге! Гуд кивнул головой и еще раз протер свое стеклышко. Всегда учтивый, он раскланялся с миссис Мекензи и отправился занимать свою позицию у крааля, куда его должны были провести туземцы знакомыми тропинками. Явился мальчик и донес, что в лагере Мазаев все крепко спят, за исключением двух часовых, которые прохаживались у входа. Затем выступили все мы. Сначала шел проводник, за ним — сэр Генри, Умслопогас, Аскари, двое туземцев из миссии, вооруженные длинными копьями и щитами. Я шел за ними, рядом с Альфонсом и пятью туземцами, которые имели ружья. Миссионер замыкал шествие с остальными шестью людьми. Крааль, где расположились лагерем Мазаи, находился у подошвы холма, в 800 ярдах от миссии. Первые пятьсот ярдов мы прошли благополучно. Затем мы поползли тихо, как леопард за добычей, скользя, словно призраки, из куста в куст. Пройдя немного, я оглянулся и позади увидал Альфонса. Он едва держался на ногах, с бледным лицом и дрожавшими коленями. Его винтовка со взведенным курком почти упиралась я мою спину. Благополучно отняв винтовку у Альфонса, мы продолжали свой путь, пока не очутились в сотне ярдов от крааля. Зубы Альфонса начали стучать самым ужасным образом. — Перестаньте, или я убью вас! — прошептал я свирепо. Мысль о том, что все мы можем погибнуть из-за этого стука зубов, вовсе не улыбалась мне. Я начал бояться, что повар выдаст всех нас, и искренно желал, чтобы он остался где-нибудь позади. — Но, сударь, я не могу ничего поделать, — отвечал он, — мне холодно! Это была трудная задача, но к счастью я быстро решил ее. В кармане моем находился маленький кусочек грубой тряпочки, которой я чистил ружье. — Возьмите ее в рот, — прошептал я, отдавая ему тряпку, — если я услышу еще звук, вы — погибли! Я знал, что тряпка смягчит стук зубов; Альфонс безропотно повиновался мне и продолжал идти тихо. Мы снова поползли. Осталось около 50 ярдов до крааля. Между им и нами находилось пустое пространство, заросшее кустами мимоз и сухим кустарником. Мы спрятались в кустах. Начало светать. Звезды побледнели, и восток заалел. Мы ясно видели очертания крааля и легкий отблеск потухающих костров в лагере Мазаев. Мы остановились и прислушались, зная, что часовой находится близко. Он появился, высокий, статный человек, и лениво прохаживался в пяти шагах от заросшего кустарником входа. Мы надеялись убить его сонного, но он и не думал спать. Если нам не удастся убить его, убить тихо, без звука, без стона — мы пропали! Мы спрятались и продолжали наблюдать за ним. Умслопогас, находившийся впереди меня, повернулся, сделал мне знак, и в следующую секунду я увидел, что он лег на живот и пополз, как змея, по траве, выжидая случая, когда часовой повернет голову. Часовой беззаботно замурлыкал песню. Умслопогас полз, незамеченный, добрался до кустов мимозы и ждал. Часовой расхаживал взад и вперед, потом обернулся и взглянул на стену, Умслопогас проскользнул ближе, прячась позади кустов, не сводя глаз с воина. Глаза часового устремились на дорожку между кустами, и, казалось, что-то удивило его. Он сделал несколько шагов вперед, остановился, зевнул, взял маленький камень и бросил его в кусты. Камень пролетел над головой Умслопогаса, не задев его кольчуги. Если бы он задел ее, то звук непременно выдал бы нас. К счастью, рубашка была сделана из темной стали и не блестела. Уверившись, что в кустах нет ничего, воин оперся на свое копье и лениво посмотрел в кусты. Он стоял так минуты три, погруженный в задумчивость, а мы лежали, терзаясь опасениями, каждую минуту ожидая, что будем открыты, благодаря какой-нибудь случайности. Я снова услышал, как стучали зубы Альфонса даже через тряпку, повернулся к нему и сделал свирепое лицо. Наконец, пытка закончилась. Часовой взглянул на восток, видимо, довольный, что близится смена, и принялся потирать руки и ходить взад и вперед, чтобы согреться. В ту минуту, когда он повернулся, длинная черная змея скользнула в ближайший кустарник, мимо которого должен был проходить дикарь. Часовой вернулся, двинулся мимо кустов, не подозревая об опасности. Если бы он взглянул вниз, может быть, избежал бы ее. Умслопогас встал и с поднятой рукой пошел по его следам. Как только воин повернулся, зулус сделал прыжок, и при свете зари мы видели, как его длинные руки вцепились в горло врага. Затем два темных тела конвульсивно сплелись вместе, потом голова Мазая откинулась назад, мы слышали, как он захрипел и упал на землю, вздрагивая всеми членами. Зулус пустил в ход всю свою силу и сломал шею дикарю. На минуту он придавил коленом грудь своей жертвы, все еще сжимая ему горло, пока не убедился, что воин мертв. Тогда он встал, кивнул нам, чтобы мы шли вперед. И мы двинулись на четвереньках, как обезьяны. Добравшись до крааля, мы заметили, что Мазаи загородили вход, протянув сюда четыре или пять кустов мимозы, — несомненно, из боязни нападения. Здесь мы разделились. Мекензи с своим отрядом поползли в тени стены налево, сэр Генри и Умслопогас заняли места по сторонам терновой загородки, а два человека, вооруженных копьями, и два Аскари залегли прямо против входа. Я полз со своими людьми по правую сторону крааля, длина которого была около 50 шагов. Через несколько минут я остановился и разместил моих людей неподалеку друг от друга, не отпуская от себя Альфонса. В первый раз я взглянул через стену во внутренность крааля. Было совсем светло, и первое, что мне бросилось в глаза, был белый ослик, а за ним бледное личико маленькой Флосси, которая сидела в 10 шагах от стены. Вокруг нее лежали спящие воины. По всему краалю виднелись остатки костров, вокруг которых спали Мазаи. Один из них встал, зевнул, посмотрел на восток и снова лег. Я решил подождать еще пять минут. Нежные лучи рассвета широко разлились над равниной, лесом, рекой и величественной горой Кениа, окутанной молчанием вечных снегов, и одели пурпурно-красным отблеском ее величавую вершину, высоко вздымавшуюся к ярко-синему небу, нежному, как улыбка матери. Птицы звонко пели свою утреннюю песнь, легкий ветерок шелестел в кустах. Утро дышало миром и счастьем нарождающейся силы, всюду были тишина и спокойствие, всюду, кроме человеческого сердца! Вдруг, когда я напряженно ждал сигнала, уже успев выбрать человека, которому поручил открыть огонь, — зубы Альфонса снова застучали, как копыта жирафов, нарушая царившую вокруг тишину. Тряпка незаметно выпала из его рта. Мазаи, лежавший в краале, вблизи нас, оглянулся вокруг, удивляясь этому звуку. Вне себя я ударил концом винтовки прямо в живот француза. Это остановило его дрожь. Теперь сигнал не был нужен. С обеих сторон крааля послышались выстрелы, засверкал огонь. Я присоединился к нападающим; с верхнего конца крааля раздался ужасный рев, в котором я различил голос Гуда, резко выделявшийся в общем шуме. Со страшным криком ужаса и ярости черная толпа дикарей вскочила на ноги, многие из них сейчас же упали под выстрелами наших ружей. С минуту они стояли в нерешимости, но, услыхав непрестанные крики и рев на верхнем конце крааля, осаждаемые градом выстрелов, бросились бежать к выходу. Мы открыли огонь им вслед, стреляя прямо в толпу дикарей. Я сделал 10 выстрелов из своего ружья, как вдруг вспомнил о маленькой Флосси. Взглянув в ее сторону, я заметил, что белый ослик лежал на земле, вероятно, убитый нашими пулями или копьем Мазаи. Поблизости не видно было ни одного дикаря. Черная няня Флосси стояла перед ней и торопливо перерезала копьем веревку, связывающую ее ноги. Затем она быстро побежала к стене крааля и начала карабкаться на нее. Девочка последовала ее примеру, но, видимо, ослабела и с трудом цеплялась за стену. Увидав это, двоедикарей бросились, чтобы убить ее. Первый близко подбежал к бедной девочке, которая после напрасных усилий снова упала на землю. Блеснуло копье, но моя пуля уложила дикаря на месте. Позади его стоял другой, а у меня, — увы! — остался только один патрон в магазине. Флосси вскочила на ноги и встала перед дикарем, который поднял копье. Я отвернулся, чувствуя невыносимую боль в сердце при мысли, что дикарь убьет дорогое дитя. Но, взглянув туда, я с удивлением заметил дымок; копье Мазаи лежало на земле, а дикарь зашатался, обхватив голову руками, и свалился на землю. Я вспомнил, что у Флосси был револьвер, который спас ей жизнь. Потом девочка собрала все силы, с помощью няни перелезла через стену и таким образом была спасена. Все это заняло не более нескольких секунд. Я наполнил магазин патронами и снова открыл огонь по беглецам, которые карабкались по стене. Я убил нескольких дикарей, и, наконец, добрался до угла крааля, где шел горячий бой. Двести человек дикарей, — считая, что мы уничтожили из них 50, — собрались у входа, заросшего кустарником, представляя из себя значительную силу против Гуда и десятка людей, которые усердно поражали их копьями. Дикари упорно держались у загородки, которая представляла собой действительно сильное укрепление. Один из них успел перепрыгнуть через загородку, но топор сэра Генри с силой опустился на его украшенную перьями голову, и воин упал в середине кустов. С криком и ревом начали дикари прыгать через изгородь; большой топор сэра Генри и Инкози-каас летали над их головами, и, один за другим, дикари падали на землю, на трупы товарищей, образуя новое препятствие своими телами. Те, которые спаслись от топоров, падали от руки Аскари или двух кафров из миссии. Я и мистер Мекензи стреляли в уцелевших дикарей. Гуд и его люди оказались теперь отгороженными от нас, и мы должны были перестать стрелять в дикарей из боязни убить своих (один из людей Гуда все-таки был убит). Обезумев от ужаса, Мазаи дружным усилием прорвались через изгородь, и, вытолкнув Куртиса, Умслопогаса и других троих перед собой, начали драться у входа. Тут мы принялись стрелять в них. Наш бедный Аскари упал замертво, с копьем в спине, за ним упали двое людей, вооруженных копьями, и, умирая, дрались, как львы. Многие из нашего отряда подверглись той же участи. Я боялся, что битва проиграна, и велел своим людям бросить винтовки и взять копья. Они повиновались, потому что кровь их была разгорячена. Люди миссионера последовали их примеру. Это принесло хорошие результаты, но успех битвы все еще был сомнителен. Наши люди дрались великолепно, отбивались, кричали, убивали дикарей и падали сами. В общем хаосе выделялся резкий крик Гуда, ободряющие его возгласы. С регулярностью машины поднимались и опускались два топора, оставляя за собой смерть и разрушение. Но я заметил, что сэр Генри устал от чрезмерного напряжения, побледнел от нескольких ран, его дыхание сделалось прерывистым, и жилы на лбу налились. Даже Умслопогас, этот железный человек, утомился. Он перестал долбить врагов своим Инкози-каас и пустил в дело клинок. Я не вмешивался в бой, пуская пули в Мазаи, когда это было нужно. Я вынужден был поступать так, потому что истратил сорок девять патронов в это утро и не промахнулся ни разу. Все-таки бой клонился не в нашу пользу. Нас осталось не более пятнадцати или шестнадцати, а дикарей было около пятидесяти человек. Если бы они сплотились вместе и дружно принялись за дело, победа была бы на их стороне. Но дикари не сделали этого, а многие из них бежали, побросав оружие. Ухудшило дело еще и то, что миссионер бросил свою винтовку, и какой-то дикарь погнался за ним с мечом. Миссионер выхватил из-за пояса свой огромный нож. Они вступили в отчаянную борьбу. В узком пространстве миссионер и дикарь катались по земле, около стены. Занятый своими делами, помышляя о своем собственном спасении, я не знал, чем окончилась эта борьба. Бой продолжался. Дело клонилось в дурную для нас сторону. Только счастливый случай спас нас. Умслопогас, нарочно или случайно, вырвался из общей свалки и погнался за одним дикарем. Тогда другой дикарь изо всей силы ударил его большим копьем между плеч. Копье ударилось о стальную рубашку и отскочило. С минуту дикарь стоял, как очарованный, — это дикое племя не имело понятия о кольчугах, — потом побежал, крича диким голосом: — Это дьяволы, дьяволы! Они заколдованы, заколдованы! Я послал пулю ему вслед, и Умслопогас прикончил своего дикаря. Страшная паника охватила всех воинов. — Заколдованы, заколдованы! — кричали они и бежали во все стороны, побросав свои щиты и копья. Нечего и рассказывать о конце этого ужасного побоища. Это была ужасная резня, в которой никому не было пощады. Произошел еще инцидент довольно скверного свойства. Я надеялся, что все кончено, как вдруг из-под кучи убитых вылез уцелевший воин и, раскидав трупы, как антилопа прыгнул и ветром понесся в ту сторону, где стоял я. Но Умслопогас шел по его следам с присущей ему ловкостью. Когда они приблизились ко мне, я узнал в дикаре вестника, который приходил в миссию прошедшей ночью. Умслопогас также узнал его. — А, — крикнул он насмешливо, — это с тобой я разговаривал прошлой ночью. Лигонини! Вестник! Похититель маленьких девочек! Ты хотел убить ребенка! Ты надеялся стать лицом к лицу с Умслопогасом из народа Аназулусов! Молитва твоя услышана! Я поклялся раскрошить тебя на куски, дерзкая собака! И я сделаю это! Мазаи яростно заскрежетал зубами и бросился с копьем на зулуса. Умслопогас отступил, взмахнул топором над его головой и с такой силой всадил топор в плечи дикаря, что пробил кости, мясо и мускулы и отрубил голову и руки от туловища. — О, — воскликнул зулус, смотря на труп своего врага, — я сдержал свое слово. Это был хороший удар!Глава 8
АЛЬФОНС ОБЪЯСНЯЕТСЯ
Побоище окончилось. Отвернувшись от ужасного зрелища, я вспомнил, что не видал Альфонса с того времени, как силой заставил его умолкнуть, ударив в живот. Бой, казалось, тянулся бесконечно, но, в сущности, продолжался недолго, Где был Альфонс? Я боялся, что бедняга погиб, и начал искать его среди убитых, но потом решил, что он, наверное, жив и здоров, и пошел к той стороне крааля, где мы стояли сначала, окликая его по имени. В пятнадцати шагах от каменной стены находилось старинное дерево из породы бананов. — Альфонс! — кричал я, — Альфонс! — Да, сударь! — отвечал голос. — Я здесь! Я оглянулся кругом. Никого. — Где вы? — крикнул я. — Я здесь, сударь, в дереве! Я взглянул в дупло банана и увидев бледное лицо, длинные усы, жалкую фигуру повара, похожего на побитую моську. В первый раз я понял, что мое подозрение справедливо. Альфонс отъявленный трус! Я подошел к нему. — Вылезайте оттуда! — Все кончено, сударь? — спросил он боязливо. — Совсем кончено? Ах, какие ужасы я пережил! Какие молитвы я возносил к небу! — Ну, вылезай, бездельник! — сказал я не совсем дружелюбно, — все кончено! — Значит, сударь, молитвы мои услышаны? Я выхожу! Мы пошли к другим, которые собрались группой у входа в крааль, похожий теперь на кладбище. Вдруг из кустов выскочил дикарь и яростно бросился на нас. С воплем ужаса Альфонс побежал от него, за ним погнался Мазаи и, наверное, убил бы француза, если бы я не успел всадить дикарю пулю в спину. Альфонс споткнулся и упал, дикарь упал на него, содрогаясь в предсмертной агонии. Затем начались такие пронзительные вопли, что я испуганно побежал к тому месту, откуда они слышались, отбросил труп дикаря и извлек Альфонса. Он был покрыт кровью и трясся, как гальванизированная лягушка. Бедняга, — думал я, — дикарь успел-таки прикончить его! Встав на колени около Альфонса, я начал искать его рану. — О, моя спина! — вопил он. — Я убит, я умер! Я долго возился с ним, но, не нашел ни одной царапины. Он просто перепугался и больше ничего. — Вставайте! — крикнул я. — Вставайте! Не стыдно ли вам? Вы целехоньки! Он встал. — Но, сударь, я думал, что меня убили! — сказал он, — я не знал, что победил дикаря! Толкнув труп Мазаи, он вскричал торжествующим голосом. — А, дикая собака! Ты мертв. Какова победа! Я оставил Альфонса любоваться своей победой и отошел, но он последовал за мной, как тень. Первое, что мне бросилось в глаза, когда мы присоединились к другим, это — миссионер, сидевший на камне; его нога была завязана платком, сквозь который сочилась кровь. Он действительно получил рану в ногу копьем и сидел, держа в руке свой любимый разрезной нож, который был согнут теперь. — А, Квотермейн, — сказал он дрожащим взволнованным голосом, — мы победили! Но какое ужасное зрелище! Печальное зрелище! Перейдя на свое родное шотландское наречие и глядя на свой согнутый нож, он продолжал: — Мне досадно, что я согнул мой лучший нож в борьбе с дикарем. — Он истерически засмеялся. Бедный миссионер! Рана и волнение окончательно разбили ему нервы. И неудивительно. Мирному человеку тяжело участвовать в таком убийственном деле. Судьба часто и жестоко смеется над людьми! Странная сцена происходила у входа в крааль. Резня кончилась, раненые умирали от страданий. Кусты были затоптаны и вместо них повсюду лежали трупы людей. Смерть, повсюду смерть! Трупы лежали в разных положениях, одни на других, кучами, в одиночку, некоторые походили на людей, мирно отдыхавших на траве. Перед входом, где валялись копья и шиты, стояли уцелевшие люди, около них лежало четверо тяжелораненых. Из тридцати сильных, крепких людей едва осталось пятнадцать, и пять из них, включая миссионера, были ранены, двое — смертельно. Куртис и зулус остались невредимыми. Гуд потерял пятерых людей, у меня было убито двое, Мекензи оплакивал пять или шесть человек. Что касается всех уцелевших, за исключением меня, они были в крови с головы до ног, — рубашка сэра Генри казалась выкрашенной в красный цвет, — и страшно измучены. Один Умслопогас стоял, озаренный лучами света, около груды трупов, мрачно опираясь на свой топор, и не казался расстроенным или усталым, хотя тяжело дышал. — Ах, Макумацан! — сказал он, когда я ковылял около него, чувствуя себя больным, — я говорил тебе, что будет хороший бой, так и случилось. Никогда я не видел ничего подобного, такого отчаянного дня! А эта железная рубашка, наверное, заколдована — ее не пробьешь. Если бы я не влез в нее, я был бы там! — он кивнул по направлению груды убитых людей. — Я дарю тебе эту рубашку! Ты — храбрый человек! — сказал сэр Генри. — Начальник! — отвечал зулус, глубоко обрадованный и подарком, и комплиментом. — Ты. Инкубу, можешь носить такую рубашку, ты сам храбрый человек, но я должен дать тебе несколько уроков, как владеть топором. Тогда ты покажешь свою силу! Миссионер спросил о Флосси. Мы все искренне обрадовались, когда один из людей сказал, что видел, как она бежала к дому вместе с нянькой. Захватив с собой раненых, которые могли вынести движение, мы тихо направились к миссии, измученные, покрытые кровью, но с радостным сознанием победы. Мы спасли жизнь ребенка и дали Мазаям хороший урок, который они долго не забудут! Но чего это стоило! У ворот стояла, ожидая нас, миссис Мекензи. Завидев нас, она вскрикнула и закрыла лицо руками. — Ужасно, ужасно! — повторяла она и несколько успокоилась, только увидев своего достойного супруга. В немногих словах я рассказал ей об исходе борьбы (Флосси, благополучно прибежавшая домой, могла потом рассказать ей все подробно). Миссис Мекензи подошла ко мне и торжественно поцеловала меня в лоб. — Бог да благословит вас, Квотермейн, — сказала она, — вы спасли жизнь моего ребенка! Мы отправились к себе переменить платье и перевязать наши раны. Я рад признаться, что остался невредим, а сэр Генри и Гуд, благодаря стальным рубашкам, получили незначительные ранения, легко излечимые простым пластырем. Рана миссионера имела серьезный характер, но, к счастью, копье не задело артерии. Вымывшись с наслаждением, одев наше обычное платье, мы прошли в столовую, где нас ожидал завтрак. Как-то курьезно было сидеть в прилично обставленной столовой, пить чай и есть поджаренный хлеб, словно все, что случилось с нами, было сном, словно мы несколько часов тому назад не дрались с дикими к рукопашной схватке. Гуд сказал, что все происшедшее кажется ему каким-то кошмаром. Когда мы кончили завтрак, дверь отворилась, и вошла Флосси, бледная, измученная, но невредимая, она поцеловала нас всех и поблагодарила. Я поздравил ее с находчивостью и смелостью, которую она выказала, убив дикаря ради спасения своей жизни. — О, не говорите, не вспоминайте! — произнесла она и залилась истерическим плачем. — Я никогда не забуду его лица, когда он повернулся ко мне, никогда! Я не могу! Я посоветовал ей пойти и уснуть. Она послушалась и вечером проснулась бодрая, со свежими силами. Меня поразило, что девочка, владевшая собой, и стрелявшая в дикаря, теперь не могла вынести даже напоминания об этом. Впрочем, это отличительная черта ее пола! Бедная Флосси! Я боюсь, Что нервы ее долго не успокоятся после ужасной мочи, проведенной в лагере дикарей. После она рассказывала мне, что это было ужасно, невыносимо, сидеть долгие часы в эту бесконечную ночь, не зная, как, каким образом будет сделана попытка спасти ее! Она прибавила, что, зная нашу малочисленность, не смела ожидать этого, тем более, что Мазаи не выпускали ее из вида; большинство из них не видало никогда белых людей, они трогали ее за руки, за волосы своими грязными лапами. Она решила, если помощь не явится, с первыми лучами солнца убить себя. Нянька слышала слова лигонини, что их замучат до смерти, если при восходе солнца никто из белых людей не явится заменить ее. Тяжело было ребенку решиться на это, но я не сомневаюсь, что у нее хватило бы мужества застрелиться. Она была в том возрасте, когда английские девочки ходят в школу и помышляют о десерте. Это дикое дитя, эта дикарка выказала более мужества, ума и силы воли, чем любая взрослая женщина, воспитанная в праздности и роскоши. Кончив завтрак, мы отправились спать и проспали до обеда. После обеда мы все вместе, со всеми обитателями миссии — мужчинами, женщинами, юношами, детьми — пошли к месту побоища, чтобы похоронить наших убитых и бросить трупы дикарей в волны реки Таны, протекающей в 50 ярдах от крааля. В торжественном молчании похоронили мы наших мертвецов. Гуд был избран прочесть похоронную службу (за отсутствием миссионера, вынужденного лежать в постели), благодаря звонкому голосу и выразительной манере чтения. Это были тяжелые минуты, но, по словам Гуда, было бы еще тяжелее, если бы нам пришлось хоронить самих себя! Затем мы принялись нагружать трупами Мазаев телегу, запряженную быками, собрав сначала все копья, щиты и другое оружие. Пять раз нагружали мы телегу и бросали трупы в реку. Очевидно было, что немногие дикари успели бежать. Крокодилам предстоял сытный ужин в эту ночь! В одном из трупов мы узнали часового с верхнего конца крааля. Я спросил Гуда, каким образом ему удалось убить его. Он рассказал мне, что полз за ним по примеру Умслопогаса и ударил мечом. Тот отчаянно стонал, но, к счастью, никто не слыхал этих стонов. По словам Гуда, — ужасная вещь убивать людей, и отвратительнее всего — это обдуманное, хладнокровное убийство. Последним трупом, брошенным нами в волны Таны, закончили мы инцидент нашего нападения на лагерь Мазаев. Щиты, копья, все оружие мы взяли с собой, в миссию, не могу не вспомнить одного случая при этом. Возвращаясь домой, мы проходили мимо дупла, где скрывался Альфонс сегодня утром. Маленький человек присутствовал при погребении убитых и выглядел совсем другим, чем был тогда, когда Мазаи сражались с нами. Для каждого трупа он находил какую-нибудь остроту или насмешку. Он был весел, ловок, хлопал в ладоши, пел, когда течение реки уносило трупы воинов за сотни миль. Короче говоря, я подумал, что ему надо дать урок и предложил судить его военным судом за постыдное поведение утром. Мы привели его к дереву и начали суд. Сэр Генри объяснил ему на прекрасном французском языке весь стыд трусости, весь ужас его поведения, дерзость, с которой он выбросил изо рта тряпку, между тем как, стуча зубами, он мог поднять на ноги весь лагерь Мазаев и разрушить все наши планы. Мы ждали, что Альфонс будет пристыжен, сконфужен, но разочаровались. Он кланялся, улыбался и заявил, что его поведение может показаться странным, но, в действительности, зубы его стучали вовсе не от страха, о, нет, конечно, он удивлялся, что господа могли даже подумать это, — но просто от утреннего холода. Относительно тряпочки, если господам угодно попробовать ее ужасный вкус — какая-то микстура из парафинового масла, сала и пороху! Что-то ужасное! Но он послушался и держал ее во рту, пока желудок его не возмутился… Тряпка вылетела изо рта в приладке невольной болезни. — Убирайтесь вы вон, паршивая собачонка! — прервал его сэр Генри со смехом и дал Альфонсу такой толчок, что тот отлетел на несколько шагов с кислым лицом. Вечером я имел разговор с миссионером, который порядочно страдал от своих ран. Гуд, весьма искусный в медицине, лечил его. Мистер Мекензи сказал мне, что столкновение с дикарями дало ему хороший урок, и как только он оправится, он передаст дела миссии молодому человеку, который готовится к миссионерской деятельности, и уедет в Англию. — Видите, Квотермейн, — сказал он, — я решил поступить так сегодня утром, когда мы ползли к лагерю дикарей. Я сказал себе, что если мы останемся живы и спасем Флосси, то я непременно уеду в Англию. Довольно с меня дикарей! Я не смел думать, что мы уцелеем. Благодарение Богу и вам четверым, что мы живы, и я остаюсь при моем решении, иначе будет хуже! Еще нечто подобное, и моя жена не выдержит! Между нами, Квотермейн, я богат! У меня есть триста тысяч фунтов, и каждый грош заработан честной торговлей. Деньги лежат в Занзибарском банке, потому что моя жизнь здесь не требует затрат. Хотя мне будет тяжело покидать эти места и оставить этих людей, которые любят меня, я должен ехать! — Я рад вашему решению, — отвечал я, — по двум причинам. Первая — у вас есть обязанности по отношению к вашей жене и дочери, в особенности вы не должны забывать о ребенке. Флосси должна получить образование и жить в среде таких же детей, как она, иначе она вырастет дикаркой. Другая причина: рано или поздно, но Мазаи отомстят вам за себя. Несколько человек их успели убежать, — и результатом будет новое нападение на вас! Ради одного этого я уехал бы непременно! Когда они узнают, что вас здесь нет, они, может быть, и не пойдут сюда![75] — Вы правы! — отвечал миссионер. — Я уеду отсюда в этом же месяце. Но жаль, очень жаль!Глава 9
В НЕИЗВЕСТНОЙ СТРАНЕ
Прошла неделя. Однажды вечером мы сидели за ужином, в столовой миссии, в невеселом расположении духа, так как завтра должны были проститься с друзьями и отправиться дальше. О Мазаях не было ни слуху, ни духу. Кроме двух копий, забытых на траве, и пустых патронов, валявшихся у стены, ничто не напоминало, что в старом краале происходила ужаснейшая резня. Мекензи, благодаря своему спокойному темпераменту, быстро оправился и ходил теперь с помощью пары костылей. Из других раненых один умер от гангрены, а остальные понемногу выздоравливали. Люди мистера Мекензи, ушедшие с караваном, вернулись, и в миссии теперь был целый гарнизон. Несмотря на радушные и горячие просьбы остаться еще, мы решили, что пора двинуться в путь, сначала к горе Кениа, потом в неизведанные области, искать таинственную белую расу людей. За это время мы успели оценить достоинства осла, столь полезного в путешествиях, и приобрели их целую дюжину для перевозки нашего имущества и, если понадобится, нас самих. У нас осталось только двое слуг, те же Ваквафи, и мы сочли невозможным нанимать туземцев и тащить их за собой Бог знает куда. Мистер Мекензи сказал, что ему кажется странным, как мы, трое образованных людей, обладающих всем в жизни — здоровьем, хорошими средствами, положением, — для собственного удовольствия отправляемся куда-то в глушь, в погоню за приключениями, откуда можем совсем не вернуться. Но мы — англичане, искатели приключений с готовы до пяток! Наши великолепные колонии обязаны своим существованием отважным людям и их чрезмерной любви к приключениям, хотя эта любовь на первый взгляд кажется чем-то вроде тихой формы помешательства. «Искатель приключений» идет навстречу всему, что бы ни случилось. Я даже горжусь этим титулом, который говорит о смелом сердце, о горячей вере в Провидение. Кроме того, когда имена Крезов, перед которыми преклоняется мир, имена всяких политиков, которые управляли миром, — забываются, имена отважных искателей приключений, которые сделали Англию такой, какой она является теперь, эти имена будут вспоминаться всегда с любовью и с гордостью передадутся детям! Мы трое, конечно, не можем рассчитывать на это, мы довольствуемся тем, что мы есть! В этот вечер, сидя на веранде, покуривая трубки, мы увидели Альфонса, который подошел к нам с изящным поклоном и заявил, что желает переговорить с нами. Мы попросили его объясниться. Он сказал, что боится присоединиться к нам в нашем путешествии, это вовсе не удивило нас, знавших о его трусости. Мистер Мекензи уезжает в Англию, а Альфонс был убежден, что его без хозяина схватят, препроводят во Францию и посадят в тюрьму. Эта мысль преследовала его, и расстроенное воображение придумывало тысячу опасностей. В сущности, его преступление было давно забыто, и он мог беспрепятственно появиться во Франции. Но он не допускал и мысли об этом и просил нас взять его с собой. Трус от природы, Альфонс скорее готов был идти на всякий риск, подвергаться всевозможным опасностям в нашей экспедиции, чем обречь себя на столкновение с полицией в родной стране. Выслушав Альфонса, мы начали обсуждать между собой его предложение и согласились взять его с собой. Мистер Мекензи также советовал нам взять француза. Нас было немного, а француз был живой, деятельный парень, который умел приложить руки ко всему и отлично стряпать. Ах, как он умел стряпать! Я уверен, что он состряпал бы великолепное кушанье из старых штиблет своего героя-дедушки, о котором он так любил говорить. Затем маленький человек имел прекрасный характер, был весел, как обезьяна, и его смешные, тщеславные рассказы были нескончаемой забавой для нас; кроме того, он был удивительно незлобив. Даже его трусливость не мешала нам, потому что мы знали теперь его слабость и могли остерегаться ее. Предупредив француза, что он рискует натолкнуться на опасности, мы сказали, что принимаем его предложение при условии полного повиновения нашим приказаниям. Мы также решили положить ему жалованье по 10 фунтов в месяц, чтобы, вернувшись в цивилизованную страну, он мог всегда получить их. На все это он согласился очень охотно и отправился писать письмо Анете, которое миссионер обещал отослать. Потом он прочитал нам свое письмо, сэр Генри перевел его, и мы весьма удивились. Здесь было много всего: и преданности, и страданий; «далеко, далеко от тебя, Анета, ради которой, обожаемой, дорогой моему сердцу, я обрёк себя на страданья!» Все это должно было растрогать сердце жестокой и прелестной служанки! Наступило утро. В семь часов ослы были нагружены. Пора отправляться! Печальное это было прощание, особенно с маленькой Флосси! Мы были с ней хорошими друзьями, часто беседовали. Но ее нервы всегда расстраивались при воспоминании об ужасной ночи, которую она провела во власти кровожадных Мазаев. — О, господин Квотермейн, — вскричала она, обвивая руками мою шею и заливаясь слезами, — я не в силах проститься с вами. Когда мы снова увидимся? — Не знаю, мое дорогое дитя, — сказал я, — я стою на одном конце жизни, а вы — на другом! Мне немного осталось впереди, целая жизнь в прошлом, а вам, я надеюсь, предстоят долгие и счастливые годы жизни и много хорошего в будущем! Мало-помалу вы вырастете и превратитесь в прекрасную женщину, Флосси, вся эта дикая жизнь будет казаться вам каким-то сном! Если мы никогда более не встретимся, я надеюсь, вы будете вспоминать вашего старого друга и его слова! Старайтесь быть всегда доброй и хорошей, моя дорогая, а, главное, правдивой. Доброта и счастье — одно и то же! Будьте сострадательны, помогайте другим, мир полон страдания, моя дорогая, и облегчить его — наш благороднейший долг. Если вы сделаете это, вы будете милой, богобоязненной женщиной, озарите счастьем печальную участь многих людей, и ваша собственная жизнь будет полнее, чем жизнь других женщин. Я даю вам добрый совет, по старомодному обычаю. А теперь скажу вам нечто приятное для вас. Вы видите этот клочок бумаги, который мы называем чеком? Его надо отдать вашему отцу вместе с этой запиской. Когда-нибудь вы выйдете замуж, моя дорогая Флосси, вам купят свадебный подарок, который вы будете носить, а после вас ваша дочь, если она будет у вас, в память охотника Квотермейна! Маленькая Флосси долго кричала и плакала и дала мне на память локон своих золотистых волос, который хранится у меня до сих пор. Я подарил ей чек на тысячу фунтов и в записке уполномочил ее отца положить капитал под проценты в правительственное учреждение, с тем, чтобы по достижении известного возраста или замужества Флосси, купить ей лучшее бриллиантовое ожерелье. Я выбрал бриллианты, потому что ценность их не падает, и в трудные минуты последующей жизни моя любимица может всегда обратить их в деньги. Наконец, после долгих прощаний, рукопожатий, приветствий, мы отправились, простившись со всеми обитателями миссии. Альфонс горько плакал, прощаясь со своими хозяевами, у него было мягкое сердце. Я не особенно огорчался, когда мы ушли, так как ненавижу все эти прощанья. Тяжелее всего было смотреть на грусть Умслопогаса, когда он прощался с Флосси, к которой сильно привязался. Он говорил, что она так же мила, как звезда на ночном небе, и никогда не уставал поздравлять себя с тем, что убил лигонини, который посягал на жизнь ребенка. Последний раз взглянули мы на красивое здание миссии — настоящий оазис в пустыне, — и простились с европейской цивилизацией. Но я часто думаю о Мекензи, о том, как добрались они до Англии, и если живы и здоровы, то, вероятно, прочтут эти строки. Дорогая маленькая Флосси! Как поживает она в стране, где нет черных людей, чтобы беспрекословно исполнять ее приказания, где нет снежной вершины величественной горы Кениа, на которую она любовалась по утрам! Прощай, моя дорогая Флоccи! Покинув миссию, мы пошли вдоль подошвы Кениа, прошли мимо горного озера Баринго, где один из наших Аскари был ужален змеей и умер, несмотря на все наши усилия спасти его. Мы прошли расстояние около 150 миль до другой великолепной, покрытой снегом горы Лекекизера, на которую, по моему убеждению, не ступала никогда нога европейца. Тут мы провели две недели, затем вошли в нетронутый и густой лес округа Эльгуми. Я никогда не встречал такой массы слонов, как в этом лесу. Испуганные человеком, звери буквально роились в этом лесу, повинуясь только закону природы, которая регулирует прирост животных. Нечего и говорить, что мы не подумали стрелять слонов, во-первых, потому, что у нас было немного зарядов, — запас нашей аммуниции значительно уменьшился, так как осел, нагруженный ею, переплывая вброд реку, уплыл вместе с ней от нас, а, во-вторых, потому, что мы не могли нести с собой слоновую кость и не хотели убивать животных ради удовольствия. В этом лесу слоны, незнакомые с нравами охотников, подпускают людей к себе на 20 ярдов, стоят, сложив свои огромные уши, похожие на гигантских щенков, и разглядывают необыкновенный для них феномен — человека. Когда исследование покажется им неудовлетворительным, слон, стоящий впереди, начинает трубить тревогу. Но это случается редко. Кроме слонов, в лесу водится много всякого зверья, дичи, есть даже львы! Я не выношу вида льва, после того, как получил рану на ноге и остался калекой на всю жизнь. Лес Эльгуми изобилует также мухами це-це, укус которых смертелен для животных. Не знаю, благодаря ли плохому корму, или тому, что укусы це-це особенно ядовиты в этой местности, но наши бедные ослы буквально падали и изнемогали. К счастью, эти укусы оказали свое действие не раньше, как через два месяца, когда вдруг, после двух дней холодного дождя, все животные пали; сняв шкуру с некоторых из них, я нашел на мясе полосы, характерный признак смерти от це-це, указывающий на место, худа насекомое впустило свой хоботок. Выйдя из леса, мы пошли к северу, согласно указаниям мистера Мекензи, и достигли большого озера Лага, в 50 миль длины, о котором говорил несчастный, трагически погибший путешественник. Здесь мы около месяца странствовали по возвышенностям; местность эта вообще похожа на Трансвааль. Все это время мы поднимались, но крайней мере, на сотню футов каждые 10 миль. Действительно, страна была гориста и заканчивалась массой снеговых гор, среди которых находилось еще озеро, по словам путешественника, «озеро, которое не имеет дна». Наконец, мы добрались до этого озера на вершине гор, очевидно, находившегося на месте погасшего кратера. Заметив деревушки на берегу озера, мы спустились вниз с большим трудом через сосновый лес, разросшийся по бокам кратера, и были гостеприимно приняты простым, мирным народом, который никогда не видал и не слыхал о белых людях. Они обращались к нам очень почтительно и ласково угощали нас молоком и всем, что у них было. Это чудное, удивительное озеро лежит, согласно указанию нашего анероида, на высоте 11,450 футов над уровнем моря; климат страны довольно холодный, похожий на климат Англии. Первые три дня, впрочем, мы ровно ничего не видели, благодаря непроницаемому туману. Полил дождь, укусы ядовитой мухи сказались на наших оставшихся ослах, и все они подохли. Это несчастье поставило нас в сквернейшее положение, так как у нас не было возможности перевозить нашу поклажу, с другой стороны, избавляло нас от всяких хлопот. Правда, амуниции у нас было немного: полтораста патронов для винтовок и 50 ружейных патронов. Как быть с этим немногим имуществом — мы не знали. Нам казалось, что мы достигли конца наших странствий. Если бы мы даже и бросили всякое намерение искать белую расу людей, то было бы смешно возвращаться назад за 700 миль, при нашем теперешнем беспомощном положении. Мы решили, что самое лучшее — остаться здесь, — благо туземцы отлично относятся, к нам, — выжидать событий и исследовать страну и ее окрестности. Мы приобрели большую, толстую лодку, довольно просторную, чтобы вместить всех нас, с багажом. Начальнику поселения, у которого мы достали лодку, мы отдали в уплату за нее три пустых медных патрона, которыми он был восхищен до крайности. Затем мы решили объехать озеро, с целью найти удобное место для лагеря. Не зная, вернемся ли мы в деревню, мы уложили в лодку все наше имущество и четверть жареной косули — превосходное кушанье! Когда мы плыли, туземцы успели обогнать нас в своих легких лодочках, и предупредили обитателей других деревень о нашем приближении. Мы тихо гребли, как вдруг Гуд заметил необыкновенно ясный голубой цвет воды и сказал, что туземцы говорили ему, — все они ярые рыболовы, так как рыба составляет их главную пищу, — об удивительной глубина озера, которое имеет на дне глубокое отверстие, куда исчезает вода и откуда выбрасывается иногда огонь. Я сказал ему, что он, наверное, слышал легенду о действовавших в далекие времена вулканах, которые теперь погасли. Мы действительно видели на берегах озера следы действия вулкана, после вулканической смерти центрального кратера превратившегося теперь в дно озера. Приблизившись к отдаленному берегу озера, мы увидели, что он представлял собой перпендикулярную скалистую стену. Мы поплыли параллельно ей, на расстоянии ста шагов, в конец озера, так как знали, что там находилась большая деревня. Мимо нас неслось большое количество обрубков, сучьев, веток и другого хлама; Гуд полагал, что их несло течением. Пока мы рассуждали об этом, сэр Генри указал нам на больших белых лебедей, которые паслись недалеко от нас. Я заметил еще ранее лебедей, летавших над озером, и очень хотел заполучить один экземпляр. Я расспрашивал о них туземцев и узнал, что в определенный период года они прилетают рано утром сюда с гор, и тогда их легко поймать, так как они очень истощены. Я спросил туземцев, из какой страны прилетают лебеди, но они пожали плечами и ответили, что на вершине большой черной скалы находится негостеприимная страна, а над ней снеговые горы, где много зверей, где никто не может жить, а за горами на сотни миль тянется густой, терновый лес, недоступный не только людям, но и слонам. На мой вопрос, слыхали ли они о белых людях, живущих по ту сторону гор и леса, они засмеялись. Но позднее одна древняя старуха пришла ко мне и сказала, что в детстве она слыхала от своего деда рассказ о том, как его предок в юности прошел и горы, и пустыню, проник в лес и видел белых людей, живущих в каменных краалях. Эти сведения были очень неопределенными, но когда я услыхал рассказ старухи, во мне выросло и окрепло убеждение, что во всех этих слухах есть доля правды, и что необходимо раскрыть эту тайну. Мне не приходило в голову, каким чудесным путем исполнится мое горячее желание! Мы подъехали к лебедям, мирно покачивавшимся на воде; сэр Генри, выждав минуту, выстрелил и убил двоих. Остальные поднялись, сильно разбрызгивая воду. Снова раздался выстрел. Один лебедь упал с простреленным крылом, и я видел, что у другого ранена нога, хотя он через силу поплыл дальше. Остальные лебеди поднялись и, описав круг, выстроились треугольником и улетели куда-то на северо-восток. Мы подняли в лодку двух красивых мертвых птиц, из которых каждая весила около 30 фунтов, и принялись ловить раненого лебедя, неподвижной массой плывшего по ясной воде. Так как плывущие по озеру обрубки и сучья мешали движению лодки, то я велел нашему Ваквафи, который отлично плавал, чтобы он прыгнул в воду и поймал лебедя, — я знал, что в озере нет крокодилов, следовательно, опасности не предвиделось никакой. Ваквафи повиновался и скоро поймал лебедя за крыло, причем постепенно приблизился к скале, о которую с силой билась вода. Вдруг он начал кричать, что его относит куда-то. В самом деле, мы видели, что он плыл изо всех сил, стремясь к нам, по течение несло его к скале. Отчаянно взмахнув веслами, мы рванулись к нему, но чем больше мы старались, тем сильнее тянуло его к скале. Вдруг я заметил, что перед нами, почти на 18 дюймов над поверхностью озера, возвышалось что-то похожее на арку туннеля. Очевидно, на несколько футов скала была затоплена водой. К этой-то арке несся с ужасной быстротой наш бедный слуга. Оп храбро боролся с течением, и я надеялся спасти его, как вдруг заметил выражение отчаяния на его лице. На наших глазах его втянуло вглубь, и он исчез из вида. В ту же минуту я почувствовал, что какая-то сильная рука схватила нашу лодку и с силой швырнула ее к скале. Мы поняли страшную опасность и принялись яростно работать веслами. Напрасно! Стрелой неслись мы к арке, и я думал, что спасения нет. К счастью, я настолько сохранил присутствие духа, что бросился на дно лодки и крикнул: — скорее, вниз лицом! Ложись! — Остальные последовали моему примеру. Послышался глухой шум, как будто от трения, лодку потянуло вниз, и вода начала заливать ее. Мы тонули. Вдруг шум прекратился, и мы почувствовали, что лодка плывет. Я немного повернул голову, не смея поднять ее, и взглянул. При слабом свете я увидел нависшую над нашими головами арку скалы. В следующий момент я почти не мог ничего видеть, потому что свет исчез, и мы очутились в совершенной и непроницаемой темноте. Около часу мы лежали так на дне лодки, не смея поднять голову, и не могли даже говорить, потому что шум воды заглушал наши голоса. Разумеется, у нас не было особого желания разговаривать, потому что мы были подавлены ужасом нашего положения, страхом неминуемой смерти, боялись быть придавленными к стене пещеры или втянутыми вглубь, или опасались просто задохнуться от недостатка воздуха. Всевозможные виды смерти лезли мне в голову, пока я лежал на дне лодки, прислушиваясь к реву воды. Я слыхал и другой звук — непрестанные вопли Альфонса, но они, казалось мне, доносились откуда-то издалека. Я начал думать, что сделался жертвой кошмара.Глава 10
ПОДЗЕМНЫЙ ОГОНЬ
Мы плыли. Течение несло нас. Наконец, я заметил, что шум воды сделался слабее. Я мог теперь явственно различить вопли Альфонса. Взяв весло, я ткнул им француза, а он, думая, что наступил конец, заревел еще сильнее. Тогда я тихо и осторожно поднялся, встал на колени и старался ощупать рукой свод, но его не было. Я взял весло, поднял его над головой, насколько мог, наклонял его вправо, влево и ничего не нащупал, кроме воды. Вспомнив, что у нас имеется с собой маленький фонарь и масло, я разыскал его, осторожно зажег, и когда фитиль разгорелся, огляделся кругом. Первое, что мне бросилось в глаза, — это бледное, искаженное лицо Альфонса, который, полагая, что все кончено, и он видит сверхъестественное явление, испустил ужасный вопль, за что и получил толчок веслом для успокоения. Гуд лежал на спине, со стеклышком в глазу и смотрел в темноту, сэр Генри, голова которого покоилась поперек лодки, рукой пытался определить скорость течения. Когда свет фонаря упал на старого Умслопогаса, я готов был рассмеяться. Как известно, мы взяли с собой часть жареной косули. Случилось так, что когда мы бросились все на дно лодки, голова Умслопогаса оказалась в близком соседстве с жарким, и как только он очнулся от потрясения, то почувствовал, что голоден. Он отрезал своим топором кусок мяса и теперь уничтожал его с видом полнейшего довольства. Потом он объяснил мне, что, приготавливаясь к «далекому путешествию», предпочел отправиться туда с сытым желудком. Как только другие увидели, что я зажег фонарь, все ободрились и оттолкнули Альфонса в дальний конец лодки, с угрозой, что если он не замолчит, успокоить его, бросив в воду вслед за утонувшим Ваквафи поджидать встречи с Анетой в другом мире. Затем мы начали обсуждать наше положение. Прежде всего, по предложению Гуда, мы привязали оба весла для того, чтобы они могли предохранить нас от столкновения со скалой или от внезапного понижения свода. Нам было ясно, что мы находимся в подземной реке, вытекавшей из озера. Такие реки существуют во многих частях света, но, к сожалению, путешественникам не приходилось исследовать их. Река была достаточно широка, мы видели это, так как свет фонаря достигал ее берегов. Когда течение случайно относило нас в сторону, мы могли различить стену туннеля и арки на высоте 25 футов над нашими головами. К счастью для нас, течение было сильнее на середине реки. Первое, что мы сделали, это условились, чтобы один из нас с фонарем и шестом в руке находился у весел, готовый предупредить нас о всякой опасности. Умслопогас, отлично закусивший, сейчас же взялся за дело в первую очередь. Это было все, что мы могли сделать для собственного спасения. Затем другой из нас занял место на корме, с веслом в руке, чтобы сдерживать лодку и не давать ей удариться о бока пещеры. Устроив это, мы поели немного жареного мяса (мы не знали, долго ли останемся в темноте!) и почувствовали себя в лучшем расположении духа. Я заявил, что положение наше очень серьезно, но не безнадежно, даже если бы слова туземцев, уверявших, что река впадает прямо в недра земли, и оказались верными. Очевидно, река куда-нибудь течет, может быть, по ту сторону гор, и мы должны держаться на лодке, пока приедем «туда», но куда — неизвестно! Гуд зловещим голосом возразил мне, что мы можем сделаться жертвами разных неожиданных ужасов, или река впадает, в конце концов, куда-нибудь в пропасть — тогда наша судьба будет очень плачевна. — Ладно, будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему! — сказал сэр Генри, всегда веселый и остроумный — признак несомненной нравственной силы в тяжелые минуты. — Мы пережили вместе столько опасностей, что, мне кажется, благополучно выпутаемся и теперь! Мы последовали этому превосходному совету каждый по-своему, за исключением Альфонса, который лежал в каком-то оцепенении. Гуд сидел у руля, Умслопогас на веслах, мне и сэру Генри оставалось только лежать в лодке и думать. Конечно, наше положение было очень курьезно — плыть по подземной реке, подобно душам грешников, переправляемых Хароном через Стикс, как шутил Куртис! Как темно было вокруг нас! Только слабый луч света от нашей лампы озарял темноту. На веслах сидел Умслопогас с шестом в руке, настороже, а за ним, в тени, фигура Гуда, который всматривался в темноту и периодически погружал весло в воду. — Отлично, — думал я, — вы хотели приключений, милый Аллан, и достукались! Вам надо бы постыдиться в ваши годы, но раз это случилось, как ни ужасно, ваше положение, быть может, вам все равно ничего тут не поделать! И когда все будет кончено, подземная река вовсе не дурное место для вечного успокоения! Я должен признаться, что нервы мои были напряжены до крайности. Даже холодному, много испытавшему человеку тяжело привыкать к мысли, что ему, быть может, остается жить не более 5 минут! Но, правду говоря, наши опасения были нелогичны, потому что человек никогда не может быть уверен, что с ним случится в следующую минуту, даже сидя в хорошо устроенном доме с двумя полицейскими под окном, охраняющими его покой! Прошло несколько часов с тех пор, как мы плыли в темноте, а Гуд и Умслопогас были на часах. Дежурство, как мы условились, продолжалось 5 часов. В 7 часов я и сэр Генри сменили других, которые легли спать. Целых три часа все шло благополучно, хотя сэр Генри иногда отталкивал веслом лодку от стен туннеля. Сильное течение несло нас по середине реки, хотя иногда лодка стремилась к одной или другой стороне. Что меня особенно занимало и интересовало, это вопрос: каким образом поддерживался здесь приток свежего воздуха? Он был тяжелый и сырой, но все-таки удовлетворительный. Единственно, чем я объяснил себе это явление, что воды озера содержали в себе достаточное количество воздуха, который проникал в туннель и не застаивался здесь. Около трех часов просидел я у руля, как вдруг начал замечать значительное изменение температуры. Сначала я не обратил на это внимания, но, через полчаса, когда жара все усиливалась, я спросил сэра Генри, замечает ли он, что становится жарко, или это игра моего воображения. — Замечаю ли я? — ответил он, — Я думаю. Мне кажется, что я попал в турецкую баню! Проснулись Гуд и Умслопогас, задыхаясь от жара. Все мы вынуждены были снять с себя платье. Умслопогас имел преимущество перед нами, так как ему нечего было снимать, кроме «муша». Жара все усиливалась, мы едва могли дышать, обливаясь потом. Через полчаса, хотя мы и разделись донага, уже едва могли выносить жар. Это походило на преддверие ада. Я опустил руку в воду и с криком отдернул ее; вода кипела. Маленький термометр показывал 123 градуса. У поверхности воды клубился пар. Альфонс стонал; что мы попали в ад еще при жизни. Сэр Генри предполагал, что мы находились близ подземного вулкана, и, пожалуй, это предположение было верно. Трудно описать наши страдания! Пот высыхал на нас. Мы лежали на дне лодки, физически неспособные управлять ею, к испытывали то же ощущение, которое испытывает рыба, умирающая на земле от недостатка воздуха. Наша кожа начала лопаться, и кровь приливала к голове, стуча, как паровая машина. Вдруг река повернула налево, и сэр Генри хриплым, задыхающимся голосом позвал меня и указал на ужасное зрелище. На полмили впереди нас поднимался с поверхности воды огромный столб белого пламени, на 50 футов вверх, и падал назад извилистыми каскадами огня. Ужасное извержение газа походило на большой огненный цветок, выросший на поверхности воды. Над ним и кругом него царил мрак. Кто может описать всю красоту и ужас этого зрелища? Хотя мы находились в 500 ярдах от него, но в пещере было светло, как днем, и мы могли видеть свод ее, возвышавшийся на 40 футов над нашими головами. Скала была совершенно черная, и я мог различить длинные блестящие жилки руды на стенах ее. Но какой это был металл — я не знаю! Ми неслись прямо к огненному столбу, похожему на горнило печи. — Держи лодку вправо, Квотермейн, — вправо! — вскричал сэр Генри. Через минуту он упал без чувств. Альфонс давно лежал без сознания. Гуд был близок к этому. Остались только мы двое с Умслопогасом. Мы находились теперь в 50 ярдах от огня. Я заметил, что голова Умслопогаса склонилась на руки. Я остался один, не мог дышать и просто задыхался. Дерево лодки начало гореть. Я видел, как тлели перья одного из убитых лебедей, и понимал, что если мы приблизимся еще на 3–4 ярда к огню, то погибнем безвозвратно. Я схватил весло, чтобы направлять лодку возможно дальше от огня, и выронил его. Мои глаза готовы были лопнуть, и сквозь опущенные веки я чувствовал страшный жар. Мы очутились как раз напротив огня, вода яростно кипела вокруг. Еще 5 секунд… Мы проплыли мимо… Я потерял сознание. Первое, что я ощутил, очнувшись, — это воздух, освеживший мое лицо. Мои глаза открылись с большим трудом. Я оглянулся. Вдали, наверху, виднелся свет, кругом вас прежняя темнота. Я припомнил все. Лодка плыла по реке, и на дне лодки я увидал голые фигуры моих спутников. Живы ли они? — подумал я. Неужели я остался один в этом ужасном месте? Я сунул руку в воду и снова с криком отдернул ее. Кожа моя была обожжена, а вода довольно холодна, и прикосновение ее к обожженному месту причиняло нестерпимую боль. Я вспомнил о других и брызнул на них водой. К моей радости, все они пришли в себя. Сначала Умслопогас, потом остальные. Они напились води, поглощая ее в большом количестве, как настоящие губки. Было свежо, и мы поспешили одеть платье. Гуд указал нам на край лодки. От жары дерево покрылось пузырями и местами покоробилось. Если бы лодка была выстроена как обыкновенные европейские лодки, она непременно бы рассохлась и пошла бы ко дну, но, к счастью, она была сделана из какого-то туземного дерева и осталась невредимой. Откуда взялось это пламя, мы так и не узнали. Надо полагать, это вулканические газы вырвались из недр земли. Одевшись и поговорив немного, мы начали осматриваться. Мы плыли по-прежнему в темноте и решили пристать к берегу реки, представлявший обломки скалы, непрерывно обмываемые водой. Тут, на площадке в 7 или 8 ярдов, мы решили отдохнуть немного и расправить члены. Это была ужасное место, но все же давало возможность отдышаться от всех ужасов реки и осмотреть и исправить лодку. Мы выбрали лучшее место, с трудом причалили к берегу и вскарабкались на круглые, негостеприимные голыши. — Честное слово, — сказал Гуд, первым вышедший к берегу, — вот ужасное место! — Он засмеялся. Сейчас же громовой голос повторил его слова сотню раз. — Мес-то! То… то! — отвечал другой голос где-то со скалы. — Место! Место! Место!.. То… то-то… — гремели голоса, сопровождаемые хохотом, который повторялся всюду и наконец, замолк так же неожиданно, как начался. — О, Боже мой! — простонал Альфонс, теряя всякое самообладание. — Боже мой! Боже мой! Боже мой! — загремело эхо на все лады и голоса. — Ах, я вижу, что здесь живут дьяволы! — сказал тихо Умслопогас. — Место так и выглядит! Я старался объяснить ему, что причина этих криков замечательное, интересное эхо, но он не хотел верить. — Я знаю эхо! — возразил он. — Напротив моего крааля, в стране зулусов, жило такое эхо, и мы говорили с ним. Но здесь эхо как гром, а у меня эхо походило на голос ребенка. Нет, нет, здесь живут дьяволы! Но мне все равно, я не думаю о них! — добавил он, затягиваясь трубкой. — Пускай они ревут, что хотят: они не смеют показать свои лица! Он замолчал, считая дьяволов недостойными своего внимания. Мы нашли необходимым разговаривать шепотом, но даже шепот раздавался в скалах каким-то таинственным ропотом и замирал в стонал я вздохах. Эхо — прелестная, романтичная вещь, но мы пресытились им здесь, в этом ужасном месте. Расположившись кое-как на камнях, мы пошли помыть и перевязать, насколько было возможно, наши ожоги. У нас нашлось масло для фонаря, но мы пожалели тратить его для этой цели; разрезали одного из лебедей и жиром его помазали нашу обожженную кожу. Затем мы осмотрели лодку, поправили ее и захотели есть, потому что, по нашим часам, был полдень. Мы уселись в кружок и начали истреблять наше жаркое. Но я съел мало, так как чувствовал себя больным от страданий предшествовавшей ночи. У меня сильно болела голова. Курьезный это был обед! Мрак, окружавший нас, был так глубок, что мы едва видели пищу, которую подносили ко рту. Я нечаянно взглянул назад, так как мое внимание было привлечено каким-то шорохом по камням, и увидел огромных черных крабов. Несколько дюжин этих ужасных животных ползли к нам, вероятно, привлекаемые запахом мяса. Краб — это отвратительное существо — обладает блестящими глазами, очень длинными, гибкими щупальцами и гигантскими клешнями. Они окружили нас со всех сторон. Пораженный этим зрелищем, я вскочил и видел, как один из крабов вытянул свои огромные клешни и дал ничего не подозревавшему Гуду такого щипка, что тот с криком подскочил и разбудил стоголосое эхо. Другой огромный краб ущипнул ногу Альфонса. Можно вообразить последующую сцену. Альфонс орал, за им ревело эхо, повторяя его крики. Умслопогас взял топор и ударил одного краба, который ужасно завизжал, и эхо повторило его визг на разные лады. Затем, с пеной у рта, краб издох. Из разных углов и щелей вылезли сейчас же сотни его приятелей, словно кредиторы на банкрота, и заметив, что животное упало, бросились на него, буквально разорвали на клочья своими огромными клещами и пожрали. Схватив что попало под руку, — камни, голыши, мы убивали одного или нескольких из них, другие хватали и пожирали убитых с пеной у рта, с отвратительным визгом. Они пытались ущипнуть нас или украсть у нас мясо. Один огромнейший краб подполз к лебедю и начал пожирать его. Немедленно налетели другие, и началась отвратительная сцена. Чудовища визжали, бесились, деля добычу, и рвали ее друг у друга! Это было чудовищное зрелище в непроглядном мраке, при ужасной музыке раздражающего нервы эха. Странно было смотреть на крабов! Казалось, все худшие человеческие страсти и желания воплотились в этих животных и довели их да бешенства. Вен эта сцена могла бы служить богатым материалом для новой песни «Дантова Ада», как сказал Куртис. — Я вижу, молодцы, вы добираетесь до мяса, и нам надо убираться отсюда? — тихо сказал Гуд. Мы не стали медлить, отвязали и столкнули лодку, вокруг которой сотнями копошились ужасные животные, и направились к середине реки, оставив позади себя остатки обеда и визжащую, беснующуюся массу чудовищ полными хозяевами ужасного берета. — Это и есть здешние дьяволы! — сказал Умслопогас с таким видом, как будто решил наконец задачу, и я был готов, пожалуй, согласиться с ним. Замечания Умслопогаса походили на удары его топора — всегда метки и в точку. — Что теперь делать? — спросил сэр Генри. — Плыть, я думаю! — отвечал я, и мы продолжали путь. Весь день и вечер мы плыли в темноте, едва различая, когда кончался день и начиналась ночь, пока Гуд не указал нам на звезду, появившуюся вправо от нас, за которой мы наблюдали с большим интересом. Вдруг звезда исчезла, снова воцарился мрак, и знакомый рокочущий звук воды донесся до нас. — Опять под землей! — сказал я со вздохом, держа фонарь. Да, не было сомнения, над нами был опять свод туннеля. Снова началась и потянулась долгая, долгая ночь, полная опасностей и ужаса. Описывать все наши страхи — не стоит труда. Скажу только, что около полуночи мы наткнулись на отмель, кое-как обошли ее и поплыли дальше. Так шло время до трех часов ночи. Сэр Генри, Гуд и Альфонс спали, Умслопогас сидел на веслах, я правил рулем, как вдруг заметил, что стены туннеля будто раздвинулись. Потом я услыхал восклицание Умслопогаса и звук ломающихся веток дерева, как будто лодка протискивалась сквозь кустарник и заросли. В следующий момент свежий, живительный воздух повеял мне в лицо, и я почувствовал, что мы выбрались из туннеля и плыли по обыкновенной воде. Я чувствовал, но не видел ничего, потому что темнота была непроницаема, как бывает иногда перед рассветом. Я был счастлив, что мы оставили за собой ужасную реку. Я сидел, вдыхал свежий ночной воздух и ждал рассвета, вооружась всем своим терпением.Глава 11
НАХМУРЕННЫЙ ГОРОД
Около часу сидел я в молчании и ждал рассвета. Умслопогас ушел спать. Наконец, восток засветлел, и туман поднимался с поверхности воды навстречу восходящему солнцу. Алая полоска разгоралась на востоке. Наступал день. Я не мог налюбоваться на чудное синее небо. Вода еще была окутана туманом, но, мало-помалу, солнце его растопило, и я увидел, что наша лодка плывет по голубой воде. За восемь или десять миль позади нас остались груды скал, образовавшие собой как бы стену озера, и я увидел, что через это отверстие в скалах подземный поток пробил себе дорогу. Позднее я убедился в этом, и единственным объяснением того, что наша лодка благополучно выбралась из туннеля, может служить необыкновенная сила течения таинственной реки. Теперь мы с проснувшимся Умслопогасом дали лодке иное направление. Заметив какой-то предмет на воде, Умслопогас привлек мое внимание и несколькими ударами весла пригнал лодку к тому месту, где находился плавающий предмет, в котором мы узнали труп человека. Можно представить себе весь мой ужас, когда я узнал в этих искаженных чертах его лица — кого бы вы думали? Нашего бедного слугу Ваквафи, который два дня тому назад утонул, плывя за лебедем. Это было ужасно! Я думал, что мы оставили его позади себя, а, между тем, он плыл за нами и вместе с нами выбрался из подземной реки. Его вид был страшен, потому что носил следы ожогов, одна рука совершенно скорчена, волосы обожжены. Лицо вздулось, на нем запечатлелось трагическое выражение отчаяния, которое я видел еще в последние минуты его борьбы с течением. Это зрелище очень расстроило меня, и я был очень доволен, когда труп вдруг и без всякой видимой причины начал погружаться в воду, словно исполнив свое назначение. Настоящая причина, несомненно, была та, что газы, наполнявшие труп, нашли свободный выход, и тело затонуло. Только пузыри, да несколько кругов пошли по воде в том месте, где нашел себе вечный покой наш бедный слуга. Умслопогас задумчиво наблюдал за трупом. — Зачем он плыл за нами? — спросил он. — Это предвещает недоброе дело тебе и мне, Макумацан!.. Я сердито обернулся к нему. Терпеть не могу этих нелепых предзнаменований и ненавижу людей, которые носятся с предчувствиями и рассказывают свои вещие сны. В это время проснулись наши остальные спутники и чрезвычайно обрадовались, что мы выбрались из ужасной реки и плывем под ясным небом. Начались толки, рассуждения, и кончили мы тем, что захотели есть. Из всей нашей провизии жадные крабы оставили нам только несколько кусков дичи, и мы решили пристать к берегу. Но возникло новое затруднение. Мы не знали, где был берег, потому что ничего не видели перед собой, кроме широкого пространства синеватой воды. Заметив, что птицы, летавшие над водой, направлялись влево, мы заключили, что они стремились к берегу, и поплыли по этому направлению. Подул хороший, попутный ветер, мы устроили из одеяла парус, и лодка весело понеслась вперед. Сделав это, мы уничтожили остатки нашей провизии, залили озерной водой и закурили трубки. Прошло около часу. Гуд, смотревший в подзорную трубу, вдруг объявил, что видит землю, и указал на перемену цвета воды, означавшую, что мы приближаемся к устью реки. Скоро мы увидели большой золотой купол, видневшийся издали в тумане, и пока с удивлением глядели на него. Гуд объявил, что маленькая парусная лодка плывет к нам навстречу. Мы едва могли верить этому удивительному известию, пока не удостоверились собственными глазами. Следовательно, обитатели этой страны и озера имеют понятие о парусных лодках и обладают некоторой долей цивилизации! Через несколько минут мы ясно увидели, что лодка направляется к нам. Через десять минут она находилась не более, чем в сотне ярдов от нас. Это была маленькая лодка, построенная из досок, на европейский манер, с широким парусом. Все наше внимание было устремлено, конечно, на пассажиров лодки. Их было двое: мужчина и женщина, почти такие же белые люди, как мы. Мы переглянулись, думая, что ошибаемся. Нет, мы ясно видели их теперь. Они не были красивы, но, несомненно, принадлежали белой расе, как испанцы или итальянцы. Итак, случайно и неожиданно, мы открыли и нашли белых людей! Я готов был закричать от радости, мы пожимали друг другу руки и поздравляли с неожиданным успехом нашего предприятия. Всю жизнь до меня доходили слухи о белой расе людей, живущих внутри страны, и теперь я видел их своими собственными глазами! Действительно, как сказал сэр Генри, старый римлянин был прав, говоря: «Ex Africa semper aliquid novi», что значит: «в Африке всегда можно найти новости». Человек в лодке был крепкого, хотя и не изящного сложения, обладал черными волосами, орлиными чертами и интеллигентным лицом. Он был одет в темное платье, что-то в виде фланелевой рубашки без рукавов, и в штаны из той же материи. Руки к ноги были обнажены. Вокруг правой руки и левой ноги были надеты кольца из какого-то металла, который я принял за золото. У женщины было нежное, застенчивое лицо, большие глаза и темные вьющиеся волосы. Ее платье было сделано из такого же материала, как у мужчины, и состояло из полотняной нижней одежды (это мы разглядели потом), висевшей до колен, и простого длинного куска ткани, который складками облегал все тело женщины и был перекинут через левое плечо, так что его конец свешивался наперед, оставляя правую руку и часть груди обнаженными. Гуд, у которого на этот счет острые глаза, восхищался ее нарядом. В самом деле, это было и просто, и эффектно. В то время, как мы с удивлением разглядывали неведомых людей, они с не меньшим изумлением смотрели на нас. Казалось, мужчина сильно испугался и не смел подъехать к нам ближе. Наконец, он решился приблизиться и сказал нам что-то на языке, звучавшем нежно и красиво, хотя мы не поняли ни слова. Тогда мы попробовали говорить по-английски, по-французски, по-латыни, по-гречески, по-немецки, на языке зулусов, сисути, кукуана и на многих других диалектах, но безуспешно. Человек в лодке не понимал ничего. Что касается женщины, она стояла неподвижно, смотря на нас, и Гуд обернулся и разглядывал ее через свое стеклышко, что, казалось, очень забавляло ее. Затем, видя, что не добиться от нас толку, мужчина повернул лодку и направился к берегу. — Лодочка полетела стрелой. Когда она плыла мимо нас. Гуд воспользовался случаем и послал воздушный поцелуй даме. Я испугался, что женщина обидится, но, к моему удовольствию, она не только не обиделась, но, оглянувшись и заметив, что ее супруг или брат, кто бы он ни был, отвернулся, послала Гуду такой же поцелуй! — Ага! Наконец-то мы нашли язык, который понятен этому народу! — сказал я. — В данном случае, — добавил сэр Генри, — Гуд неоценимый посредник! Я нахмурился, потому что решительно не одобрял глупостей Гуда; он знал это и перевел разговор на серьезную тему. — Для меня ясно, — сказал я, — что этот человек вернется назад с товарищами, и нам надо подумать, как встретить их! — Весь вопрос в том, как они примут нас? — сказал сэр Генри. Гуд молчал, но принялся рыться в багаже и вынул маленький четырехугольный ящичек, сопровождавший нас в путешествии. Мы несколько раз спрашивали Гуда о содержимом ящика, но он отвечал таинственно и уклончиво: все, что заключается в его ящике, когда-нибудь весьма пригодится нам. — Ради Бога, что вы собираетесь делать. Гуд? — спросил сэр Генри. — Одеваться! Не думаете ли вы, что я появлюсь в этой новой стране в таком одеянии? — он указал на свое запачканное и поношенное платье, которое всегда было опрятно, как и все вещи Гуда, и чинилось всегда, когда это требовалось. Мы с возрастающим интересом следили за ним. Первое, что он сделал, это попросил у Альфонса, весьма компетентного в этих вещах, причесать ему бороду и волосы возможно лучше. Я уверен, если бы у Гуда была теплая вода и мыло, он побрился бы, но, к сожалению, у него не было ничего подобного. Затем он заявил, что мы должны спустить парус у лодки, и под прикрытием его выкупаться, что мы и сделали, к ужасу и удивлению Альфонса, который воздевал руки к небу и восклицал, что «эти англичане просто удивительный народ!» Умслопогас, как хорошо воспитанный зулус, был очень чистоплотен, но посмотрел на это купанье, как на шутку, и с удовольствием наблюдал за нами. Мы вернулись на лодку, освеженные холодной водой, и обсушились на солнце. Гуд снова открыл свой таинственный ящик, вытащил оттуда прекраснейшую чистую белую рубашку и начал разворачивать свои наряды, заботливо обернутые сначала в коричневую, потом в белую и, наконец, в серебряную бумагу. Мы продолжали наблюдать за ним с величайшим любопытством. Одну за другой Гуд вытащил из ящика все свои вещи. Перед нами в полном блеске золотых эполет, галунов и пуговиц, лежала полная форма командира королевского флота. Тут был и меч, и трёхуголка, даже кожаные сапоги. Мы буквально онемели. — Что это? Неужели вы хотите надеть это, Гуд? — Разумеется! — отвечал он. — Вы знаете, как много значит первое впечатление, особенно для женщин. Хотя бы один из нас будет порядочно одет! Мы замолчали, пораженные ловкостью Гуда, с которой он так искусно скрывал от нас все эти месяцы содержимое ящика. Одно только мы предложили ему — непременно надеть вниз стальную рубашку. Сначала он возразил, что ему неудобно надевать ее под мундир, но потом согласился. Забавнее всего было удивление Умслопогаса и восторг Альфонса при виде блестящей формы Гуда. Когда же он встал, выпрямился во всем своем блеске, даже с медалями на груди, и любовался на себя в спокойной воде озера, старый зулус не мог долее сдерживать своих чувств. — О, Бугван! — вскричал он, — Бугван! Я всегда думал, что ты неважный, маленький человек, жирный, как корова, когда она хочет телиться, а теперь ты похож на голубую сою, которая распустила свой нарядный хвост. Право, Бугван, глазам больно смотреть на тебя! Гуд недолюбливал намеки на свою полноту, хотя во время нашего путешествия он достаточно похудел. В общем, он был доволен восхищением зулуса. Что касается Альфонса, тот был совсем очарован. — А, monsieur прекрасно выглядит, — блестящий вид военного! О, дамы будут в восторге, там, на берегу. Monsieur удивительно хорошо выглядит! Он напоминает мне моего героя дедушку… Тут мы прервали излияния Альфонса. Любуясь Гудом, мы почувствовали дух соревнования и принялись, насколько возможно, приводить себя в приличный вид. Мы одели на себя охотничьи куртки, а под них стальные рубашки. Что касается моей наружности, то никакая, самая изысканная одежда не могла сделать ее лучше, но сэр Генри выглядел совсем красавцем в своей куртке и в сапогах. Альфонс также прибрался, как-то особенно подкрутив свои огромные усищи. Даже старый Умслопогас, который ровно ничего не понимал в нарядах, взял масла из фонаря и потер себе кожу, так что она блестела не хуже кожаных сапог Гуда. Потом он надел на себя стальную рубашку, которую сэр Генри подарил ему, и «муша» и, вычистив свой Инкози-каас, стоял в полном параде. В это время мы снова подняли парус и быстро двигались к берегу, или, вернее, к устью большой реки. Через полтора часа после того, как от нас уплыла маленькая лодка, мы увидели на реке большое количество лодок. Некоторые из них шли на 24 веслах, другие под парусом. Мы скоро различили среди них большой официальный корабль. Люди, находившиеся на корабле, были одеты в какое-то подобие формы. На палубе, лицом к нам, стоял старик почтенного вида с развевающейся белой бородой, с мечом на боку, очевидно, командир корабля. Остальные лодки были наполнены любопытными и кружились около нас. — Что это значит? — сказал я. — Хотят ли они дружелюбно встретить нас или покончить с нами? Никто не мог ответить на мой вопрос. В это время Гуд заметил в воде, в 200 ярдах от нас, бегемота и решил, что недурно произвести впечатление на туземцев стрельбой. К несчастно, мы ухватились за эту мысль, вытащили наши винтовки, хотя патронов у нас осталось немного, и приготовились действовать. Бегемотов было четыре, два постарше и два помоложе. Когда первые лодки находились в 500 ярдах от нас, сэр Генри открыл огонь. Пуля засела между глаз молодого бегемота, он погрузился в воду, оставив за собой кровавый след. В тот же момент я выстрелил в другого, а Гуд в третьего бегемота. Мой выстрел был не совсем удачен, бегемот, разбрызгивая воду, уплыл дальше и яростно захрюкал. Я сейчас же добил его новым выстрелом. Гуд, плохой стрелок, промахнулся, и пуля задела только морду животного. Оглянувшись на туземцев, я заметил, что они, очевидно, не имели понятия о стрельбе, потому что были поражены и изумлены в высшей степени. Сидевшие в лодках начали кричать от страха, некоторые удирали от нас изо всех сил, даже старый джентльмен заметно встревожился и остановил свой корабль. Но мы не имели времени наблюдать, потому что старый бегемот, раздраженный раной, появился вблизи, грозно поглядывая на нас. Мы выстрелили все разом и тяжело ранили его. Между тем любопытство превозмогло страх зрителей. Некоторые лодки подъехали к нам, и между ними находилась лодка, где сидели мужчина и женщина, которых мы видели два часа тому назад. Огромней, разъяренное животное вдруг выплыло около их лодки и с яростным ревом разинуло пасть. Женщина закричала, мужчина пытался дать лодке другое направление, но безуспешно. В следующую секунду я увидел огромные красные челюсти и клыки бегемота, вонзившиеся в бок лодки. Лодка опрокинулась, и люди оказались в воде. Прежде, чем мы успели опомниться, страшное чудовище разинуло пасть, чтобы проглотить женщину, которая боролась в воде. Я выстрелил над ее головой в горло бегемота. Он отплыл в сторону и начал кружиться, а ручьи крови текли из его ноздрей. Не давая ему опомниться, я снова выстрелил и прикончил его. Нашей первой мыслью было спасти девушку, пока мужчина плыл к другой лодке. Нам это удалось. Под шум и крики зрителей мы посадили ее в нашу лодку. Теперь все лодки туземцев собрались вместе, на некотором расстоянии от нас, очевидно, для совещания. Мы немедленно схватили весла и двинулись к ним. Гуд стоял в лодке и, держа треуголку, вежливо раскланивался во все стороны с веселой улыбкой. Главная лодка направилась к нам навстречу. Я видел, что наш вид — в особенности форма Гуда и фигура Умслопогаса — преисполнили удивления почтенного старика. Он был одет так же, как все, но рубашка его была сделана из чистого белого полотна с пурпуровой каймой. Золотое кольцо было надето на руке и на левом колене. Гуд махнул шляпой старому джентльмену и осведомился о его здоровье на чистейшем английском языке. Старик, в ответ на это, приложил два пальца правой руки к губам, что мы приняли за приветствие с его стороны. Затем он сказал нам несколько слов на том же языке, как и первый наш собеседник. Мы опять ровно ничего не поняли, закивали головами и пожимали плечами. После некоторого молчания, я, чувствуя сильный голод, начал показывать на свой рот и похлопывать по животу. Эти сигналы старик, видимо, отлично понял, потому что энергично закивал головой и указал на гавань. Один из его людей бросил нам веревку, которую мы крепко привязали к лодке. Лодка двинулась к гавани и повела нас на буксире, в сопровождении других лодок. Через 20 минут мы вошли в гавань, переполненную народом, собравшимся посмотреть на нас. Мы заметили, что обитатели города принадлежали к одному типу, и некоторые были очень красивы. Между зрителями мы видели дам, обладающих очень белой кожей. На повороте реки открылся город. Крик восхищения и удивления сорвался с наших губ, когда мы увидели его. Позднее мы узнали, что город называется Милозис, или «Нахмуренный город» (Ми — город, Лозис — нахмуренная бровь). На расстоянии пятисот ярдов от берега реки возвышалась гранитная скала в двести футов вышиной. На самой вершине скалы находилось здание, выстроенное из гранита; у подошвы его имелась зубчатая стена с маленькой, пробитой в ней дверью. Потом мы узнали, что это здание было дворцом королев страны. Позади дворца город поднимался вверх к великолепному зданию из белого мрамора, увенчанному золотым куполом, который мы уже заметили издали. За исключением этого здания, все дома города были выстроены из красного гранита и окружены садами, которые смягчали несколько суровое, однообразное впечатление гранитных построек. Наконец, мы увидели чудо и гордость Милозиса — большое крыльцо и лестницу дворца, от великолепия которых у нас захватило дыхание. Вообразите себе великолепную лестницу с балюстрадой, в два яруса; каждый ярус в сто двадцать пять ступеней, — и красивой площадкой. Лестница спускается от дворцовой стены к краю скалы, где по каналу проведена вода из реки. Чудеснейшее крыльцо поддерживается огромной гранитной аркой, увенчанной красивой площадкой между двумя ярусами. От этой арки отделяется другая летучая арка, красота которой затмевает все, что мы видели до сих пор. Это крыльцо было редким произведением искусства, которым человек мог поистине гордиться. Нам рассказывали потом, что крыльцо, постройка которого была начата еще в древности, обваливалось четыре раза, и три столетия простояло неоконченным, пока за него не взялся молодой инженер Радемес, который заявил, что или окончит работу, или пожертвует своей жизнью! Если ему не удастся окончить работу, он бросится со скалы вниз, если работа будет окончена, наградой ему будет рука королевской дочери! Пять лет возился он с работой, которая поглотила невероятное количество труда и материала. Три раза падала арка, пока инженер, видя, что его труды напрасны, не решил покончить с собой. Ночью, во сне, ему явилась прекрасная женщина, дотронулась до его лба, и он увидел здание законченным и понял, что, несмотря на массу затруднений, его гений преодолеет все. Он проснулся и снова принялся за работу, но уже по другому плану, и закончил ее. Через пять лет труда и терпения Радемес повел прекрасную дочь короля по лестнице во дворец, сделался королем-супругом и положил основание теперешней королевской династии Цу-венди, которую называют до сих пор «Домом лестницы», в память могучей энергии и таланта строителя, которые послужили ступенями к его величию. В честь своего торжества и успеха, король-супруг Радемес сделал статую, изображавшую его спящим, а над ним прекрасную женщину, которая прикасается к его лбу, и поставил скульптуру в большом зале дворца, где она стоит и теперь. Таково происхождение великолепной лестницы дворца в Милозисе. Неудивительно, что его называют «Нахмуренным городом». Могучие гранитные здания глядят сурово и хмурятся на человечество в своем мрачном величии. Мы увидели Милозис, когда он был залит лучами солнца, но когда грозные тучи собираются над царственной вершиной города, он выглядит каким-то сверхъестественным обиталищем, мечтой поэтической фантазии!Глава 12
СЕСТРЫ-КОРОЛЕВЫ
Большая лодка проскользнула по каналу у подножья лестницы и остановилась. Старик вышел из лодки и пригласил нас следовать за ним. Усталые, мы без колебания пошли за ним, конечно, захватив с собой винтовки. Наш проводник снова приложил пальцы к губам, низко поклонился и приказал людям в лодках, собравшимся смотреть на нас, отправляться по домам. Последней вышла из нашей лодки девушка, которую мы вытащили из воды. Она поцеловала мою руку, вероятно, из благодарности за спасение от бегемота. Мне казалось, что она совершенно забыла свой страх перед нами и вовсе не торопилась уйти к своим. Она пошла поцеловать руку Гуда, когда молодой человек, ее спутник, вмешался и увел ее. Как только мы очутились на берегу, несколько человек сейчас же захватили наше имущество и пожитки и отправились с ними на великолепное крыльцо, а наш проводник всеми способами старался объяснить нам, что наши вещи останутся целы и невредимы. Затем он повернул вправо и повел нас к маленькому дому, как я после узнал, представлявшему собой гостиницу. Мы вошли в красивую комнату и увидели деревянный стол, уставленный всякими яствами, очевидно, приготовленный для нас. Наш проводник пригласил нас сесть на скамейку около стола. Мы не стали ждать вторичного приглашения и накинулись на закуску. Она была подана на деревянных блюдах и состояла из холодного козьего мяса, обернутого в какие-то листья, придавшие ему восхитительный вкус; из зелени, вроде латука, коричневого хлеба и красного вина, наливаемого в роговые чаши. Вино имело нежный и прекрасный вкус, что-то вроде бургундского. Через двадцать минут мы встали из-за стола, чувствуя себя совсем другими людьми. После всего, что мы пережили, мы нуждались в двух вещах: в пище и отдыхе. Две красивые девушки, совершенно так же одетые, как та, которую мы видели в лодке, стояли около нас, пока мы ели, и были очень деликатны. Я узнал позднее, что национальный костюм туземной женщины — белая полотняная юбка до колен и верхнее платье в виде тоги из коричневой ткани, причем часть груди и правая рука остаются обнаженными. Если юбка была совершенно белая, это означало, что обладательница ее — девушка, белая юбка с пурпурной каймой на конце обозначала замужнюю женщину и первую законную жену. Если кайма на юбке была волнистая — женщина была второй или другой женой; юбка с черной каймой указывала на вдову. Тога, или «кэф», как ее называют здесь, могла быть различного цвета, от белого до темно-коричневого, согласно общественному положению, и вышита на конце различными шелками. Рубашки или туники мужчин различались лишь цветом и материалом. Одно только национальное украшение неизменно носили и мужчины, и женщины — золотой обруч на правой руке, около локтями на левой ноге, ниже колена. Люди высокопоставленные надевали золотой обруч на шею, и я заметил такой обруч на шее нашего почтенного проводника. Как только мы кончили есть, этот почтенный старик, стоявший около нас и беспокойно поглядывавший на наши ружья, низко поклонился Гуду, которого, очевидно, считал предводителем отряда, благодаря его блестящей форме, и повел нас к большому крыльцу. Здесь мы остановились полюбоваться двумя колоссальными львами, изваянными из черного мрамора и стоявшими на конце широкой балюстрады крыльца. Эти львы были великолепно сделаны, как говорят, самим Радемесом, который, судя по его работам, был одним из величайших скульпторов в мире. С чувством удивления и восхищения мы поднимались по лестнице, этому чудному произведению человеческого гения, которым, несомненно, через многие тысячи лет будет любоваться еще не существующие поколения! Даже старый Умслопогас, считавший недостойным себя чему-нибудь удивляться, был поражен и спросил, был ли мост выстроен людьми или дьяволами, так как любил все приписывать сверхъестественной силе. Только Альфонс ничего не понимал и не заботился об этом. Суровая красота лестницы была непонятна легкомысленному французу, который сказал: — «все это очень красиво, но печально, ах, как печально!» — И добавил, что ему больше было бы по душе, если бы лестница была вызолочена. Мы прошли первый ярус в 120 ступеней и вступили на площадку, соединявшую его со вторым, где залюбовались великолепным видом на страну, окаймленную горами и голубыми водами озера. Пройдя лестницу, мы очутились на открытой площадке, откуда шли три выхода. Два из них вели в узкие галереи, вырытые в скале, которая шла кругом всей дворцовой стены до главных ворот города, сделанных из бронзы. Как я узнал после, можно было запереть все эти входы и выходы и сделать их совершенно недоступными неприятелю. Третий выход вел через 10 черных мраморных ступеней прямо к двери в дворцовой стене. К этой двери и повел нас проводник. Она была массивна, сделала из какого-то прочного дерева и защищена бронзовой решеткой. Как только мы подошли к ней, дверь широко распахнулась. Нас встретил часовой, вооруженный копьем и мечом. На груди у него была надета искусно выделанная кожа бегемота, в руке он держал круглый шит из той же кожи. Особенно меч его привлек все наше внимание. Он был совершенно одинаков с тем, который имелся у мистера Мекензи, полученный им от неизвестного путешественника. Значит, этот неизвестный человек говорил правду! Наш проводник сказал пароль, и солдат опустил свое копье, которое зазвенело, ударившись о пол. Мы прошли во двор дворца, представлявший собой четырехугольник, убранный цветами, кустами и растениями, большая часть которых была нам неизвестна. В центре садика шла широкая аллея, окаймленная большими раковинами, принесенными сюда с озера. По аллее мы дошли до другого входа, под круглой аркой, на которой висел плотный занавес, заменявший двери. Затем мы очутились в большом зале дворца и остановились в удивлении перед грандиозным зрелищем. Зал был огромный, с великолепным дугообразным сводом из резного дерева. На расстоянии 20 футов от стены высились стройные колонны из черного мрамора. В конце зала, поддерживаемого этими колоннами, находилась мраморная группа, выполненная королем Радемесом в память сооружения им крыльца. Красота группы поражала взор. На черном мраморе цоколя выделялась великолепно изваянная фигура из белого мрамора, представлявшая молодого человека с благородным лицом, спящего на ложе. Одна рука его бессильно опушена на край ложа, а на другой покоится голова, наполовину закрытая локонами. Склонившись над ним, положив руку на его лоб, стоит закутанная фигура женщины с лицом поразительной красоты. Я не в силах описать все спокойное величие прекрасного лица, на котором сияет отблеск нежной, ангельской улыбки! — И в ней, в этой улыбке, все — могущество, любовь и божественная красота! Глаза женщины устремлена на спящего юношу. Самая замечательная вещь в этой группе, особенно удавшаяся скульптору, это внезапный подъем творческого духа, отразившийся на усталом и измученном лице спящего. Вы видите, как вдохновение проникает в темноту человеческой души и озаряет ее новым светом, подобно лучу рассвета, разбивающему мрак ночи! Это — дивное создание рук человеческих, и только гений мог создать что-либо подобное! Между черными мраморными колоннами стоят другие мраморные группы, изображающие различные аллегории или бюсты великих людей работы того же великого скульптора Радемеса, но ни одна из них, по нашему мнению, не может сравниться с вышеописанной группой. В центре зала находится священный камень народа. На нем монархи после церемоний коронования клянутся соблюдать интересы страны, ее традиции, законы и обычаи. Этот камень, очевидно, принадлежал к глубокой древности, бока его были покрыты заметками и линиями, что, по мнению сэра Генри, служило доказательством его существования в отдаленный период времени. Относительно этого камня существовало курьезное предсказание: он, по народному поверью, упал с солнца, и, когда будет раздроблен в куски, тогда король чужеземной расы будет править всей страной. Но камень выглядел пока очень прочным, и династия имела много шансов править страной еще долгие годы. В конце зала, на богатых коврах, стояли два трона в виде больших кресел, сделанных из золота и богато украшенных. Над каждым троном виднелась эмблема солнца, посылающего свои лучи по всем направлениям. Подножьями обоих тронов служили спящие львы с большими топазами вместо глаз. Свет проходил в зал через узкие отверстия наверху, сделанные в виде замковых бойниц, но без стекол, которые, очевидно, были неизвестны здесь. У нас не было времени хорошо рассмотреть зал, потому что при входе в него мы заметили большое количество людей, собравшихся перед тронами, остававшимися незанятыми. Знатнейшие из присутствовавших людей сидели на разных деревянных креслах, поставленных справа и слева от тронов, и были одеты в белые туники, богато расшитые, с разноцветной каймой, и держали в руках украшенные золотом мечи. Суда по достоинству их осанки, все они были очень высокопоставленные особы. Позади каждого из них стояла кучка слуг и преданных людей. Налево от тронов сидела маленькая группа людей, — шесть человек, которые заметно отличались от других; на них была одета длинная белая одежда с изображением солнца, перевязанная у пояса чем-то вроде золотой цепи, от которой шли вниз длинные, эллиптической формы, золотые дощечки, сделанные в виде рыбьей чешуи, так что, при каждом движении важных особ, они звенели и блестели. Все эти люди находились в почтенном возрасте, имели суровый и внушительный вид и длинные бороды. Один из них производил особенно странное впечатление. Ом был очень стар, — около 80 лет, — чрезвычайно высок, с белоснежной бородой, которая висела да пояса. Черты лица его были строги и суровы, серые глаза смотрели холодным, пронизывающим взглядом. Головы других были непокрыты, а у высокого старика на голове была надета вышитая золотом шапочка, указывавшая, что обладатель ее — персона особой важности. Позднее мы узнали, что это был Эгон, великий жрец страны. Когда мы подошли ближе, все эти люди, включая и жрецов, встали и весьма учтиво поклонились нам, прикладывал два пальца к губам, в знак приветствия. Из-за колонн вышли слуги и принесли кресла, на которые мы сели лицом к тронам. Мы сели втроем, а Умслопогас и Альфонс встали позади нас. Едва мы успели сесть, как раздались звуки труб справа и слева. Затем вошел человек, встал против трона с правой стороны и провозгласил что-то громким голосом, причем повторил три раза стою «Нилепта». Другой человек прокричал что-то перед левым троном, повторив три раза слово «Зорайя». С каждой стороны появились вооруженные люди, встали но обеим сторонам тронов и опустили вниз свои копья, зазвенев ими по мраморному полу. Снова звуки труб, и с разных сторон появились обе королевы, сопровождаемые шестью дамами. Все присутствовавшие в зале встали, приветствуя их. Я видал на своем веку красивых женщин и более не прихожу в восторг от прекрасного лица, но красота сестер-королев превосходит всякое описание! Обе были молоды — около 25 лет; обе высоки и изящно сложены. Но на этом сходство их кончалось. Нилепта была женщина ослепительной красоты, ее правая рука и часть груди, согласно обычаю, были обнажены и сияли белизной из-под складок белой, расшитой золотом тоги, или «кэф». Ее лицо было так прелестно, что, раз увидевши, его трудно было забыть. Волосы настоящего золотистого цвета, собранные короткими локонами вокруг головы, осеняли чистый, прекрасный, как слоновая кость, лоб, глубокие, искристые серые глаза сияли нежностью и царственным величием. Рот был удивительно нежно очерчен. Все ее лицо поражало прелестью и красотой очертаний вместе с легким оттенком усмешки, приютившейся в углах губ, подобие серебристой капле росы на розовом бутоне. На ней не было никаких драгоценностей, кроме золотого обруча на шее, руке и колене, сделанного в виде змейки. Ее тога была сделана из снежно-белого полотна, богато расшита золотом и украшена эмблемой солнца. Другая сестра, Зорайя, представляла собой несколько иной, мрачный характер красоты. Волосы Зорайи, волнистые, как у Нилепты, были иссиня-черного цвета и падали локонами на плечи. Цвет лица оливковый, большие темные глаза, мрачные и блестящие, полные, я сказал бы, жестокие губы! Это лицо, спокойное и холодное, говорило о затаенной страстности и заставило меня подумать о том, как оно изменится, когда страсть вырвется наружу. Я смотрел на лицо Зорайи, и мне припомнились спокойные и глубокие воды моря, которое в ясные дни ничем не проявляет своей могучей силы, и только в сонном рокоте его слышится затаенный дух бури! Фигура Зорайи была прекрасна по своим линиям и очертаниям, хотя несколько полнее, чем у Нилепты. Одеты обе были совершенно одинаково. Когда прекрасные королевы спокойно уселись на своих тронах при глубоком молчании всего двора, я думал, что обе сестры совершенно воплощают мое понятие о царственности. Эта царственность сказывалась в их формах, грации, достоинстве, даже в варварской пышности окружающей их обстановки. Быть может, они вовсе не нуждались в воинах и золоте, чтобы утвердить свою власть, чтобы подчинить своей воле упрямых людей! Достаточно было одного взгляда блестящих глаз, одной улыбки прекрасных уст, чтобы заставить подданных идти на смерть ради них! Но королевы были прежде всего женщинами и потому не были чужды любопытству. Проходя к своим тронам, они бросили быстрый взгляд на нас. Я видел, как их глаза скользнули по мне, не найдя ничего интересного в незначительном и седом старике. С явным удивлением перевели они свои взор на мрачную фигуру старого Умслопогаса, который поднял свой топор в знак приветствия, потом пристально вгляделись в Гуда, привлеченные блеском его мундира и, наконец, остановили свои взор на лице сэра Генри. Солнечные лучииграли на его светлых волосах и бороде, выставляя в выгодном свете красивые линии массивной фигуры. Он поднял глаза и встретил взгляд прелестной Нилепты. Я не знаю почему, но кровь прилила к нежной коже королевы, ее прекрасное лицо вспыхнуло, покраснела даже прекрасная грудь, рука и лебединая шея. Щеки закраснелись, как лепестки розы. Потом она успокоилась и снова побледнела. Я взглянул на сэра Генри, он покраснел до самых глаз. Честное слово, — подумал я, — на сцене появились дамы, следовательно, прощай мир и спокойствие! Я вздохнул и покачал головой, потому что знал, что красота женщины подобна красоте молний и несет с собой разрушение и отчаяние! Пока я размышлял, обе королевы сидели на тронах. Еще раз зазвучали трубы. Придворные сели на свои места. Королева Зорайя указала на нас. Из толпы вышел наш проводник, держа за руку девушку, которую мы спасли из воды. Поклонившись, он обратился к королевам, очевидно, рассказывая им о нас. Курьезно было видеть выражение удивления и страха на их лицах, пока они слушали рассказ. Ясно было, что они не могут понять, каким образом мы очутились на озере, и готовы приписать наше появление сверхъестественной силе. Рассказ продолжался, и я заключил по частым обращениям рассказчика к девушке, что он говорил о бегемотах, которых мы застрелили; затем мы подумали, что он врет чтонибудь относительно бегемотов, потому что его рассказ часто прерывался негодующими восклицаниями жрецов и придворных, в то время как королевы слушали с изумлением, особенно, когда рассказчик указал на каши винтовки, как на орудия разрушения и смерти. Я должен пояснить теперь, что обитатели страны Цу-венди были солнцепоклонниками, и бегемот считался у них священным животным. В известное время года они убивают бегемотов тысячами — бегемоты оберегаются специально для этого в озере страны, так как их кожа идет на амуницию солдат, — что нисколько не мешает туземцам считать бегемота священным животным.[76] Те бегемоты, которых мы застрелили, принадлежали к священным животным, и специальной обязанностью жрецов было заботиться о них. Таким образом, сами не зная того, мы совершили святотатство самого ужасного вида. Когда наш проводник окончил свой рассказ, высокий старик с длинной бородой и в круглой шапочке, великий жрец Эгон, встал и начал бесстрастным тоном говорить что-то королевам. Мне не нравился холодный взгляд его серых глаз, устремленных на нас. Вероятно, он нравился бы мне еще меньше, если бы я понимал его речь и знал, что, во имя оскорбленного божества, жрец требовал, чтобы мы были принесены в жертву и сожжены. Когда он кончил, королева Зорайя заговорила нежным, музыкальным голосом, и, судя по ее жестам, разбирала другую сторону вопроса. Затем Нилепта сказала что-то жрецу. Мы, конечно, и не подозревали, что она заступалась за нас и просила о помиловании. В конце концов, она обернулась к высокому человеку средних лет, с черной бородой и длинным мечом в руке, которого звали (это мы узнали потом) Наста, и который был очень важным лицом к стране. Очевидно, она ждала от него поддержки. Но когда она переглянулась с сэром Генри еще при входе в зал и покраснела, как роза, я заметил, что это было неприятно высокому человеку, потому что он закусил губу и схватился за меч. Потом нам сказали, что он жаждал подучить руку королевы и вступить с ней в брак. Нилепта не могла сделать худшего выбора, когда обратилась к нему за помощью. Он тихо заговорил с ней, очевидно, соглашаясь с доводами великого жреца. Во время этого разговора Зорайя положила локоть на колено, уперлась подбородком на руки и смотрела на Насту с презрительной улыбкой на губах, как будто видела насквозь его мысли и планы. Нилепта, очевидно, рассердилась, ее щеки покраснели, глаза заблестели, и она стала еще красивее. Наконец, она повернулась к Эгону и, казалось, дала ему согласие, потому что тот низко поклонился ей. Все это время Зорайя сидела и улыбалась. Вдруг Нилепта сделала знак. Раздался звук труб. Все встали и покинули зал, кроме стражи, которой она приказала остаться на месте. Когда все ушли, Нилепта наклонилась, нежно улыбаясь, и с помощью знаков и восклицаний дала нам понять, что желала бы узнать, как мы попали сюда. Очень трудно было объяснить ей это. Но вдруг меня осенила мысль. В кармане у меня имелась записная книжка и карандаш. Я набросал на бумаге чертеж подземной реки и озера, подошел к ступеням трона и подал книжку Нилепте. Она поняла сразу, радостно захлопала в ладоши, сошла с трона и подала чертеж Зорайе, которая также сейчас поняла его. Нилепта взяла карандаш у меня, с любопытством посмотрела на него и сделала несколько прелестных рисунков. Первый изображал ее, радостно приветствующую обеими руками человека, весьма похожего на сэра Генри. На втором рисунке она изобразила бегемота, умирающего в воде, и на берегу человека, в ужасе поднявшего руки при этом зрелище. В этом человеке мы без труда узнали великого жреца. Затем был рисунок, представлявший ужасную огненную печь, в которую Эгон толкал нас своим посохом. Этот рисунок ужаснул меня, но я несколько успокоился, когда она ласково кивнула мне и принялась за четвертый рисунок. Она нарисовала человека, опять похожего на сэра Генри и двух женщин, себя и Зорайю, которые стояли, обняв его и держа над ним меч в знак зашиты и покровительства. Зорайя, которая все это время смотрела на нас, особенно на сэра Генри, одобрила рисунки легким кивком головы. Наконец Нилепта набросала чертеж восходящего солнца, пояснив, что должна уйти, и что мы встретимся на следующее утро. Сэр Генри глядел так печально, что, вероятно, желая утешить его, Нилепта протянула ему руку для поцелуя, что они сделал с благоговением. Зорайя, с которой Гуд все время не сводил глаз и своего стеклышка, вознаградила его, также протянув ему руку для поцелуя, хотя глаза ее были устремлены на сэра Генри. Я рад сознаться, что не участвовал в этой церемонии, ни одна из королев не дала мне руки для поцелуя. Потом Нилепта подозвала к себе человека, вероятно, начальника телохранителей, и отдала ему строгое и точное приказание, улыбаясь, кокетливо кивнула нам головой и вышла из зала, сопровождаемая Зорайей и стражей. Когда обе королевы ушли, офицер, которому Нилепта отдала приказание, с видом глубокого почтения повел нас из зала через разные коридоры и целый ряд пышных апартаментов в большую комнату, освещенную висячими лампами (уже стемнело), устланную богатыми коврами, уставленную ложами. На столе, в центре комнаты, была приготовлена закуска, плоды и много цветов. Тут было восхитительное вино в древних глиняных фляжках, красивые кубки из золота и из слоновой кости. Слуги, мужчины и женщины, были готовы служить нам, и пока мы ели, до нас откуда-то донеслось чудное пение. «Серебряная лютня говорила, пока не раздался властный звук трубы!» — пел чей-то нежный голос. Нам казалось, что мы находимся в земном раю, если бы мысль об отвратительном великом жреце не отравляла нашего удовольствия. Но мы так устали, что едва могли сидеть за столом, и скоро начали пояснять знаками, что страшно хотим спать. Нас повели куда-то и хотели положить каждого в отдельную комнату, но мы дали понять, что хотим спать вдвоем в одной комнате. Ради предосторожности, мы положили спать Умслопогаса с его топором в главной комнате, близ занавешенной двери, которая вела в наше помещение. Гуд и я легли в одной комнате, сэр Генри и Альфонс — в другой. Сбросив с себя все платье, за исключением стальной рубашки, мы бросились на наши роскошные ложа и покрылись богатыми, вышитыми шелком одеялами. Через две минуты я задремал, как вдруг был разбужен голосом Гуда. — Квотермейн! — сказал он. — Видали ли вы когда-нибудь такие глаза? — Глаза? — спросил я сквозь сон. — Какие глаза? — Конечно, глаза королевы Зорайи, так, мне кажется, ее зовут. — О, я право не знаю! — зевнул я. — Я не заметил! Думаю, что у них обеих добрые глаза! Я снова задремал. Гуд разбудил меня через пять минут. — Квотермейн, послушайте! — Ну, что еще там? — Заметили вы, какая у нее нога? Этого я не мог вынести. Около моей постели на столе лежала моя шляпа. Почти невольно я схватил ее и бросил прямо в голову Гуда. После этого я заснул сном праведника. Что касается Гуда, не знаю, спал ли он, или мечтал о прелестной Зорайе, до этого мне не было дела!Глава 13
НАРОД ЦУ-ВЕНДИ
Занавес опустился на несколько часов, и актеры новой драмы погружены в глубокий сон; все спят, быть может, за исключением Нилепты, которая дала волю своим поэтическим склонностям и, лежа в постели, не могла заснуть, думая об иностранцах, которые посетили ее страну, никогда не видавшую подобных посетителей, размышляя о том, кто они, что таится в их прошлом, сравнивая их с туземными мужчинами. У меня нет поэтических наклонностей, я хочу просто собраться с мыслями к дать себе отчет о том народе, среди которого мы находимся, сообразно моим впечатлениям. Название страны Цу-венди происходит от слова Цу — желтый и Венди — страна, или место. Я никогда не мог понять, отчего она так называется, даже сами обитатели не знают этого. По моему мнению, существуют три основания для такого названия страны. Во-первых, название это произошло от громадного количества золота в стране. В этом отношении Цу-венди — настоящее Эльдорадо. На расстоянии одного дня езды от Милозиса находятся целые залежи золота. Я сам видел массу золотоносного кварца. В стране Цу-венди золото — самый заурядный металл, и серебро ценится выше. Другое происхождение названия может быть следующее: в известное время года туземные травы, весьма жирные и обильные, — сильно желтеют, так же, как и хлебное зерно. Третья версия о названии страны происходит от поверья, что прежде здесь жил народ, имевший желтую хожу, затем, через многие поколения, он превратился в белокожих людей. Цу-венди — страна гористая, имеет форму овала и окружена безграничными терновыми лесами, болотами, которые тянутся на сотни миль, пустынями и горами. Она занимает центральное место на континенте. Милозис лежит, согласно указанию моего анероида, на 9000 футов над уровнем моря, но остальная часть страны еще выше, и я думаю, достигает 11 000 футов. Климат сравнительно холодный, похожий на климат южной Англии, хотя несколько теплее и не так дождлив. Страна чрезвычайно плодородна. Здесь растут и хлебные растения, и фрукты, и великолепный строевой лес. Южная часть страны производит много сахарного тростника. Каменный уголь здесь имеется в большом изобилии, много мрамора, черного и белого. Много здесь всевозможных металлов, кроме серебра, которое встречается редко и находится только в горах, на севере страны. Цу-венди — красивая и живописная страна. На рубеже ее тянутся два ряда снеговых гор, которые с западной стороны заканчиваются непроходимым терновым лесом, пересекают страну с севера на юг и проходят на расстоянии 80 миль от Милозиса. В стране три больших озера, одно называется также Милозис, по имени города. Народонаселение этой цветущей страны, в общем, очень значительно, от 10 до 12 миллионов. Это — земледельческая нация и разделяется по классам. Средний класс состоит, главным образом, из купцов, офицеров армии; простой народ — трудолюбивые крестьяне — живут на землях господ, у которых состоят в феодальной зависимости. Высший класс в стране обладает совершенно белой кожей и чертами лица южного типа, но у простого народа темная кожа, хотя он вовсе не походит на негров или других африканских дикарей. Происхождение народа Цу-венди затерялось во мраке времен. Архитектура и скульптура в стране напоминает египетскую, или, вернее, ассирийскую. Известно, что замечательный стиль теперешних построек появился не более 800 лет назад и совершенно потерял всякие следы влияния Египта. Наружность и привычки народа скорее напоминают евреев, быть может, он и представляет собой потомков одного из 10 племен, рассеянных по всему миру. Кроме того, я слышал одну легенду от арабов на восточном берегу Африки. Легенда эта гласит, что более 2000 лет тому назад в стране, известной под именем Вавилонии, происходили смуты, и большая партия Парсов бежала оттуда на корабле и пристала к северо-восточному берегу Африки, где, согласно легенде, жили люди, поклонявшиеся солнцу и огню. Они поссорились с новыми поселенцами и ушли внутрь страны, где все следы их совершенно затерялись. Разве не возможно, что народ Цувенди представляет собой потомков этих огнепоклонников? Есть что-то в его характерных чертах и обычаях, что смутно напоминает Парсов. Сэр Генри говорит, что если память не изменяет ему, то действительно в Вавилоне были смуты, вследствие которых множество народа ушло из страны. Установлен факт, что существовало несколько отдельных эмиграций Парсов от берегов Персидского залива к восточному берегу Африки. Цу-венди, будучи земледельческим народом, отличается воинственными наклонностями и при всяком удобном случае начинает войну с другими народами, результатом чего является то обстоятельство, что прирост населения никогда не превышает производительности страны. Политическое положение страны также способствует этому. Монархическое правление несколько ограничено властью жрецов и советом из высших сановников страны. Но слово короля является законом. В сущности, система управления напоминает феодализм, хотя рабства, в настоящем значении этого слова, здесь не существует. Все высшие сановники страны только номинально считаются подданными короля, но, в действительности, совершенно независимы, распоряжаются жизнью и смертью своих подчиненных, воюют и мирятся с соседями сообразно своим интересам, а иногда открыто восстают против короля или королевы к спокойно прячутся в своих замках, не обращая внимания на правительство. Восемь различных династий владели тротом за последнее тысячелетие, захватывая власть после кровопролитной борьбы. Когда мы приехали в страну, дела обстояли лучше, потому что последний король, отец Нилепты и Зорайи, был чрезвычайно способный и энергичный правитель и умел держать в руках и жрецов, и сановников. Два года прошло после его смерти. Две сестры, его дочери, наследовали трон, так как всякая попытка отстранить их от власти вызвала бы кровопролитную войну. Но разнообразные интриги честолюбивых сановников, претендующих на руку одной из королев, сильно беспокоили страну. Общее мнение было, что без кровопролития не обойдется. Народ поклонялся солнцу в самом высшем понятии этого слова. Вокруг этого почитания солнца группировалась целая социальная система Цу-венди. Начиная от ничтожных мелочей и до серьезных событий, солнце играло главенствующую роль в жизни народа. Новорожденного держали под лучами солнца и посвящали солнцу, «символу добра, власти, надежды на вечность» — эта церемония соответствовала таинству крещения. Родители указывали малютке на величественное светило, как на видимую и благотворную силу, и он, едва держась на ноженках, учился почитать и боготворить его. Держась за тогу матери, ребенок шел в храм солнца, и здесь, когда полуденные лучи горели над центральным алтарем и озаряли лучезарным светом весь храм, он слушал, как одетые в белые одежды жрецы торжественно пели хвалебный гимн солнцу, видел, как народ с горячей мольбой падал ниц перед алтарем, как при звуках золотых труб приносились жертвы, брошенные в огненную печь под алтарем. Здесь же, в храме, жрецы объявляли, что он «взрослый муж» и благословляли его на войну и добрые дела, здесь, перед алтарем, будет он стоять с избранной невестой, и здесь же, если брак несчастлив, может развестись с женой. Так проходит вся жизнь человека, пока его не приносят сюда мертвым и кладут его прах перед восточным алтарем. Когда последний луч заходящего солнца озарит его бледное, мертвое лицо, он исчезает в раскаленной печи под алтарем… и все кончено! Жрецы солнца не женятся и набираются из молодых людей специально предназначенных для этой цели родителями. Посвящение в сан жреца зависит от царской власти, но назначенный жрец не может уклониться от своих обязанностей. Я не ошибусь, если скажу, что собственно жрецы правят страной. Приказание великого жреца в Милозисе сейчас же и безропотно выполняется всеми жрецами, живущими за три или четыре сотни миль от него. Они являются главными судьями в стране и по уголовным, и общественным делам, хотя допускается и апелляция в совет сановников и от них к королю. Жрецам дана огромная власть в делах нравственного и религиозного характера, вплоть до отлучения от церкви. И это серьезное и опасное оружие в их руках! В сущности, власть и права жрецов неограниченны, но я должен сознаться, что жрецы солнца мудры и осторожны в своих поступках. Весьма редко случается, чтобы они выказали излишнее рвение, преследуя кого-нибудь. Напротив, они склонны к пощаде и милосердию во избежание риска раздражить сильный, но добродушный народ, который кротко несет их ярмо на своей спине, но способен восстать и сбросить его с себя. Один из источников неограниченного могущества жрецов, — это монополия их на грамотность, познания в астрономии, что помогает им держать народ в руках, предсказывая ему затмения и появление комет. В стране Цу-венди только немногие из высшего класса умеют читать и писать, но все жрецы обязательно грамотны и выглядят учеными людьми. Законы страны, в общем, кротки и справедливы и разнятся во многом от наших цивилизованных законов. Например, в Англии закон карает очень сурово всякое покушение на чужую собственность, более строго, чем покушение на жизнь человека. Это вполне понятно у народа, преобладающая страсть которого — деньги и деньги! Любой человек может заколотить до смерти свою жену или допустить самое жестокое обращение со своими детьми, и это обойдется дешевле, чем если он покусится украсть пару старых сапог. В Цу-венди на это смотрят иначе. Убийство наказывается смертью, предательство, ограбление сирот или вдов, святотатство, попытка нарушить спокойствие страны — все это грозит виновнику смертью. Его бросают в огненную печь под алтарем бога солнца. За другие проступки, включая и праздность, виновный осуждается на работу при каких-либо национальных постройках в стране, сообразно величине проступка. Социальная система Цу-венди предоставляет полную свободу всякой отдельной личности, если только она не нарушит законов и обычаев страны. Существует здесь и полигамия, но большинство мужчин имеет только одну жену, во избежание лишних расходов. По закону, если мужчина имеет нескольких жен, он обязан предоставить каждой из них отдельное помещение. Первая жена это законная жена, и ее дети принадлежат «к дому отца». Дети других жен принадлежат дому своих почтенных матерей. Но первая жена, вступив в супружество, может заключить условие, чтобы ее супруг не имел других жен. Впрочем, это случается редко, и женщины держатся за полигамию, которая дает большие преимущества первой жене, являющейся, таким образом, главой нескольких хозяйств. На брак здесь смотрят, как на гражданский договор, и подчиняться известным условиям является обязательным для обеих договаривающихся сторон, развод здесь совершается формально и с церемониями. В общем, Цу-венди — добрый, веселый, мягкосердечный народ. Между ними нет ярых торговцев, нет особой любви к деньгам. Они стараются заработать столько, чтобы прожить. Все они чрезвычайно консервативны и с недоверием смотрят на всякие нововведения и реформы. Денежная система их — серебряная, золото употребляется только на декоративные украшения. Торговля здесь производится, главным образом, в виде менового торга. Земледелие — главное занятие жителей, и работают они усердно. Большое внимание обращается на разведение скота и лошадей. Лошади замечательные, каких я никогда не встречал, в Европе или Африке. Система податей очень несложна: государство берет третью часть заработка земледельцев, жрецы получают пять процентов с остатков. Но если человек впадет в нищету, то правительство поддерживает его и помогает. Если он ленив, его отсылают работать на правительственных постройках, и государство берет на себя заботу о его женах и детях. Государство ведет все постройки дорог и городских домов и делает это очень заботливо. Оно содержит армию в 20 000 человек, сторожей и т. д. За свои пять процентов жрецы несут службу при храмах, совершают все религиозные церемонии, содержат школы, в которых обучают, чему хотят. Некоторые храмы имеют свое отдельное имущество, но жрецы, как отдельные личности, не имеют права собственности. Возникает вопрос, на который я с трудом могу ответить: принадлежит ли народ Цу-венди к цивилизованной или варварской расе? В некоторых отраслях искусства они достигли высокой степени совершенства, например, в архитектуре или скульптуре. Я не думаю, чтобы какая-либо страна в мире могла сравниться в этом с ними. Но в других вещах они совершенно несведущи. Сэр Генри, кое-что понимающий в этом, показал им, как смешать кремнезем и известь, а они признались, что никогда не видали кусочка стекла, и их глиняная посуда очень первобытна. Наши карманные часы чрезвычайно восхищали их. Они не имели понятия об электричестве, паре, порохе, книгопечатании, почте. Они избежали, благодаря этому, многих несчастий, потому что старая мудрая поговорка гласит: кто прибавляет себе познаний, тот прибавляет и горя! Относительно религии: в ней нет ничего спиритуалистического, ни возвышенного. Правда, некоторые из Цу-венди говорят, что солнце — «одеяние духа», но это слишком общее и туманное выражение, многие верят в будущую жизнь, но это какая-то первобытная, необоснованная вера, а вовсе не сущность религии. В общем, я не могу сказать, чтобы я видел в религии солнцепоклонников определенную религию цивилизованной расы, как ни великолепны их обряды, как ни возвышенны правила жрецов, которые, я уверен, имеют свое особое мнение об этом предмете. Мне остается сказать теперь только о языке Цу-венди и их каллиграфии. Язык их очень звучен, очень богат и гибок. Сэр Генри уверяет, что он походит на новейший греческий язык, с которым я, к сожалению, вовсе не знаком. Язык Цу-венди очень прост, его легко изучить. Особенность его заключается в созвучии слов и в применении их к значению того, что они выражают собой. Мы скоро поняли язык, так как он постоянно был на слуху у нас. Он удивительно хорошо звучит в поэтических декламациях, которые очень любит этот замечательный народ. Алфавит Цу-венди, по словам сэра Генри, происходит от финикийского и, может быть, несколько заимствован от египетского гиератического письма. Точно не скажу, так как мало смыслю в этом. Я знаю только, что алфавит Цу-венди состоит из 22 букв, из которых буквы Б, Е и О несколько походят на наши. В общем, каллиграфия их довольно груба и трудна. Но так как народ Цу-венди не пишет новелл, ничего, кроме деловых бумаг и документов, то вполне доволен своим алфавитом.Глава 14
ХРАМ СОЛНЦА
Было половина восьмого на моих часах, когда я проснулся утром на другой день нашего приезда в Милозис, проспав ровно 12 часов и чувствуя себя несравненно лучше. Благодатная вещь сон! Эти 12 часов крепкого сна так освежили нас после многих дней и ночей труда и опасности! Легли мы в постель усталыми, измученными, а проснулись совсем другими людьми! Я сел на шелковое ложе, — никогда я не спал на такой постели, — и первое, что мне бросилось в глаза — это стеклышко Гуда, устремленное на меня с его постели. Я не видел ничего, кроме этого стеклышка в глазу Гуда, но по его взгляду понял, что он ждал моего пробуждения. — Квотермейн, — начал он, — заметили ли вы ее ногу, особенно лодыжку? Она гладка и блестяща, как оборотная сторона роговой щетки! — Лучше взгляните, Гуд, что там? — ответил я, указывая на занавес, за которым появился человек, показывавший нам знаками, что готов вести нас в ванную. Мы с удовольствием согласились и были приведены в восхитительную мраморную комнату, в середине которой находился пруд с кристальной водой, куда мы с наслаждением погрузились. Выкупавшись, мы вернулись в свои комнаты, оделись и отправились в центральную комнату, где был приготовлен утренний завтрак для нас. После завтрака мы долго прохаживались по комнате, любуясь обивкой стен и коврами, статуями и поджидая, что будет дальше. В самом деле, за это время мы так привыкли удивляться, что теперь были готовы ко всему. В это время явился наш друг капитан и любезно пояснил нам знаками, что мы должны следовать за ним. Мы повиновались не без колебания и с стесненным сердцем, потому что догадывались, что наш друг с холодным взглядом, Эгон, — великий жрец, не простил нам убитого бегемота. Но помочь тут ничем было, нельзя, и я лично надеялся только на защиту королев, зная, что если женщина захочет что-то сделать, то найдет возможность всегда. Минутная прогулка через коридоры и двор, и мы очутились у больших ворот дворца, которые ведут на холм к храму солнца. Эти ворота очень широки, массивны и удивительно красивы. Перед ними ров, наполненный водой, с перекинутым через него подъемным мостом. Как только мы подошли, половина ворот широко распахнулась, мы прошли через мост и остановились, глядя на чудеснейшую в мире дорогу, ведущую к храму. По обеим сторонам дороги величественно возвышались красивые здания из красного гранита — жилища придворных и сановников двора, тянувшиеся на милю до холма, увенчанного великолепным храмом солнца, господствовавшим над всей дорогой. Пока мы любовались этим грандиозным зрелищем, к ворогам подъехали 4 кабриолета, запряженные белыми, как снег, лошадьми. Это были двухколесные, деревянные кабриолеты, приделанные к крепкой оси, тяжесть которой поддерживалась кожаными подпругами, в виде шор. Колеса с 4 спицами были обтянуты железом. В передней части кабриолета, над осью, устроено сиденье для кучера, с перилами, чтобы он мог удержаться на месте при тряске. Внутри экипажа находились три низких сиденья, два по бокам кабриолета и одно задом к лошадям, напротив дверцы. Экипаж был легок, прочно сделан и довольно неуклюж. Если кабриолет оставлял желать много лучшего, то про лошадей этого нельзя было сказать! Кони были великолепны, не очень велики, но крепки, с маленькой головой, удивительно широкими и круглыми копытами, очень быстрые и горячие. Первый и последний из кабриолетов был занят стражей, но в середине оставались два пустых места. Альфонс и я сели в первый экипаж, сэр Генри, Гуд и Умслопогас — в другой, и двинулись в путь. В стране Цу-венди принято пускать лошадей рысью, но если путешествие не длинно, то их пускают галопом. Боже ты мой! Как только мы доехали! Едва мы успели сесть, кучер закричал, лошади понесли, и мы помчались с такой быстротой, что едва могли дышать. Я привык к быстрой езде, но сильно испугался. Что касается несчастного Альфонса, то он откинулся с отчаянным лицом на бок экипажа «дьявольского фиакра», как он сказал, считая себя погибшим. Когда он спросил меня, куда мы едем, я ответил, что нас везут, чтобы бросить в огонь для жертвоприношения. Надо было видеть его лицо, когда он схватился за экипаж и начал отчаянно вопить. Но кабриолет несся вперед, ветер, свистя у нас в ушах, заглушал крики Альфонса. Наконец перед нами, во всем удивительном блеске и пышной красоте, показался храм солнца, гордость народа Цу-венди, для которого он то же, что храм Соломона для Иудеев. Масса богатства, искусства и труда целых поколений было положено на постройку этого дивного здания, которое закончено только в последние 50 лет. И результат получился удивительный не только по размерам, — это огромнейший храм во всем мире, — но по совершенству постройки, богатству и красоте материала и по удивительной работе строителей. Здание занимает пространство в 8 акров на вершине холма, вокруг которого находятся жилища жрецов. Оно имеет форму большого цветка, с центральной залой, над которой высится купол. От купола, в виде лучей, идет 12 лепесткообразных портиков, каждый из них посвящен одному из 12 месяцев и служит хранилищем статуй, воздвигнутых в память знаменитых усопших. Вышина купола равняется 400 футам, длина лучей — 150 футов. Они сходятся в центральном куколе, как лепестки цветка в его сердцевине. Здание выстроено из чистого белого мрамора, представляющего разительный контраст с красным гранитом городских домов и, подобно царственной диадеме, сияет на челе мрачной королевы. Наружная сторона купола и портиков покрыта листовым золотом. На краю свода каждого из 12 портиков находится золотая фигура ангела с трубой в руке и с распростертыми крыльями. Могу себе представить, как поразительно красивы эти золотые своды, сияющие в лучах солнца, подобно тысяче огней, на мраморной горе; они сверкают так ярко, что видны с вершин гор, за сотни миль отсюда. Эффект зрелища еще усиливается великолепными туземными цветами, — которые опоясывают мраморную стену храма и сияют красотой своих золотых чашечек и лепестков. Главный вход в храм — между двумя, обращенными к северу дворами, защищен бронзовыми воротами и дверями из прочного мрамора, великолепно украшенными различными аллегориями и золотом. За этими дверями находится стена и снова дверь из белого мрамора, ведущая во внутренность храма. Вы очутились, наконец, в главной зале, вод куполом, и идете к центральному алтарю, поражаясь дивным зрелищем, которое открывается вашим взорам! Вас охватывает тишина священного места, над вашей головой мраморный купол с воздушными арками, несколько похожий на купол храма св. Павла в Лондоне, фигура летящего ангела и целое море солнечных лучей, льющихся на золотой алтарь! На восточной и западной сторонах находятся два других алтаря, также озаренные лучами солнца, которые льются в священный полумрак святыни. Повсюду белизна мрамора, таинственность, красота! На центральном золотом алтаре горит бледное пламя, увенчанное легким голубым дымком. Алтарь сделан из мрамора, украшен золотом, имеет круглую форму в виде солнца. К основанию алтаря приделаны 12 больших лепестков чистого золота. Всю ночь и весь день зги лепестки закрыты над алтарем, подобно тому, как лепестки лилии закрываются в ненастную погоду. Но когда полуденные лучи солнца скользнут через купол и озарят золотые цветы, лепестки таинственно раскрываются. Десять золотых ангелов стерегут покой святыни. Эти фигуры с благоговейно склоненной головой, с лицом, закрытым крыльями, поражают удивительной красотой. К востоку от главного алтаря пол сделан не из белого мрамора, как везде, а из прочной меди, и это обстоятельство обратило на себя мое внимание. Восточный и западный алтари не так богаты и красивы, хотя также сосланы из золота, и крылатые фигуры золотых ангелов стоят по бокам этих алтарей. В стене, позади восточного алтаря, сделано отверстие в виде бойницы. В это отверстие врывается первый луч восходящего солнца, нежно касается лепестков большого золотого цветка-алтаря и падает на западный алтарь. Вечером последние лучи заходящего солнца долго покоятся на восточном алтаре, пока не погаснут во мраке ночи. Это нежное прощание вечера с зарёй. За исключением этих трех алтарей и крылатых фигур над ними, остальное пространство храма под белым куполом совершенно пусто и лишено всяких украшений, что, мне кажется, усиливает грандиозное впечатление, которое производит храм солнца. Когда я сравниваю это гениальное произведение искусства с пестрыми постройками и жалкими орнаментами, которыми архитекторы украшают европейские города, я чувствую, что им бы следовала поучиться у мастеров Цу-венди! Когда мои глаза привыкли к мрачному освещению великолепного здания, к его мраморной красоте, к совершенству его линий и очертаний, с моих губ сорвалось невольное восклицание: «Здесь и собака научилась бы религиозному чувству!» Это восклицание вульгарно, но яснее выражает мою мысль, чем вежливая похвала. У ворот храма нас встретила стража и солдаты, находившиеся в подчинении жрецов. Они повели нас в один из портиков и оставили здесь на полчаса. Мы успели в это время переговорить о том, что находимся в большой опасности, и решили: если будет сделаю попытка схватить нас, защищаться, насколько возможно. Умслопогас немедленно заявил, что раздробит почтенную голову великого жреца своим топором. С того места, где мы стояли, мы могли видеть несметную толпу народа, наполнявшую храм, очевидно, в ожидании необычайных событий. Каждый день, когда полуденные лучи солнца озаряют центральный алтарь, при звуке труб совершается жертвоприношение богу солнца, состоящее иногда из трупа барана или быка, иногда фруктов и зерна. Случается это и после полудня, так как Цу-венди лежит недалеко от экватора и очень высоко над уровнем моря, так что солнце и после полудня бросает вертикально свои горячие лучи на землю. Сегодня жертвоприношение должно было совершиться в 8 минут первого. Ровно в 12 часов появился жрец, подал знак, и стража пригласила нас подвинуться вперед, что мм и сделали все, кроме Альфонса, лицо которого выражало ужас. Через несколько секунд мы стояли вне портика и смотрели на море человеческих голов, окружавших центральный алтарь и жадно разглядывавших иностранцев, которые совершили святотатство, — первых иностранцев, которых им привелось увидать у себя. При нашем появлении ропот пробежал в толпе. Мы прошли через нее и остановились с восточной стороны, там, где пол был сделан из меди, лицом к алтарю. Пространство вокруг золотых крылатых фигур было огорожено веревкой, и народ толпился за веревкой. Одетые к белые одежды жрецы, держа в руках золотые трубы, встали кругом, и впереди них Эгон, великий жрец, с курьезной шапочкой на голове. Мы стояли на медном полу, не подозревая, что готовится нам, хотя я слышал какой-то странный звук шипенья под полом. Я оглянулся кругом, желая видеть, появились ли сестры-королевы в храме, но их не было. Мы ждали. Раздался снова, звук трубы, и обе королевы вошли рядом, сопровождаемые сановниками, между которыми я узнал Насту. Позади следовал отряд телохранителей. Я был очень рад появлению королев. Обе они встали впереди, слева и справа встали сановники, а позади, полукругом, расположилась стража. Наступило молчание. Нилепта взглянула на нас и поймала мой взгляд. Мне показалось, она хотела что-то сказать глазами. С моего лица ее взгляд перешел на медный пол, который был под нашими ногами. Затем последовало едва заметное движение головы. Сначала я не понял, она повторила. Тогда я догадался, что надо подвинуться назад от медного пода. Еще взгляд, — и моя догадка перешла в уверенность — опасность была в том, что мы стояли на медном полу! Сэр Генри стоял рядом со мной с одной стороны, Умслопогас с другой. Не поворачивая головы, я шепнул им, чтобы они подвигались назад, медленно, шаг за шагом, пока их ноги не ступят на мраморный пол, там, где кончится медный. Сэр Генри шепнул это Гуду и Альфонсу. Мы начали пятиться медленно, незаметно, так незаметно, что только Нилепта и Зорайя заметили это. Я снова взглянул на Нилепту, она незаметно кивнула головой в знак одобрения. Пока глаза Эгона были в молитвенном экстазе обращены к алтарю, мои тоже, в некотором экстазе, устремились в его спину. Вдруг он поднял свои длинные руки и торжественным голосом запел гимн солнцу. Это было воззвание к солнцу, и смысл его состоял в следующем: Молчанием скованы недра глубокого мрака! Только в небесном пространстве звезда говорит со звездой! Земля скорбит, и обливается слезами желания, Усеянная звездами ночь обнимает ее, но не может утешить. Она одевается туманом, словно траурным платьем, И протягивает свои бледные руки к востоку! Там, на далеком востоке, виднеется полоска света; Земля смотрит туда, с надеждой воздевая руки. Тогда ангелы слетаются из священного места, о, солнце, И разгоняют темноту своими огненными мечами, Взбираются на лоно мрачной, уходящей ночи! Месяц бледнеет, как лицо умирающего человека! Ты, о солнце светлое, появляешься во всей славе твоей! О, ты, лучезарное солнце, одетое огненной мантией! Ты шествуешь по небу в своей огненной колеснице! Земля — твоя невеста! Ты возьмешь ее в свои объятия, И она родит тебе детей! Ты любишь ее, она принадлежит тебе! Ты — отец мира, источник света, о солнце! Твои дети протягивают к тебе руки и греются в лучах твоих! Старики тянутся к тебе и вспоминают былую силу и удаль! Только смерть забывает о тебе, лучезарное солнце! Когда ты гневаешься, ты прячешь лик свой от нас. Темная завеса облаков скрывает тебя, Земля дрожит от холода, и небеса плачут, Плачут под ударами зловещего грома, И слезы их дождем падают на землю! Небеса вздыхают, и эти вздохи слышатся в порывах ветра, Цветы умирают, плодоносные поля скучают, бледнеют, Старики и дети прячутся и тоскуют. По твоему живоносному телу и свету, о, солнце! Скажи, кто ты, о вечное солнце? Кто утвердил тебя на твоей высоте, о, ты, вечное пламя! Когда появилось ты, и когда окончишь свой путь по небу? Ты, воплощение живущего духа! Ты неизменно и вечно, потому что ты — начало всего, И тебе не будет конца, когда дети твои будут забыты! Да, ты вечно и бесконечно! Ты восседаешь в высоте, На своем золотом троне, и ведешь счет векам! Отец жизни! Лучезарное, животворное солнце! Эгон закончил гимн, весьма красивый и оригинальный, и после минутной паузы взглянул вверх, к куполу, и произнес: «О, солнце, сойди на свой алтарь!» И вдруг случилась удивительная вещь! С высоты, подобно огненному мечу, блеснул яркий луч света… Он озарил лепестки золотого алтаря-цветка, и дивный цветок раскрылся под его лучезарным дыханием. Медленно раскрывались большие лепестки и открыли золотой алтарь, на котором горел огонь. Жрецы затрубили в трубы… Громкий крик пронесся в толпе, поднялся к золоченому куполу и вызвал ответное эхо в мраморных стенах храма. Солнечный луч упал на золотой алтарь, на священное пламя, которое заволновалось, закачалось и исчезло. Снова раздались звуки труб. Снова жрецы подняли руки, восклицая: — Прими жертву нашу, о, священное солнце! Я снова поймал взор Нилепты, глаза ее были устремлены на медный пол. — Берегись! — произнес я громко. — Берегись! Я видел, как Эгон наклонился и коснулся алтаря. Лица в толпе вокруг нас вдруг покраснели, потом побелели… Словно глубокий вздох пронесся над нами! Нилепта наклонилась вперед и невольным движением прикрыла глаза рукой. Зорайя обернулась и что-то шепнула начальнику телохранителей. Вдруг с резким шумом медный пол двинулся перед нами и открыл ужаснейшую печь под алтарем, огромную и раскаленную до того, что в ней могло растопиться железо. С криком ужаса мы отскочили назад, все, кроме несчастного Альфонса, который помертвел от ужаса и, наверное, упал бы в огонь, если бы сильная рука сэра Генри не схватила его и не оттащила назад. Ужасный ропот поднялся в толпе. Мы, четверо, все подвигались назад; Альфонс был посередине, прячась за наши спины. С нами были револьверы, хотя ружья у нас вежливо отняли при выходе из дворца, так как здесь не имеют понятия о револьверах. Умслопогас принес с собой топор, потому что никто не решался отнять его, и теперь с вызывающим видом вертел его над головой и ударял в мраморные стены храма. Вдруг жрецы выхватили мечи из-под своего белого одеяния и бросились на нас. Надо было действовать или погибать. Первый жрец, который бросился на нас, был здоровый и рослый детина. Я пустил в него пулю, он упал и с ужасающим криком скатился в огонь, приготовленный для нас. Не знаю, что подействовало на жрецов, ужасный крик или звук неожиданного выстрела, но они остановились, совершенно парализованные страхом. Прежде, чем они опомнились, Зорайя что-то сказала, и целая стена вооруженных людей окружила нас, обеих королев и придворных. Все это произошло в один момент, жрецы колебались, народ стоял в ожидании. Последний вопль сгоревшего жреца замер вдали. Воцарилась мертвая тишина. Великий жрец Эгон повернул свое злое, дьявольское лицо. — Прикажите докончить жертвоприношение! — закричал он королевам. — Разве эти чужеземцы не совершили святотатства? Зачем вы прикрываете своей царской мантией этих злодеев? Разве они не обречены на смерть? Разве наш жрец не умер, убитый волшебством этих чужеземцев? Как ветер с небес, прилетели они сюда, откуда — никто не знает, и кто они — мы не знаем! Берегитесь, королевы, оскорблять величие бога перед его священным алтарем! Его власть выше вашей власти! Его суд справедливее вашего суда! Берегитесь поднять против него нечестивую руку! Пусть жертвоприношение совершится, о, королевы! Тогда Зорайя заговорила нежным голосом, и как ни серьезна была ее речь, мне слышалась в ней насмешка. — О, Эгон, ты выразил свое желание и ты говорил правду! Но ты сам хочешь поднять нечестивую руку против правосудия бога. Подумай, полуденная жертва принесена, солнце удостоило принять в жертву своего жреца! — она выразила совершенно новую мысль, и народ одобрил ее восклицаниями. — Подумай об этих людях! Они — чужеземцы, приплывшие сюда по озеру. Кто принес их сюда? Как добрались они? Почему ты знаешь, что они так же, как мы, не поклоняются солнцу? Разве оказывать гостеприимство тем, кто приехал в нашу землю — значит бросить их в огонь? Стыдись! Стыдись! Разве это гостеприимство? Нас учили принять чужеземца и обласкать его, перевязать его раны, успокоить и накормить! Ты хотел успокоить их в огненной печи и накормить дымом? Стыдно тебе, стыдно! Она замолчала, следя за впечатлением своих слов на толпу, и видя, что народ одобряет ее, переменила тон. — На место! — крикнула она резко. — На место, говорю вам. Дайте дорогу королевам и тем, кого они покрыли своей царской мантией! — А если я не хочу, королева? — процедил сквозь зубы Эгон. — Стража проложит нам дорогу, — был гордый ответ, — даже здесь, в святилище, через трупы жрецов! Эгон побледнел от ярости и взглянул на толпу. Ясно было, что все симпатии народа на стороне королевы. Цу-венди — любопытный и общительный народ. Как ни чудовищно было в их глазах наше святотатство, они вовсе не радовались мысли бросить в огненную печь живых чужеземцев, которых они видели в первый раз, стремились разглядеть, разузнать и удовлетворить свою любознательность. Эгон видел это и колебался. Тогда заговорила Нилепта своим музыкальным голосом: — Подумай, Эгон, — сказала она, — судя по словам моей сестры, чужеземцы, может быть, также служители солнца! Они не могут говорить. Оставь это,пока они не научатся нашему языку! Разве можно осуждать, не выслушав оправдания? Когда эти люди будут в состоянии говорить за себя, тогда можно будет допросить их и выяснить все! Это была отличная уловка для Эгона, и старый, мстительный жрец ухватился за нее. — Пусть будет так, о королевы! — сказал он. — Отпустим этих людей с миром, и когда они научатся нашему языку, допросим их! Я же вознесу мою смиренную молитву перед алтарем божества, чтобы отвратить от страны бедствие, посланное в наказание за святотатство! Ропот одобрения был ответом на слова жреца. Окруженные королевской стражей, мы направились из храма домой. Долго потом обсуждали мы все, что произошло, ту опасность, которой подвергались мы, благодаря жрецам. Даже королева бессильна против их могущества! Если бы не защита королев, мы бы были убиты ранее, чем увидели знаменитый храм солнца. Попытка бросить нас в огонь, когда мы не подозревали об опасности, была последней уловкой жрецов, чтобы покончить с нами.Глава 15
ПЕСНЯ ЗОРАЙИ
Мы вернулись во дворец и отлично проводили время. Обе королевы, сановники, народ старились выказать нам почтение и засыпали нас подарками. Что касается печального инцидента с бегемотом, его предали забвению, что нас очень порадовало. Каждый день являлись делегации и разные лица, рассматривали наши ружья и платья, наши стальные рубашки, наши инструменты, особенно карманные часы, которые их восхищали. Но мы пришли в ярость, когда модные франты Цувенди вздумали скопировать наше платье, именно — жакет сэра Генри. Однажды, когда мы проснулись, нас ожидала целая группа людей, и Гуд, по обыкновению, дал рассмотреть им свою морскую форму. Но эта делегация, казалось, состояла из людей другого класса, чем те, которые приходили к нам раньше. Это были какие-то незначительные люди, чрезвычайно учтивые, все их внимание было обращено на подробности формы Гуда, с которой они сняли мерку. Гуд был очень польщен, не подозревая, что имеет дело с шестью главными портными города Милозиса. Через день он имел удовольствие увидеть семь или восемь человек франтов, щеголявших в полной морской форме. Я никогда не забуду удивления и досады на его лице. Вследствие этого, чтобы избежать подражания, мы решили надеть национальное платье Цу-венди, тем более, что наша одежда порядочно износилась. И как удобно было это платье, хотя я должен сознаться, что выглядел в нем очень смешно, так же, как и Альфонс. Только один Умслопогас отказался надеть на себя что-либо. Когда его «муша» износилась, старый зулус сделал себе новую и продолжал ходить голым, как его собственный топор. Все это время мы изучали язык Цу-венди и сделали значительные успехи в нем. На другое утро, после нашего приключения в храме, к нам явились трое важных и почтенных синьоров, вооруженных манускриптами, книгами, чернилами, перьями и объяснили нам, что посланы обучать нас. Все мы, за исключением Умслопогаса, охотно засели за уроки, посвящая им четыре часа в день. Что касается Умслопогаса, он не хотел и слышать об ученье, не желая учиться «женскому языку». Когда один из наставников подошел к нему с книгой и развернул ее перед ним самым убедительным образом, с улыбкой на устах, подобно церковному старосте, который подобострастно подносит кружку для пожертвований богатому, но скупому прихожанину, Умслопогас вскочил со страшным ругательством и завертел топором перед глазами испуганного наставника. Тем и кончилась попытка научить его языку Цу-венди. Целое утро мы проводили в этом полезном занятии, которое становилось все интереснее для нас, а после полудня мы наслаждались полной свободой. Иногда мы ходили гулять, осматривали золотые россыпи или каменоломни мрамора, иногда охотились с собаками. Это прекраснейший спорт, и наши лошади были великолепны. Королевские конюшни были к нашим услугам, кроме того, Нилепта подарила нам 4 великолепных коня. Случалось нам бывать на ястребиной охоте — она в большом фаворе у Цу-венди, — ястребов выпускают здесь на птицу вроде куропатки, замечательную быстротой и силой полета. Отбиваясь от нападения ястреба, птица теряет голову, взлетает высоко в воздух и представляет прекрасное зрелище! Иногда разнообразят охоту, выпуская прирученного орла на животное типа антилопы. Огромная птица удивительно красиво парит в воздухе, поднимаясь все выше и выше, пока не делается едва заметной черной точкой, и вдруг, словно пуля, падает вниз на животное, скрытое густой травой от всех, кроме его глаз. В другие дни мы отплачивали за визиты, посещая красивые замки сановников и деревушки под стенами этих замков. Мы видели виноградники, хлебные поля, великолепные парки с роскошной растительностью, которая приводила меня в восхищение. Огромные деревья стоят, как сильные, могучие великаны! Как гордо они поднимают свою голову навстречу бурям и непогодам, как радуются наступлению животворной весны! Как громко разговаривают они с ветром! Тысячи эоловых арф не могут сравниться с этими вздохами огромных деревьев, с шелестом их листвы! Проходят века. Дерево стоит, любуясь восходом и закатом солнца, любуясь звездами ночи, бесстрастное, спокойное под ревом бури, под дождем, под снегом; тянет оно соки из недр матери-земли и, следя за течением веков, изучает великую тайну рождения и смерти. Целые поколения проходят перед ним, люди, династии, обычаи, пока, в назначенный день свирепая буря разыграется над ним и нанесет ему последний удар. По вечерам у сэра Генри, Гуда и у меня вошло в привычку ужинать с их величествами, конечно, не всегда, но раза 4 в неделю, когда они были одни и не заняты государственными делами. Я должен признаться, что эти маленькие ужины были прелестны. Я думаю, что особая прелесть Нилепты заключалась в ее простоте, в ее наивном интересе ко всяким пустякам. Это была самая простая и милая женщина, какую я когда-либо знал, и когда ее страсти были спокойны, удивительно кроткая и нежная; но она умела быть гордой королевой, когда ей было нужно, и пламенной дикаркой, если ее раздражали. Никогда я не забуду сцены, когда я в первый раз убедился, что она любит Куртиса. Все это произошло из-за пристрастия Гуда к женскому обществу. Прошло 3 месяца обучения языку Цу-венди, как вдруг капитан Гуд порешил, что ему страшно надоел старый наставник, и, не говоря никому ни слова, заявил старику, что мы не можем делать дальнейших успехов в языке, если нас не будут учить женщины — молодые женщины, — заботливо добавил он. — На моей родине, — пояснил Гуд, — существует обычай выбирать прелестнейших девушек, чтобы учить языку чужестранцев. Старые джентльмены слушали, разинув рот. Они поверили его словам, философски допуская, что созерцание красоты благодетельно действует на развитие ума, подобно тому, как солнце и свежий воздух благотворно оживляют физически человека. Было решено, что мы несравненно скорее и легче изучим язык Цу-венди, если найдутся учительницы! И так как женский пол болтлив, то мы, таким образом, скоро приобретем нужную нам практику в языке. Ученые джентльмены ушли, уверяя Гуда, что его приказание вполне согласно с их собственным желанием! Можно себе представить мое удивление и ужас, думаю, так же как и сэра Генри, когда, войдя в комнату, где мы обыкновенно занимались, на следующее утро, мы увидели вместо наших почтенных наставников трех прехорошеньких молодых женщин, которые краснели, улыбались, приседали, поясняя нам знаками, что присланы обучать нас. Тогда Гуд, пока мы удивленно поглядывали друг на друга, начал объяснять, что старые джентльмены сказали ему накануне вечером о необходимости найти учительниц для дальнейшего изучения языка. Я был поражен и спросил совета сэра Генри в таких критических обстоятельствах. — Ладно, — сказал он, — ведь дамы уже здесь! Если мы отошлем их назад, то это может оскорбить их чувства. Не надо быть грубым с ними, вы видите, как они красны и смущены! В это время Гуд начал уроки с самой хорошенькой из всех трех, я, со вздохом, последовал его примеру. День прошел хорошо. Молодые дамы были очень снисходительны и только смеялись, когда мы перевирали слова. Я никогда не видал Гуда таким внимательным к урокам; даже сэр Генри, казалось, с новым рвением принялся за изучение языка. — Неужели это всегда будет так? — думал я. На следующий день мы были несколько любезнее с дамами, наши уроки прерывались их вопросами о нашей родине, мы отвечали, как умели, на языке Цу-венди. Я слышал, как Гуд уверял свою учительницу, что ее красота превосходит красоту целой Европы, как солнце — красоту месяца. Она отвечала легким кивком головы и возразила, что она «только учительница и ничего больше, и что нельзя говорить такие вещи бедной девушке!» Затем дамы пропели нам кое-что, очень естественно и просто. Любовные песни Цу-венди весьма трогательны. На третий день мы были уже интимными друзьями. Гуд рассказывал хорошенькой учительнице свои любовные приключения и так растрогал ее, что оба начали томно вздыхать. Я толковал с моей учительницей, веселой голубоглазой девушкой, об искусстве Цу-венди, а она, пользуясь всяким удобным случаем, сажала мне на спину и затылок какое-то насекомое вроде таракана. В другом углу сэр Генри со своей гувернанткой углубились, насколько я мог судить, в изучение слов и их значений на языке Цу-венди. Дама нежно произносила слово, означающее «рука», и сэр Генри брал ее за руку, «произносила слово «глаза», и он заглядывал в ее глубокие глаза, затем послышалось слово «губы»… но в этот момент моя молодая дама ухитрилась засунуть мне за ворот таракана и, громко смеясь, убежала. Я не выношу тараканов и сейчас же начал отряхиваться, смеясь над дерзостью моей учительницы. Потом я схватил подушку, на которой она сидела, и бросил ее вслед. Вообразите мой стыд, мой ужас, мое отчаяние, когда дверь внезапно отворилась, и в сопровождении двух воинов вошла к нам Нилепта. Подушка, брошенная мной, попала прямо в голову воина. Я сейчас же сделал вид, будто бы ничего не знаю о подушке. Гуд перестал вздыхать, а сэр Генри засвистал. Что касается бедных девушек, они были совершенно озадачены и растерялись. А Нилепта! Она выпрямилась во весь рост, лицо ее покраснело, потом побледнело, как смерть. — Убить эту женщину! — приказала она воинам взволнованным голосом, указывая на прекрасную учительницу сэра Генри. Воины стояли в нерешимости. — Слышали вы мое приказание или нет? — произнесла она опять. Стража двинулась к девушке с поднятыми копьями. Сэр Генри опомнился, заметив, что комедия грозит превратиться в трагедию. — Стой! — произнес он сердито, становясь перед испуганной девушкой. — Стыдись, королева! Стыдись! Ты не убьешь ее! — Верно, у тебя есть достаточная причина защищать ее? — ответила рассерженная королева. — Она умрет, умрет! — Нилепта топнула ногой. — Хорошо, — отвечал баронет, — тогда я умру вместе с ней! Я твой слуга, королева, делай со мной, что тебе угодно! — сэр Генри склонился перед ней и устремил свои ясные глаза на ее лицо. — Я хотела бы убить и тебя, потому что ты смеешься надо мной! — отвечала Нилепта, и чувствуя, что не владеет собой, не зная, что делать дальше, она неожиданно разразилась целым потоком слез и была так хороша в своем страстном отчаянии, что я, старик, позавидовал сэру Генри, который бросился утешать ее. Курьезно было смотреть, как он держал ее в своих объятиях, объясняя ей все, что произошло у нас, и, казалось, эти объяснения утешили ее, потому что она скоро оправилась и ушла, оставив нас расстроенными. Сейчас же к нам вернулся один из воинов и объявил девушкам, что они, под страхом смерти, немедленно должны уехать из города и вернуться домой, и тогда никто их не тронет. Они сейчас же ушли, причем одна из девушек философски заметила, что тут ничего не поделаешь, и она довольна тем, что могла хоть немного помочь нам в изучении языка Цу-венди. Моя учительница была весьма милая девушка, и, забыв о таракане, я подарил ей сохранившуюся у меня шестипенсовую монету. Затем к нам вернулись наши почтенные наставники, сознаюсь, к моему великому облегчению. В этот вечер мы ожидали ужин со страхом и трепетом, но нам сказали, что у королевы Нилепты сильно разболелась голова. Эта головная боль продолжалась целых три дня, на четвертый Нилепта снова появилась за ужином и с нежной улыбкой протянула сэру Генри руку, чтобы он вел ее к ужину. Ни малейшего намека не было сделано на инцидент с девицами. С невинным видом Нилепта заметила нам, что в тот день, когда она пришла навестить нас и застала за уроками, у нее сделалось такое сильное головокружение, от которого она опомнилась только теперь. Она добавила с легким, присущим ей юмором, что, вероятно, вид учащихся людей подействовал на нее так ужасно. Сэр Генри возразил на это, что королева, действительно, не походила на себя в этот день; тут она бросила на него такой взгляд, который мог уколоть не хуже ножа! Инцидент был исчерпан. После ужина Нилепта пожелала устроить нам экзамен и осталась довольна результатом. Она предложила дать нам урок, особенно сэру Генри, и мы нашли этот урок очень интересным. Все время, тока мы разговаривали, или, вернее, учились разговаривать и смеялись, Зорайя сидела в своем резном кресле, смотрела на нас и читала на наших лицах, как в книге, время от времени вставляя несколько слов и улыбаясь своей загадочной улыбкой, похожей на луч солнца, прокравшийся сквозь мрачное облако. Близ Зорайи сидел Гуд, благоговейно взирая на нее сквозь стеклышко, потому что он серьезно влюбился в эту мрачную красоту, тогда как я всегда побаивался ее. Я часто наблюдал за ней и решил, что под видимой бесстрастностью в душе она глубоко завидовала Нилепте. Я открыл еще, — и это открытие испугало меня, — что Зорайя также влюбилась в сэра Генри. Конечно, в этом я не был уверен. Нелегко прочесть что-либо в сердце холодной и надменной женщины, но я почуял кое-что, как охотник чует, в какую сторону подует ветер. Прошло еще три месяца, и в это время мы достигли значительных успехов в языке Цу-венди. Мы приобрели также любовь населения и придворных, завоевав себе репутацию учености. Сэр Генри показал им, как изготовить стекло, в котором они нуждались; с помощью старого альманаха, который был у нас с собой, мы предсказывали разные изменения погоды и неба, совершенно неизвестные туземным астрономам. Мы объясняли собравшимся около нас людям устройство паровой машины и много разных вещей, которые приводили их в удивление. За это мы удостоились больших почестей и были сделаны начальниками отряда телохранителей сестер-королев, причем нам было отведено постоянное помещение во дворце и дано было право голоса в вопросах национальной политики. Как ни ясно было над нами небо, на горизонте собиралась большая туча. Конечно, никто не упоминал теперь об убитых бегемотах, но трудно было предположить, чтобы жрецы забыли наше святотатство. Наоборот, подавленная ненависть жрецов разгоралась сильнее, и то, что было начато из простой нетерпимости и изуверства, закончилось ненавистью, вытекавшей из зависти. В стране Цу-венди жрецы пользовались особенным почетом. Наш приезд, наши познания, наше оружие, наконец, все то, что мы объясняли и рассказывали народу, произвело глубокое впечатление на образованных людей в Милозисе и значительно понизило престиж жрецов. К большому их огорчению, нас очень полюбили здесь и очень доверяли. Это доверие сильно восстановило против нас всех жрецов. Кроме того, Наста сумел вооружить против нас некоторых сановников, антагонизм которых готов был разгореться опасным пламенем. Наста много лет считался кандидатом на руку Нилепты, и хотя шансов у него было мало, но все же он не отчаивался. С нашим появлением все изменилось. Нилепта перестала улыбаться ему, и он скоро отгадал причину. Обозленный и возмущенный, он обратил все свое внимание на Зорайю, но решил, что легче взобраться на отвесный склон горы, чем заслужить благосклонность мрачной красавицы. Две-три ядовитые насмешки над его неверностью, и Зорайя окончательно отвернулась от него. Тогда Наста вспомнил о 30 000 диких, вооруженных мечами людей, которые, по его приказанию, готовы были пройти через северные горы и, без сомнения, с удовольствием украсят ворота Милозиса нашими головами. Но сначала он пожелал еще раз просить руки Нилепты перед всем двором, после торжественной ежегодной церемонии провозглашения законов, изданных королевами в течение года. Нилента узнала это и отнеслась к известию довольно небрежно, но за ужином, накануне церемонии, дрожащим голосом сообщила нам об этом. Сэр Генри закусил губу и, насколько мог, старался подавить свое волнение. — Какой ответ будет угодно королеве дать великому Наста? — спросил я, шутя. — Какой ответ? — возразила Нилепта, грациозно пожав прекрасными плечами. — О, Макумацан! — От заимствовала у старого зулуса наши имена. — Я сама не знаю, что делать бедной женщине, когда жених грозит мечом завоевать ее любовь! — Из-под своих длинных ресниц она бросила быстрый взгляд на Куртиса. Затем мы встали из-за стола и перешли в другую комнату. — Квотермейн, одно слово! — оказал сэр Генри. — Послушайте! Я никогда не говорил об этом, но вы, наверное, догадались. Я люблю Нилепту. Что мне делать? К счастью, я более или менее занимался раньше этим вопросом и был готов дать нужный ответ. — Вы, Куртис, должны говорить с Нилептой сегодня ночью! — сказал я. — Подойдите к ней и шепните, что просите ее прийти в полночь к статуе Радемеса в конце большого зала. Я буду сторожить. Теперь или никогда, Куртис! Когда мы вошли в комнату, Нилепта сидела, сложив руки, с выражением печали на милом лице. Несколько в стороне от нее Зорайя и Гуд тихо разговаривали между собой. Было поздно. Я знал, что скоро, согласно своей привычке, королевы уйдут к себе, а сэру Генри не удалось сказать Нилепте ни одного слова. Хотя мы часто видели царственных сестер, но они постоянно были вместе. Я ломал голову, придумывая, что бы сделать, как вдруг меня осенила блестящая мысль. — Угодно ли будет королеве, — сказал я, низко склонившись перед Зорайей, — что-нибудь спеть нам? Наши сердца жаждут послушать твое пение! Спой нам, царица ночи! (Царицей ночи прозвал Зорайю народ). — Мои песни, Макумацан, не облегчат сердца! — ответила Зорайя. — Но, если ты хочешь, я буду петь! Она встала, подошла к столу, на котором лежал инструмент, вроде лютни, и взяла несколько аккордов. Вдруг, словно из горла птицы, полились звуки ее глубокого голоса, полные дикой нежности, страсти и печали, с таким тоскливым припевом, что кровь застыла в моих жилах. Серебристые ноты лились и таяли вдали, и снова нарастали и оживали, тоскуя мировой печалью, оплакивая потерянное счастье. Это было чудное пение, хотя мне некогда было слушать его. Я все-таки запомнил слова и перевел их, насколько можно перевести эту своеобразную песню. Песня ЗорайиГоремычная птица, потерявшая дорогу во мраке, Рука, бессильно поднятая перед лицом смерти, Такова — жизнь! Жизнь, страстью ее дышит моя песня! Песнь соловья, звучащая несказанной нежностью, Дух, перед которым открыты небесные ворота, Такова любовь! Любовь, которая умрет, если ее крылья разбиты! Грозные шаги легионов, когда звуки труб сзывают их, Гнев бога бури, когда молнии бороздят мрачное небо, Такова власть! Власть, которая, в конце концов, обращается в прах! Жизнь коротка! Она скоро пройдет и покинет нас! Горькое заблуждение, сон, от которого мы не можем проснуться, Пока тихо подкрадется смерть и застигнет нас утром или ночью!Припев
Ах, мир так прекрасен на заре, на заре, на заре!.. Но красное солнце утопает в крови… утопает в крови!— Скорее, Куртис! — прошептал я, когда Зорайя начала второй куплет. — Нилепта, — произнес сэр Генри (мои нервы были так возбуждены, что я слышал каждое слово), — я должен говорить с вами сегодня ночью. Не откажите мне, прошу вас! — Как я могу говорить с тобой? — отвечала она, смотря на него. — Королевы не свободны, как обыкновенные люди! Я окружена, за мной наблюдают! — Выслушай меня, Нилепта! В полночь я буду в большой зале, у статуи Радемеса, у меня есть пропуск! Макумацан и зулус будут сторожить. О, приди, моя королева, не откажи мне! — Не знаю, — пробормотала она, — завтра… Музыка кончилась, и Зорайя повернула голову. — Я приду! — быстро сказала Нилепта. — Ради спасения жизни твоей, смотри, не обмани меня!
Глава 16
У СТАТУИ РАДЕМЕСА
Была ночь. Глубокая тишина царила над городом. Тайком, словно злоумышленники, сэр Генри, Умслопогас и я пробирались ко входу в тронный зал. Часовой загородил нам дорогу. Я показал ему пропуск. Воин опустил копье и пропустил нас. Так как мы числились начальниками королевских телохранителей, то имели свободное право входа и выхода. Благополучно достигли мы зала. В нем было пусто и тихо, и звук наших шагов разбудил эхо уснувших стен. Словно призраки умерших, скользили мы по огромному залу. Меня подавляла эта мертвящая тишина. Через высокие отверстия в стене светили лучи полного месяца и ложились причудливыми узорами на черный мрамор пола. Серебристый луч упал на статую спящего Радемеса и на склоненного над ним ангела, озарив прекрасные черты его мраморного лица. Мы остановились у статуи и стали ждать. Сэр Генри и я стояли вместе, Умслопогас в нескольких шагах от нас, в темноте, так что я мог различить только очертания его фигуры, опиравшейся на топор. Мы ждали так долго, что я задремал и проснулся от звука, доносившегося откуда-то издалека, словно статуи, стоявшие вдоль стен, начали шептаться между собою. Это был легкий шелест женской одежды, который все приближался. Мы могли видеть человеческую фигуру, крадущуюся в лучах месяца, слышали мягким стук сандалий. Черный силуэт зулуса поднял руки кверху, в знак приветствия, и вот Нилепта стояла перед нами. Как прекрасна она была, озаренная лучами месяца! Рука ее была прижата к сердцу, и белая грудь тяжело дышала. На голове ее был наброшен вышитый шарф, скрывавший ее прелестное лицо. Как известно, красота становится еще обаятельнее, если она наполовину скрыта! Она стояла в нерешимости, кроткая и тихая, и скорее походила на ангела, чем на живую, любящую женщину! Мы низко склонились перед ней. — Я пришла, — прошептала она, — но это большой риск! Вы знаете, как меня стерегут! Жрецы следят за мной, Зорайя следит за мной своими большими глазами. Даже моя стража шпионит за мной. Наста также сторожит меня! Пусть его сторожит, пусть! — она топнула ногой. — Пусть его! Я — женщина и сумею провести его. Да, я — королева и могу отомстить за себя! Пусть следит! Вместо того, чтобы отдать ему мою руку, я возьму его голову! — она закончила свою речь легким рыданием, потом очаровательно улыбнулась нам и засмеялась. — Ты велел мне прийти сюда, мой лорд Инкубу (Куртис научил ее называть его так). Вероятно, у тебя какое-нибудь государственное дело, я знаю, у тебя в голове великие идеи и планы для блага моего народа. Как королева, я должна была прийти к тебе, хотя боюсь темноты! — Она снова засмеялась и бросила кокетливый взгляд на сэра Генри. Я подумал, что государственное дело неудобно слушать непосвященным и хотел отойти подальше, но Нилепта не позволила мне далеко уйти, боясь неожиданности, так что я невольно слышал каждое слово. — Нилепта! — сказал сэр Генри. — Вы знаете, о чем я хотел говорить с вами здесь! Нилепта, не время шутить. Выслушайте меня. Я люблю вас! Когда он произнес эти слова, я видел, как изменилось ее лицо. Кокетство исчезло с него, и любовь озарила его новым светом и сделала похожим на лицо мраморного ангела. Я невольно подумал, что, быть может, пророческий инстинкт Радемеса внушил ему сделать черты ангела сходными с лицом его преемницы, королевы Нилепты! Вероятно, сэр Генри также подметил это сходство и был поражен им, потому что, взглянув на лицо Нилепты, он перевел взгляд на озаренную лунным светом статую. — Ты говоришь, что любишь меня! — сказала тихо Нилепта. — Твой голос звучит правдой, но как я могу знать, — что ты говоришь правду? Хотя я — ничто в глазах лорда, — продолжала она с гордым смирением, приседая перед ним, — лорд происходит от чудесного народа, перед которым мой народ — глупые дети, а я его глупая королева! Но если я начну биться, то сотни тысяч копий сверкнут за мной, как звезды на небе! Хотя в глазах лорда моя красота не особенно велика, — она подняла свой вышитый шарф и снова присела, — но среди моего народа меня считают красивой, и много знатных лордов ссорились из-за меня! Они гонялись за мной, как голодные волки за оленем… Пусть лорд Инкубу простит, если я надоедаю ему, но ему угодно было сказать, что он любит меня, Нилепту, королеву Цу-венди! На это я скажу ему, что хотя моя любовь и моя рука не имеют большой ценности в глазах лорда Инкубу, но их не так-то легко получить! О, как я могу знать, что ты действительно любишь меня? — воскликнула она вдруг зазвеневшим голосом. — Как я могу знать, что не надоем тебе, и ты не уедешь домой, оставив меня в отчаянии? Кто скажет мне, что ты не любишь другую прекрасную, неизвестную мне женщину, на которую теперь также льет свои лучи серебристый месяц? Скажи мне, как я могу узнать это? — она сжала свои руки, протянула их вперед и вопросительно смотрела в лицо сэра Генри. — Нилепта! — заговорил сэр Генри. — Я сказал тебе, что люблю тебя! Как могу я сказать, насколько сильна любовь моя к тебе? Разве любовь можно измерить? Я не уверяю тебя, что никогда не любил других женщин, но говорю, что люблю тебя всем моим существом, всей моей силой. Я люблю тебя теперь и буду любить до самой смерти, думаю, и после смерти, и всегда. Твои голос — лучшая музыка для моих ушей, твое прикосновение — вода для жаждущей страны! Когда а вижу тебя — мир кажется мне прекрасным, когда тебя нет, то свет меркнет для меня! О, Нилепта, я никогда не покину тебя! Для тебя, дорогая моя, я забуду мою родину, мой народ, отчий дом, я отказываюсь от всего! Около тебя хочу я жить, Нилепта, около тебя и умереть! — он замолчал и серьезно смотрел на нее. Нилепта поникла головой, как лилия, и молчала. — Посмотри! — продолжал сэр Генри, указывая на статую, озаренную лучами месяца, — ты видишь эту женщину с ангельским лицом? Ее рука покоится на челе спящего человека, и от этого прикосновения душа его загорается, как фитиль лампы от огня. Так и мы с тобой, Нилепта! Ты разбудила мою душу и зажгла ее, Нилепта, и теперь эта душа принадлежит тебе, одной тебе! Мне нечего больше говорить. Моя жизнь в твоих руках! — он оперся на пьедестал статуи, очень бледный, с горящими глазами, но гордый и красивый. Нилепта медленно подняла голову и устремила свои чудесные глаза, в которых светилась страсть, на его лицо, словно хотела все прочитать в его сердце. — Я, слабая женщина, я верю тебе! — заговорила она, сначала медленно, потом быстрее, серебристым голосом. — Страшный будет день для тебя и для меня, когда судьба покажет мне, что поверила лживому человеку! Теперь выслушай меня, человек, приехавший издалека, чтобы украсть мое сердце и сделать меня своей собственностью! Вот тебе моя рука! Мои губы, которые никогда не целовали мужчину, коснутся твоего лба. Клянусь тебе моей рукой, этим первым поцелуем, благоденствием моего народа, моим троном, именем моей династии, священным камнем и вечным величием солнца, — клянусь, что для тебя одного буду жить и с тобой хочу умереть. Клянусь, что буду любить тебя, тебя одного до самой смерти! Твои слова будут законом для меня, твоя воля — моей волей, твое дело — моим делом! О, мой господин! Ты видишь, как смиренна моя любовь! Я, королева, преклоняю колено перед тобой, к твоим ногам я приношу дань моей любви, мою веру в тебя, мое уважение! Страстное, любящее создание бросилось на колени перед своим возлюбленным, на холодный мрамор пола. Я не знаю, что случилось дальше, потому что не слушал более, а отошел к старому зулусу и оставил их вдвоем. Я нашел старого воина в углу. Он опирался на свой топор и наблюдал всю сцену с мрачной улыбкой. — Ах, Макумацан! — сказал он. — Я становлюсь старым, но не думаю, чтобы кто-нибудь научился понимать вас, белых людей! Посмотри на них! Прекрасная пара голубей. Но зачем это все? Ему нужна жена, ей нужен муж, почему он не хочет заплатить выкуп за нее и покончить дело? Было бы меньше хлопот, и мы бы отлично спали теперь. Они все говорят, говорят и целуются, целуются, целуются, словно безумные! Через три четверти часа «пара голубков» присоединилась к нам. Куртис выглядел совсем блаженным, а Нилепта удивительно спокойной. Грациозным жестом она взяла мою руку и сказала, что я лучший друг ее «господина» и дороже всех для нее. Потом она взяла топор Умслопогаса и с любопытством разглядывала его, заметив, что он может быть очень полезен, защищая ее. Потом она кокетливо кивнула нам головой и, бросив нежный взгляд на сэра Генри, скользнула в темноту и исчезла, как прекрасное виденье. Благополучно, без всяких приключений, добрались мы до своих комнат. Куртис спросил меня шутливо, что я думаю обо всем этом. — Удивляюсь, — ответил я, — каким образом некоторые люди находят прекрасных королев и влюбляются в них в то время, как другие вовсе не находят никого, или еще хуже! Думаю также, сколько человеческих жизней погибнет ценой сегодняшней ночи! Это было гадко с моей стороны, я знаю, к сожалению, не все чувства замерли во мне с годами, и я не мог подавить в себе зависти к моему старому другу. Суета, дети мои, суета сует! На следующее утро Гуду рассказали о счастливом происшествии, и он весь засиял улыбками. Начиная со рта, эта улыбка расползлась по всему его лицу до стеклышка в глазу. Дело в том, что Гуд сильно обрадовался известию, но из своих личных интересов. Он обожал Зорайю также глубоко, как сэр Генри Нилепту. Но мне казалось, что клеопатроподобной королеве Куртис нравился более, чем Гуд. Все-таки Гуду было очень приятно узнать, что его невольный соперник совершенно увлечен в другую сторону. В это утро мы опять стояли в тронном зале. Я невольно улыбнулся, сравнивая наш визит с последним посещением, и думал, что, если бы стены могли говорить, сколько странных вещей могли бы рассказать они! Женщины — удивительные актрисы! Высоко на своем золотом троне в белоснежном царском одеянии, сидела прекрасная Нилепта. Когда сэр Генри вошел в зал, несколько запоздав, одетый в форму начальника королевской стражи, и смиренно поклонился ей, она ответила ему небрежным кивком головы и отвернулась. Двор был в полном составе. Не только церемония провозглашения законов привлекла такую массу сановных людей, но, главное, слух, что Наста будет публично просить руки королевы. Зал был переполнен. Тут были жрецы с Эгоном во главе, который смотрел на нас злыми глазами, большое число знатных людей с бриллиантовыми украшениями на одежде, и среди них Наста, задумчиво поглаживавший свою черную бороду. Это было блестящее зрелище! Когда офицер читал вслух новый закон, по знаку, поданному королевами, громко звучали трубы, и королевская стража отдавала салют, звеня копьями по полу. Вся процедура тянулась долго, наконец, окончилась. Последний закон гласил «некоторые знатные чужестранцы» и т. д. и жаловал их чинами «сановников» страны, вместе с военными почестями и огромными правами и преимуществами, дарованными нам королевами. Когда этот закон был прочитан, снова загремели трубы, копья зазвенели о мраморный пол, и я видел, что некоторые сановники отвернулись и начали шептаться, а Наста стиснул зубы. Им, очевидно, не нравились милости, оказанные нам, которые, собственно говоря, сыпались на нас неожиданно и были не совсем естественны. После короткой паузы Наста выступил вперед и смиренно, хотя глаза его вовсе не выражали смирения, просил руки королевы Нилепты. Нилепта повернулась к нему, несколько побледнев, грациозно поклонилась и только что хотела ответить ему, как великий жрец Эгон выступил вперед и красноречиво указал на массу выгод, связанных с этим предполагаемым браком. Этот брак укрепит королевство, — говорил Эгон, — потому что владения Насты, в которых он был настоящим королем, по отношению к Цу-венди, представляли собой то же, что Шотландия по отношению к Англии. Как приятно исполнить желание горцев, быть популярной королевой среди солдат, так как Наста был заслуженным генералом! Как прочно утвердится династия на троне и призовет на себя благословение солнца в лице его смиренного служителя Эгона! Некоторые яз аргументов жреца были, несомненно, справедливы, и с точки зрения политики многое говорило за этот брак. Но, к несчастью, трудно вести политическую игру с молодыми и красивыми королевами, даже если они и были только хорошенькими костяными шахматами в руках жрецов! Лицо Нилепты, пока Эгон говорил свою речь, было достойно изучения. Она улыбалась, но под этой улыбкой чувствовалась каменная холодность, и глаза ее горели зловещим огоньком. Наконец, он замолчал, Нилепта приготовилась отвечать, как вдруг Зорайя наклонилась к ней и достаточно громко сказала ей: — Подумай хорошенько, сестра, прежде чем ответить; мне кажется, прочность нашего трона зависит от твоих слов! Нилепта молчала. Зорайя пожала плечами и, улыбаясь, откинулась назад. — Поистине, большая честь выпала на мою долю, — произнесла Нилепта, — мне не только предлагают замужество, но Эгон был так добр, что обещал благословение солнца на мой брак! Может быть, в другое время я и согласилась бы… Наста, благодарю тебя! Я буду помнить о твоих словах, но теперь я не помышляю о замужестве, как о кубке с вином, вкус которого никто не знает, пока не испробует. Еще раз благодарю тебя. Наста! Она сделала движение, словно хотела встать. Лицо Наста побледнело от ярости, так как он понял, что слова королевы были окончательным отказом. — Благодарю тебя, королева, за твои милостивые слова! — произнес он, с трудом сдерживаясь. — Мое сердце будет свято хранить их! Теперь я обращаюсь с другой просьбой, — позволь мне оставить королевство и отправиться к себе, в мою бедную страну, на север, до тех пор, пока королева не скажет мне — да или нет! Может быть, — прибавил он с насмешкой, — королеве угодно будет навестить меня и привести с собой этих иностранцев! — он кивнул на нас. — Правда, наша страна бедна и груба, но наши горцы — отважная раса! Тридцать тысяч людей, вооруженных мечами, явятся привествовать королеву! Эти вызывающие слова Насты были встречены полным молчанием. Нилепта вспыхнула. — О, я наверное приеду, Наста, и со мной иностранные лорды! — гордо ответила она. — И для каждого из твоих горцев, которые зовут тебя князем, я — законная королева! Тогда увидим, кто из нас сильнее! Пока прощай! Зазвучали трубы. Королевы встали, и собрание разошлось в смущении. Я шел домой с тяжелым сердцем. Несколько недель прошли спокойно. Куртис и Нилепта встречались редко и принимали все предосторожности, чтобы скрыть свою любовь. Но, несмотря на это, молва уже началась и жужжала повсюду, как муха, попавшая к темную комнату.Глава 17
БУРЯ НАЧИНАЕТСЯ
Маленькое облачко на нашем горизонте превратилось в тяжелую мрачную тучу, — Зорайя любила сэра Генри! Я знал, что буря приближается, бедный сэр Генри также понимал это. Любовь прекрасной и высокопоставленной женщины не такая вещь, которую легко скрыть, а в положении сэра Генри она была тяжелым бременем. Начать с того, что Нилепта, несмотря на всю обаятельность, имела довольно ревнивый характер и была способна излить свое негодование на голову своего возлюбленного. Наконец, вся эта таинственность отношений к Нилепте, усиленные предосторожности надоели сэру Генри и побудили его положить конец фальшивому положению дел и сказать Зорайе, конечно, частным образом, что он будет супругом ее сестры. Счастье сэра Генри было отравлено сознанием, что Гуд честно и глубоко привязался к прекрасной, но зловещей королеве. В самом деле, наш Бугван исхудал и походил на тень прежнего толстого капитана, его лицо так вытянулось, что стеклышко едва держалось к глазу. Зорайя небрежно кокетничала с ним, ободряла его, держала при себе, несомненно, видя в нем только жертву своей красоты. Я пытался предостеречь его, насколько возможно деликатнее, но он убежал от меня и не хотел слушать. Бедный Гуд был просто смешон в своей любви и проделывал всевозможные глупости, надеясь завоевать благосклонность Зорайи. Однажды он написал, — конечно, с помощью наших почтенных наставников, — длинные любовные стихи, припев которых: «Я хочу целовать тебя, я хочу целовать тебя!» повторялся беспрестанно. Среди народа Цу-венди существует обычай, в силу которого молодые люди поют ночью дамам серенады! Серенады могут быть в шутливом тоне, но даже женщины высшего сословия не обижаются на это и принимают так же, как английские девушки любезный комплимент. Гуд решил спеть серенаду Зорайе, комнаты которой находились как раз напротив наших, в отдаленном конце узкого двора, разделявшего дворец на две половины. Вооружившись чем-то вроде лютни, на которой он играл благодаря умению играть на гитаре, он дождался ночи — самый подходящий час для кошачьих концертов и любовных серенад, — и отправился под окна Зорайи. Я только что начал засыпать, но скоро проснулся. — у Гуда ужаснейший голос и ни малейшего понятия о пении, — и побежал к окну узнать, в чем дело. Озаренный лучами месяца, стоял Гуд с огромным страусовым пером на шляпе, в развевающемся шелковом плаще, и пел свои ужасные стихи с потрясающим аккомпанементом. Из помещений прислужниц Зорайи донеслось хихиканье, но в комнатах Зорайи, — я искренне пожалел бы ее, если бы ей пришлось выслушать эту серенаду, — царила тишина. Ужасное пение продолжалось без конца. Наконец, мы, — я и сэр Генри, которого я позвал любоваться зрелищем, — не могли выносить более. Я высунул голову в окно и крикнул: — Ради неба, Гуд, оставьте, поцелуйте ее и дайте нам спать! Мои слова подействовали, и серенада прекратилась. Это был единственный смехотворный инцидент в нашей трагедии! Юмор — весьма ценная принадлежность жизни и действует очень благотворно на человека в тяжелые минуты его жизни! Чем дальше старался держаться сэр Генри, тем благосклоннее относилась к нему Зорайя. По какой-то странной случайности, она не знала о настоящем положении дел, и я со страхом ожидал момента ее пробуждения. Зорайя была опасная женщина, с ней шутить было нельзя. Наконец этот ужасный момент настал. В один прекрасный день Гуд уехал на охоту, а я и сэр Генри сидели и беседовали, как вдруг появился слуга с запиской, которую мы с трудом разобрали. Записка гласила, что королева Зорайя требует к себе лорда Инкубу, которого податель записки проведет в ее апартаменты. — Честное слово, это ужасно! — простонал сэр Генри. — Не можете ли вы пойти вместо меня, старый дружище? — Нет, не могу! — ответил я. — Я с большим удовольствием пойду навстречу раненому слону. Позаботьтесь сами о своих делах, мой милый! Любите кататься, любите и саночки возить! Я не хотел бы быть на вашем месте за целое королевство! — Это напоминает мне школьное время, когда я шел ложиться под розгу, а мальчики утешали меня! — произнес сэр Генри мрачно. — Желал бы я знать, какое право имеет королева требовать меня к себе? Мне не хочется идти! — Но вы должны идти! Вы — королевский офицер и обязаны повиноваться ей! Она отлично знает это. Потом, все это скоро объяснится! — Вот это вы должны были мне сказать прежде всего! Надеюсь, что она не зарежет меня. Я уверен, что она способна на все! Он ушел нехотя и весьма недовольный. Я сидел и ждал. Он вернулся через 45 минут и выглядел очень печально. — Дайте мне выпить чего-нибудь! — сказал он мне хриплым голосом. Я налил ему вина и спросил, в чем дело. — В чем дело? Я отправился прямо в комнаты Зорайи. Чудесные комнаты! Она сидела одна, на шелковом ложе, играя на своей лютне. Я остановился перед ней и стоял долго, пока она обратила на меня внимание, так как продолжала играть и напевать. Как хорошо она поет! Наконец, она взглянула на меня и улыбнулась. — Ты пришел? — произнесла она. — Я думала, что ты хлопочешь по делам Нилепты. У тебя всегда какие-то дела с ней, и я не сомневаюсь, что ты — верный и честный слуга! Я поклонился и сказал, что явился по приказанию королевы. — Да, я хотела поболтать с тобой. Садись! Мне надоедает смотреть вверх, — ты так высок! Она указала мне место подле себя и села так, чтобы видеть мое лицо. — Мне не годится сидеть рядом с королевой! — сказал я. — Я сказала — садись! — был ее ответ. Я сел, и она принялась смотреть на меня своими темными глазами, Зорайя сидела неподвижно, тихо роняя слова, и все время смотрела на меня. Она походила на белый, прекрасный цветок! Черные волосы оттеняли ее бледное, красивое лицо! Наконец, не знаю отчего, от ее ли взгляда, или от благоухания ее волос, я чувствовал себя точно под гипнозом. Голова у меня начала кружиться. Вдруг она встала. — Инкубу, — произнесла она, — любишь ли ты власть? Я отвечал, что люблю богатство, потому что оно делает человека сильным. — У тебя будет богатство! Инкубу, любишь ли ты красоту? На это я возразил, что люблю прекрасные статуи, прекрасные здания, картины! Она нахмурилась и замолчала. Нервы мои были так возбуждены, что я дрожал, как лист. Я чувствовал, что должно случиться нечто ужасное, и был беспомощен! — Инкубу! — произнесла она. — Хочешь ли ты быть королем? Выслушай меня. Хочешь ли ты быть королем? Чужестранец! Я хочу сделать тебя королем Цу-венди и супругом королевы Зорайи! Слушай! Никогда, ни одному мужчине не открывала я моего сердца, а тебе, иностранцу, говорю это без стыда и готова все отдать тебе и знаю, что тебе трудно самому говорить об этом! У твоих ног лежит корона, мой Инкубу, и женщина, которую многие желали бы назвать своей! Отвечай мне, избранник мой! Пусть слова твои ласкают мои слух! — О, Зорайя! — сказал я. — Не говори так, прошу тебя! Это невозможно! Я обручился с твоей сестрой Нилептой, Зорайя, и люблю ее, ее одну! Пока я говорил, Зорайя закрыла лицо руками. Когда она отняла руки от лица, я отскочил назад. Это лицо было бело, как мел, а глаза ее метали молнии. Она встала и, что ужаснее всего, казалась почти спокойной на вид. Один раз она взглянула на кинжал, лежавший на столе, словно собиралась убить меня, но не тронула его.Одно только слово вырвалось у нее. — Уходи! Я ушел, довольный, что дешево отделался. Дайте мне еще вина, вино — хороший товарищ! И окажите, что мне делать? Я покачал головой. Дело было серьезно. — Нужно сказать обо всем Нилепте, — сказал я. — И я лучше вас расскажу все ей. Она может заподозрить вас! Кто из нас будет стоять на страже сегодня ночью? — Гуд! — Отлично! Тем менее шансов, что Нилепта узнает что-либо! Не глядите так удивленно! Я думаю, что Гуду надо сказать о случившемся! — Не знаю! — сказал сэр Генри. — Это оскорбит его чувства. Бедняга! Он глубоко увлечен Зорайей! — Это правда! Пожалуй, пока не будем говорить ему! Он скоро узнает всю правду. Теперь вспомните мои слова. Зорайя соединится с Настой, и у нас будет такая война, какой давно не было здесь! Посмотрите, — я указал сэру Генри на двух придворных вестников, которые вышли из комнат Зорайи. — Идите за мной! — Я побежал по лестнице на верхнюю башню, взяв с собой зрительную трубу, и стал смотреть через стену дворца. Я увидел одного вестника, направлявшегося к храму, очевидно, с приказанием Зорайи к жрецу Эгону, другой сел на коня и поскакал к северу. — Зорайя — умная женщина! — сказал я. — Она сразу начала действовать. Вы оскорбили ее, мой милый, и человеческая кровь польется рекой, пока это оскорбление не смоется! Ну, я иду к Нилепте! Останьтесь здесь, мой друг, и успокойте свои нервы! Нам они будут нужны, уверяю вас, не даром же я 50 лет наблюдал человеческую природу! Я пошел и получил аудиенцию у королевы. Она поджидала Куртиса и не особенно обрадовалась, увидев меня. — Что-нибудь случилось с Инкубу, Макумацан? Он болен? Я ответил, что он здоров и, немедля, рассказал ей всю историю от начала до конца. О, в какую ярость пришла она! Надо было только видеть ее! — Как смеешь ты рассказывать мне сказки? — вскричала она. — Это ложь. Я не верю, что мой Инкубу высказывал любовь к Зорайе, моей сестре! — Прости, королева, — ответил я, — я сказал, что Зорайя любит лорда Инкубу! — Не шути словами! Разве это не одно и то же? Один отдает свою любовь, другой берет! Зорайя! Я ненавижу ее, хотя она — королева и моя сестра! Она не упала бы так низко, если бы он не показал ей путь! Правду говорит поэт: человек подобен змее, прикосновение к нему — ядовито! — Замечание твое, королева, прекрасно, но ты неверно истолковала поэта! Нилепта, — продолжал я, — ты знаешь, что говоришь вздор, а у нас нет времени для глупостей! — Как ты смеешь? — прервала она, топнув ногой. — Разве мой фальшивый Инкубу прислал тебя, чтобы ты нанес мне оскорбление? Кто ты, чужестранец, что осмеливаешься так говорить со мной, с королевой? Как ты осмелился? — Да, я осмелился. Выслушай меня, Нилепта. За эти минуты ненужного гнева ты можешь заплатить короной и нашей жизнью! Посол Зорайи поскакал к северу призвать к оружию горцев! Через три дня Наста явится сюда, как лев за добычей, рев которого разнесется по всему северу. У «Царицы ночи» нежный голос, и она не напрасно пела свои песни. Ее знамя поднимется над рядами войск, а воины понесутся, как пыль под ветром, и повторят ее победный клич. В каждом городе жрецы восстанут против чужестранцев и возбудят народ! Я все сказал, королева! Нилепта была теперь почти спокойна, ее ревнивый гнев прошел. Она снова была любящей женщиной-королевой, с умом и с сильной волей, думающей о своем народе. Превращение было внезапное, но полное. — Твои слова справедливы, Макумацан, прости мне мое безумие! О, какой королевой была бы я, если бы не имела сердца! Не иметь сердца — значит победить все и всех! Страсть подобна молнии, она прекрасна и превращает землю в небесный рай, но она ослепляет! — Ты думаешь, что моя сестра Зорайя начнет войну против меня? Пусть! У меня есть друзья и защитники! Их много, и с криком «Нилепта» они пойдут за мной, когда начнется война, когда огни заблестят на утесах гор! Я разобью ее силы и уничтожу войско. Вечная ночь будет уделом Зорайи! Дай мне этот пергамент и чернила. Так. Теперь пошли мне офицера из той комбаты! Это — верный человек! Я сделал, что мне было приказано. Вошел человек, ветеран, по имени Кара, и низко склонился перед королевой. — Возьми этот пергамент! — сказала Нилепта. — Это полномочие! Встань на страже у комнат моей сестры Зорайи, королевы Цу-венди, не впускай никого выходить оттуда и входить туда! Или ты заплатишь жизнью своей за это! Человек был, очевидно, удивлен. — Приказание королевы будет исполнено! — сказал он и ушел. Нилепта послала за сэром Генри, который явился, очень опечаленный и расстроенный. Я думал, что между ними последует вспышка, но женщины удивительный народ! Нилепта не упомянула ни слова о Зорайе, дружески кивнула ему головой и сказала, что послала за ним, чтобы посоветоваться о важном деле. В то же время в ее взгляде на него, в ее обращении было что-то, что заставило меня думать, что Нилепта не забыла своего гнева, но отложила его до удобного случая. Скоро вернулся офицер и доложил, что Зорайя ушла. Птичка улетела в храм. Среди Цу-венди существовал обычай, чтобы знатные дамы — проводили ночи в храме, перед алтарем, размышляя и обдумывал свои дела. Мы значительно посмотрели друг на друга. Удар нанесен был слишком скоро. Затем мы принялись за дело. Сейчас же собрались начальники и генералы, которым даны были нужные инструкции. То же самое было сказано сановникам, державшим сторону Нилепты. Несколько приказаний было разослано в отдаленные города, и двадцать послов поспешно отправились к различным начальникам отдельных кланов с письмами. Разведчики были разосланы повсюду. Весь день и вечер мы работали сообща, с помощью доверенных писцов, и Нилепта выказала много ума и энергии, которые удивили меня. Было восемь часов, мы вернулись к себе. Здесь мы узнали от Альфонса, который был очень огорчен нашим поздним возвращением, так как приготовленный им обед перепрел, что Гуд вернулся с охоты и отправился на свой пост. Страже и часовым отданы были все нужные приказания, и так как неминуемой опасности не предвиделось, то мы мельком сказали Гуду о происшедшем и, закусив немного, вернулись к прерванной работе. Куртис сказал старому зулусу, чтобы он находился где-нибудь по соседству с комнатами Нилепты. Умслопогас хорошо знал дворец, так как, по приказу королевы, ему дозволено было входить и выходить из дворца, когда ему хотелось. Этим позволением королевы он часто пользовался и бродил ночью, целыми часами, по залам дворца. Зулус, не возразив ни слова, взял свой топор и ушел, а мы легли спать. Я заснул, как вдруг проснулся от какого-то странного ощущения, чувствуя, что в комнате кто-то был и смотрел на меня. Каково же было мое удивление, когда, при свете зари, я увидел мрачную фигуру Умслопогаса, стоявшего у моего ложа. — Давно ли ты здесь? — спросил я резко, потому что не очень приятно просыпаться таким образом. — Может быть, около получаса, Макумацан. Мне надо сказать тебе! — Говори! — Когда мне велели ночью сторожить комнаты белой королевы, я спрятался за столб во второй комнате, около спальной. Бугван (Гуд) был в первой комнате, а около занавески стоял часовой. Я прокрался туда, и меня никто не виде.). Прождал я много часов, как вдруг увидал темную фигуру, тихо двигавшуюся ко мне. Это была женщина и в руке держала кинжал. За женщиной крался другой человек, которого она не заметила. Это был Бугван. Он снял башмаки и шел по ее следам. Женщина прошла мимо меня, и я видел ее лицо. — Кто же это был? — спросил я. — Лицо принадлежало царице ночи! — Справедливое название — настоящая царица ночи! Я ждал. Бугван также прошел мимо меня! Я последовал за ним. Мы шли тихо, беззвучно, друг за другом, сначала женщина, потом Бугван, потом я. Женщина не видела Бугвана, а Бугван не видел меня. Наконец, царица ночи остановилась у занавеса, возле спальной комнаты белой королевы, вошла туда. За ней Бугван и я. В дальнем конце комнаты тихо и крепко спала белая королева. Я слышал ее дыхание и видел белую, как снег, руку, лежавшую около головы. Царица ночи подняла свой нож и подкралась к постели. Ей не пришло в голову обернуться назад. Но Бугван дотронулся до ее руки, она вдруг повернулась, и я видел, как блеснул нож. Хорошо, что Бугван надел железную рубашку, а то бы был убит. Когда Бугван разглядел женщину, он молча отскочил назад. Она также была удивлена и не сказала ни слова, но вдруг приложила палец к губам и вышла из спальной вместе с Бугваном. Она прошла так близко, что ее платье коснулось меня, и мне хотелось убить ее. В первой комнате она что-то говорила Бугвану шепотом, сжав руки, я не знаю, что. — Потом они прошли во вторую комнату и все говорили. Мне показалось, что он хотел позвать стражу, но она остановила его и глядела на него своими большими глазами, и он был околдован ее красотой. Потом она протянула руку, и он поцеловал ее, а я собирался схватить ее, заметив, что Бугван ослабел, как женщина, и не знает, где добро и зло, как вдруг она ушла! — Ушла? — вскричал я. — Да, ушла, а Бугван стоял у стены, как сонный человек, а потом ушел. Я подождал немного и пошел сюда! — Уверен ли ты, Умслопогас, что не видел это все во сне сегодня ночью? В ответ он поднял левую руку и показал мне кинжал из тончайшей стали. — Если я спал, Макумацан, то сон оставил мне этот нож. Он сломался о железную рубашку Бугвана, и я подобрал его в спальне белой королевы!Глава 18
ВОЙНА
Я велел Умслопогасу подождать, кое-как оделся и пошел с ним в комнату сэра Генри, где зулус от слова до слева повторил свою историю. Как исказилось лицо сэра Генри, когда он слушал. — Святые небеса! — воскликнул он. — Я спал, а Нилепту едва не убили — и все из-за меня! Зорайя — опасный враг! Лучше бы было, если бы Умслопогас убил ее на месте! — Да, да! — произнес зулус, — не бойся. Я еще убью ее. Я ждал удобной минуты! Я ничего не сказал, но невольно подумал о том, сколько было бы спасено человеческих жизней, если бы Зорайю постигла судьба, которую она готовила своей сестре! Дальнейшее показало, что я был прав. Умслопогас ушел завтракать, а я и сэр Генри начали толковать. Он был очень раздражен против Гуда, которому, по его мнению, нельзя больше доверять, так как он выпустил из рук Зорайю, вместо того, чтобы отдать ее в руки правосудия. Он говорил, отзываясь о Гуде очень резко. Я молчал, думая про себя, что мы умеем жестоко осуждать слабости других и с нежностью относимся к своим собственным. — Действительно, старый друг, — сказал я ему, — слушая вас, трудно подумать, что вчера вы имели разговор с этой дамой, которую осуждаете, и сами находили почти невозможным устоять против ее очарования, несмотря на то, что любите и любимы прекраснейшей и нежнейшей женщиной в целом мире! Предположите, что Нилепта пыталась бы убить Зорайю, и вы поймали ее, и она просила бы вас не выдавать ее. Могли бы вы, с легким сердцем, вести ее на публичный позор, предать на сожжение? Посмотрите на дело глазами Гуда, прежде чем называть старого друга подлецом! Сэр Генри выслушал мои слова и откровенно сознался, что был жесток к Гуду. Прекрасная черта в характере Куртиса, — он всегда готов сознаться, если был несправедлив! Хотя я защищал Гуда, но все же отлично понимал все дело и знал, что он попал в весьма неприятное и неловкое положение! Была дикая, безумная попытка убийства, и он выпустил из рук убийцу, позволив ей обезоружить себя. Он легко мог сделаться ее орудием, а что могло быть ужаснее этого? Но конец должен быть один: Гуд оказал ей услугу, она, конечно, отвернулась от него, и он вернется снова завоевывать потерянное самоуважение! Пока я обдумывал все это, я услыхал крик во дворе, различил голоса Умслопогаса и Альфонса. Один яростно ругался, другой вопил. Я побежал туда и увидал смешное зрелище. Маленький француз бегал но двору, а за ним, как охотничья собака, гонялся зулус… Когда я подошел к ним, Умслопогас успел поймать Альфонса, поднял его за ноги и пронес несколько шагов, прямо к густому цветущему кустарнику, покрытому шипами, цветы которого несколько походили на гардению. Несмотря на крики и вопли француза, зулус спокойно бросил его в кустарник, так что на виду остались только икры да пятки ног. Довольный своим поступком, зулус сложил руки и стоял, мрачно созерцая лягания Альфонса и слушая его вопли. — Что ты делаешь? — оказал я, — Ты хочешь убить его? Тащи его сейчас же из кустарника! Зулус повиновался, схватив несчастного Альфонса за лодыжки ног так сильно, что я боялся, не вывихнул ли он их, и одним толчком освободил его из чащи кустарника. Смешно было смотреть на Альфонса! Все платье его было усеяно колючками, он был до крови исцарапан шипами, лежал на траве, вопил и катался по ней. Наконец он встал, проклиная Умслопогаса, клялся геройской кровью своего деда, что отравит его и отомстит за себя. Потом я узнал суть дела. Обыкновенно Альфонс готовил похлебку Умслопогасу, которую он съедал вместо завтрака в углу двора. Эта похлебка, по обычаю родины зулуса, готовилась из тыквы, и он хлебал ее деревянной ложкой. Но Умслопогас, как все зулусы, не выносил рыбы, считая ее водяной змеей. Альфонс, подвижный и любивший проказы и шутки, как обезьяна, отличный повар, решил заставить его есть рыбу. Он накрошил мелко рыбы и смешал ее с похлебкой зулуса, который и съел ее всю, не заметив рыбы. К несчастью, Альфонс не сумел сдержать своей радости и принялся скакать и прыгать вокруг дикаря, пока Умслопогас не заподозрил нечто и после внимательного исследования остатков похлебки открыл «новую проказу буйволицы» и рассчитался с французом по-своему. Хорошо, что Альфонс не сломал себе шею при своем падении в кустарник! Я удивлялся, что он позволил себе новую шутку, хотя знал по опыту, что «черный господин» не любит шутить. Инцидент сам по себе был неважен, но я рассказываю его потому, что он повлек за собой весьма серьезные последствия. Вытерев кровь и помывшись, Альфонс ушел, проклиная Умслопогаса, чтобы опомниться и вернуть обычное веселое расположение духа. Когда он ушел, я прочитал зулусу целую нотацию и сказал, что мне стыдно за него. — Ах, Макумацан, — возразил он, — ты не должен сердиться на меня, потому что здесь мне не место! Я соскучился до смерти, соскучился пить, есть, спать и слушать про любовь! Я не люблю эту жизнь в каменных дамах, которая отнимает силу у человека и превращает его кровь в воду, а тело в жир. Я не люблю белые одежды изнеженных женщин, звуки труб и ястребиные охоты! — Когда мы дрались с Мазаями в краале, тогда стоило жить, а здесь не с кем и драться. Я начинаю думать, что умру от скуки и не подниму больше мой Инкози-каас! Он взял топор и долго и печально смотрел на него. — Ты жалуешься? — оказал я. — Ты хочешь крови? Дятлу нужно дерево, чтобы долбить! В твои годы, стыдись, Умслопогас! Стыдись! — Макумацан, я не жалею крови и это лучше и честнее вашего! Лучше убить человека в честном бою, чем высосать его кровь в купле, продаже и ростовщичестве, по обычаю белых людей! Много людей я убил в бою, и никому не побоюсь взглянуть в лицо, многие из этих людей были друзьями, с которыми я охотно покурил бы трубку. Ты — другое дело. У тебя своя дорога, у меня — своя! Каждый идет к своему народу, в свое родное место! Дикий бык хочет умереть в лесистой стране, так и я, Макумацан! Я груб и знаю это, и когда кровь моя разгорячится, я не помню, что делаю! Но когда настает ночь, ты, наверное, пожалел бы меня! Мрак охватывает меня, и я тоскую! В сердце своем ты любишь меня, Макумацан, отец мой, хотя я — ничтожная зулусская собака, начальник без крааля, бродяга и пришелец! И я люблю тебя, Макумацан, потому что мы вместе состарились, между нами есть что-то, что крепко связывает нас! — он взял снова табакерку, сделанную из старого медного патрона, и предложил мне табаку. С волнением я взял щепоть табаку. Это правда, — я был очень привязан к кровожадному дикарю! Я не могу точно определить, в чем состояла его привлекательность, быть может, его честность и прямота или удивительная ловкость и сила подкупали меня. Это было совершенно своеобразное существо. Откровенно говоря, среди массы дикарей, которых я знал, я не встречал ни одного, подобного Умослопогасу. Он был очень умен и наивен, как дитя, и обладал очень добрым сердцем. Во всяком случае, я очень любил его, хотя никогда не высказывал ему этого. — Да, старый волк! — отвечал я. — Твоя любовь — странная вещь! Завтра ты был бы способен расколоть мне череп, если бы я стал на твоей дороге! — Ты говоришь правду, Макумацан, я сделал бы это, если бы долг велел мне, но все же не перестал бы любить тебя! Разве здесь можно драться, Макумацан? — продолжал он насмешливым голосом, — Мне кажется только, что обе королевы сердятся друг на друга! Это я думаю потому, что видел ночью! Царица ночи даже бросила свои кинжал! Я объяснил ему, что королевы серьезно поссорились из-за Инкубу и растолковал положение дел. — Ах, так! — воскликнул он в восторге. — Значит, у нас будет война. Женщины любят нанести последний удар и сказать последнее слово и, если начнут войну из-за любви, то не знают пощады, как раненая буйволица! Женщина любит проливать кровь по своему желанию. Собственными глазами я дважды убедился в этом. О, Макумацан! Мы увидим, как будут гореть эти красивые дома, и боевой клич раздастся на улице! Ну, я не напрасно пришел сюда! Как ты думаешь, умеет этот народ сражаться? В это время к нам подошел сэр Генри, а с другой стороны появился Гуд, бледный, со впалыми глазами. Минуту Умслопогас смотрел на него, потом поклонился ему. — А, Бугван! — закричал он. — Инкоос приветствует тебя! Ты плохо выглядишь! Разве ты много охотился вчера? — не дожидаясь ответа, он подошел к Гуду. — Слушай, Бугван, я расскажу тебе историю об одной женщине! Будешь слушать или нет? — Жил один человек, который имел брата. Одна женщина любила его брата, но была любима им самим. Но у брата была любимая жена, и он не хотел смотреть на эту женщину и смеялся над ней! Тогда женщина, имевшая горячее сердце, захотела отомстить и сказала тому, который любил ее: я люблю тебя! Начни войну против твоего брата, и я буду твоей женой! Он знал, что это ложь, но, благодаря великой любви к прекрасной женщине, послушался ее и начал войну. Много людей было убито. Тогда брат послал к этому человеку вестника со словами: за что ты хочешь убить меня? Что я сделал тебе? Разве не любил я тебя с самого детства? Разве я не утешал тебя в горе, разве мы не ходили вместе на войну, не делили поровну добычу, скот, девушек, быков, коров? За что ты хочешь убить меня, мои любезный брат? Тяжело стало на сердце у человека, он поступил дурно, прекратил войну и жил мирно вместе с братом в одном краале. Через некоторое время к нему пришла любимая им женщина и сказала: я забыла прошлое и хочу быть твоей женой! — Он знал в сердце своем, что это опять ложь, и что женщина задумала дурное дело, но он любил ее и взял в жены. — В ту же самую ночь, когда они обвенчались, пока ее муж спал глубоким сном, женщина встала, взяла топор мужа, поползла к месту, где спал его брат и убила его топором. Потом она проскользнула назад, как насытившаяся кровью львица, и положила топор около мужа. На рассвете послышался крик. Лусте убит сегодня ночью! Народ вбежал к спящему человеку, и все увидели, что он спит, а около него лежит окровавленный топор. — Это он, наверное, убил своего брата! — закричали все, хотели схватить его и убить. Но он проснулся и убежал и, встретив по дороге жену, которая была виновата во всем, убил ее. — Но смерть не стерла с лица земли всех ее злодеяний, и на мужа легла вся тяжесть ее греха! — Он был великий начальник, славный вождь, а когда бежал, то стал беглецом, бродягой без крааля, без жены, имя которого с гневом произносится на родине! Он умрет, как затравленный олень, далеко от родины. От поколения к поколению перейдет рассказ о том, как низкий предатель в темную ночь убил своего брата Лусте! Зулус умолк, и я видел, что он глубоко взволнован своим рассказом. Он поднял свою опущенную голову и взглянул на Гуда. — Этот человек — я, Бугван! Да, я этот беглец, бродяга, погубленный злой женщиной! Как было со мной, так и ты будешь орудием, игрушкой женщины, на тебя падет тяжесть чужих злодеяний. Слушай! Когда ты крался за царицей ночи, я шел по твоим следам! Когда она ударила тебя ножом в спальне белой королевы, я был там! Когда ты позволил ей ускользнуть, как змее в камнях, я видел тебя, знал, что она околдовала тебя, что верный человек забыл все, забыл прямой путь и пошел по кривой дорожке. Прости мне, отец мой, если мои слова остры, но они сказаны от полного сердца! Не встречайся с ней более и с честью пройдешь свой путь до могилы! Красота женщины изнашивается, как платья из меха, и ты можешь попасть из-за нее в беду, как было со мной! Я кончил! Во время его длинного и красноречивого рассказа Гуд молчал, но когда рассказ начал походить на его собственную историю, он покраснел, а узнав, что зулус был свидетелем того, что произошло между ним и Зорайей, был очень расстроен. Потом он заговорил убитым голосом. — Признаюсь, — сказал он с горькой усмешкой, — я никогда не думал, что зулус будет учить меня выполнению долга. Но, вероятно, я дошел до этого! Вы понимаете, друзья, как велико мое унижение, и самое горшее — это сознание, что я заслужил его! Да, я должен был отдать Зорайю в руки правосудия, но не мог. Это — факт! Я отпустил ее и обещал ей молчать. Она заверяла меня, что если я примкну к ее партии, то она обвенчается со мной и сделает меня королем. Слава Богу, у меня хватило сил сказать ей, что даже ради ее любви я не оставлю моих друзей. Делайте, что хотите, я заслужил это. Скажу еще, что надеюсь, что вы не попадете в такое положение, как я, — любить женщину всем сердцем и отказаться от искушения владеть ею! Он повернулся, чтобы уйти. — Погоди, старый дружище, — сказал сэр Генри, — погоди минуту! Я скажу тебе кое-что! Он отошел в сторону и рассказал Гуду все, что произошло между ним самим и Зорайей накануне. Это был последний удар для бедного Гуда. Неприятно человеку сознавать, что он был игрушкой в руках женщины, но при теперешних обстоятельствах для Гуда это было вдвойне горько и обидно! — Знаете ли, — произнес он, — я думаю, что мы все околдованы! Он повернулся и ушел. Мне было очень жаль его. Если бы мотыльки, порхающие около огня, заботливо избегали его, их крылья, наверное, были бы целы! В этот день был прием при дворце, когда королева обыкновенно восседала на троне, в большом зале, принимала жалобы, разбирала законы, жаловала награды. Мы отправились в тронный зал. К нам присоединился Гуд, выглядевший очень печально. Когда мы вошли, Нилепта сидела на троне и, по обыкновению, занималась делами, окруженная советниками, придворными, жрецами и сильной стражей. Очевидно было по общему волнению, по ожиданию, написанному на всех лицах, что никто не обращал особого внимания на обычные дела, все знали, что война неизбежна. Мы поклонились Нилепте и заняли обычные места. Некоторое время все шло своим порядком, как вдруг раздались звуки труб, и большая толпа, собравшаяся за стеной дворца начала кричать: Зорайя! Зорайя! Послышался стук колес. Большой занавес на конце зала откинулся, и вошла царица ночи, но она была не одна. Около нее шел великий жрец Эгон, одетый в лучшие одеяния, и другие жрецы следовали за ними. Ясно было, зачем Зорайя привела с собой жрецов! В их присутствии задержать ее было бы святотатством! Позади шли сановники и небольшая вооруженная стража. Одного взгляда на лицо Зорайи было достаточно чтобы видеть, что она явилась не с миролюбивой целью. Вместо обычной вышитой золотом «каф» на ней была надета блестящая туника, сделанная из золотых чешуек, а на голове золотой маленький шлем. В руке она держала острое копье, великолепно сделанное из серебра. Она вошла в зал, как разъяренная львица, в гордом сознании своей красоты! Зрители низко поклонились и дали ей дорогу. Зорайя остановилась у священного камня и положила на него руку. — Привет тебе, королева! — вскричала она громко. — Привет тебе, моя царственная сестра! — ответила Нилепта. — Подойди ближе. Не бойся. Я позволяю подойти! Зорайя ответила надменным взглядом, прошла через зал и остановилась перед тренами. — Просьба к тебе, королева! — вскричала она. — Просьба? О чем ты можешь просить меня, сестра, ты владеющая, подобно мне, половиной королевства? — Ты должна сказать мне правду, — мне и моему народу! Правда ли, что ты хочешь взять этого чужестранного волка в мужья и разделить с ним трон и ложе? Куртис сделал движение и, повернувшись к Зорайе, сказал тихо. — Мне кажется, вчера у тебя нашлось более нежное имя для этого волка, о, королева! Я видел, что Зорайя закусила губу, и кровь прилила к ее лицу. Что касается Нилепты, она, понимая, что теперь нет смысла дольше скрывать положение дел, ответила на вопрос Зорайи в новой и эффектной манере, которая, я твердо убежден в этом, была внушена ей кокетством и желанием восторжествовать над соперницей. Она встала с трона и во всем блеске своей царственной красоты и грации, прошла к тому месту, где стоял ее возлюбленный. Остановившись около него, она велела ему встать на колени и отстегнула золотую змею со своей руки. Куртис встал иерея ней на колени, на мраморный пол; Нилепта, держа золотую змею обеими руками, надела ее на его шею и застегнула, потом поцеловала его в лоб и назвала «дорогим господином». — Ты видишь, — сказала она, обращаясь к Зорайе, когда стих ропот изумления зрителей и сэр Генри поднялся с колен, — я надела ошейник на шею «волка»! Он будет моей сторожевой собакой! Вот тебе мой ответ, королева Зорайя, и всем, кто пришел с тобой! Не бойся, — продолжала она, нежно улыбаясь Куртису и указывая на золотую змею, обвивавшую его массивное горло. — Если мое ярмо будет тяжело, хотя оно и сделано из чистого золота, оно не причинит тебе вреда! — Да, царица ночи, сановники, жрецы и народ, собравшийся здесь, — продолжала Нилепта спокойным, гордым тоном обращаясь к окружающим, — перед лицом всего народа я беру в мужья этого иностранца! Разве я, королева, не свободна избрать себе в мужья человека, которого я люблю? Я имею на это такое же право, как всякая девушка в моих провинциях. Да, он завоевал мое сердце, мою руку и трон, и если бы он не был знатный лорд, красивейший и лучший из всех, не имел столько мудрости и познаний, — если бы он был простой нищий, — я отдала бы ему все, что у меня есть, все! Она взяла руку Куртиса и с гордостью взглянула на него, и так, держа его руку, спокойно стояла лицом к присутствующим. Нилепта была так прекрасна, стоя рядом со своим возлюбленным! Она была так уверена в себе и в нем, видимо, была готова на всякий риск ради него, на всякие жертвы! Так велико было обаяние ее царственной прелести, силы и достоинства, что большинство зрителей, уловив огонь и ее глазах и счастливый румянец на лице, начало восторженно рукоплескать ей и кричать. Это был смелый поступок со стороны Нилепты, а народ Цу-венди любит смелость и мужество — даже тогда, если они нарушают традиции, но сумеют затронул его поэтическую струнку. Народ кричал, приветствуя Нилепту. Зорайя стояла, опустив глаза, дрожа в припадке ревнивого гнева, отвернув бледное, как смерть, лицо. Ей было невыносимо тяжело видеть торжество сестры, которая отняла у нее любимого человека. Я уже говорил, что лицо Зорайи напоминало мне спокойные воды моря в ясную погоду, когда в нем дремлют затаенные силы! Теперь это море проснулось, затаенная сила вырвалась наружу и испугала и очаровала меня. Действительно, прекрасная женщина в своем царственном гневе всегда представляет интересное зрелище, но никогда в жизни я не видал такой красоты и ярости, соединенных вместе. Обе королевы производили поражающее впечатление. Зорайя подняла свое бледное лицо, зубы ее были крепко стиснуты, а под горевшими глазами залегли красные круги. Трижды пыталась она говорить, и трижды голос изменял ей. Наконец, она заговорила и, подняв свое серебряное копье, махнула им. Сверкнуло копье, сверкнули золотые чешуйки туники и мрачные глаза Зорайи! — Ты думаешь, Нилепта, — произнесла она зазвеневшим голосом, — ты думаешь, что я, Зорайя, королева Цу-венди, допущу, чтобы чужестранец сел на трон моего отца, чтобы его потомство наследовало Дом лестницы? Никогда! Никогда! Пока в моей груди бьется жизнь, пока у меня есть воины, и есть копье, чтобы наносить удары! Кто на моей стороне? Кто за мной? Кто? Или передай этого чужестранного волка и его приятелей в руки жрецов, потому что они совершили кощунство, или… Нилепта, я объявляю тебе войну, кровавую войну! Твоя страсть поведет к пожарам городов наших, омоется кровью твоих приверженцев! На твою голову падет смерть этих людей, в твоих ушах будут звучать стоны умирающих, вопли вдов и сирот! — Я хочу столкнуть тебя с трона, Нилепта, Белая королева, сбросить к подножию нашей лестницы, потому что ты покрыла стыдом и позором славное имя нашей династии! А вы, иноземцы, все, кроме Бугвана, который оказал мне услугу, — и я спасу его, если он оставит своих друзей! (бедный Гуд покачал головой и пробормотал по-английски: «это невозможно!») вас я оберну золотыми листами и повешу на цепях у колонн храма, чтобы вы были предостережением для других! Ты, Инкубу, умрешь другой смертью, об этом поговорим после! Она умолкла, прерывисто дыша, потому что ее страсть походила на бурю. Ропот удивления и ужаса пронесся по залу. — Говорить так, как говорила ты, сестра, угрожать, как ты, я считаю недостойным моего сана и моей гордости! — произнесла Нилепта спокойным, уверенным голосом. — Если ты хочешь начать войну, начинай, Зорайя, я не боюсь тебя! Моя рука нежна, но сумеет отразить твою армию! Мне жаль народа, жаль тебя, но ты мне не страшна, повторяю тебе! Вчера ты пыталась отбить у меня возлюбленного и господина, того, кого сегодня ты назвала «чужеземным волком», ты хотела, чтобы он был твоим возлюбленным, твоим господином (Эти слова произвели сенсацию в зале)! Ты прошлой ночью, как я узнала, прокралась, как змея, в мою спальню тайным путем и хотела убить меня, твою родную сестру, пока я крепко спала… — Это ложь, ложь! — раздались голоса, среди которых выделялся голос великого жреца Эгона. — Это правда! — сказал я, держа в руке и показывая присутствующим лезвие кинжала. — Где же рукоятка этого кинжала, Зорайя? — Это правда! — вскричал Гуд, решивший действовать открыто. — Я застал царицу ночи у постели Белой королевы, и этот кинжал сломался о мою грудь! — Кто за мной? — крикнула Зорайя, махая копьем, заметив, что общие симпатии склонялись на сторону Нилепты, — Бугван, и ты против меня? — обратилась она к Гуду тихим, сдержанным голосом. — Ты, низкая душа, ты отворачиваешься от меня, а мог быть моим супругом и королем страны! О, я закую тебя в крепкие цепи! — Война! Война! — крикнула Зорайя. — Здесь, положа руку на священный камень, который, по предсказанию, будет существовать, пока народ Цу-венди не склонится под чужеземным ярмом, я объявляю войну, войну до конца! На жизнь и на смерть! Кто последует за Зорайей, царицей ночи, на победу и триумф? Произошло неописуемое смятение. Многие поспешили присоединиться к Зорайе, другие последовали за нами. Среди приверженцев Зорайи оказался один воин из отряда телохранителей Нилепты. Он внезапно повернулся к нам спиной и бросился к двери, через которую проходили приверженцы Зорайи. Умслопогас, присутствовавший при этой сцене и обладавший удивительным присутствием духа, сейчас же смекнул, что если этот солдат уйдет от нас, то его примеру последуют и другие, и бросился на воина. Тот поднял свой меч. Зулус с диким криком отпрыгнул назад, ударил врага своим ужасным топором и принялся долбить ему голову, пока воин не упал мертвым на мраморный пол. Это была первая пролитая кровь! — Запереть ворота! — приказал я, надеясь, что мы успеем схватить Зорайю, но было уже поздно. Стража прошла в ворота за королевой, и улицы огласились стуком колес и бешеным галопом лошадей. Зорайя в сопровождении своих приверженцев вихрем пронеслась во городу, по направлению к своей военной квартире в М’Арступа, крепости, расположенной в 130 милях к северу от Милозиса. Затем город занялся приготовлениями к войне, и старый Умслопогас сидел и, любуясь закатом солнца, натачивал свой топор.Глава 19
СВАДЬБА
Один человек, однако, не успел пройти ворота, пока их не закрыли. Это был великий жрец Эгон, который, как мы были уверены, состоял главным советником и помощником Зорайи, душой ее партии. Свирепый старик не забыл нашего святотатства. Он знал также, что у нас было несколько религиозных систем и, несомненно, очень боялся, чтобы мы не вздумали вводить свою религию в стране, и я ответил ему, что у нас имеется, насколько я знаю, 95 различных религий. Это страшно поразило его; действительно, положение его, великого жреца национального культа, — было незавидно. Он с часу на час боялся водворения новой религии. Когда мы узнали, что Эгон у нас, Нилепта, сэр Генри и я долго обсуждали, что с ним делать. Я предложил посадить его в тюрьму, но Нилепта покачала головой и заметила, что подобный поступок вызовет смущение и толки в стране. — О, если я выиграю игру и буду настоящей королевой, я уничтожу все могущество этих жрецов, их обряды и мрачные тайны! — добавила Нилепта, топнув ногой. — Я желал бы, чтобы старый Эгон слышал эти слова; он, наверное, испугался бы. — Если мы не посадим его в тюрьму, — сказал сэр Генри, — то я думаю, лучше всего отпустить его! Он не нужен нам! Нилепта посмотрела на него странным взглядом. — Ты так думаешь, господин мой? — спросила она сухо. — Да, — ответил Куртис, — я не вижу, зачем он нужен нам? Нилепта молчала и продолжала смотреть на него нежным и застенчивым взглядом. Наконец, Куртис понял. — Прости меня, Нилепта, — сказал он, — ты хочешь теперь же обвенчаться со мной? — Я не знаю, как угодно моему господину? — был быстрый ответ. — Но если господин мой желает, то жрец — здесь, и алтарь недалеко! — добавила она, указывая на вход в молельню. — Я готова исполнить желание моего господина! Слушай, Инкубу! Через 8 дней, даже меньше, ты должен покинуть меня и идти на войну, потому что ты будешь командовать моим войском. На войне люди умирают, и если это случится, ты недолго будешь моим, о, Инкубу, и будешь вечно жить в моем сердце и памяти… Слезы вдруг хлынули из ее прекрасных глаз и оросили нежное лицо, подобно каплям росы на прекрасном цветке. — Быть может, — продолжала она, — я потеряю корону и с ней мою жизнь и твою. Зорайя сильна и мстительна, от нее нельзя ждать пощады. Кто может знать будущее? Счастье — это белая птица, которая летает быстро и часто скрывается в облаках! Мы должны крепко держать ее, если она попала нам в руки! Мудрость не велит пренебрегать настоящим ради будущего, мои Инкубу! Она подняла к Куртису свое лицо и улыбнулась ему. Снова я почувствовал странное чувство ревности, повернулся и ушел от них. Они, конечно, не обратили внимания на мои уход, считая меня, вероятно, старым дураком, и, пожалуй, были правы! Я прошел в наше помещение и нашел Умслопогаса у окна; он точил топор, подобно коршуну, который оттачивает свои острый клюв близ умирающего быка. Через час к нам пришел сэр Генри, веселый, сияющий, возбужденный, и, застав всех вместе, Гуда, меня и Умслопогаса, спросил нас, согласны ли мы присутствовать на его свадьбе? Конечно, мы согласились и отправились в молельню, где уже находился Эгон, смотревший на нас злыми глазами. Очевидно, он и Нилепта составили себе совершенно различное мнение о предстоящей церемонии. Эгон решительно отказался венчать королеву или дозволить это другому жрецу. Нилепта сильно рассердилась и заявила Эгону, что она, королева, считается главой церкви, и желает, чтобы ей повиновались, и настаивает, чтобы он венчал ее![77] Эгон отказался пойти на церемонию, но Нилепта заставила его следующим аргументом. — Конечно, я не могу казнить великого жреца, — сказала она, — потому что в народе существует нелепый предрассудок, я не могу даже посадить тебя в тюрьму, потому что подчиненные тебе жрецы поднимут крик и рев по всей стране, но я могу заставить тебя стоять и созерцать алтарь солнца, и не дать тебе есть, пока ты не обвенчаешь нас! О, Эгон! Ты будешь стоять перед алтарем и не получишь ничего, кроме воды, пока не одумаешься! Между тем в это утро Эгон не успел позавтракать и был очень голоден. Из личных интересов он согласился, наконец, повенчать влюбленных, заявив, что умывает руки и снимает с себя всякую ответственность за это. В сопровождении двух любимых прислужниц явилась королева Нилепта, со счастливым, розовым лицом и опущенными глазами, одетая в белое одеяние, без всяких украшений и вышивок. Она не одела даже золотых обручей, и мне показалось, что без них она выглядит еще прекраснее, как всякая действительно прекрасная женщина. Она низко присела перед Куртисом, взяла его за руку и повела к алтарю. После минутного молчания, она произнесла ясным, громким голосом формулу, обычную в стране Цу-венди при совершении браков. — Клянись солнцем, что ты не возьмешь другую женщину в жены себе, если я сама не пожелаю этого и не прикажу ей прийти к тебе! — Клянусь! — отвечал сэр Генри, и добавил по-английски. — С меня за глаза довольно и одной! Тогда Эгон, стоявший у алтаря, вышел вперед и забормотал что-то себе под нос, так быстро, что я не мог разобрать. Очевидно, это было воззвание к солнцу, чтобы оно благословило союз и наградило его потомством. Я заметил, что Нилепта внимательно слушала каждое слово. Потом она призналась мне, что боялась Эгона, который мог сыграть с ней шутку и проделать все обряды, необходимые при разводе супругов. В конце концов, Эгон спросил брачующихся, добровольно ли избирают они друг друга, затем они поцеловались перед алтарем, и свадьба была кончена, все обряды соблюдены. Но мне казалось, что чего-то не хватало, я достал молитвенник, который часто читал во время бессонницы, и возил его с собой всюду. Несколько лет тому назад я отдал его моему бедному сыну Гарри, а после его смерти взял обратно. — Куртис, — сказал я, — я, конечно, не духовное лицо, и не знаю, как вам покажется мое предложение, но если королева согласна, я прочту вам английскую службу при бракосочетании. Ведь это торжественный шаг в вашей жизни, и я думаю, что его необходимо санкционировать вашей собственной религией! — Я думал уже об этом, — возразил он, — и очень желаю этого! Мне кажется, что я только наполовину обвенчан! Нилепта не возразила ни слова, понимая, что ее муж хочет совершить свое бракосочетание согласно обычаям своей родины. Я принялся за дело и прочитал всю службу, как умел. Когда я дошел до слов: «я, Генрих, беру тебя, Нилепту!> и «я, Нилепта, беру тебя, Генриха!» — я перевел эти слова, и Нилепта очень ясно повторила их за мной. Сэр Генри снял гладкое золотое кольцо с мизинца и надел на ее палец. Это кольцо принадлежало еще покойной матери Куртиса, и я невольно подумал, как удивилась бы почтенная старая леди из Йоркшира, если бы предвидела, что ее обручальное кольцо будет надето на руку Нилепты, королевы Цу-венди. Что касается Эгона, он с трудом сдерживался во время второй церемонии, и, несомненно, с ужасом помышлял о девяносто пяти религиях, которые зловеще мелькали перед его глазами. В самом деле, он считал меня своим соперником и ненавидел меня! В конце концов, он с негодованием ушел, и я знал, что мы можем ожидать от него всего худшего. Потом мы с Гудом также ушли, с нами Умслопогас, и счастливая парочка осталась наедине. Мы чувствовали себя очень скверно. Предполагается, что свадьба — веселая и приятная вещь, но мой опыт показал мне, что часто она отзывается тяжело на всех, кроме двух заинтересованных людей! Свадьба часто ломает старые устои, порывает старые узы; тяжело нарушать старые порядки! Взять пример: сэр Генри, милейший и лучший товарищ во всем мире, совершенно изменился со времени своей свадьбы. Вечно — Нилепта, тут — Нилепта, там — Нилепта, с утра до ночи все одна Нилепта, только она одна в голове и в сердце! Что касается старых друзей, конечно, они остались друзьями, — но молодая жена предусмотрительно заботится оттеснить их на второй план! Как ни печально, но это факт! Сэр Генри изменился, Нилепта — прекрасное, очаровательное создание, но я думаю, ей хочется дать нам понять, что она вышла замуж за Куртиса, а не Квотермейна, Гуда и К. Но что пользы жаловаться и ворчать? Это вполне естественно, и всякая замужняя женщина не затруднится объяснить это, а я, самолюбивый, завистливый старик, хотя, надеюсь, никогда не показал им этого. Мы с Гудом пошли и молча пообедали, стараясь подкрепить себя добрым старым вином. Как вдруг явился один человек из нашей партии и рассказал нам историю, которая заставила нас призадуматься. После своей ссоры с Умслопогасом Альфонс ушел очень раздраженный. Очевидно, он отправился прямо к Храму солнца и прошел в парк или, вернее, в сад, окружавший наружную стену храма. Побродив там, он хотел вернуться, но встретил поезд Зорайи, отчаянно летевший по северной дороге. Когда она заметила Альфонса, то остановила поезд и позвала его. Он подошел, его схватили, бросили в один из экипажей и увезли; хотя он отчаянно кричал, как объяснил нам человек, который пришел уведомить нас обо всем. Сначала я затруднялся понять, на что нужен Зорайе маленький француз. С ее характером она была в состоянии дойти до того, чтобы выместить свою ярость на нашем слуге. В конце концов, мне пришла в голову другая мысль. Народ Цу-венди очень уважал и любил нас троих, во-первых, потому, что мы были первые иностранцы, которых они видели, а во-вторых, потому что мы, но их мнению, обладали сверхъестественной мудростью. Хотя гнев Зорайи против «чужеземных волков» вполне разделялся сановниками и жрецами, то народ относился к нам по-прежнему очень почтительно. Подобно древний афинянам, народ Цу-венди жаждал новизны, потом красивая наружность сэра Генри произвела глубокое впечатление на расу, которая горячо поклонялась всякой красоте. Красота ценится во всем мире, но в стране Цу-венди ее боготворят. На рыночных площадях шла молва, что во всей стране не было человека красивее Куртиса, и ни одной женщины, кроме Зорайи, которая могла бы сравниться с Нилептой, что Солнце послало Куртиса быть супругом королевы! Очевидно, возмущение против нас было искусственно, и Зорайя лучше всех знала это. Мне пришло вголову, что она решила выставить другую причину размолвки с сестрой, чем брак Нилепты с иностранцем, и нашла довольно серьезный повод. Для этого ей необходимо было иметь при себе одного чужестранца, который был бы так убежден в правоте ее дела, что оставил бы своих товарищей и перешел в ее партию. Так как Гуд отвернулся от нее, она воспользовалась случаем и схватила Альфонса, который был так же, как Гуд, небольшого роста, показать его народу и стране, как великого Бугвана. Я высказал Гуду мою мысль, и надо было видеть его лицо! Он просто испугался. — Как! — вскричал он. — Этот бездельник будет изображать меня! Я уйду из страны! Моя репутация погибнет навсегда! Я утешал его, как умел, потому что вполне разделял его опасения. Эту ночь мы провели в уединении и чувствовали тоску, словно вернулись с похорон старого друга. На следующее утро мы принялись за работу. Послы, разосланные Нилептой повсюду с ее приказаниями, уже сделали свое дело, и масса вооруженных людей стекалась в город. Мы с Гудом мельком видели Нилепту и Куртиса в продолжение последующих двух дней, но вместе заседали на совете начальников войск и сановников, намечали план действия, назначение командиров и сделали массу дел. Люди шли к нам охотно, и целый день дорога, ведущая к Милозису, чернела толпами людей, стекавшимися по всем направлениям к королеве Нилепте. Скоро нам стало ясно, что мы имеем в распоряжении 40 000 пехоты и 30000 кавалерии, весьма значительную силу, если принять во внимание короткое время, в которое мы успели собрать ее, и то обстоятельство, что половина регулярной армии последовала за Зорайей. Войско Зорайи, по донесениям наших разведчиков, было сильнее. Она поместилась в городе М’Арступа, и вся окрестность стеклась под ее знамена. Наста явился с севера, приведя с собой 25 тысяч горцев. Другой вельможа, по имени Белюша, обитатель степного округа, привел 12 тысяч кавалерии. Очевидно было, что в распоряжении Зорайи имелось не менее сотни тысяч войска. Мы получили известие, что Зорайя предполагает выступить и идти на Милозис, опустошив страну. У нас возник вопрос: встретить ли ее в стенах города, или выйти из города и дать ей сражение? Гуд и я высказались за движение вперед и за битву. Если мы будем сидеть в городе и ждать нападения, это может показаться страхом, трусостью. В подобных случаях малейший пустяк может изменить мнение людей и направить его в другую сторону. Сэр Генри согласился с нашим мнением, так же, как и Нилепта. Сейчас же была принесена большая карта и разложена перед нами. В 30 милях от М’Арступа, где расположилась Зорайя, дорога шла по крутому холму и, окаймленная с одной стороны лесом, была неудобна для перехода войска. Нилепта серьезно посмотрела на карту и положила палец на обозначенный холм. — Здесь ты должен встретить армию Зорайи! — сказала она мужу, улыбаясь и доверчиво смотря на него, — Я знаю местность. Ты встретишь здесь ее войско и рассеешь его по ветру, как буря разгоняет пыль! Но Куртис был серьезен и молчал.Глава 20
НА ПОЛЕ БИТВЫ
Через три дня мы с Куртисом отправились в путь. Все войско, за исключением маленького отряда телохранителей королевы, выступило еще накануне ночью. Нахмуренный город опустел и затих. Кроме личной стражи королевы, осталось еще около тысячи человек, которые, в силу болезни или других причин, были неспособны следовать за армией. Но это было неважно, потому что стены Милозиса были неприступны, и неприятель находился не в тылу у нас. Гуд и Умслопогас ушли с войском. Нилепта проводила сэра Генри до городских ворот, верхом на великолепной белой лошади по имени «Денной луч», которая слыла самой быстрой и выносливой лошадью во всей стране. Лицо королевы носило следы недавних слез, но теперь она не плакала, мужественно вынося горькое испытание, посланное ей судьбой. У ворот она простилась с нами. Накануне этого дня она обратилась с красноречивыми словами к начальникам войска, выразив полную уверенность в их военной доблести и в победе над врагами. Она сумела тронуть их, и они ответили громкими криками и изъявлениями готовности умереть за нее. — Прощай, Макумацан! — сказала она. — Помни, я верю тебе, верю в твою мудрость, которая нам так же необходима, как острые копья для защиты от Зорайи. Я знаю, что ты исполнишь свой долг! Я поклонился и объяснил, что боюсь сражения и могу потерять голову от страха. Нилепта улыбнулась и повернулась к Куртису. — Прощай, мой господин! — сказала она. — Вернись ко мне королем, на лаврах победы или на копьях солдат![78] Сэр Генри молчал и повернул лошадь, чтобы ехать. Он не в силах был говорить. Тяжело человеку идти на войну, но, если женат только одну неделю, то это становится уже тягостным испытанием! — Здесь, — прибавила Нилепта, — я буду приветствовать вас, когда вы вернетесь победителями! А теперь еще раз прощайте! Мы пустились в путь, но, отъехав около сотни ярдов, обернулись и увидели Нилепту, которая, сидя на лошади, смотрела нам вслед. Проехав еще с милю, мы услыхали позади себя галоп лошади и увидали подъехавшего всадника — солдата, который привел нам лошадь королевы — «Денной луч». — Королева посылает белого коня, как прощальный дар, лорду Инкубу, и приказала мне сказать ему, что этот конь самый быстрый и выносливый во всей стране! — произнес солдат, низко склоняясь перед нами. Сначала сэр Генри не хотел брать лошадь, говоря, что животное слишком красиво для такого грубого дела, но я убедил его взять, опасаясь, что Нилепта жестоко обидится. Мне и в голову не приходило тогда, какую серьезную услугу окажет нам благородное животное! Куртис взял лошадь, послал с солдатом свою благодарность и приветствие Нилепте, и мы поехали дальше. Около полудня мы нагнали арьергард войска, и сэр Генри формально принял командование всей армией. Это была тяжелая ответственность, которая угнетала его, но он должен был уступить настояниям королевы. Мы подвигались вперед, не встретив никого, потому что население городов и деревень разбежалось в разные стороны, боясь попасться между двумя враждебными армиями. Вечером, на четвертый день, — войско наше подвигалось медленно, — мы расположились лагерем на вершине холма, и наши разведчики донесли нам, что Зорайя со всем своим войском уже выступила против нас и расположилась на ночь в десяти милях. Перед рассветом мы выслали небольшой отряд кавалерии занять позицию. Едва они успели занять ее, как были атакованы отрядом Зорайи и потеряли тридцать человек. Когда с нашей стороны явилось подкрепление, войско Зорайи отступило, унося своих раненых и умирающих. Около полудня мы достигли указанного нам Нилептой места. Она не ошиблась. Место было удобно для битвы, особенно против превосходящей нас силы. На узком перешейке холма Куртис расположился лагерем и, после долгого совещания с генералами и с нами, решил вступить здесь в бой с войском Зорайи. В центре расположилась пехота, вооруженная кольями, мечами и щитами, в резерве у нее находились пешие и конные солдаты. С боков стояли эскадроны, а перед ними два корпуса войск в 7.500 человек, образуя правое и левое крыло армии под защитой кавалерии. Куртис командовал всей армией. Гуд — правым крылом ее, я принял под свое начальство семь тысяч всадников, стоявших между пехотой и правым крылом, остальные батальоны и эскадроны были вверены генералам Цу-венди. Едва мы успели занять позицию, огромная армия Зорайи начала надвигаться на нас, и вся площадь покрылась множеством блестящих копий; земля тряслась под топотом ее батальонов. Разведчики не преувеличили. Войско Зорайи превосходило нас количеством. Мы ждали нападения, но день прошел спокойно. Как раз напротив нашего правого крыла, образуя левое крыло армии Зорайи, находился батальон мрачных, дикого вида, людей. Это были, как я узнал, горцы, приведенные Наста. — Честное слово. Гуд, — сказал я, — их надо всех перебить завтра! Гуд как-то странно взглянул на меня, но ничего не ответил. Весь день мы ждали, и ничего не случилось. Наконец, настала ночь, и тысячи огней зажглись на склонах холмов, мерцая и потухая, как звезды. Время шло, мертвая тишина царила в войске Зорайи. Это была долгая, томительная ночь. Предстоящая битва, все ужасы кровопролития тяжелым гнетом лежали на сердце. Когда я размышлял обо все этом, то чувствовал себя больным, мне было тяжело подумать, что все это сильное войско собрано здесь для истребления, чтобы утолить дикую ревность женщины! Долго, до глубокой ночи, сидели мы, с тяжелым сердцем совещаясь между собой. Мерно шагали часовые взад и вперед, мрачно, с нахмуренными лицами, приходили и уходили вооруженные начальники разных батальонов. Наконец, я лег, но не мог спать при мысли о завтрашнем дне. Кто мог сказать, что принесет нам утро? Сознаюсь, я боялся. Вопрошать будущее — этого вечного сфинкса, — бесполезно! Наконец, я несколько успокоился и предоставил Провидению решать загадку завтрашнего дня. Взошло солнце. Лагеря проснулись с шумом и грохотом и начали готовиться к сражению. Это было прекрасное зрелище, и старый Умслопогас, опираясь на свой топор, созерцал его в восхищении. — Никогда не видал я ничего подобного, Макумацан! — сказал он. — Битвы моего народа — это детская игра перед этим! Как ты думаешь, скоро начнется бой? — Да, — ответил я печально, — это будет бой на жизнь и на смерть. Утешься, Дятел, еще раз ты можешь проливать кровь! Время шло, но атаки не было. Люди позавтракали и ждали. Около полудня, едва они успели пообедать, — потому что, по нашему мнению, с полным желудком веселее сражаться, — со стороны неприятельского лагеря раздался громовой крик: «Зорайя, Зорайя!» Я взял подзорную трубку и ясно различил фигуру Царицы ночи, объезжающую на лошади ряды батальонов. Пока она медленно ехала, вокруг нее раскатывались громовые крики, словно рокот бушующего океана. Земля и воздух сотрясались от этих криков. Догадавшись, что это прелюдия к битве, мы приготовились и ждали недолго. Внезапно два отряда кавалерии направились к маленькому ручью, сначала тихо, потом все быстрее. Я получил приказ от сэра Генри, который боялся, что стремительный натиск кавалерии может сразу ударить в нашу пехоту, — выслать 5000 людей навстречу кавалерии в тот момент, когда она появится на возвышенности холма, в ста ярдах от нас. Я исполнил приказание. Пятитысячный отряд всадников, выстроившись клином, понесся галопом на вершину холма. Вдруг отряд свернул вправо, развернулся и, прежде чем враги могли опомниться, ударил в кавалерию со страшном шумом, подобным обвалу ледяных глыб, и врезался в середину ее. Напрасно отбивались враги, стараясь окружить отряд кольцом и защитить центральную силу войска. Слава Богу! С громким криком наши рубили направо и налево, пока среди ржанья лошадей, сверкания мечей и победных криков наших войск, неприятельский отряд не повернулся и галопом не пустился назад, спасая свою жизнь. Все это произошло за каких-нибудь 10 минут. Затем мои люди вернулись, потеряв 500 человек, — немного, конечно, принимая во внимание стремительность атаки. В это время плотные массы неприятельского левого фланга, состоявшего, главным образом, из горцев, переправились через ручей и с диким криком — «Наста!» «Зорайя!» — блестя мечами и щитами, бросились на нас Снова я получил приказание отбить атаку и постарался это сделать, как умел, выслав несколько эскадронов в тысячу человек против неприятеля. На этот раз наши эскадроны нанесли большой урон неприятелю. Удивительное это было зрелище, когда мечи засверкали на скате холма, и наши люди врезались в самое сердце врага. Мы потеряли много людей, умерших в центре войска Насты. Враги не хотели повторять попытки отдельных атак, но решили пробиться натиском сквозь наши войска и бросились на регулярный отряд Гуда, который выстроился тремя сильными четырехугольниками. Страшный рев сказал мне, что главное побоище происходило в центре и на левом фланге. Я взглянул влево. Повсюду, куда достигал глаз, сверкали мечи, копья, слышались глухие удары. Дикие горцы, составлявшие войско Насты, словно волна, хлынули на стройные, твердо сплотившиеся четырехугольники. Время от времени они испускали дикий воинственный клич и кидались на устремленные против них острые копья, которые отбрасывали их назад. Долгих 4 часа тянулся яростный бой. Мы ничего не выиграли, но ничего и не потеряли. Две попытки неприятеля окружить наш левый фланг, пробившись через лес, были отбиты, и горцы, несмотря на отчаянные усилия, ничего не могли поделать с отрядом Гуда, хотя далеко превосходили его численностью. Что касается центра армии, где находились сэр Генри и Умслопогас, она понесла большой урон, но держалась стойко и с честью. Наконец, битва прекратилась, и войско Зорайи, вероятно, удовольствовалось происшедшим. Но скоро я убедился в своей ошибке. Неприятельская кавалерия разделилась на эскадроны, которые яростно бросились на нас вдоль всей линии, сверкая мечами и копьями. Сама Зорайя руководила движением войск, бесстрашная, как львица, потерявшая детенышей. Словно ливень, неслись на нас неприятельские войска! Я видел золотой шлем Зорайи, мелькавший среди войск. Когда они обрушились на нас, наша центральная сила поколебалась под их натиском, и не будь у нее в резерве 10.000 человек, она была бы совершенно уничтожена! Отряд Гуда был отброшен назад, и большая часть его погибла. Битва подошла к концу, и на минуту или на две воцарилась тишина. Потом сражающиеся двинулись к лагерю Зорайи. Пылкие и непобедимые горцы Насты были отбиты, и остатки людей Гуда, оставив позицию, с радостным криком бросились им вслед к холму, где горцы еще раз пытались напасть на них и вынуждены были, в конце концов, бежать. Первый четырехугольник отряда Гуда был уничтожен, во втором — я заметил Гуда верхом на большой лошади, — в следующий момент все смешалось в один хаос, в сплошные ручьи крови, и я потерял Гуда из вида. Вскоре красивая серая лошадь с белоснежной гривой пробежала мимо меня без всадника, и я узнал в ней лошадь Гуда. Я не колебался и, взяв с собой половину моего отряда, принял на себя командование и бросился прямо на горцев. Завидев мое приближение, они повернулись и устроили нам теплую встречу. Напрасно мы пытались отбиваться и рубить их, число их, казалось, все возрастало, и мечи их убивали наших лошадей. Моя лошадь была убита подо мной, но, к счастью, у меня была другая, моя любимая черная кобыла, подаренная мне Нилептой. Я продолжал отбиваться, хотя давно потерял из виду моих людей в минуту смятения. Моего голоса не было слышно в общем шуме яростных криков и воплей. Я очутился среди людей Гуда, которые окружили его плотным кольцом и отчаянно дрались, споткнулся о кого-то и увидел блеснувшее стеклышко в глазу Гуда. Он упал на колени. Над ним стоял, с поднятым мечом, огромный детина. Я ударил его мечом, и он, падая, нанес мне страшный удар в левый бок и грудь. Хотя моя кольчуга спасла мне жизнь, но все же я был сильно ранен. На минуту я упал на колени прямо на кучу убитых и умирающих людей и почувствовал себя очень дурно. Когда я очнулся, то увидел, что войско Насты, или, вернее, его остатки отступили и ушли за ручей, а Гуд стоял около меня и улыбался. — Отступили! — воскликнул он, — Все хорошо, что хорошо кончается! Я не думаю, чтобы для меня все хорошо кончилось, потому что рана моя была серьезна. Мы увидели небольшие отряды кавалерии на нашем правом и левом фланге, к которым явилось на подмогу подкрепление из 3.000 человек, находившихся в резерве. Стрелой полетели они на беспорядочные ряды войск Зорайи. И этот натиск решил конечный исход сражения. Неприятель быстро отступил за ручей, где выстроился в новом порядке. Я получил приказание от сэра Генри двинуться вперед. С угрожающим ревом, колыхая знаменами и блестя копьями, остатки нашей армии двинулись вперед, медленно, но неудержимо, оставив позиции, на которых победоносно держались целый день. Теперь была наша очередь нападать. Мы шли через массы убитых и умирающих и подошли уже к ручью, когда вдруг передо мной предстало необыкновенное зрелище. К нам стрелой несся человек в полной генеральской форме Цу-венди, уцепившись руками за шею лошади и прижавшись к ней. Когда он подъехал ближе, я узнал в нем Альфонса. Ошибиться было трудно, видя огромные черные усы. Через минуту он был сброшен и лежал на земле, счастливо избежав ударов, пока кто-то из наших не схватил его лошадь под уздцы и не принес его ко мне. — Это вы, сударь, — произнес Альфонс голосом, прерывающимся от страха, — слава Богу, это вы! Ах, что я вынес! Победа за вами, за вами! Они бегут, подлые трусы!! Но, выслушайте меня, сударь, а то я забуду. Королеву хотят убить завтра на рассвете, во дворце Милозиса! Стража ее покинет свой пост, и жрецы убьют ее! Да, они не знают, что я подслушал их, спрятавшись под знаменем! — Что такое? — произнес я, пораженный ужасом. — Что это значит? — Я говорю вам, сударь, что этот дьявол Наста вместе с верховным жрецом порешил убить ее. Стража оставит открытыми маленькие ворота, ведущие на лестницу и уйдет. Тогда Наста и жрецы войдут во дворец и убьют королеву! — Пойдем со мной! — сказал я, приказав штаб-офицеру принять на себя командование отрядом, и галопом поскакал, ведя за собой лошадь Альфонса, туда, где я думал найти Куртиса. Наши лошади топтали тела убитых, шлепали по лужам крови, пока мы увидали сэра Генри верхом на белой лошади, окруженного генералами. Как только мы приблизились к нему, войска двинулись. Голова Куртиса была обвязана окровавленной тряпкой, но взор его был ясен, как всегда. Около него находился Умслопогас с окровавленным топором в руках, свежий и довольный. — Что случилось, Квотермейн? — крикнул он. — Скверная весть! Открыт заговор убить королеву завтра на заре! Альфонс здесь, он убежал от Зорайи и подслушал разговор Насты со жрецами! Я повторил ему слова Альфонса. Куртке побледнел, как смерть, и челюсть его затряслась. — На рассвете! — пробормотал он. — Теперь еще только закат солнца. Светает раньше четырех часов, а мы ушли за сотню миль от Милозиса. Что делать? Меня осенила внезапная мысль. — Ваша лошадь не устала? — спросил я. — Нет, я недавно сел на нее, когда первую лошадь убили подо мной! — Моя тоже. Сойдите с лошади, пусть Умслопогас сядет на нее! Он отлично ездит верхом. Мы должны быть в Милозисе до рассвета, а если не будем… ну ладно, попытаемся! Нет, нет, вам нельзя бросать сражения! Увидят, что вы уехали, и это решит судьбу сражения! Победа еще не выиграна. Останьтесь здесь! Он сейчас же слез с коня, и Умслопогас вскочил в седло. — Прощайте! — сказал я. — Пошлите тысячу верховых вслед за нами, через час, если будет возможно! Постойте, отправьте какого-нибудь из ваших генералов на левый фланг, чтобы принять командование войском и объяснить людям мое отсутствие! — Вы сделаете все, что возможно, чтобы спасти ее, Квотермейн? — спросил он разбитым голосом. — Да, будьте уверены в этом. Поезжайте с Богом! Он бросил последний взгляд на нас и, сопровождаемый штабом, галопом поскакал вперед, к войску. Мы с Умслопогасом оставили поле сражения, и, как стрелы, пущенные из лука, полетели по равнине и через несколько минут были уже далеко от зрелища убийств и запаха крови. Шум сражения, крики и рев долетали до наших ушей, как звуки отдаленной бури.Глава 21
ВПЕРЕД! ВПЕРЕД!
На вершине холма мы остановились на одну секунду, чтобы дать передышку лошадям, и взглянули на поле битвы, которое расстилалось перед нами, озаренное красноватыми лучами заходящего солнца. Особенный эффект этой картине придавал отблеск сверкающих на солнце мечей и копий на зеленом фоне равнины. Все ужасное в этой картине казалось незначительным, когда мы смотрели на нее издалека. — Мы выиграли день, Макумацан! — сказал старый зулус, окинув своим практическим умом положение наших дел. — Войска царицы ночи рассеяны, они гнутся, как раскаленное железо, дерутся, как безумные! Но, увы, неизвестно, чем окончится битва. Темнота собирается на небе, и полки войск не могут в темноте преследовать и убивать врагов! — он печально покачал головой. — Но я не думаю, — добавил он, — что они захотят снова драться, мы хорошо угостили их! Хорошо быть живым! Наконец-то я видел настоящее сражение и настоящее войско! В это время мы ехали вперед, рядом, и я рассказал ему, куда и зачем мы едем, и добавил, что если дело не удастся нам, то вся война эта бесцельна, и сотни людей, погибших в сражении, погибли напрасно! — А, сотня миль, и только две лошади! Надо приехать на место раньше зари! — сказал зулус. — Ладно! Вперед, вперед, Макумацан! Человек должен попытаться это сделать! Может быть, мы успеем поколотить хорошенько старого колдуна! Он хотел сжечь нас! Старый волшебник! А теперь он хочет убить мою мать, (Нилепту)! Хорошо! Это так же верно, как то, что меня зовут «Дятлом», будет ли жива или мертва моя мать, я оторву ему бороду! Клянусь головой Чеки! Он помахал топором и поскакал галопом. Темнота сгустилась над нами, но, к счастью, светил полный месяц, и дорога была хороша. Мы торопливо ехали в сумерках. Обе наши великолепных лошади неслись вперед как ветер, миля за милей. Мы проезжали по склонам холмов, через широкие равнины. Ближе и ближе вырастали голубоватые холмы, мимо которых мы пронеслись как призраки, в окружающей темноте. Мы не останавливались теперь ни на минуту. Тишина ночи нарушалась стуком копыт наших лошадей. Вот мелькнули пустынные деревушки, погруженные в сон, сонные собаки встретили нас меланхоличным лаем, вот покинутые людьми дома, целые селения. Мы неслись по белой, озаренной лучами месяца, дороге, час за часом, целую вечность! Мы почти не говорили, пригнувшись к шеям лошадей, каждый из нас прислушивался к ее глубокому дыханию и к равномерному стуку копыт. Около меня, как мрачное изваяние, верхом на белой лошади, ехал Умслопогас, смотря на дорогу и изредка указывая своим топором на холмы и дома. Все дальше и дальше неслись мы, час за часом, в окружающем мраке и тишине. Наконец, я почувствовал, что моя превосходная лошадь начала уставать. Я взглянул на часы. Было около полуночи, и мы успели проехать половину пути. На вершине ближайшего холма протекал маленький ручей, который я хорошо запомнил. Здесь мы остановились, решившись дать лошадям 10 минут отдыха. Мы сошли с коней, Умслопогас помог мне, потому что от усталости и волнения рана моя разболелась, и я не мог пошевелиться. Лошади обрадовались передышке и отдыхали. Пот лил с них крупными каплями, пар валил столбом. Оставив Умслопогаса с лошадьми, я поспешил к ручью напиться воды. С начала битвы я не брал ничего в рот, кроме глотка вина, и усталость моя была так сильна, что я не чувствовал голода. Освежив водой мою горевшую голову и руки, я вернулся. Зулус пошел к ручью пить. Потом мы позволили лошадям сделать несколько глотков воды — не больше. Силой пришлось увести бедных животных от воды! Оставалось еще две минуты отдыха, и я употребил их на то, чтобы расправить застывшие члены и осмотреть лошадей. Моя кобылка, видимо, измучилась, повесила голову и смотрела печально. Но Денной луч, великолепная лошадь Нилепты, была еще свежа, хотя всадник ее был тяжелее меня. Правда, она устала, но глаза ее были ясны и блестящи. Прекрасная лошадь гордо держала свою красивую голову и смотрела в темноту, словно говорила нам, что если бы ей и пришлось умереть, она пробежит эти 40–50 миль, что остались до Милозиса. Умслопогас помог мне сесть в седло, — милый дикарь! — вскочил в свое, не касаясь стремян, и мы поехали, сначала медленно, потом быстрее. Так пролетели мы еще 10 миль. Начался длинный, утомительный подъем… Моя бедная лошадь спотыкалась три раза и готова была упасть на землю вместе со мной. На вершине, куда мы поднялись, наконец, она собрала последние силы и побежала конвульсивной поступью, тяжело дыша. Еще три, четыре мили… Вдруг бедная лошадь подпрыгнула, споткнулась и упала прямо на голову, а я покатился в сторону. Пока я боролся, мужественное животное подняло голову, посмотрело на меня жалкими, налитыми кровью глазами, потом уронило голову и издохло. Сердце лошади не выдержало. Умслопогас остановился у трупа лошади, и я с отчаянием смотрел на него. Нам нужно было сделать более 20 миль до рассвета; как ехать на одной лошади? Зулус молча спрыгнул с коня и помог мне сесть в седло. — Что ты хочешь делать? — спросил я. — Бежать! — ответил он, ухватившись за мое кожаное стремя. Мы отправились дальше, — я — верхом, он бегом. Но как заметна была перемена лошади! Лошадь Нилепты бежала подо мной раскидистым галопом, оставляя с каждым шагом бегущего зулуса позади себя. Странно было видеть, как Умслопогас бежал вперед, миля за милей, со сжатыми губами и раздувающимися, как у лошади, ноздрями. Каждые пять миль мы останавливались на несколько минут, чтобы дать ему передохнуть, затем снова мчались вперед. — Можешь ли ты бежать дальше, — спросил я на третьей остановке, — или сядешь со мной на лошадь? Он указал своим топором на черневшую перед нами массу. Это был храм Солнца до которого оставалось не более 5 миль. — Добегу или умру! — пробормотал зулус. О, эти последние пять миль! Ноги мои горели, каждое движение лошади причиняло мне сильную боль. Я был истощен усталостью, голодом, жаждой и невыносимо страдал от раны. Мне казалось, что кусок кости или что-то острое воткнулось в мое легкое. Бедная лошадь едва дышала. Но в воздухе уже чуялась заря, и мы не могли ждать, хотя бы все трое умерли на дороге, а должны были двигаться вперед, пока в нас теплилась хотя бы искра жизни. Воздух был удушлив, как часто бывает перед рассветом. Были и другие признаки близкого солнечного восхода, например, сотни маленьких пауков на тонких паутинах, которые реяли над нами. Эти маленькие создания окутали лошадь и нас самих своей паутиной, и так как нам некогда было возиться и сбрасывать их, то мы оказались покрытыми целой сеткой длинных серых паутин, которые более, чем на ярд, тянулись за нами. Курьезный вид мы имели, вероятно! Наконец, мы увидели перед собой бронзовые ворота наружной стены Милозиса. Новое сомнение обуяло меня: вдруг нас не захотят впустить?! — Откройте! Откройте! — закричал я повелительно, сказав королевский пароль. — Откройте! Откройте! Вестник с известиями о битве! — Какие новости? — закричал стражник. — Кто ты, что прискакал, как безумный? Кто это бежал за тобой с высунутым языком, словно собака за экипажем? — Это я, Макумацан, и со мной моя черная собака. Открывай, открывай ворота! Я привез известия! Ворота широко распахнулись, заскрипев на блоках, и мы быстро прошли в них. — Какие новости, господин, какие новости? — кричал стражник. — Инкубу рассеял войско Зорайи, как ветер тучу! — отвечал я, спеша вперед. Последнее усилие, мой верный конь, мой мужественный зулус! Держись, Денный луч, собери все силы, еще 15 минут! Старый зулус, крепись, беги! Еще немного, и вы будете увековечены в истории страны! Мы проскакали по спящим, затихшим улицам мимо храма! Еще миля, одна маленькая миля! Держитесь, соберите все силы! Дома бегут… Вперед, моя добрая лошадка, вперед, только 50 ярдов осталось нам! А! Ты почуяла конюшню и стремишься к ней! Слава Богу! Наконец, дворец! Первые лучи заиграли на золотом куполе храма. Что, если все кончено, и дорога закрыта? Снова произнес я пароль и закричал: «Откройте! Откройте!» Ответа не было. Сердце у меня упало! Снова я крикнул, и на этот раз мне отозвался голос, который я узнал. Это был голос Кара, одного из воинов личной охраны королевы, человека черного и верного. — Это ты. Кара? — крикнул я. — Я здесь, Макумацан! Прикажи страже опустить мост и открыть ворота! Скорее только, скорее! Прошло несколько минут, которые показались мне бесконечными. Наконец, мост опустили, и ворота открылись. Мы очутились во дворе, и бедная лошадь моя зашаталась и упала. Я кое-как освободился и оглянулся кругом. Кроме Кара, никого не было, да и он выглядел странно, вся его одежда была изорвана. Он сам открыл ворота, опустил мост, потом снова запер их; благодаря остроумно приспособленным рычагам и блокам, сделать это было нетрудно одному человеку! — Где же сторожа? — спросил я, заранее пугаясь его ответа. — Я не знаю, — ответил он, — часа два тому назад, когда я спал, меня схватили, связали, и только сейчас я освободился, разгрыз зубами веревку. Я боюсь, страшно боюсь, что нас выдали! Его слова придали мне энергии. Схватив его за руку, я пошел в сопровождении Умслопогаса, который брел позади, как пьяный, прямо через тронный зал, где было пусто и тихо, в комнаты королевы. Когда мы вошли в первую комнату — стражи не было, во второй — тоже никого! О, вероятно, все кончено! Мы опоздали! Тишина и безмолвие комнат производили подавляющее впечатление. Мы подошли к спальне Нилепты, шатаясь, с болью в сердце, опасаясь всего худшего, но заметили там свет. О, слава Богу, Белая королева жива и невредима! Вот она стоит в ночном платье, разбуженная нашим приходом, в глазах ее еще следы сна, лицо залито румянцем страха и стыда! — Кто там? — кричит она. — Что это значит? Макумацан, это ты? Что с тобой? Ты принес дурные вести… мой господин? О, говори же, мой господин не умер? Нет? — она зашаталась, ломая свои белые руки. — Я оставил Инкубу раненого, но бодрого! Он выступил со своим войском против Зорайи еще на закате солнца! Пусть сердце твое успокоится! Зорайя разбита, победа за тобой! — Я знала это! — вскричала она с торжеством. — Я знала, что он победит. Они называли его чужеземцем и качали головами, когда я поручала ему командование войсками. На закате солнца… говоришь ты, а теперь уже светает! Вероятно… — Набрось на себя плащ, Нилепта, — прервал я ее, и дай нам вина, потом позови прислужниц, если хочешь спасти свою жизнь! Не медли! Она сейчас же побежала к занавеси и крикнула своих служанок, поспешно надела сандалии, набросила плащ. В это время около дюжины полуодетых женщин вбежали в комнату. — Следуйте за нами и молчите! — сказал я им, пока они глядели на нас изумленными глазами. Мы вышли в первую переднюю. — Теперь, — сказал я, — дайте нам пить и есть. Мы умираем! Комната служила обыкновенно столовой для начальников стражи. Из шкапа сейчас же нам подали вина и холодного мяса. Мы с Умслопогасом поели и выпили вина, чувствуя, что жизнь возвращается к нам, и кровь быстро течет в жилах. — Слушай, Нилепта! — сказал я. — Можешь ли ты довериться вполне хотя бы двум из всех твоих прислужниц? — Конечно! — ответила она. — Тогда прикажи им пройти боковым входом в город и позвать горожан, которые преданы тебе. Пусть они придут сюда вооруженные и приведут с собой всех храбрых людей, чтобы защищать тебя и спасти от смерти. Не спрашивай, делай, что я говорю тебе, и не медли! Кара выпустит женщин из дворца! Нилепта выбрала двух женщин из толпы прислужниц и повторила им мои слова, дав им список тех людей, к которым они должны идти. — Идите скорее и тайком! Ради спасения вашей собственной жизни! — добавил я. Они ушли вместе с Кара, которому я велел вернуться к нам, когда он выпустит женщин. Затем мы с Умслопогасом пошли дальше, сопровождаемые королевой и ее свитой. На ходу мы доедали свою закуску, и я рассказал Нилепте все, что знал об угрожавшей ей опасности, как мы нашли Кара, как вся стража и слуги разбежались, и она была одна во дворце, со своими женщинами. Она сказала мне, что в городе разнесся слух, что наше войско уничтожено, и Зорайя с триумфом идет к Милозису. Поэтому все ее слуги и воины разбежались. Мы провели во дворце не более 6–7 минут. Несмотря на то, что купол храма был озарен лучами восходящего солнца, так как находился на огромной высоте, рассвет едва начинался. Мы вышли во двор, — и здесь рана моя так разболелась, что я должен был опереться на руку Нилепты. Умслопогас следовал за нами, не переставая жевать. Пройдя двор, мы достигли узкой двери во дворцовой стене, которая вела на великолепную дворцовую лестницу. Я взглянул и остолбенел. Двери не было, так же, как и бронзовых ворот. Они были сняты с петель, как мы узнали потом, и брошены с лестницы на землю. Перед нами находилось полукруглое пространство и 10 черных мраморных ступеней, которые вели на лестницу.Глава 22
УМСЛОПОГАС ЗАЩИЩАЕТ ЛЕСТНИЦУ
Мы переглянулись. — Ты видишь, — сказал я, — они сняли ворота и дверь. Чем бы нам заделать дверь? Скажи скорее, потому что они скоро должны быть здесь! Я сказал это, зная, что мы должны защищать площадку, других дверей во дворце не было, так как комнаты отделялись занавесками. Я знал также, что, если мы сумеем защитить двор, то убийцам не попасть во дворец, который совершенно неприступен с тех пор, как потайная дверь, в которую вошла Зорайя в ту памятную ночь, когда хотела убить сестру, была заделана по приказанию Нилепты. — Найдем! — сказала Нилепта, к которой вернулась ее обычная бодрость и энергия. — На дальнем конце двора есть глыбы и обломки мрамора. Рабочие принесли его сюда для пьедестала к новой статуе Инкубу, моего господина. Завалим ими двор! — Я обрадовался этой мысли и послал одну из оставшихся девушек на большую лестницу посмотреть, не может ли на получить помощь с набережной, где находился дом ее отца, богатого торговца, другую поставил сторожить дверь. Затем мы пошли назад через двор к тому месту, где лежали глыбы мрамора. Навстречу нам попался Кара, проводивший женщин. В углу двора, действительно, лежали глыбы мрамора, обломки, куски в 6 дюймов толщиной и пара приспособленных носилок, на которых рабочие таскали мрамор. Не медля ни минуты, мы принялись за работу. Четыре женщины таскали мрамор к двери. — Слушай, Макумацан! — сказал Умслопогас. — Если эти негодяи придут, я буду защищать лестницу против них! Да, я знаю, это будет моя смерть. Не останавливай меня, старый друг, один давно умерший человек предсказал мне такую смерть! У меня был хороший день, пусть будет и хорошая ночь! Я пойду отдохну! Как только ты услышишь их шаги, разбуди меня! Мне нужна моя сила! Он отошел в сторону, бросился на мраморный пол и моментально заснул. Я совершенно ослабел и должен был сесть и наблюдать за ходом работ. Женщины носили мрамор, в то время, как Кара и Нилепта закладывали дверь. Надо было пройти 40 ярдов, чтобы взять мрамор и опять 40 ярдов, чтобы нести его к двери, и хотя женщины работали усердно, работа подвигалась очень медленно. Стало совсем светло. Вдруг, среди окружающей тишины, мы услыхали движение на лестнице и слабое бряцанье оружия. Стена была заложена только на 2 фута вышины, и работали мы над ней только 8 минут. Они пришли. Альфонс сказал правду. Звуки все приближались, и в прозрачном сумраке утра мы увидели длинный ряд людей, около 50 человек, медленно взбиравшихся по лестнице. Они остановились на полдороге у большой арки и, заметив, что кто-то помешал им, выждали три-четыре минуты, совещаясь между собой, потом медленно и осторожно двинулись вперед. Я разбудил Умслопогаса. Зулус встал, вытянулся и завертел топором вокруг своей головы. — Хорошо! — произнес он. — Я словно помолодел! Моя сила вернулась ко мне. Светильник вспыхивает сильнее перед тем, как погаснуть. Не бойся… Я буду хорошо драться. Вино и сон освежили меня и укрепили мое сердце! Макумацан! Я видел сон! Ты и я, мы оба стояли вместе, на звезде, и смотрели вниз на мир. Ты был, как дух, Макумацан, свет исходил от тебя, но своего лица я не видел. Последний час настал для нас с тобой, старый охотник! Пусть! Мы прожили свое время, но все же я никогда не видал такого сражения, как вчера. Вели похоронить меня по обычаю моего народа, Макумацан, пусть глаза мои смотрят туда, на мою родину! Он взял мою руку, крепко пожал ее и повернулся к врагам. Я очень удивился, заметив, что Кара вскарабкался на стену и встал рядом с зулусом, подняв свой меч. — Ты пришел сюда? — засмеялся Умслопогас. — Добро пожаловать, смелое сердце! Муж должен умереть достойной смертью! О, смерть схватит нас при звоне стали! Мы готовы. Как орлы, мы наточили наши клювы, наши копья сверкают на солнце, мы жаждем боя! Кто первый явится приветствовать начальницу (Инкози-каас)? Кто хочет попробовать ее поцелуя, за которым идет смерть? Я, Дятел, Убийца, Легконогий! Я — Умслопогас, владелец топора, из народа Амазулусов, сын Македама, из царской крови Чеки, я — победитель непобедимого, я — человек с кольцом, я — волк-человек, я призываю вас, ожидаю вас! Идите! Пока он говорил или, вернее, пел свою дикую воинственную песнь, но лестнице шли вооруженные люди, среди которых я заметил Наста и великого жреца Эгона. Огромный детина, вооруженный тяжелым копьем, бросился на зулуса. Умслопогас ловко увернулся, и удар не попал в него. Зато Инкози-каас обрушился на голову нападающего, и труп его полетел вниз с лестницы. Падая, воин уронил щит из кожи бегемота, зулус поднял его и схватил. В следующий момент смелый Кара убил одного человека. Началась сцена, какой мне никогда не приходилось видеть. Лестница была полна осаждающими, топор летал туда и сюда, меч сверкал над головами. Раз, два, три, четыре… без конца! По ступенькам вниз катились мертвые и умирающие. Бой становился ожесточеннее, взор зулуса суровее, и рука — сильнее. Он испускал временами воинственный клич, и его ужасный топор рубил прямо, направо и налево. Он не думал, не размышлял, не имел времени на это, он увлекался зрелищем битвы. Каждый удар его сопровождался смертью, и трупы людей обагряли кровью великолепные мраморные ступени. Враги наскакивали на него с мечами и копьями, ранили его, но крайней мере, в двенадцати местах, кровь лилась из его ран, но щит защищал его голову и кольчуга — его грудь. Минуты проходили за минутами, и с помощью смелого Кара Умслопогас все еще держался на лестнице. Наконец, меч Кара сломался, он боролся с каким-то человеком, и оба покатились вниз. Разрубленный в куски, он умер, как герой! Умслопогас не взглянул, не обернулся. — Галаци! Ты со мной, мой брат, Галаци! — вскричал он, убивая врагов, одного, другого, третьего, пока они не скатывались вниз по залитым кровью ступеням и с ужасом смотрели на него, думая, что он не простой смертный человек. Мраморная стена выросла теперь в 4 фута вышины, и вместе с ней выросла надежда в моем сердце. Кое-как, стиснув зубы от боли, я поднялся и наблюдал за битвой. Я не мог принять в ней участия, потому что потерял револьвер. Старый Умслопогас, весь израненный, стоял, опираясь на свой топор, и смеялся над врагами, называя их «женщинами», старый воин, боровшийся один против многих! Никто не решался подступиться к нему, несмотря на увещевания Насты, пока, наконец, старый Эгон, действительно храбрый человек, побуждаемый яростью, видя, что стена скоро будет готова, и все планы его рушатся, бросился с копьем в руке на Умслопогаса. — Ага! — вскричал зулус, узнав великого жреца. — Это ты, старый колдун? Иди, иди! Я жду тебя, белобородый волшебник! Иди скорее сюда! Я поклялся убить тебя и сдержу свою клятву! Эгон с такой силой ударил зулуса своим тяжелым копьем, что оно проткнуло насквозь щит и воткнулось в шею Умслопогаса. Зулус бросил негодный щит, и прежде чем Эгон собрался ударить его еще раз, он, с криком: «вот тебе, колдун!» схватил топор обеими руками и с силой ударил им по голове жреца. Эгон покатился с лестницы через трупы убитых. Он окончил свою жизнь, а с нею и все свои злодеяния! Когда он упал, страшный крик раздался у подножия лестницы. Мы увидели вооруженных людей, которые побежали прочь, думая только о своем спасении. С ними побежали и жрецы. Но бежать было некуда, они толкались и резали друг друга. Только один человек остался у лестницы. Это был Наста, душа всего заговора. Секунду чернобородый Наста стоял, склонив лицо, опираясь на свой длинный меч, потом со страшным криком бросился на зулуса и нанес ему такой ужасный удар, что острый клинок проткнул кольчугу и воткнулся в бок Умслопогаса, на минуту совершенно ошеломив его. Снова подняв меч. Наста прыгнул вперед, надеясь прикончить врага, но он мало знал силу и ловкость дикаря. С яростным криком Умслопогас собрал все силы и вцепился в горло Насты, как делает раненый лев. Через минуту все было кончено. Я видел, как шатался зулус на ногах. Сделав над собой огромное усилие, он с торжествующим криком бросил Насту за перила моста, где тот вдребезги разбился о скалу. Между тем явилась помощь. Громкие крики, раздававшиеся за наружными воротами, сказали нам, что город проснулся, и люди, разбуженные женщинами, прибежали защищать королеву. Некоторые из смелых прислужниц Нилепты, в своей ночной одежде, с распушенными волосами, так усердно работали, закладывая двери, что она была почти готова, другие, с помощью прибывших горожан, сталкивали вниз и уносили ненужный мрамор. Скоро, через боковой вход, в сопровождении толпы, вошел, шатаясь, Умслопогас, с ужасным, но победоносным видом. Один взгляд на него сказал мне, что он близок к смерти. Все лицо его и шея были в крови, левая рука тяжело ранена, и в правом боку зияла рана в 6 дюймов глубиной, сделанная мечом Насты. Он шел, шатаясь, страшный и великолепный в своем величии, и женщины начали громко кричать и приветствовать его. Зулус шел, не останавливаясь, с протянутыми руками, прямо через двор, через аркообразную дверь, откинул толстый занавес и вошел в тронный зал, наполненный вооруженными людьми. Он шел, оставляя за собой кровавый след на мраморном полу, пока не добрался до священного камня. Здесь сила покинула его, и он должен был опереться на свой топор. — Я умираю, умираю! — крикнул он громким голосом. — Но это был королевский удар! Где же те, что пришли по большой лестнице? Я не вижу их. Где ты, Макумацан, или ты ушел раньше меня и поджидаешь меня в царстве вечного мрака? Кровь застилает мне глаза, все вертится вокруг меня, я слышу голос… Галаци зовет меня![79] Вдруг новая мысль поразила его, он поднял свой окровавленный топор и поцеловал его. — Прощай, Инкози-каас! — кричал он. — Нет, нет, мы уйдем вместе, мы не можем расстаться. Мы слишком долго жили вместе. Ничья другая рука не возьмет тебя! Еще один удар, только один! Хороший, сильный удар! Зулус выпрямился во весь рост и с диким криком начал крутить топор вокруг своей головы. Потом вдруг с ужасающей силой он ударил им по священному камню. Сила нечеловеческого удара была так велика, что полетели искры,мраморный камень с треском раскололся на куски, и на пол упали обломки топора и его роговой рукоятки. Священный камень рассыпался в куски, и около него, сжимая в руке кусок топора, упал старый Умслопогас и умер. Это была смерть героя! Ропот удивления и восхищения послышался в толпе людей, которые были свидетелями необычайного зрелища. — Пророчество исполнилось! — крикнул кто-то. — Он расколол священный камень! — Да, — сказала Нилепта, с присущим ей самообладанием, — да, мой народ, он расколол священный камень, и пророчество исполнилось, так как чужеземный король правит Цу-венди. Инкубу, мой супруг, разбил войско Зорайи, и я не боюсь ее больше. Корона принадлежит тому, кто спас ее! Этот человек, — добавила она, повернувшись и положив руку на мое плечо, — приехал сюда, несмотря на то, что тяжело ранен, вместе со старым зулусом, который лежит там; они приехали за сотню миль, чтобы спасти меня от руки заговорщиков. За эти геройские поступки, за эти великие деяния, беспримерные в истории нашего народа, говорю вам, что имя Макумацан, имя усопшего Умслопогаса и имя Кара, моего слуги, который помогал защищать лестницу, будут вечно предметом поклонения и почитания нашей страны! Я, королева, говорю это! Эта горячая, прочувствованная речь была встречена громкими криками. Я сказал, что мы только исполнили свой долг и вовсе не заслужили такого восторга. Народ стал кричать еще громче. Потом меня понесли через наружный двор в мое прежнее помещение, чтобы уложить в постель. Когда меня несли, я увидал мою верную лошадь «Денной луч», которая беспомощно лежала, и ее белая голова распростерлась на земле. Я велел тем, которые несли меня, подойти к ней, чтобы я мог взглянуть на доброе животное. К моему удивлению, лошадь открыла глаза и, подняв голову, слабо заржала. Я готов был вскрикнуть от радости, видя, что она жива, но был не в силах пошевелиться. Сейчас же прислали конюхов, подняли лошадь, влили ей вина в горло, и к ночи она совсем оправилась, была сильна и свежа, как всегда! Милозис гордился этим животным. Горожане указывали своим детям на лошадь, которая «спасла жизнь Белой Королевы». Меня уложили в постель, обмыли мою рану и сняли с меня кольчугу. Я сильно страдал, потому что в груди и в левом боку у меня была рана величиной в чайное блюдечко. Я помню, что услыхал топот лошадей за дворцовой стеной. Это было много времени спустя. Я поднялся и спросил о новостях. Мне сказали, что Куртис послал отряд кавалерии на помощь королеве, и что он уехал с поля битвы через два часа после заката солнца. Войско Зорайи отступило в М’Арступу, преследуемое кавалерией. Сэр Генри расположился лагерем с остатками своего войска на том холме, где в прошлую ночь стояла Зорайя (такова фортуна войны!), и предполагал утром двинуться на М’Арступу. Услыхав это, я почувствовал, что могу умереть с легким сердцем, и впал в забытье. Когда я снова очнулся, первое, что мне бросилось в глаза, было симпатичное стеклышко в глазу Гуда. — Ну, как вы себя чувствуете, старый друг? — спросил меня ласковый голос Гуда. — Что вы делаете здесь? — удивился я. — Вы должны быть в М’Арступа. Разве вы убежали оттуда? — М’Арступа взята на прошлой неделе, — ответил он весело, — Вы были без памяти с той ночи. Были всякие военные почести… Трубы звучали, флаги развевались повсюду… Но каково той, Зорайе? Скажу вам, никогда ничего подобного я не видел в своей жизни! — А Зорайя? — спросил я. — Зорайя… о, Зорайя в плену! Они покинули ее, мошенники, — добавил он, меняя тон, — пожертвовали королевой, чтобы спасти свою шкуру. Зорайю принесли сюда, и я не знаю, что случилось с ней! Бедная душа! Он тяжело вздохнул. — Где Куртис? — спросил я. — С Нилептой. Она встретила нас сегодня, и какое это было свидание, скажу вам! Куртис придет повидать вас завтра. Доктора думают, что ему надо поберечься! Я ничего не сказал, хотя подумал про себя, что, несмотря на запрещение докторов, он мог бы повидаться со мной. Конечно, если человек недавно женился и выиграл победу, он должен слушаться совета докторов! Петом я услыхал знакомый голос, который осведомлялся у меня: может ли господин теперь лечь в постель сам? — и увидал огромные черные усы Альфонса. — Вы здесь? — спросил я. — Да, сударь, война кончилась, мои воинственные инстинкты удовлетворены, и я вернулся, чтобы стряпать для вас! Я засмеялся, или, вернее, пытался засмеяться. Как ни плох был Альфонс в роли воина, — я боюсь, что он никогда не возвысился до героизма своего дедушки, — надо сказать правду, он был самой лучшей сиделкой, которую я знал. Бедный Альфонс! Надеюсь, он будет так же любовно вспоминать обо мне, как я думаю о нем! На другое утро я увидел Куртиса и Нилепту. Он рассказал мне все, что случилось с тех пор, как мы с Умслопогасом ускакали с поля битвы. Мне кажется, он вел войну отлично и выказал недюжинные способности командира. В общем, хотя потеря наша была очень велика — страшно даже подумать, сколько людей погибло в бою, — я знаю, что население страны не порицало нашей войны. Куртис был очень рад видеть меня и со слезами на глазах благодарил за то малое, что я мог сделать для королевы. Я видел, что он был поражен, когда увидал мое лицо. Что касается Нилепты, она положительно сияла теперь, когда ее дорогой супруг вернулся к ней совсем здоровым, с небольшой царапиной на голове. Я уверен, что вся эта убийственная война, все эти погибшие люди почти не уменьшали ее радости, ее счастья, и не могу порицать ее за это, понимая, что такова натура любящей женщины, которая смотрит на все сквозь призму своей любви и забывает о несчастьи других, если любимый человек жив и невредим, — Что вы будете делать с Зорайей? — спросил я. Светлое лицо Нилепты омрачилось. — Зорайя! — произнесла она, топнув ногой. — Опять Зорайя! Сэр Генри поспешил переменить разговор. — Скоро вы поправитесь и будете совсем здоровы, старый друг! — сказал мне Куртис. Я покачал головой и засмеялся. — Не обманывайте себя! — сказал я. — Я могу немного оправиться, но никогда не буду здоров. Я — умирающий человек, Куртис! Может быть, я буду умирать медленно, но верно. Знаете ли вы, что у меня уже началось кровохарканье? Что-то скверное случилось с моими легкими! Я чувствую это. Не огорчайтесь так! Жизнь прожита, пора уходить! Дайте мне, пожалуйста, зеркало, я хочу посмотреть на себя! Куртис извинился, отказываясь дать мне зеркало, но я настоял на своем. Наконец, он подал мне диск из полированного серебра в деревянной рамке, который заменял здесь зеркало. Я взглянул на себя и отложил зеркало в сторону. — Я так и думал! — произнес я. — А вы говорите, что я буду здоров! Я не хотел показать им, как поразило меня мое собственное лицо. Мои седые волосы стали снежно-белыми, а лицо было изрыто морщинами, как у старухи, и глубокие красные круги залегли под впалыми глазами. Нилепта заплакала, а сэр Генри опять переменил разговор. Он сказал мне, что художник взял слепок с мертвого тела старого Умслопогаса и с него будет вылеплена черная мраморная статуя, изображающая его в тот момент, когда он разбивал священный камень. Вместо камня будет стоять белая статуя, которая изобразит меня и «Денной луч». Я видел потом эти статуи, законченные через 6 месяцев, они прекрасны, особенно статуя Умслопогаса, который удивительно похож. Что касается меня, художник идеализировал мою некрасивую физиономию, хотя статуя очень хороша. Целые столетия простоит эта статуя, и народ будет смотреть на нее, и я думаю, вовсе неинтересно смотреть на такое незначительное, жалкое лицо! Затем они рассказали мне, что последнее желание Умслопогаса было, чтобы его похоронили, а не сожгли, согласно местному обычаю, как сожгут меня после смерти. Желание его исполнено. Зулус похоронен по обычаю своей родины, в сидячем положении, с коленами под подбородком, завернутый в толстый золотой лист, и зарыт во впадине стены на верхушке лестницы, которую он защищал, с лицом, обращенным в сторону своей родины. Так сидит он там и будет сидеть всегда, потому что труп его набальзамирован и помещен в узкий каменный гроб, куда нет доступа воздуха. Народ говорит, что ночью дух старого зулуса выходит из гроба и угрожает призрачным топором призрачным врагам! Разумеется, ночью никто не решается проходить мимо того места, где похоронен герой! Между тем, непостижимым путем в народе уже возникла новая легенда или пророчество. Эта легенда гласит, что пока старый зулус будет сидеть там и смотреть на лестницу, которую он один геройски защищал против полсотни человек, до тех пор будет существовать и процветать новая династия, которая произойдет от брака англичанина с королевой Нилептой. Но когда, с годами, кости его рассыплются и обратятся в прах, тогда падет династия, падет лестница, и перестанет существовать народ Цу-венди!Глава 23
Я ВСЕ СКАЗАЛ
Прошла неделя. Я почувствовал себя несколько лучше в один теплый полдень. Ко мне вдруг явился вестник от сэра Генри и сказал, что Зорайю приведут в полдень в первую комнату королевы, и что Куртис просит меня присутствовать при этом. Мне хотелось взглянуть еще раз на несчастную королеву, и я отправился с помощью Альфонса — он был настоящее сокровище для меня в моем положении, — и другого слуги, в помещение королевы. Я пришел ранее других, хотя несколько официальных придворных лиц уже находились там, так как им приказано было явиться. Но едва я успел сесть, как сопровождаемая отрядом королевских телохранителей явилась Зорайя, такая же прекрасная и надменная, как всегда, но с выражением горечи на гордом и мрачном лице. Она была одета, по обыкновению, в королевскую кафу и держала в правой руке серебряное копье. Чувство восхищения и жалости охватило меня, когда я взглянул на нее. Я поднялся на ноги, низко поклонился ей, выразив сожаление, что не могу стоять перед ней сообразно моему положению. Она немного покраснела и горько засмеялась. — Ты забываешь, Макумацан, — сказала она, — я больше не королева, я — пленница, над которой всякий человек может смеяться! — Но ты женщина, — возразил я, — следовательно, тебе нужно выказать почтение, кроме того, ты находишься в тяжелом положении, значит, вдвойне заслуживаешь уважения! — Ты забыл, — ответила она с усмешкой, — что я хотела завернуть тебя в золотой лист и повесить на колонне храма! — Нет, — сказал я, — уверяю тебя, я не забыл этого. Я часто думал об этом, когда мне казалось, что битва проиграна нами. Но колонна на своем месте, а я остался здесь, хотя и ненадолго, зачем говорить об этом? — А, эта битва, битва! — продолжала она. — Я хотела бы снова быть королевой, хоть на один час, чтобы отомстить проклятым шакалам, которые бросили меня в нужде. Эти женщины, эти люди с птичьими сердцами допустили победить себя! Зорайя задыхалась в своем гневе. — А, этот маленький трус около тебя! — продолжала она, указывая серебряным копьем на Альфонса. — Он убежал и выдал мои планы. Я хотела сделать его начальником войска и показать солдатам, сказав, что это великий Бугван (Альфонс вздохнул и погрузился в невеселые размышления)! Всюду была неудача! Он спрятался под знаменем и раскрыл все мои планы. Я хотела бы убить его, но, увы! Не могу! — А ты, Макумацан, я слышала, что ты совершил! Ты — храбрый человек, у тебя честное сердце! И твой черный дикарь! Он был настоящий муж. Я желала бы взглянуть, как он боролся с Настой на лестнице! — Ты странная женщина, Зорайя! — сказал я, — Прошу тебя, вымоли прощенье у королевы Нилепты, быть может, она пощадит тебя! Она громко засмеялась. — Я буду просить пощады? — сказала она. — Никогда! В эту минуту вошла Нилепта в сопровождении Куртиса и Гуда, и села. Лицо ее было бесстрастно. Что касается Гуда, он выглядел совсем больным. — Приветствую тебя, Зорайя! — сказала Нилепта после молчания. — Ты навлекла горе и печаль на мое королевство, из-за тебя тысячи человек погибли в бою, ты дважды покушалась убить меня, ты поклялась убить моего господина и его спутников и сбросить меня с трона! Разве ты не заслуживаешь смерти? Говори, Зорайя! — Вероятно, королева, сестра моя, забыла главный пункт обвинения! — ответила Зорайя своим музыкальным голосом. — Он гласит следующее: ты пыталась отбить у меня любовь моего Инкубу! За это преступление сестра моя хочет убить меня; а не за то, что я начала войну! Счастье твое, Нилепта, что я слишком поздно обратила внимание на его любовь к тебе! Слушай, — продолжала она, возвысив голос, — мне нечего сказать вам, кроме того, что сказала бы я, если бы выиграла битву! Делай со мной что хочешь, королева, пусть Инкубу будет королем — потому что он — причина всего зла! Пусть это будет концом всей истории, — Зорайя выпрямилась, бросила гневный взгляд своих глубоких глаз на сэра Генри и начала играть своим копьем. Сэр Генри наклонился к Нилепте и шепнул ей что-то. — Зорайя! — заговорила Нилепта. — Я была всегда доброй сестрой для тебя! Когда наш отец умер, в стране возникли сомнения и толки о том, должна ли ты сесть на трон рядом со мной и быть королевой! Я — старшая сестра — подала голос за тебя. «Пусть Зорайя будет королевой так же, как и я. Мы — близнецы с ней, мы росли вместе от рождения, почему же предпочитать меня ей?» — говорила я. Мы всегда были вместе, сестра моя! Теперь ты знаешь, что виновна передо мной и твоя жизнь в опасности! Но я помню, что ты — моя сестра, что мы вместе играли детьми и любили друг друга, вместе спали, обняв друг друга, поэтому сердце мое рвется к тебе, Зорайя! Но оскорбление, которое ты мне нанесла, очень серьезно, я не пощадила бы твою жизнь. Пока ты будешь жить, в нашей стране не будет мира и тишины! Но ты не умрешь, Зорайя, потому что мой дорогой супруг просил у меня, как милость, пощадить твою жизнь! Я дарю ему твою жизнь, как мой свадебный подарок, пусть он делает с ней, что хочет. Я знаю, что ты любишь его, но он не любит тебя, Зорайя, несмотря на всю твою красоту! Хотя ты прекрасна как звездная ночь, о, Зорайя, но он любит меня, а не тебя, он — мой супруг, и я дарю ему твою жизнь! Зорайя сверкнула глазами и ничего не сказала. На Куртиса было жаль смотреть. Манера Нилепты и ее слова, хотя они дышали правдой и силой, вовсе не нравились мне. — Я понимаю, — пробормотал Куртис, смотря на Гуда, — я понимаю, что вы обе были привязаны друг к другу, ваши чувства естественны, но, во всяком случае, можно найти какой-либо исход из неприятного положения, покончив с этим! У Зорайи есть свои особые владения, где она может жить свободно, как ей захочется! Не правда ли, Нилепта? Впрочем, я могу только советовать! — Я хотел бы забыть все происшедшее, — добавил Гуд, сильно краснея, — и если Царица ночи считает меня достойным ее руки, я готов завтра же обвенчаться с ней, или когда ей угодно, и постараюсь быть для нее добрым мужем! Все взоры обратились на Зорайю, которая стояла неподвижно, с той загадочной улыбкой на прекрасном лице, которую я часто замечал и раньше. Она помолчала немного, потом трижды низко присела перед Нилептой, Куртисом и Гудом. — Благодарю тебя, прекраснейшая королева, моя царственная сестра, — заговорила она спокойным тоном, — за твою любовь ко мне с детских лет, а особенно за то, что ты отдаешь мою особу и мою судьбу в руки лорда Инкубу, который будет королем! Пусть счастье, мир и благоденствие распустятся чудными цветами на твоем жизненном пути, нежная, добросердечная королева! Царствуй долго, победоносная королева, и держи, обеими руками любовь твоего супруга. Пусть процветает твое потомство, сыновья и дочери твоей дивной красоты! Благодари тебя, лорд Инкубу, будущий король, тысячу раз благодарю тебя, что тебе угодно было принять в дар от королевы мою бедную жизнь и судьбу и передать ее твоему товарищу но оружию и приключениям, лорду Бугвану! Этот поступок достоин тебя, Инкубу! Наконец, благодарю тебя также, лорд Бугван, за то, что ты, в свою очередь, удостоил меня своим вниманием и не отказался от моей жалкой красоты! Благодарю тебя тысячу раз и добавляю, что ты — добрый и честный человек и клянусь, положа руку на сердце, что я сказала бы тебе «да», если бы могла! Теперь, когда я поблагодарила всех, — она улыбнулась, — я добавлю только несколько слов. Мало вы знаете меня, королева Нилепта, и вы, господа. Для меня нет середины! Я смеюсь над вашей жалостью и ненавижу вас! Я не нуждаюсь в вашем прощении — для меня это жало змеи! Я стою здесь перед вами, обманутая, покинутая, оскорбленная, и все же торжествую над вами, смеюсь и презираю вас всех! Вот вам мой ответ! Вдруг, прежде чем кто-нибудь мог догадаться о ее намерении, она подняла серебряное копье, которое держала в руке, и нанесла себе такой сильный удар в бок, что конец копья прошел насквозь, и упала на пол. Нилепта вскрикнула. Гуд почти лишился чувств, остальные бросились к Зорайе. Царица ночи подняла свою прекрасную голову и взглянула своими дивными глазами в лицо Куртиса, словно прощаясь с ним. Потом голова ее упала назад, раздался вздох, похожий на рыдание, и мрачная, но прекрасная душа Зорайи отлетела. Ее похоронили с царской пышностью, и все было покончено. Прошел месяц со времени трагической кончины Зорайи. В храме Солнца совершилась торжественная церемония, и Куртис был официально объявлен королем-супругом в стране Цу-венди. Я был болен и не пошел на церемонию. В самом деле, я ненавижу этого рода вещи, толпы народа, звуки труб, развевающиеся знамена. Гуд, присутствовавший на церемонии (в полной форме), вернулся и рассказал мне, что Нилепта выглядела очень красивой, а Куртис держал себя так, словно родился королем, и был встречен громкими приветственными криками, подтверждавшими его огромную популярность в стране. Потом, рассказывал он, когда в процессии вели королевскую лошадь «Денной луч», народ начал громко, до хрипоты кричать: Макумацан! Макумацан! Они кричали так, что он, Гуд, должен был встать во весь рост в экипаже и закричать им, что я болен и не могу участвовать в церемонии. Потом сэр Генри, или, вернее, король пришел навестить меня, выглядел очень утомленным и клялся, что никогда не скучал так в своей жизни. Но я думаю, что он несколько преувеличивал. Человеческой натуре несвойственно, чтобы человек соскучился в таких необыкновенных обстоятельствах. В самом деле, не удивительная ли вещь, что человек, который за год до этого времени приехал в страну никому неведомым пришельцем, теперь женился на прекраснейшей и любимой королеве и сделался королем всей страны! Я попытался прочитать ему наставление, чтобы он не возгордился и не увлекся блеском и силой своей власти, но помнил бы всегда, что был когда-то простым английским джентльменом и призван Провидением к великом и ответственной обязанности. Куртис был так любезен, что терпеливо выслушал мои увещевания и даже поблагодарил меня за них. Сейчас же после церемонии меня перенесли в домик, где я теперь пишу эти строки. Это прелестный уголок, в двух милях от Милозиса. Здесь, в продолжение 5 месяцев, не сходя с моего ложа, я употреблял свой досуг, составляя эти записки, историю наших странствований. Быть может, никто никогда не прочтет их, но это неважно. Во всяком случае, составление этих записок помогло мне коротать мое время, часы тяжелых страданий. Я очень страдал тогда. Слава Богу, скоро конец моим страданиям. Прошла неделя с тех пор, как я написал последние строки. Теперь я снова берусь за перо, в последний раз, потому что конец мой близок. Моя голова свежа, и я могу писать, хотя с трудом держу перо. За последнюю неделю болезнь легких усилилась, но теперь совершенно прекратилась, я чувствую полное онемение членов и не обманываю себя надеждами. Боль исчезла, а с ней исчез и страх смерти, и я чувствую и ощущаю близость вечного покоя и отдыха. Радостно, с тем же чувством покоя, с каким дитя лежит на груди матери, я готов упасть в объятия Ангела смерти! Всякая робость, все страхи, посещавшие меня при жизни, отлетели от меня, бури прошли, и Звезда вечной надежды, блестевшая передо мной на далеком горизонте, теперь приблизилась ко мне. Много раз был я близок к смерти, много товарищей умерли на моих глазах, теперь — моя очередь! Еще 24 часа, и мир будет далек от меня со всеми его страхами и надеждами. Меня не станет, и мир забудет обо мне! Так было и будет со всеми! Тысячи веков тому назад умирающие люди думали свои думы и были забыты! Пройдет еще тысяча веков, и потомки наши будут умирать и думать и будут также забыты в свою очередь. «Человеческая жизнь — дыхание быка зимой, звезда, блуждающая по небу, легкая тень, исчезающая с закатом солнца!» — так выразился однажды зулус в разговоре со мной. Нет, наш мир нехорош! Кто может не согласиться с этим, кроме тех, кто ослеплен собой? Как может быть хорош мир, в котором первостепенное значение имеют деньги, где путеводной звездой является эгоизм и себялюбие? Но теперь, когда моя жизнь кончена, я рад, что жил, что узнал нежное дыхание женской любви и верную дружбу, которая пережила любовь женщины, рад, что слышал звонкий смех детей, любовался на солнце, месяц и звезды, чувствовал соленое дыхание моря на своем лице и плавал по озаренной лучами месяца воде, охотясь за зверями. Но я не желал бы снова начать жизнь! Нет, нет! Во мне все изменилось. Свет исчезает из глаз, и темнота приближается. Мне чудятся сквозь этот мрак знакомые лица дорогих умерших… Там мой Гарри и другие, и лучшая, совершеннейшая женщина, которая когда-либо жила на земле. Зачем говорить о ней теперь? Зачем говорить о ней после долгого молчания, теперь, когда она так близка от меня; когда я иду туда, куда ушла она давным-давно. Заходящее солнце горит пламенем на золотом куполе храма. Пальцы мои устали. Всем, кто знал меня, или слышал обо мне, всем, кто захочет иногда вспомнить старого охотника, я протягиваю руку на прощанье и посылаю последнее прости! В руки Всемогущего Бога, Творца жизни и смерти, предаю дух мой! «Я все сказал!» Это было любимое выражение покойного зулуса.Глава 24
ДРУГОЙ РУКОЙ
Минул год со дня смерти нашего незабвенного друга Аллана Квотермейна, когда он написал последнюю главу своих записок, под названием «Я все сказал!» По странной случайности у нас явилась возможность переслать эти записки в Англию. Правда, эта возможность не обольщала нас надеждами, но мы с Гудом решили попытать счастья. В продолжение последних 6 месяцев пограничные комитеты усердно принялись за работу на рубеже страны Цу-венди с намерением отыскать во что бы то ни стало или проложить удобный путь сообщений в страну. Результатом работ было открытие соединительного канала, который приобщал страну ко всему остальному миру. Я уверен, что по этому самому каналу туземный путешественник добрался сюда и до миссии мистера Мекензи, хотя прибытие его за три года до нас в эту страну и изгнание из нее держится жрецами в строгой тайне! Пока производились исследования страны, на континент отправили посла с депешей. Мы вручили ему рукопись, два письма от Гуда к его друзьям и письмо от меня к моему брату Георгу. Мне больно думать, что я никогда не увижу его, и я уведомлял его, как ближайшего моего наследника в Англии, что он может владеть всеми моими родовыми поместьями, так как я не думаю никогда вернуться на родину. Мы не могли бы покинуть страну Цу-венди, если бы даже желали! Этим послом был Альфонс, дай Бог ему счастья в его жизни! Он до смерти соскучился здесь! — Да, да, здесь хорошо! — говорил он. — Но мне скучно, скучно! Он жаловался на отсутствие всяких кафе и театров и стонет о своей Анете. Но мне кажется, что весь секрет его отвращения к стране и тоски заключался в том, что народ ужасно смеялся над ним по поводу его поведения в битве, происходившей 18 месяцев тому назад, когда он спрятался под знаменем Зорайи, чтобы избежать сражения. Каждый мальчишка бегал за ним по улицам и насмехался, оскорбляя его гордость и делая жизнь невыносимой. Во всяком случае, Альфонс решился перенести все ужасы длинного путешествия, опасности, труды, даже готов был рискнуть встретить французскую полицию, чем оставаться в этой «печальной стране». Бедный Альфонс! Мы были очень огорчены разлукой с ним, но я искренне желаю ему благополучного прибытия на родину. Если он доберется благополучно и довезет с собой драгоценную рукопись, которую мы ему вручили вместе с солидной суммой золота, он будет там, у себя, богатым человеком и может жениться на своей Анете, если она жива и удостоит его согласием! Теперь пользуюсь случаем, чтобы сказать несколько слов о дорогом умершем Квотермейне. Он умер на рассвете следующего дня, дописав последние строки главы. Нилепта, Гуд и я были около него. Это была трогательная и прекрасная сцена. За час до наступления утра мы заметили, что он умирает, и наше горе было очень сильно. Гуд залился слезами, и эти слезы вызвали последнюю милую шутку из уст умирающего друга, потому что он мог шутить даже в последние минуты своей жизни. Гуд волновался, плакал, и стеклышко его постоянно выпадало со своего обычного места. Квотермейн заметил это. — Наконец-то, — пробормотал он, пытаясь улыбнуться, — я увидел Гуда без стеклышка в глазу! Потом он замолчал до утра и при первых лучах рассвета попросил поднять его, чтобы видеть восход солнца в последний раз. — Через несколько минут, — сказал он, — я должен буду пройти через его золотые ворота! Десять минут спустя он приподнялся и посмотрел на нас — Я отправляюсь в долгое путешествие, более страшное, чем то, которое мы совершили все вместе. Вспоминайте иногда обо мне! — пробормотал Квотермейн. — Бог да благословит вас! Я буду ожидать вас там! Он вздохнул, упал на подушки и умер! Так ушел от нас навсегда прекраснейший человек! Нежный, постоянный, обладавший большим запасом юмора и поэтическими наклонностями. Он был неоценим, как человек дела и гражданин. Я не знал никого, кто был бы так компетентен в суждении о людях и их поступках. — Всю мою жизнь я изучал человеческую натуру, — говорил часто Квотермейн, — и думаю, что знаю ее! Действительно, он знал людей. У него было два недостатка: его чрезмерная скромность и склонность к ревности в отношении людей, на которых он сосредоточивал свою привязанность. Читатели, вероятно, помнят, что он часто говорил о себе, как о боязливом, робком человеке; в сущности же, он обладал неустрашимой душой и никогда не терял головы. В сражении с войском Зорайи он получил серьезную рану, от которой и умер, но эта рана вовсе не была случайностью, как можно было подумать по его словам. Он был ранен, спасал жизнь Гуда, рискуя своей жизнью для другого человека. Гуд лежал на земле, и один из воинов Насты готов был убить его, но Квотермейн бросился защищать товарища и получил сильный удар в бок, хотя убил солдата. Относительно его ревности я могу легко оправдаться. В своих записках он несколько раз упоминает о том, что Нилепта совершенно завладела мной, и оба мы стали относиться к нему холоднее. Нилепта и теперь имеет недостатки, как всякая другая женщина, она бывает временами слишком требовательна, но, в общем, наше мнимое охлаждение к нему — это плод его фантазии. Он жалуется, что я не хотел прийти повидать его, когда он был болен, но доктора решительно запретили мне это. Когда я прочитал эти слова в его записках, они больно кольнули меня, потому что я глубоко любил Квотермейна, уважал его, как отца, и никогда не допустил бы мысли, чтобы мой брак с Нилептой мог отодвинуть на задний план мою привязанность к старому другу. Теперь все это прошло. Эти маленькие слабости делают еще дороже для меня незабвенный образ усопшего друга! Квотермейн умер. Гуд прочитал над ним похоронную службу, на которой присутствовали мы с Нилептой. Потом его останки, при торжественных криках народа, были преданы сожжению. Когда я шел в длинной и пышной процессии за телом моего друга, я думал про себя, что если бы Квотермейн видел всю эту церемонию, он был бы возмущен, потому что ненавидел тщеславие и роскошь. Но я не мог ничего поделать с этим! За несколько минут до заката солнца, на третью ночь после смерти, его принесли и положили на медный пол храма, перед алтарем. Когда последний луч заходящего солнца упал на его лицо и озарил бледное, благородное чело усопшего, зазвучали трубы, пол раздвинулся, и труп Квотермейна упал в огонь. Никогда мы не увидим его, если проживем еще сто лет. Он был даровитый человек, настоящий джентльмен, вернейший друг, искуснейший спортсмен и лучший стрелок во всей Африке! Так закончилась замечательная, полная приключений, жизнь охотника Аллана Квотермейна.* * *
Время шло. Наша жизнь шла хорошо. Гуд занялся устройством флота на озере Милозиса и на других окрестных озерах, и с помощью его мы надеемся увеличить торговлю и производство страны и покорить беспокойные и воинственные племена, обитающие по берегам озер. Бедный Гуд! Он начал немного забывать трагическую смерть несчастной красавицы-королевы Зорайи. Но это был тяжелый удар для него, потому что он серьезно привязался к ней! Надеюсь, что со временем он женится и выкинет совсем из головы свою несчастную любовь. Нилепта имеет ввиду двух молодых девушек, одна из них дочь Насты (он был вдовцом), красивая девушка, с царственным видом, но слишком похожая на своего отца и очень надменная. Что касается меня, я удовольствуюсь, сказав, что чувствую себя очень хорошо в моем курьезном положении короля-супруга, лучше даже, чем я мог ожидать! Но я нахожу, что ответственность очень тяжела. Все-таки я надеюсь сделать что-нибудь доброе и намереваюсь довести до конца два дела. Во-первых, объединить различные племена, составляющие народ Цу-венди, под одним центральным управлением и уничтожить власть жрецов. Первая реформа положит конец гражданским войнам, которые в течение целых столетий опустошали страну, вторая — устранит источник политической опасности и проложит путь новой, истинной религии. Я надеюсь увидеть крест Христов на золотом куполе храма. Если я не увижу этого, то увидят мои наследники! Еще об одной вещи я позабочусь. Я считаю необходимым воспретить доступ иностранцам в страну Цу-венди, и не потому, что я негостеприимен, а по моему твердому убеждению, что священный долг обязывает меня поберечь великодушный и сердечный народ от нашествия варваров. Что станется с моим храбрым войском, если какие-нибудь пришельцы вздумают стрелять в нас из револьверов и ружей? Я не желаю вводить здесь порох, телеграфное сообщение, паровые машины, газеты, потому что твердо уверен, что все эти нововведения несут с собой всякие бедствия и несчастья. Я не хочу наводнять прекрасную страну толпами спекулянтов, туристов, политиков, учителей, которые принесут с собой суету и ненависть остального мира, отдать ее на растерзание жадным аферистам, которые похожи на крабов — этих чудовищ подземной реки, терзающих труп прекрасного лебедя. Я не желаю развить в стране жадность, пьянство, новые болезни и общую деморализацию, все эти первые признаки цивилизации у неиспорченного народа. Если Провидению угодно будет присоединить страну Цу-венди к остальному миру — это другое дело, но я не хочу брать на себя ответственность, и Гуд вполне одобряет мое решение! Прощайте!Р.S. Я совершенно забыл сказать, что 9 месяцев тому назад Нилепта, которая, по-моему, еще больше похорошела, одарила меня сыном и наследником. Это — прелестный кудрявый мальчик, настоящий голубоглазый англичанин, и хотя он должен наследовать трон Цу-венди, я надеюсь сделать из него прежде всего настоящего джентльмена и честного человека, что, по моему мнению, выше и дороже, чем наследовать королевский престол, и составляет величайшее счастье, какое человек может обрести на земле. Г. К.Генри Куртис. Декабрь 15, 18…
Примечание Георга Куртиса, эсквайра. Мы считали умершим моего родного брата Генри Куртиса, как вдруг я получил рукопись, адресованную мне рукой моего брата. На конверте была почтовая марка Адена, и рукопись благополучно дошла до меня 20 декабря текущего года, через два года после ее посылки из Центральной Африки. Удивительную историю прочитал я в этих записках! Конечно, мне приятно было узнать, что Генри и Гуд благоденствуют на чужбине, но для меня и для своих друзей — они давно умерли, потому что мы потеряли всякую надежду увидеть их. Они порвали всякую связь со старой Англией, со своим домом, с родными, и, может быть, по-своему, правы и поступают мудро. Но я никак не могу понять, каким образом они переслали рукопись! Предполагаю, что маленький француз, Альфонс, благополучно совершил свое путешествие. Я наводил справки о нем в Марселе и в других местах, стараясь открыть его местопребывание, но безуспешно. Быть может, он умер, и пакет был послан мне кем-нибудь другим, или, может быть, он благополучно обвенчался со своей Анетой и, боясь полиции, предпочитает жить инкогнито. Я не знаю этого. Я долго надеялся разыскать его, но должен сознаться, что моя надежда слабеет с каждым днем. Большим препятствием является то, что в своих записках г. Квотермейн нигде не упоминает его прозвища. Он говорит об «Альфонсе», а в мире так много Альфонсов! Письма Гуда, которые мой брат Генри, по его словам, послал вместе с рукописью, не дошли по назначению. Я предполагаю, что они потеряны или уничтожены!
Георг Куртис
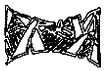
Книга III. ЖЕНА АЛЛАНА
Повесть рассказывает о молодых годах охотника Аллана Квотермейна. Путешествуя вместе с африканским колдуном Индаба-Зимби, с караваном буров-переселенцев, Аллан чудом остаётся в живых после битвы с зулусами и попадает на затерянное в дебрях жилище англичанина, живущего с юной дочерью Стеллой. С этого момента начинается история любви Аллана Квотермейна.
* * *
Артуру Г. Д. Кокрейну, эксвайру Дорогой Макумазан! Я дал ваше туземное прозвище моему Аллану, который стал мне теперь близким другом. Поэтому-то последние рассказы Аллана Квотермейна, повествующие о его жене и о приключениях, которые мне довелось пережить, я решил посвятить вам. Они напомнят вам многие истории, случившиеся в Африке. Та, например, что относится к бабуинам, произошла с вами, и як ней не причастен. Быть может, они напомнят вам и многое другое, воскресят в вашей душе померкшую романтику давно минувших дней. Страна, о которой рассказывает Аллан Квотермейн, теперь исследована и известна почти так же хорошо, как поля Норфолка. Там, где мы стреляли дичь, где бродили по дебрям и скакали во весь опор, теперь строятся города золотоискателей. Британский флаг на время перестал развеваться над равнинами Трансвааля; в велде перевелась дичь. Очарование туманного утра сменилось палящим зноем дня. Все стало другим. Камедные деревья, которые мы посадили в саду «Палэшл», теперь, верно, разрослись, а сам «Палэшл» больше не существует. Для нас с вами, как и для страны, которую мы любили, таинственность и надежды утра жизни ушли в прошлое. Солнце стоит в зените, путь порою становится утомительным. Немногие из тех, кого мы знали, уцелели, иные погибли в бою или стали жертвами убийц, и кости их белеют в велде. С другими смерть обошлась милостивее. Третьи исчезли неведомо куда. Страшно вернуться в эту страну, где на каждом шагу и меня и вас подстерегают призраки. И хотя сейчас наши дороги пролегли врозь, прошлое глядит на нас обоих неизменившимся взглядом. Мы оба можем припомнить сколько угодно мальчишеских затей и приключений, в которые бросались очертя голову, хотя сейчас они показались бы нам просто безумными. Мы помним привычный ровный строй Преторийского конного отряда, лицо войны, ее победы и поражения, утомительное ночное патрулирование; и мы слышим еще гром орудий, доносимый эхом с Холма позора[80]. В память о богатых приключениями годах молодости, которые мы провели вместе в африканских городах и велде, я и посвящаю эти страницы вам, подписываясь ныне, коки прежде: Ваш искренний друг ИндандаГлава 1
РАННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Читатель, может быть, не забыл, что на последних страницах дневника, написанного перед самой смертью, Аллан Квотермейн[81] упоминает о своей давно умершей жене и говорит, что подробно рассказал о ней в другом месте. Когда пришло известие о смерти Аллана, его бумаги передали мне как его литературному душеприказчику. Среди них я обнаружил две рукописи. Одну вы и прочтете сейчас. Вторая представляет собой изложение событий, к которым м-р Квотермейн не имел прямого отношения: это роман из жизни зулусов. Герой книги рассказывает Аллану о трагедии, происшедшей много лет назад. Впрочем, сейчас нам незачем об этом говорить. Я часто думал о том (так начинается рукопись м-ра Квотермейна), что надо доверить бумаге все, что связано с моей женитьбой и смертью моей обожаемой жены. Много лет прошло с того времени, и годы, конечно, смягчили боль утраты, хотя, видит Бог, она постоянно дает о себе знать, словно старая рана. Неоднократно я брался за перо, чтобы описать, как это было. В первый раз я отказался от своего намерения, ибо горе было еще слишком свежо. Во второй — потому что мне пришлось срочно уехать. Ну, а в третий раз слуга-кафр не нашел ничего лучшего, как разжечь исписанными страницами кухонную плиту. Теперь, когда я живу в Англии и времени у меня достаточно, я решил предпринять четвертую попытку. Если она удастся, рассказ мой, быть может, привлечет чье-нибудь внимание. Но это будет уже после моей смерти, потому что при жизни я не намерен его публиковать. Это достаточно странная история, способная навести на размышления. Я сын миссионера. Раньше мой отец был священником в небольшом приходе Оксфордшира! Он отправился туда через несколько лет после женитьбы на моей дорогой матушке. У них было четверо детей, из которых я младший. Смутно вспоминаю наш старый серый дом у дороги, вытянутый в длину. В саду росло большое дерево. В его стволе было огромное дупло, и мы в нем играли, отламывая куски коры. Мы спали в комнате под самой крышей, и каждый вечер мама поднималась по лестнице, чтобы поцеловать нас на ночь. Помню, я часто просыпался и видел ее, склонившуюся со свечой в руке над моим изголовьем. Из стены над моей кроватью торчала какая-то полка, и однажды я страшно испугался, потому что старший брат подсадил меня и оставил висеть на ней на руках. Вот и все, что я помню о нашем доме. Его снесли много лет назад. Не то я бы съездил поглядеть на него. Немного дальше, близ той же дороги, стоял большой дом с чугунными воротами. С их столбов взирали вниз два каменных льва; они были так безобразны, что наводили на меня страх. Быть может, чувство это было пророческим. Сквозь решетку ворот виднелся дом — мрачное строение, окруженное высокой тисовой изгородью. Летом на газоне вокруг солнечных часов пестрели цветы. Тут жил сквайр Керсон, здешний помещик, и потому дом называли усадьбой. Однажды на рождество — видимо, последнее, которое мой отец провел в Англии, иначе бы я его не запомнил, — мы, дети, отправились в усадьбу на праздник. Обстановка была торжественная, у дверей стояли лакеи в красных ливреях. В столовой, обшитой черным дубом, высилась рождественская елка. Перед нею стоял сам Керсон. Это был высокий брюнет со спокойными манерами, жилет его украшали брелоки. Нам он казался старым, на самом же деле ему было тогда не больше сорока. Как я потом узнал, в молодости он много путешествовал и лет шесть-семь назад женился на полуиспанке-папистке, как называл ее мой отец. Я хорошо помню эту очень красивую женщину, маленькую, довольно полную, с большими черными глазами и блестящими зубами. По-английски она говорила со странным акцентом. Я, вероятно, показался ей смешным, потому что тогда, как, впрочем, и сейчас, мои вихры стояли на голове торчком. У меня сохранился карандашный набросок, сделанный с меня матерью. На нем эта особенность запечатлена весьма четко. Помню, что, когда мы пришли в усадьбу на елку, миссис Керсон повернулась к стоявшему рядом высокому мужчине, похожему на иностранца, и нежно коснувшись его плеча золотым лорнетом, сказала: — Посмотрите, кузен, на этого смешного мальчугана с большими карими глазами; его волосы похожи на… как это называется… жесткую щетку. О, какой забавный малыш! Высокий мужчина потрогал свои усы и, взяв руку миссис Керсон в свою, стал приглаживать ею мои волосы, пока она не прошептала: — Оставьте мою руку, кузен. Томас стал похож на… на грозу. Томасом звали м-ра Керсона, ее мужа. Я поспешил спрятаться за стулом, потому что был ужасно застенчив, и следил оттуда, как Стелла Керсон, единственная дочь помещика, раздавала детям подарки с елки. Она была одета Дедом Морозом, ее шейку укутывал воротник из какой-то мягкой ткани. На хорошеньком личике сияли большие черные глаза, которые показались мне прекрасными. Наконец пришел мой черед получать подарок. Это была большая игрушечная обезьяна. Если взглянуть далеко вперед, на события грядущих лет, подарок оказался знаменательным. Стелла сняла обезьяну с нижней ветки елки и подала мне со словами: — Это мой рождественский подарок тебе, маленький Аллан Квотермейн. В этот момент рукав ее ватной шубки, покрытой блестками, коснулся свечи и загорелся. Пламя метнулось по рукаву вверх к горлу. Девочка словно застыла, очевидно, парализованная страхом. Женщины вокруг принялись вопить, но ни одна не сдвинулась с места. Тут меня будто что-то толкнуло. Я был еще совсем ребенок и действовал, повинуясь какому-то инстинкту. Я кинулся к девочке и стал руками сбивать пламя. Мне удалось потушить огонь, прежде чем он набрал силу. Кисти мои покрылись пузырями, и я долго ходил с забинтованными руками, но маленькая Стелла Керсон почти не пострадала, если не считать небольшого ожога на шее. Вот все, что я помню о рождественской елке в усадьбе. Не знаю, чем кончился праздник, но я и поныне иногда вижу во сне прелестное личико маленькой девочки и выражение ужаса в черных глазах в тот миг, когда пламя устремилось вверх по ее руке. Это, впрочем, и не удивительно, ибо я, можно сказать, спас жизнь той, которой суждено было стать моей женой. Следующее событие, которое я хорошо запомнил, — это тяжелая болезнь моей матери и трех братьев. Потом я узнал, что они отравились водой из нашего колодца, куда какой-то негодяй бросил дохлую овцу. Вероятно, именно тогдак нам в пасторский домик пришел помещик Керсон. Погода стояла еще холодная, в кабинете отца горел камин. Я сидел перед огнем и писал карандашом буквы на листке бумаги, а отец вышагивал по комнате и говорил сам с собой. Впоследствии я понял, что он молился о сохранении жизни жены и детей. Тут в дверях показалась служанка и доложила, что его спрашивают. — Это сквайр, сэр, — сказала горничная. — Он говорит, что ему очень нужно повидать вас. — Хорошо, — ответил отец усталым голосом. Через минуту в кабинет вошел Керсон. Лицо его было бледным и взволнованным, а глаза смотрели так свирепо, что я испугался. — Простите, что я тревожу вас в такое время, Квотермейн, — сказал он хрипло, — но завтра я навсегда уезжаю отсюда, и мне нужно, даже необходимо поговорить с вами до отъезда. — Вы хотите, чтобы Аллан оставил нас вдвоем? — спросил отец, кивнув на меня. — Пускай остается. Он не поймет. В то время я действительно ничего не понял, но запомнил каждое слово и через несколько лет постиг смысл разговора. — Прежде всего скажите мне, как здоровье ваших, — начал гость, подняв к потолку палец. — Жена и двое мальчиков безнадежны, — со стоном ответил отец. — Не знаю, что ждет третьего. Да будет воля Божья! — Да будет воля Божья! — торжественно повторил помещик. — А теперь послушайте, Квотермейн. От меня ушла жена. — Ушла? — переспросил отец. — Но с кем? — С этим ее иностранным кузеном. Из письма, которое она оставила, ясно, что она всегда любила его. За меня она вышла замуж потому, что считала богатым английским милордом. Теперь она растратила мое состояние, во всяком случае — большую его часть, и ушла. Не знаю куда. К счастью, она не пожелала обременять свою жизнь ребенком. Стеллу она оставила мне. — Вот к чему приводит женитьба на папистке, Керсон, — сказал мой отец. Это было, конечно, бестактно. Мир не видел более доброго и отзывчивого человека, чем отец, но ему была свойственна известная ограниченность. — Что вы намерены делать — следовать за ней? Керсон горько рассмеялся в ответ. — Следовать за ней! — сказал он. — А зачем? Если бы я настиг ее, я мог бы убить его, или ее, или их обоих, ибо они навлекли позор на голову моего ребенка. Нет, я больше не хочу ее видеть. Я верил ей, говорю вам, а она меня обманула. Пусть идет навстречу своей собственной судьбе. Но я тоже ухожу. Мне надоела жизнь. — Что вы, Керсон, — сказал мой отец, — не хотите же вы сказать… — Нет, нет, не то. Смерть и так приходит слишком рано. Но я покину этот лживый цивилизованный мир. Я отправлюсь с моим ребенком в дикие дебри, где мы скроем свой позор. Куда? Я еще не знаю. Куда угодно, лишь бы не видеть белых лиц, не слышать гладких фраз людей, которые считают себя образованными. — Вы сошли с ума, Керсон! — возразил мой отец. — Как вы будете жить? Где станете учить Стеллу? Держитесь в горе настоящим мужчиной. — Я и буду мужчиной и переживу горе, но не здесь, Квотермейн. Учить дочь! А разве женщина, которая называлась моей женой, не получила прекрасного образования, не считалась самой умной в нашем графстве? Слишком умной для меня, Квотермейн, даже чересчур умной. Нет, нет, Стелла будет учиться в иной школе. Если это будет возможно, она забудет даже свое имя. Прощайте, старый друг, прощайте навсегда. Не пытайтесь разыскивать меня, с этого дня я все равно что умер для вас и для всех, кого я знал. — Безумец, — сказал ему вслед отец, тяжело вздохнув. — Беда лишила его рассудка. Но он еще передумает. В этот момент поспешно вошла сиделка и что-то прошептала отцу на ухо. Лицо отца покрылось мертвенной бледностью. Он схватился за стол, чтобы удержаться на ногах, затем, шатаясь, вышел из комнаты. Моя мать умирала. Через два или три дня, не помню точно, отец взял меня за руку и повел наверх в большую комнату, которая раньше была спальней матери. Она лежала в гробу, с цветами в руках. Вдоль стены комнаты были поставлены три белые кроватки, и на них лежали мои братья. Все они казались спящими, и у всех в руках были цветы. Отец велел мне поцеловать их, сказав, что больше я их никогда не увижу. Я повиновался, но испытывал ужас, сам не зная почему. Потом отец обнял меня и поцеловал. — Господь дал и Господь взял, — сказал он, — да будет благословенно имя Его. Я горько зарыдал, и он повел меня вниз. О том, что было потом, у меня остались лишь смутные воспоминания: люди, одетые в черное, несли тяжелые ноши к серому кладбищу. Затем передо мной встают видения большого судна и безбрежных, неспокойных вод. После потери, постигшей отца, он не мог больше оставаться в Англии и решил уехать в Южную Африку. В то время мы были бедны, — должно быть, после смерти матери отец лишился большей части нашего дохода[82]. Во всяком случае, мы ехали палубными пассажирами, и в моей памяти запечатлелись лишения, которые мы испытали в пути, и грубость ехавших с нами эмигрантов. Наконец плавание окончилось и мы достигли берегов Африки, в которой мне было суждено провести много-много лет. Успехи цивилизации в Южной Африке были еще невелики. Отец отправился в глубь страны и стал миссионером. Мы поселились поблизости от того места, где сейчас стоит город Крадок. Там я и вырос. По соседству жило несколько бурских семейств, а со временем вокруг нашей миссии вырос небольшой поселок белых. Пожалуй, наиболее интересным его жителем был вечно пьяный шотландец — кузнец и колесный мастер. В трезвом виде он мог без конца читать наизусть стихи шотландского поэта Бернса и декламировать страницу за страницей только что опубликованные «Легенды Инголдсби» [83]. Он пристрастил меня к этому забавному произведению, любовь к которому я сохранил навсегда. Берне мне никогда так не нравился, вероятно, потому, что мне не по душе шотландский диалект. Свой небольшой запас знаний я получил от отца. Особой склонности к чтению я не испытывал, да и у отца не было времени учить меня по книгам. Зато я внимательно наблюдал обычаи людей и природу. К двадцати годам я свободно говорил по-голландски и на трех-четырех кафрских диалектах. Вряд ли кто-нибудь в Южной Африке лучше меня разбирался в мыслях и поступках туземцев. Кроме того, я отлично стрелял и ездил верхом. Наверное, — и жизнь это потом доказала — я был очень крепкий парень, крепче большинства людей. Хотя я был невелик ростом и мало весил, ничто, казалось, не могло меня утомить. Я легко переносил любые тяготы и лишения и был куда выносливее любого туземца. Разумеется, теперь все изменилось, я говорю о своей молодости. Вы можете удивиться, как это я не одичал окончательно в подобных условиях. Меня спасло общество отца. Он был одним из самых милых и утонченных людей, каких мне доводилось встречать. Себя он считал неудачником. Побольше бы таких неудачников! Каждый вечер после рабочего дня он брал молитвенник и, сидя на небольшой веранде нашего дома, читал вечерние псалмы. Иногда он читал и в сумерках, ему это не мешало, ибо он знал псалмы наизусть. Потом он откладывал молитвенник и устремлял взгляд вдаль — туда, где за обработанными полями стояли хижины обращенных в христианство кафров. Но я знал, что он видит не эти хижины, а серую церковь в Англии и могилы под тисом, что рос у входа на кладбище. На этой веранде отец и умер. Однажды вечером ему нездоровилось, но мы сидели и разговаривали. Все мысли его были обращены к Оксфордширу и моей матери. Он вспоминал ее, говорил, что за все эти годы не было дня, когда бы он не думал о ней, что он счастлив, чувствуя, что скоро будет в той обители, куда она ушла. Потом он вдруг спросил, помню ли я тот вечер, когда сквайр Керсон пришел к нам и рассказал, что его покинула жена и что сам он решил переменить имя и скрыться в какой-нибудь далекой стране. Я ответил, что отлично помню. — Интересно, куда он направился, — сказал отец, — и живы ли они оба — он и его дочь Стелла. Да, да! Я-то уж никогда их не встречу. Но жизнь — странная штука, Аллан, и ты, может быть, свидишься с ними. Если так, передай им мой самый теплый привет. Потом я оставил его одного. В последнее время нам наносили большой ущерб воры, кравшие по ночам овец. В эту ночь я решил стеречь крааль[84], чтобы изловить воров. И я раньше неоднократно это делал — впрочем, совершенно безуспешно. Именно из-за моей привычки к ночным бдениям туземцы прозвали меня Макумазан. Итак, я прихватил винтовку и собрался идти. Но отец подозвал меня и поцеловал в лоб со словами: «Благослови тебя Бог, Аллан! Будешь иногда вспоминать своего старого отца?! Надеюсь, ты проживешь хорошую и счастливую жизнь». Меня немного встревожило его поведение, но я объяснил его подавленным настроением, в которое отец с годами впадал все чаще. Я спустился к краалю и бодрствовал всю ночь. До рассвета оставался всего час, а воры так и не появились. Я решил вернуться. Еще издали я с удивлением увидел, что в кресле отца на веранде кто-то сидит. Сначала я подумал, что туда забрался пьяный кафр, но потом разглядел, что это спит мой отец. И он действительно заснул — навеки. Я нашел его мертвым!Глава 2
ОГНЕННЫЙ ПОЕДИНОК
Похоронив отца, я дождался, пока прибыл его преемник, поскольку пост принадлежал Обществу[85], и решил наконец осуществить давно задуманный план. До сих пор я не мог его выполнить из-за того, что не хотел расставаться с отцом. Коротко говоря, план состоял в том, чтобы организовать торговую и одновременно исследовательскую экспедицию в области, где ныне находятся Свободное государство[86] и Трансвааль, и проникнуть как можно дальше на север. Довольно рискованное предприятие: хотя бурские переселенцы тогда уже начали оседать на этих землях, огромные территории оставались практически совершенно неизученными. Но я был теперь одинок, никого не интересовало, что станет со мной. Я решился на это путешествие, движимый неодолимой страстью к приключениям, от которой не избавился и теперь, в старости, и которая, вероятно, станет причиной моей смерти. Собираясь в путь, я распродал все имущество, все пожитки, какие у нас были, и оставил себе только два лучших фургона с лучшими упряжками волов. На вырученные деньги я купил самые ходкие товары, оружие и боеприпасы. Мое вооружение вызвало бы веселый смех у любого современного путешественника, но я неплохо с ним поохотился. Начну с гладкоствольной капсюльной одностволки «рура». Она заряжалась щепоткой черного пороха грубого помола и выпаливала пулей весом в целых три унции. Из этого «рура» я убил много слонов, хотя отдача буквально отшвыривала меня назад, так что я пользовался им только в крайнем случае. Лучшим в моей коллекции оружия было, вероятно, двуствольное охотничье ружье двенадцатого калибра, к сожалению кремневое. Кроме того, я взял с собой несколько старых мушкетов с сошками, из которых с равными шансами можно было попасть или не попасть в цель с расстояния семидесяти ярдов. Я купил трех хороших лошадей, которые считались «просоленными», то есть невосприимчивыми к болезням. Меня сопровождали шестеро кафров. Среди них выделялся старик по имени Индаба-Зимби, что в переводе означает Железный Язык. Думаю, что он получил свое прозвище за резкий голос и неистощимое красноречие. В некотором смысле это был человек весьма значительный, в свое время пользовавшийся известностью как колдун соседнего племени. Пожалуй, стоит рассказать, при каких обстоятельствах Индаба-Зимби явился в миссию, тем более что он играет значительную роль в моем рассказе. Как-то года за два до смерти отца я бродил по окрестностям, разыскивая двух пропавших волов. После долгих и безрезультатных поисков мне пришло в голову отправиться к вождю кафров (не помню уж, как его звали), у которого было много волов. Его крааль находился примерно в пятидесяти милях от нашей миссии. Там я вскоре обнаружил свою пропажу. Вождь гостеприимно встретил меня, и на следующее утро, перед уходом, я пошел к нему, чтобы выразить на прощание свое почтение. К моему удивлению, он был окружен несколькими сотнями мужчин и женщин. Все они тревожно вглядывались в небо, где сгущались зловещие грозовые тучи. — Подожди, белый человек, — сказал вождь, — погляди, как колдуны, вызывающие дождь, станут бороться с молнией. В ответ на мои расспросы он рассказал, что положение главного кудесника уже несколько лет занимал человек по имени Индаба-Зимби, не принадлежавший к этому племени. Он родился в стране, называемой ныне Зулулендом. Однако в последнее время у него появился соперник в оккультных науках. Это был один из сыновей вождя, лет под тридцать. Индаба-Зимби возмутился, и между двумя колдунами возникла вражда. В результате один из них предложил сопернику пройти испытание молнией, и тот принял вызов. Условия испытания были такие: дождавшись очень сильной грозы, — обычная не годилась, — колдуны, вооруженные ассегаями, становились в пятидесяти шагах друг от друга в том месте, куда часто ударяет молния. Тут они и должны показать свои сверхъестественные способности, чтобы заклинаниями отвратить смерть от себя и направить молнию на соперника. Условия своеобразной дуэли были согласованы еще месяц назад, но за это время не случилось ни одной достаточно сильной грозы. Теперь же местные знатоки погоды считали, что приближающаяся гроза будет в самый раз. Я спросил, что произойдет, если молния не поразит ни одного колдуна. Мне ответили, что в таком случае придется дожидаться следующей грозы. Если же колдуны избегнут молнии и во второй раз, значит, они одинаково могущественны и в важных случаях племя будет советоваться с обоими. Я решил отложить уход и посмотреть небывалое зрелище. К полудню я начал сожалеть, что остался: хотя на западе небо все темнело и темнело, а неподвижный воздух был, казалось, насыщен грозой, буря все не разыгрывалась. Однако часам к четырем стало ясно, что теперь ждать недолго — до заката солнца, как сказал старый вождь. Вместе со всеми я направился к месту поединка. Крааль стоял на вершине холма, полого спускавшегося к реке, протекавшей в полумиле. На берегу и находился участок, который, как утверждали туземцы, «любила молния». Кудесники заняли там свои места, зрители же расселись на склоне холма, ярдах в двухстах от них. Как мне показалось, слишком близко: если молния упала бы, амфитеатр мог оказаться малоприятным местечком. Через некоторое время меня одолело любопытство, и я спросил вождя, нельзя ли мне осмотреть арену боя. Он сказал, что я могу это сделать, но только на свой риск. Я заверил его, что небесный огонь не поражает белых людей, спустился к кудесникам и увидел, что под ногами у них на поверхность земли выходят залежи железной руды, кое-где поросшие травой. Потому-то, конечно, земля здесь как бы притягивала молнии. Противники стояли спиной друг к другу на противоположных концах месторождения руды: Индаба-Зимби — лицом к востоку, второй — к западу. Перед каждым горел костерчик, сложенный из веток пахучего кустарника. Они разоделись, как подобало представителям их профессии: на них были змеиные кожи, рыбьи пузыри и Бог знает что еще. На шеях красовались ожерелья из зубов бабуина и косточек кисти руки человека. Сначала я отправился на западный конец, где стоял сын вождя. Он протянул ассегай к приближающейся грозовой туче, взволнованно заклиная ее: Ударь, молния, уничтожь Индаба-Зимби! Слушай меня, Демон бури, слизни Индаба-Зимби своим красным языком! Плюнь на него дождем своим! Преврати его в ничто, сделай жижей мозг костей его! Сотри его дыханием своим! Проткни его сердце и выжги там ложь! Покажи всем, кто истинный ловец колдунов[87]! Не опозорь меня на глазах у белого человека! Так этот красивый мужчина приговаривал или, вернее, пел, все время натирая свою широкую грудь какой-то грязной смесью из разных снадобий, или моути. Скоро пение колдуна наскучило мне, и я направился по железняку к Индаба-Зимби, сидевшему у своего костерчика. Он не пел, но действия его были куда более впечатляющими. Индаба-Зимби пристально глядел на восточную половину неба, совершенно еще свободную от туч, время от времени указывал туда пальцем, а затем поворачивался и направлял свой ассегай в сторону соперника. Я долго его разглядывал. Это был странный, как будто высохший человек, на вид лет пятидесяти с небольшим. Тонкие руки его казались крепкими, как железный трос. Нос у него был гораздо тоньше, чем у большинства людей его расы. Странная привычка почти при каждом слове по-птичьи наклонять голову набок и насмешливое выражение глаз придавали ему довольно комичный вид. Другой его особенностью была совершенно белая прядь, резко выделявшаяся в шапке черных волос. Я заговорил с ним. — Друг мой, Индаба-Зимби, — сказал я, — может, ты и хороший знахарь, но, несомненно, глупец. Какой смысл тыкать пальцем в голубое небо, когда твой противник опередил тебя и к нему приближается гроза. — Может, ты и умен, но не думай, что знаешь все, белый человек! — ответил старик дребезжащим голосом и зловеще осклабился. — Тебя, я слышал, называют Железным Языком, — продолжал я. — Пусти его в ход, не то Демон бури тебя не услышит. — Небесный огонь спускается по железу, — ответил он, — поэтому я придерживаю язык. Пускай проклинает, скоро я с ним покончу. А теперь гляди, белый человек! На восточной половине неба появилась туча. Небольшая, очень черная, она росла с необычайной быстротой. Я наблюдал такие явления и раньше, а потому не очень удивился. В Африке нередко две грозовые тучи идут с разных сторон навстречу друг другу. — Лучше уходи, Индаба-Зимби, — сказал я, указывая на запад. — Скоро придет большая гроза и живо пожрет твоего младенца. — Из младенцев иногда вырастают великаны, белый человек, — ответил Индаба-Зимби и погрозил пальцем. — Взгляни-ка теперь на мою тучу-младенца. Я взглянул. Грозовая туча на востоке протянулась от земли до зенита и походила на огромного мужчину. Вот голова, плечи, ноги… Она напоминала гиганта, шествующего по небосводу. Из-под нижнего края западной грозовой тучи выбивались лучи заходящего солнца и заливали ярким светом часть неба, остававшуюся свободной. Освещая тучу-великана, они окрашивали ее среднюю часть в цвета и оттенки, не поддающиеся описанию. Но ноги и голова великана оставались смоляно-черными. Вдруг в передней части тучи произошел как бы взрыв, ослепительная вспышка света увенчала голову гиганта короной из живого огня и исчезла. — Ага, — захихикал Индаба-Зимби, — мой мальчуган надевает головное кольцо мужчины, — и он постучал пальцем по кольцу из латекса на своей голове; туземцы получают право носить такие кольца, лишь достигнув определенного возраста и положения. — Ну, а теперь, белый человек, если только ты не больший кудесник, чем мы, тебе лучше убраться отсюда. Сейчас начнется огненный поединок. Совет показался мне разумным. — Желаю тебе удачи, черный дядюшка, — сказал я. — Надеюсь, в конце твоей понапрасну прожитой жизни грехи не окажутся слишком тяжким бременем. — Заботься о себе и думай о своих грехах, молодой человек, — ответил он с сардонической улыбкой и понюхал щепотку табаку. В тот же миг молния из тучи (я не видел, из какой именно) ударила в землю шагах в тридцати от нас. Я поспешил убраться подобру-поздорову. Удирая, я услышал, как Индаба-Зимби сухо рассмеялся. Я поднялся на холм, где сидел вождь в окружении своих индун, или старейшин, и уселся поблизости. Вглядевшись в его лицо, я заметил, что он очень тревожится за сына и, видно, не верит, что тот способен противостоять чарам Индаба-Зимби. Вождь что-то тихо говорил сидевшему рядом. Я сделал вид, что поглощен увлекательным зрелищем и не прислушиваюсь. Но в те дни у меня был чрезвычайно острый слух, и я уловил содержание разговора. — Слушай! — говорил вождь. — Если Индаба-Зимби возьмет верх над моим сыном, я не стану больше терпеть. Если ему удастся убить сына, знаю, он и меня убьет, чтобы самому стать вождем. Я боюсь Индаба-Зимби. О-о! — Кудесник может издохнуть, как пес, — ответил индуна, — а дохлые псы не кусаются. — Да, мертвые кудесники больше не колдуют, — согласился вождь и, наклонившись к самому уху индуны, что-то прошептал, не сводя глаз со своего ассегая. — Хорошо, отец мой, хорошо! — с готовностью ответил индуна. — Сегодня ночью. Если меня не опередит молния. «Плохо дело старины Индаба-Зимби, — подумал я. — Они собираются его убить». Но тотчас же отвлекся от этой мысли, настолько величественная картина развертывалась перед моими глазами. Грозовые тучи быстро сближались, между ними оставалась узкая полоска голубого неба. То и дело от тучи к туче перебегали вспышки ослепительного света. Я вспомнил языческого бога — Юпитера-громовержца. Туча, похожая на великана в короне из лучей заходящего солнца, могла сойти за Юпитера. Сверкавшие в ней молнии были под стать мифологическому метателю огненных стрел. Как ни странно, за молниями не следовали раскаты грома. Кругом была мертвая тишина: скот неподвижно стоял на склоне холма, туземцы испуганно молчали. Темные тени наползали на холмы, реку справа и слева от нас окутали клубы тумана, но перед нами она блистала серебряной лентой под становящейся все уже полоской голубого неба. Вспышки нестерпимо яркого света пронизывали западную тучу, а чернильно-черная голова облачного великана на востоке внезапно освещалась мертвенно-бледным сиянием, которое то усиливалось, то меркло, как бы пульсируя. Казалось, что сердце бури нагнетает в тучи огненную кровь. Молчание становилось все более зловещим, тени все чернели и чернели, и вдруг природа застонала под дыханием ледяного ветра. Проносясь порывами над рекой, он поднимал мелкую зыбь на ее ровной раньше поверхности. Высокая трава наклонялась до земли. К шуму ветра присоединились шипящие звуки ливня. Ага! Вот тучи и сошлись! Из обеих вырвались языки ужасающе яркого пламени, холм, на котором мы сидели, содрогнулся от раскатов грома. Потом небесный свет померк — и нас окутал мрак, но ненадолго. Вскоре все вокруг высветилось непрерывно чередующимися вспышками. При их свете можно было различить детали пейзажа за несколько миль от нас. А через миг даже людей, сидевших рядом со мной, поглотила тьма. Гром гремел и грохотал, словно труба, зовущая на страшный суд. То тут, то там высоко в воздух вздымались смерчи, крутившие пыль и даже камни. И все это сопровождалось шумом низвергающегося ливня. Я прикрыл глаза рукой, чтобы защититься от яростного света, и смотрел в ту сторону, где железняк выходил на поверхность. При вспышках молнии я видел прорицателей. Они медленно сходились, направив ассегаи друг на друга. Я различал каждое их движение, и мне казалось, что молнии, ударяясь в породу, окружили их огненным кольцом. Вдруг гром и молния разом прекратились, воцарились мрак и тишина, слышался лишь шум дождя. — Что ж, вождь! — крикнул я в темноту. — Поединок окончен! — Погоди, белый человек, погоди, — ответил вождь, и в голосе его звучали тревога и страх. Не успел он произнести эти слова, как небо охватило яркое пламя. Мы увидели обоих кудесников — их разделяло не более десяти шагов. Огромная молния ударила в землю между ними, и они зашатались. Индаба-Зимби первым пришел в себя, — во всяком случае, при свете следующей молнии он стоял уже совершенно прямо, направив ассегай на противника. Сын вождя тоже держался на ногах, но шатался, словно пьяный, и ассегай выпал у него из рук. Мрак! И снова вспышка, еще более ужасная (если это только возможно), чем все предшествующие. Мне показалось, что молния ударила с востока и пронеслась над головой Индаба-Зимби. В следующий миг она как бы заключила в себя сына вождя, он оказался в самой ее сердцевине. Затем оглушительно прогрохотал гром, на нас низверглись потоки дождя, и больше ничего не было видно. Буря постепенно ослабевала, но в беспросветном мраке никто не решался двинуться с места. К тому же, я не спешил покинуть безопасный склон холма, куда молния никогда не ударяла, и спуститься вниз. Иногда еще вспыхивали зарницы, но кудесников не было видно. Я не сомневался, что оба погибли. Тучи медленно уплывали в сторону низовий реки, дождь прекратился. В небе засверкали звезды. — Пойдем посмотрим, — сказал старый вождь, поднимаясь с земли и стряхивая воду с волос. — Огненный поединок закончен. Узнаем, кто победил. Я встал и пошел за ним. На мне не осталось сухой нитки, будто я проплыл сотню ярдов не раздеваясь. За мной следовали все жители крааля. Мы подошли к арене состязания. Даже при слабом свете звезд я различал места, где молния расщепила и оплавила железняк. Пока я осматривался по сторонам, справа от меня глухо застонал вождь, вокруг него столпился народ. Я приблизился. На земле лежал труп его сына. Страшное зрелище! Волосы на голове сгорели, медные браслеты, украшавшие руки, расплавились, древко ассегая, валявшееся поблизости, разлетелось в щепки. Я взял мертвого за руку, и мне показалось, что в ней раздроблены все кости. Мужчины, окружавшие вождя, стояли молча, женщины рыдали. — Индаба-Зимби — великий колдун, — сказал наконец один мужчина. Вождь повернулся и с размаху ударил его палицей. — Великий или нет, пес ты этакий, — вскричал вождь, — но он умрет! И ты тоже, если будешь его прославлять. Я промолчал, так как думал, что Индаба-Зимби постигла судьба его противника. Однако, осмотрев все кругом, я нигде не нашел и следа его. Наконец, продрогнув насквозь в мокрой одежде, я отправился к своему фургону, чтобы переодеться. Там я, к своему удивлению, увидел на облучке кафра, завернувшегося в одеяло. — Эй! Слезай отсюда! — сказал я. Человек медленно развернул одеяло и неторопливо заложил в нос понюшку табаку. — Недурной огненный поединок?! А, белый человек?! — произнес Индаба-Зимби своим громким дребезжащим голосом. — Только где ему было выстоять против меня. Бедный мальчик! Ничего он в этих делах не смыслил. Печально, очень печально, но я навлек на него молнию, не так ли? Видишь, белый человек, к чему приводит самонадеянность юности. — Старый обманщик, — сказал я. — Если не будешь осторожнее, скоро узнаешь, к чему приводит самонадеянность старости. Вождь разыскивает тебя, и понадобится все твое колдовство, чтобы отклонить удар его ассегая. — Неужели? — сказал Индаба-Зимби, поспешно слезая с облучка. — И все из-за этого несчастного самозванца! Вот что такое людская благодарность, белый человек! Я его вывел на чистую воду, а они хотят меня убить. Что ж, спасибо за предупреждение. Мы с тобой еще встретимся. И он исчез с быстротой пули. Как раз вовремя, потому что к фургону уже подходили люди вождя. На следующее утро я отправился домой. Первый, кого я увидел в миссии, был Индаба-Зимби. — Как поживаешь, Макумазан? — сказал он, наклонив голову набок и тряся своей белой прядью. — Слышал, вы тут все христиане, а я хочу испробовать новую веру. Моя старая, видно, никуда не годится, раз люди хотели убить меня за то, что я открыл обман.Глава 3
НА СЕВЕР
Я не извиняюсь ни перед собой, ни перед будущими читателями этого повествования за то, что рассказал о встрече с Индаба-Зимби. Во-первых, история эта любопытна сама по себе, а во-вторых, колдун сыграл немалую роль в последующих событиях. Если старик и был обманщиком, то очень ловким. Не буду говорить о том (хотя, может, и составил мнение на этот счет), действительно ли он обладал сверхъестественными способностями, как утверждал. Несомненно одно: он оказывал исключительное влияние на других туземцев. К тому же, ловкач сумел обвести вокруг пальца моего бедного отца. Сначала старый джентльмен отказался допустить его в миссию, поскольку терпеть не мог кафрских кудесников, этих ловцов колдунов. Но Индаба-Зимби убедил его, что хочет постичь истины христианства, и вызвал на дискуссию. Полемика продолжалась целых два года — до самой смерти отца. В конце каждого диспута Индаба-Зимби повторял белому проповеднику слова римского правителя: «Ты убедил меня стать христианином», но на деле так им и не стал. Думаю, у него такого намерения никогда и не было. Именно ему адресовал отец «Письма неверующему туземцу». Этот труд, к сожалению, так и оставшийся в рукописи, изобилует мудрыми изречениями и ссылками на ученые сочинения. Хорошо бы его опубликовать вместе с кратким изложением устных ответов неверующего. Спор не прекращался ни на день. Думаю, что если бы отец оставался в живых, он продолжался бы и поныне, поскольку у обоих полемистов был неистощимый запас аргументов. Индаба-Зимби получил тем временем разрешение жить у нас, в миссии. Отец поставил ему лишь одно условие — не заниматься колдовством, которое он причислял к козням дьявола. Зулус охотно дал обещание, но не было случая, чтобы заинтересованные лица не получали у него консультации, если, например, пропадал вол или кого-либо постигала внезапная смерть. После того как он уже прожил с нами год, к нему явилась депутация племени, которое он покинул. Они просили его вернуться. Со времени его ухода, говорили они, дела их пошли плохо, а его враг — старый вождь — недавно скончался. Старый Индаба-Зимби молча слушал, пальцами ног сгребая песок в кучку. Когда они кончили, он сказал, разбросав кучку: — Вот что произойдет с вашим племенем раньше, чем кончатся три месяца. Ничего от вас не останется. Вы прогнали меня. Но когда вас будут убивать, вспомните мои слова. Посланцы ушли. Месяца три спустя до меня дошла весть, что все племя уничтожено воинами пондо. Закончив наконец приготовления к экспедиции, я отправился попрощаться с Индаба-Зимби. К моему удивлению, он увязывал в одеяла свои зелья, ассегаи и другие пожитки. — До свидания, Индаба-Зимби, — сказал я. — Ухожу на север. — Да, Макумазан, — ответил он, склонив голову набок. — И я тоже. Хочу побывать в тех местах. Пойдем вместе. — Вот как! — сказал я. — Подожди, пока тебя пригласят, старый обманщик. — Тогда лучше пригласи меня, Макумазан, а не то ты никогда не вернешься назад. Теперь, когда старый вождь (это о моем отце) ушел туда, откуда приходят грозы, — он показал на небо, — я чувствую, что возвращаюсь к прежним привычкам. Вот, к примеру, прошлой ночью я бросил гадальные кости, чтобы разузнать кое-что о твоем путешествии. Могу заверить тебя: если не возьмешь меня, то погибнешь. А главное, самым удивительным образом потеряешь того, кто станет тебе дороже жизни. Два года назад ты предупредил меня об опасности, только потому я и решил отправиться с тобой. — Не болтай чушь, — сказал я. — Что ж, отлично, Макумазан, отлично! Но ты слышал, что сталось с моим племенем шесть месяцев назад? И что я предсказал это посланцам? Они прогнали меня — их нет больше. Если ты прогонишь меня, тебя тоже скоро не станет. — Он тряхнул своей белой прядью и улыбнулся. Я суеверен не больше, чем другие люди, но должен признаться: старый Индаба-Зимби произвел на меня довольно сильное впечатление. К тому же, я знал, каким необычайным авторитетом он пользуется среди туземцев, независимо от занимаемого ими положения, и решил, что хотя бы поэтому он сможет быть мне полезен. — Хорошо, — сказал я. — Назначаю тебя ловцом колдунов в экспедиции, но без жалованья. — Правильно, — кивнул он. — Сначала послужи, потом требуй платы. Рад за тебя: ты наделен воображением и не оказался поэтому безнадежным глупцом, как большинство белых людей, Макумазан. Да, да, именно недостаток воображения делает людей глупцами: они не верят в то, чего не понимают. Вы не можете постичь мои пророчества, совершенно так же как тот дурачок в краале не мог понять, что я превосхожу его в умении обращаться с молниями. Что ж, пора отправляться. Но будь я на твоем месте, Макумазан, я двинулся бы в путь с одним фургоном, а не с двумя. — Почему? — спросил я. — Потому что ты потеряешь свои фургоны. Так уж лучше потерять один, чем два. — Что за глупости! — сказал я. — Прекрасно, Макумазан, поживем — увидим. Не сказав больше ни слова, он направился к переднему фургону, положил в него свой тючок и уселся впереди. Я же тепло попрощался с моими белыми друзьями, включая старого шотландца, который по этому случаю напился и цитировал Бернса, пока слезы не закапали у него из глаз. После этого я наконец отправился в путь и медленно двинулся на север. В первые три недели не произошло ничего примечательного. Встречавшиеся нам кафры вели себя дружелюбно, дичи было великое множество. Никто из тех, кто живет ныне в этой части Южной Африки, не может даже представить себе, каким был велд всего тридцать лет назад. Часто на рассвете, дрожа от холода, я вылезал на козлы фургона и оглядывался вокруг. Сначала передо мной расстилался только белый туман, окрашенный на востоке трепетным золотистым свечением. Над этой завесой, словно гигантские маяки, возвышались вершины каменных холмов. В море тумана раздавались странные звуки — храп, ворчание, рев, топот бесчисленных копыт… Постепенно непроницаемая пелена становилась тоньше, таяла в воздухе, как дым из трубы. Миля за милей взору открывалась неровная местность, кое-где поросшая кустарником. Но она не была пустынной, как теперь. Повсюду, куда ни кинешь взгляд, стояли или переходили с места на место различные животные, земля казалась из-за них черной. Вот справа от меня стадо антилоп гну, насчитывающее не менее двух тысяч голов. Одни пасутся, другие резвятся, подкидывая в воздух белые хвосты. А на холмиках застыли старые самцы, подозрительно нюхая воздух. Впереди, по крайней мере в тысяче ярдов от меня — неопытному глазу из-за поразительной прозрачности воздуха расстояние показалось бы гораздо меньшим, — вереницей движется целое стадо горных козлов. Ага, они подошли к следам, оставленным нашим фургоном, и те им явно не понравились. Что теперь? Пойдут назад? Вот еще! От одной колеи до другой чуть ли не тридцать футов, но разве это препятствие для горных козлов? Вот первый взметнулся в воздух, словно мяч. Как красива его золотистая шкура, освещенная солнцем! Он делает прыжок, за ним следуют его многочисленные товарищи. Только сосунки, у которых еще не хватает сил прыгнуть так далеко, перебираются через сомнительный след, испуганно мыча. А это что за животные там, в лощинке у подножия холма, поднимающие головы выше верхушек мимозы? Клянусь святым Георгом, это жирафы. Их трое. Сегодня на ужин у нас будут мозговые кости. Чу! За нами задрожала земля, и через гребень высотки перемахнуло большое стадо антилоп бубалов. Похожие на бородатых козлов, они несутся галопом, низко опустив крупные головы. Так я и думал — их преследует стая диких собак. Дикие собаки бегут с громким лаем, шерсть взъерошена, языки высунуты. Вспугнутые жирафы мчатся прочь. Когда они огибают холм, они напоминают мне судно при сильной качке. Увы, мы все же останемся без мозговых костей. Взгляните! Передние дикие собаки приближаются к самцу-бубалу. Он долго скакал галопом и изрядно утомлен. Одна прыгает на него сбоку, но бубал успевает отскочить в сторону. Он издает нечто вроде стона, дико озирается и замечает фургон. Какое-то мгновение животное, видимо, колеблется, потом в отчаянии бросается к фургону и падает среди волов. Дикие собаки, тяжело дыша, останавливаются шагах в тридцати и злобно рычат. Бери ружье, мальчик, нет, не винтовку, а охотничье ружье, заряженное картечью. Бах! Бах! Итак, друзья мои, двое из вас никогда больше не будут охотиться за антилопами. А мы антилопу не тронем, она искала у нас убежища и найдет его. О! Как прекрасна природа, пока не приходит человек, чтобы испоганить ее! Такое я наблюдал сотни раз, и надеюсь увидеть еще раз до того, как настанет мой срок умереть. Первое настоящее приключение в этом путешествии связано со слонами. О нем стоит рассказать, так как завершилось оно самым любопытным образом. Недалеко от реки Оранжевой мы очутились в лесу, тянувшемся вдоль берега полосой шириной около двадцати миль. В лесу мы заночевали, выбрав восхитительную открытую лужайку. В нескольких ярдах от нас начинались заросли травы тамбоуки высотой в рост человека. Вернее, они были когда-то такой высоты, потому что теперь лишь кое-где виднелось несколько уцелевших стеблей, остальные же были вытоптаны. Мы разбили лагерь уже в сумерках, но когда поднялась луна, я отошел от костра, чтобы оглядеться. С одного взгляда я понял, что тут случилось: несколькими часами раньше по высокой траве проходило большое стадо слонов. Их следы меня очень обрадовали. Я неоднократно и раньше видел диких слонов, но ни разу мне не удавалось подстрелить хоть одного. Да и вообще для африканского охотника след слона то же, что для золотоискателя золотая крупинка в лотке. Он живет слоновой костью. Добыча ее — охотой ли она получена или путем обмена на товары — главная цель его жизни. Я быстро решил оставить пока фургоны в лесу, а сам преследовать слонов верхом на лошади. О своем намерении я сказал Индаба-Зимби и другим кафрам. Они не прочь были отправиться со мною. Кафры любят поохотиться. Это способ провести время и добыть много мяса. Индаба-Зимби вел себя таинственно. Он отошел в сторону, развел костерчик и приступил к таинственным манипуляциям с костями и глиной, в которую подмешал пепел. Остальные кафры с величайшим интересом следили за его действиями. Наконец он поднялся, подошел ко мне и сообщил, что все в порядке: я поступаю правильно, собираясь на охоту за слонами, и добуду много слоновой кости. Однако он посоветовал мне охотиться пешим. Я ответил, что слышать об этом не желаю, поскольку твердо решил ехать на лошади. С тех пор я стал умнее. То был первый и последний раз, когда я пытался охотиться верхом на слонов. Мы покинули лагерь на рассвете. Нас было пятеро: Индаба-Зимби, я и еще трое кафров. Остальных я оставил в лагере с фургонами. Я ехал верхом. По моему примеру сел на коня и погонщик волов — хороший наездник и неплохой для кафра стрелок. Индаба-Зимби и двое других шли пешком. С рассвета до полудня мы двигались по следам стада. Впрочем, след скорее напоминал проезжую дорогу. Затем мы расседлали коней, чтобы дать им отдохнуть и попастись, а около трех часов пополудни снова тронулись в путь. Прошло около часа, а слонов мы все не видели. Стадо, верно, двигалось быстро и успело уйти далеко. Я уже готов был отказаться от погони, как вдруг заметил вдали что-то коричневатое, движущееся через заросли колючего кустарника на склоне холма. Нас разделяло расстояние примерно в четверть мили. Мне показалось, что сердце мое сейчас выпрыгнет из груди. Покажите мне охотника, который не почувствовал бы того же при виде своего первого слона. Я велел спутникам остановиться. Ветер был встречным, и мы попытались перехватить слона. Сдерживая лошадь, я тихо съехал по склону холма к подножию, окруженному густым кустарником. Здесь только что паслись слоны — повсюду валялись сломанные сучья и вырванные с корнем деревья. Однако это скользнуло мимо моего сознания, все мои мысли были заняты слоном, которого я преследовал. Вдруг лошадь подо мной шарахнулась так, что я чуть не вылетел из седла. В то же мгновение передо мной что-то шумно поднялось с земли. Ярдах в четырех от себя я увидел зад другого слона. На мгновение стали видны и его огромные оттопыренные уши. Слон, чей сон я потревожил, бросился бежать. Разумнее всего, конечно, было оставить его в покое, но в те времена я был молод и глуп. Повинуясь мгновенному побуждению, я вскинул мое ружье для охоты на слонов и поверх головы лошади выпалил в великана. Отдача тяжелого ружья едва не сбросила меня с коня. Я тут же увидел, что животное сделало рывок вперед: пуля в три унции весом, попавшая в бок, способна дать здоровенный толчок даже слону. Я уже понимал, какой глупостью был мой выстрел, и надеялся только на то, что слон не обратит на меня внимания. Но гигант поступил иначе. Он замедлил бег, приседая к земле, потом повернулся и, издавая трубные звуки, с поднятыми ушами и хоботом ринулся на меня. Я был совершенно беззащитен, поскольку не успел перезарядить ружье, и решил спасаться бегством. Крепко сдавил я пятками бока коня, но конь не стронулся с места и на дюйм. Бедное животное было парализовано ужасом и стояло неподвижно, выставив передние ноги и дрожа как осиновый лист. Слон продолжал нестись на меня, и вид его был страшен. Я еще раз попытался образумить лошадь, но тут над моей головой взвился хобот огромного слона. Опасность подстегнула мысль. Со скоростью молнии я скатился с коня. Рядом лежало упавшее дерево в обхват, пожалуй, с туловище взрослого мужчины. Сломанные ветви, принявшие на себя тяжесть дерева при его падении, поддерживали ствол над землей. Одним движением, так быстро, как этого требовали обстоятельства, я бросился под дерево. И тут же услышал, как хобот слона с глухим стуком опустился на спину коня. Несчастное животное свалилось с переломанным хребтом поперек ствола, под которым я скрючился. В моем убежище сразу стало темно. Через каких-нибудь десять секунд слон обмотал хоботом шею своей жертвы и одним могучим рывком отбросил мертвую лошадь от дерева. Я отполз назад, как можно ближе к переплетенным корням. Мне уже было ясно, чего именно добивается слон. И верно — красный кончик хобота стал приближаться ко мне. Если б ему удалось обвить мою руку или ногу, мне пришел бы конец. Но я так вжался в корни, что слон не мог этого сделать, хотя встал на колени, чтобы удобнее было действовать хоботом, напоминавшим большую змею с разверстой пастью. И все-таки он умудрился сорвать с меня шляпу, вытащил ее и куда-то забросил. Потом яростно затрубил и снова принялся шарить под деревом. Мне показалось, что его и без того длинный хобот еще удлиняется. Вот он уже в четырех дюймах от моей головы. О Небо! Он схватил меня за волосы! К счастью, я был довольно коротко острижен. Но и это не помогло, еще миг — и он выдрал волосы с корнем, сорвав при этом четверть квадратного дюйма кожи с моего черепа. Теперь настала моя очередь кричать. Меня ощипывали заживо, как подчас ощипывают еще трепещущую птицу жестокие поварята. Однако слону этого было мало. Разочарованный незначительными успехами своих стараний, он изменил тактику: обмотал хоботом упавшее дерево и попытался приподнять его. Ствол немного сдвинулся с места, но, к моей великой радости, его удерживали сломанные ветви, застрявшие в болотистой почве, и часть корней, вырванных не до конца из земли. Перевернуть дерево слону не удалось, однако оно приподнялось настолько, что будь мой преследователь поумнее, он теперьлегко вытащил бы меня хоботом. Слон же, напрягаясь изо всех сил, упрямо продолжал поднимать дерево. Тут я понял, что в конце концов он его поднимет, и громко завопил, призывая на помощь. В ответ поблизости раздалось несколько выстрелов. Конечно, ни одна пуля не попала в слона, а если бы и попала, то только подстегнула бы его. Мне было ясно, что через несколько секунд я лишусь убежища и буду уничтожен. При мысли о неминуемой гибели я весь покрылся холодным потом. И вдруг я вспомнил: ведь у меня есть пистолет, которым я часто пользовался, чтобы прикончить раненую дичь. Он лежал в чехле, подвешенном к поясу, и был заряжен. К этому времени слон успел приподнять дерево настолько, что я легко дотянулся до пояса, вытащил пистолет и взвел курок. Между тем ствол поднимался все выше, и вот в каких-нибудь трех футах от моей головы я увидел огромный коричневый хобот. Приставив дуло пистолета чуть ли не к самому хоботу, я выстрелил. Ствол мгновенно свалился на землю, придавив мою ногу, и тут же послышался сильный треск и топот. Слон убежал. Страх, который я испытал, и неравное единоборство лишили меня последних сил. Не помню, как я выбрался из-под тяжелого дерева, не знаю, что было дальше. Очнулся я, почувствовав приятный вкус во рту. Оказалось, что я уже сижу на земле, потягивая персиковую водку из фляжки, а напротив меня расположился старый Индаба-Зимби. С мудрым видом он кивал своей белой прядью и предавался рассуждениям: если бы я послушался его совета и охотился на слона пешим, я не потерял бы коня и не очутился бы сам на волосок от гибели. Я встал и отправился посмотреть на лошадь. Удар хобота обрушился на седло, разломал его, сделав совершенно непригодным, и перебил хребет коню. Помедли я хоть секунду, тот же хобот обрушился бы на меня! Я позвал Индаба-Зимби и спросил, куда ушли слоны. — Туда! — сказал он, махнув рукой в сторону лощины. — Пойдем-ка за ними, Макумазан. До сих пор нам не везло, пусть же повезет теперь. В его словах имелось рациональное зерно, хотя, говоря по правде, в тот момент я отнюдь не горел желанием продолжать охоту на слонов. Мне казалось, что с меня уже хватит. Однако достоинство мое не позволяло поднимать белый флаг в присутствии слуг, и я с деланной готовностью согласился. Мы отправились в путь: я — верхом на второй лошади, остальные — пешком. Так мы двигались по долине около часа. И вдруг увидели все стадо, в котором можно было насчитать больше восьмидесяти голов. Впереди стада темнели заросли кустарника, такие густые, что слоны, видимо, не решались в них войти, а взобраться наверх они не могли — слишком круто обрывались в этом месте скалистые склоны долины. Слоны заметили нас в тот же миг, когда мы увидели их. Я испугался: а вдруг им вздумается повернуть назад по лощине и атаковать нас. Но они этого не сделали: громко трубя, слоны бросились в чащу, кустарник валился под их натиском, как кукуруза под ударами серпа. За всю свою жизнь я, наверное, не слышал такого шума и треска, какой производили слоны, продираясь сквозь кусты и деревья. За кустарником простиралась полоса частого леса шириной от ста до ста пятидесяти футов. Стадо крушило на своем пути все, что ни попадалось, оставляя за собой дорогу, заваленную вырванными деревьями и сломанными ветвями. Лишь кое-где среди этого хаоса уцелевало одинокое дерево, слишком прочное даже для слонов. Они ломились все вперед и вперед, и, несмотря на препятствия, которые им приходилось преодолевать, расстояние между нами не уменьшалось. Так продолжалось на протяжении мили или даже больше, потом лес поредел, и я увидел, что вся долина за ним на протяжении пяти-шести акров поросла камышом и травой; дальше снова начинался густой лес. У края этого травянистого участка стадо остановилось в нерешительности, — очевидно, слоны чего-то опасались. Мои люди закричали так громко, как могут кричать только кафры, и это решило дело. Во главе с раненым самцом, чей воинственный пыл, равно как и мой, видимо, поостыл, они развернулись и бросились в предательское болото. Потому что смутивший их участок местности представлял собой именно болото, хотя вода не проступала на поверхность. Первые несколько ярдов они преодолели без осложнений, впрочем, было видно, что двигаться им не так-то легко. Затем большой самец внезапно погряз в липкой торфянистой почве по самое брюхо и застрял в болоте. Он отчаянно трубил и барахтался, но остальные, не обращая на него внимания, обезумев от страха, лезли дальше, пока их не постигла та же участь. Пять минут спустя все стадо безнадежно увязло. Чем больше старались слоны выкарабкаться из трясины, тем глубже в нее погружались. Только одной слонихе удалось выбраться на твердое место; подняв хобот, она приготовилась атаковать нас, но тут услыхала крик своего слоненка, бросилась ему на помощь и увязла вместе со всеми. Я никогда не видел ничего подобного — ни раньше, ни позднее. Болото было покрыто огромными телами слонов, воздух заполнился криками ярости и ужаса, которые они издавали, размахивая хоботами. Время от времени ценой огромных усилий одному из чудовищ удавалось вытащить свое тело из трясины, но, сделав шаг, оно вновь застревало столь же прочно. У меня это зрелище вызывало глубокую жалость, но мои люди веселились от всего сердца. Ну так вот, дальше нам стало много легче. Болотистая почва, в которую провалились слоны, хорошо выдерживала наш вес. К тому времени взошла луна, и мы стреляли в слонов при лунном свете. К полуночи все они были мертвы. Я бы охотно пощадил слонят и некоторых слоних, но это значило бы только обречь их на голодную смерть; прикончить их сразу было великодушнее. Раненого самца я застрелил сам, и не стану утверждать, что испытывал при этом угрызения совести. Он узнал меня и предпринял отчаянные усилия, чтобы до меня добраться. Но, к счастью, торф не выпустил его из своих объятий. Когда взошло солнце, котловина представляла собой странную картину. Почва так цепко держала мертвых слонов, что лишь немногие упали на бок, остальные продолжали стоять, словно во сне. Я послал за фургонами. На следующий день они прибыли, и мы разбили лагерь примерно в миле от котловины. Затем мы принялись вырезать у слонов бивни. На это ушла целая неделя. Отвратительная работа! Мы, пожалуй, не справились бы с ней, если б нам не помогли бродячие бушмены, которым мы заплатили слоновьим мясом. Наконец и этот тяжелый труд был закончен. Слоновая кость слишком громоздка, чтобы нести ее на себе, поэтому, как только ушли наши помощники, бушмены, мы закопали бивни в землю. Мои ребята хотели, чтобы я вернулся в Капскую колонию и продал добычу, но я был полон решимости продолжать путешествие. Бивни пролежали в земле пять лет. И все же, когда я снова пришел к этому месту и вырыл их, оказалось, что они мало пострадали. Потом я продал слоновую кость за тысячу фунтов — неплохой заработок за один день стрельбы. Так началась моя карьера охотника за слонами. С тех пор я перестрелял их несколько сотен, но никогда больше не пытался охотиться верхом на слона.Глава 4
ЗУЛУССКИЕ ВОИНЫ
Закопав бивни, я постарался получше запомнить координаты и приметы местности, чтобы отыскать слоновую кость, когда понадобится. Потом отправился дальше. Около месяца я бродил по местности, где ныне проходит граница, которая отделяет Оранжевое Свободное государство от Грикваленд Уэста и Трансвааль от Бечуанатенда. Конечно, на моем пути встречались трудности, но это были обычные тяготы, хорошо известные всем путешественникам по Африке: частенько не хватало воды, каждая переправа через реку сулила беду. Помню, как-то я распряг волов в том месте, где сейчас стоит Кимберли, но вскоре был вынужден покинуть стоянку, потому что поблизости не оказалось ни ручейка, ни источника. Тогда я и представить себе не мог, что еще при моей жизни здесь вырастет большой город, в окрестностях которого станут добывать алмазы на миллионы фунтов в год. Очевидно, старый Индаба-Зимби был не так уж всеведущ, в его предсказаниях ничего об этом не говорилось. Сейчас местность была совершенно безлюдной. А незадолго до этого по ней прошел, направляясь в нынешний Матабелеленд, Моселекатсе Лев, один из полководцев Чаки[88]. Однажды, когда мы двигались параллельно реке Колонг, наш путь пересекло большое стадо антилоп импала. Я выстрелил в одну и ранил ее в круп. Животное пронеслось галопом вместе со всем стадом еще около тысячи ярдов, потом легло на землю. К тому времени мы уже несколько дней не пробовали мяса, ибо ни одно четвероногое не попалось нам навстречу. Я вскочил на лошадь и, крикнув Индаба-Зимби, что догоню фургоны или перехвачу их по ту сторону холма, до которого оставалось около часа езды, поскакал к раненой антилопе. Я успел приблизиться к ней ярдов на сто, но тут она вскочила на ноги и бросилась бежать с такой скоростью, будто пуля даже не задела ее. Однако вскоре ей снова пришлось опуститься на траву. Подумав, что силы совсем оставили ее, я спокойно направился к антилопе. Но не тут-то было — все повторилось сначала. На третий раз она скрылась за высоткой, словно испытывая мое терпение. Я прямо выходил из себя, но все же решил подняться на эту высотку и, прицелившись с вершины, послать в антилопу вторую пулю. Так я и сделал. Достигнув гребня высотки, сплошь заваленной камнями, я взглянул на местность, расстилавшуюся за нею, и увидел… зулусский полк! В удивлении я протер глаза и взглянул снова. Да, сомнений не было. Воины остановились на привал у водоема примерно в тысяче ярдов от меня. Одни лежали на земле, другие что-то стряпали на кострах, третьи ходили взад и вперед с копьями и щитами в руках. Всего их могло быть около двух тысяч… Я повернул лошадь и уперся пятками ей в бока. Спустившись по склону высотки, я взял немного вправо, чтобы перехватить мои фургоны раньше, чем их заметят зулусы. Не успел я проехать и трехсот ярдов в этом направлении, как очутился на тропе, на которой, к крайнему своему удивлению, увидел следы колес каких-то фургонов и отпечатки копыт волов. Фургонов было не менее восьми, а скота — несколько сот голов. По четкости следов я определил, что они проходили здесь часов двенадцать назад, не больше. Тогда я понял: зулусский полк преследует фургоны, принадлежащие, вероятно, бурам-переселенцам. Следы вели в ту сторону, куда я как раз направлялся. Пришлось подниматься еще на один холм, зато с его вершины я увидел и фургоны, ставшие лагерем, и мои повозки, спускавшиеся по склону возвышенности. Лагерь был разбит на берегу реки, примерно в пяти фарлонгах[89], и через несколько минут я подъехал к нему. Буры — а это были они — вышли из своего маленького лагеря и наблюдали за приближением двух моих повозок. Я окликнул их, они повернулись и заметили меня. Одного я узнал. Звали его Ганс Бота, когда-то я был хорошо с ним знаком. Неплохой человек, но очень беспокойный, он ненавидел любую власть. Как он выражался, его одолевала «любовь к свободе». Несколькими годами ранее Ганс Бота присоединился к группе буров-переселенцев, но потом я узнал, что он поссорился с ее вожаком, и теперь снова направлялся в дикие дебри, чтобы основать собственную колонию. Бедный парень! Этот трек[90] был для него последним. — Как поживаете, менеер[91] Бота? — спросил я по-голландски. Он взглянул на меня, потом еще раз, а затем, выйдя из своей голландской невозмутимости, закричал жене, сидевшей на облучке фургона: — Пойди сюда, фрау, пойди сюда. Здесь Аллан Квотермейн, англичанин, сын предиканта[92]. Как живете, хеер[93] Квотермейн, что нового там, в Капской колонии? — Не знаю, что нового в Капской колонии, Ганс, — торжественно ответил я, — а о здешних новостях расскажу: по вашему следу идет полк зулусов, и находится он сейчас в двух милях от фургонов… На мгновение воцарилось молчание. Я заметил, как под загаром побледнели коричневые лица пораженных людей. Одна-две женщины вскрикнули, дети прильнули к ним. — Боже всемогущий! — воскликнул Ганс. — Это не иначе как полк мтетва[94], который Дингаан послал воевать с басуто. Болота преградили им путь, а вернуться в страну зулусов они боятся. Вот и повернули на север, чтобы присоединиться к Моселекатсе… Тут как раз подошли мои повозки. На козлах первого фургона сидел Индаба-Зимби, завернутый в одеяло. Я окликнул его и сообщил новости. — Это дурные вести, Макумазан, — сказал он. — Завтра утром здесь будут мертвые буры. Однако до рассвета зулусы не нападут на нас. Зато они сметут лагерь с лица земли — вот так! — он провел рукой перед ртом. — Перестань каркать, белоголовая ворона, — проворчал я, хотя знал, что он прав… — Макумазан, последуешь ли ты на этот раз моему совету? — спросил Индаба-Зимби. — А в чем он состоит? — Вот в чем. Оставь здесь фургоны и садись на лошадь. Уедем отсюда как можно скорее. Зулусы не последуют за нами, они займутся бурами. Я разыскал Ганса Боту и посоветовал ему бросить фургоны и спасаться бегством. — Это невозможно, — ответил он. — Две наши женщины так толсты, что не пройдут и мили, третья на сносях. К тому же, у нас только шесть лошадей. А если мы и убежим, что ждет нас в пустыне? Мы погибнем там от голода. Нет, хеер Аллан, мы должны дать бой дикарям, и да поможет нам Бог! — И правда, да поможет нам Бог. Подумай о детях, Ганс! — Не могу думать, — ответил он прерывающимся голосом, глядя на свою дочку — чудесного кудрявого синеглазого ребенка лет шести. Ее звали Тота. Я часто возился с ней, когда она была младенцем. — О хеер Аллан, твой отец, миссионер, всегда отговаривал меня от переселения на север, но я его не слушал, считая проклятым англичанином. Теперь я вижу, что поступил как безумец. Хеер Аллан, постарайся спасти мое дитя, если проживешь дольше меня, а если не сможешь, убей ее. И он пожал мне руку. — До этого еще не дошло, Ганс, — сказал я. Мы занялись приведением лагеря в боевой порядок. Фургоны — с моими двумя их стало десять — расположили квадратом. Дышло одного фургона привязали поводьями к нижней части второго и так далее. Крепко сцепили и колеса. Потом забили свободное пространство от земли до дна фургонов ветвями колючего кустарника, известного под названием «погоди минутку». К счастью, он рос поблизости в большом количестве. Таким образом мы превратили наш маленький лагерь в достаточно сильную крепость для борьбы с противником, не имеющим огнестрельного оружия. Для наших винтовок мы оставили узкие амбразуры. За час с небольшим было сделано все, что можно было сделать. Теперь возник спор, как быть со скотом, который тем временем подогнали к лагерю. Кое-кто из буров предлагал укрыть скот в лагере, хотя он был очень мал, ну если не весь, так столько волов, сколько поместится. Я решительно возражал против этой затеи. Волов может охватить паника, как только начнется стрельба, и тогда они затопчут защитников. Я предложил другой план: поручить стадо нескольким туземным слугам, пусть гонят его по долине реки, пока не встретят дружественное племя или не окажутся в безопасном месте. Разумеется, если зулусы их заметят, беды не миновать, всех захватят. Однако в такой холмистой местности слугам скорее всего удастся спасти и себя и волов. Нельзя только медлить, надо сейчас же двигаться в путь. Мое предложение было тут же принято; более того, решили также отправить из лагеря женщин и детей, способных проделать такое путешествие, а для присмотра за ними послать одного голландца. Полчаса спустя двенадцать женщин и детей вышли из лагеря вместе с туземцами, буром, поставленным во главе группы, и скотом. О душераздирающей сцене прощания мне даже не хочется говорить. Женщины плакали, мужчины тяжело вздыхали, бледные и испуганные дети жались к взрослым. Наконец они тронулись в дорогу, я этому только обрадовался. В лагере осталось семнадцать белых, четыре туземца, две бурские женщины, слишком тучные для длительного перехода, и дочка Ганса — Тота, с которой он не решился расстаться. Родная мать ее, к счастью, давно умерла. Тут, забегая далеко вперед, могу сообщить, что женщины и дети, а также половина скота были спасены. Зулусские воины так и не увидели их, а на третий день трудного пути беженцы достигли укрепленной ставки одного из вождей гриква, который предоставил им убежище, взяв в уплату половину скота. Оттуда путники отправились в Капскую колонию. Путешествие это было долгим, до цивилизованных мест они добрались через год с лишним после нападения на лагерь. День клонился к вечеру, но зулусские воины все еще не подавали признаков жизни. Мы уже начали надеяться — правда, без больших на то оснований, — что они ушли дальше. Индаба-Зимби все это время молчал. Он погрузился в глубокое размышление, как только услышал, что полк зулусов состоит, видимо, из воинов племени мтетва. Но вот он встал, подошел ко мне и предложил отправиться в разведку. Сначала Ганс Бота решительно воспротивился: ведь Индаба-Зимби — фердомдесвартсел — проклятый черный, кто поручится, что он не выдаст нас. Я возразил, что выдавать тут нечего, ибо зулусам и так известно, где находятся фургоны, а вот нам необходимо знать обо всех их передвижениях. В конце концов Ганс согласился отпустить Индаба-Зимби. Я сообщил ему об этом. Он кивнул своей седой головой, сказал: «Хорошо, Макумазан!» — и отправился в путь. Не без удивления я заметил, что перед выходом из лагеря он влез в фургон, чтобы захватить моути — зелье, которое всегда носил в кожаном мешке вместе с другими колдовскими снадобьями. Я спросил, зачем ему зелье. Он ответил: надо, теперь он неуязвим для копий зулусов… Проходил час за часом, а мы все ждали нашествия зулусов. Но я хорошо знал обычаи туземцев: ночью они никогда не нападали, можно было не бояться, хотя в темноте им наверняка удалось бы уничтожить нас без больших потерь для себя. Однако зулусы не изменяют своим привычкам, сражаться они любят при дневном свете, предпочтительно на утренней заре. Около одиннадцати часов — я уже стал клевать носом — раздался тихий свист. Сон мгновенно слетел с меня, и я услышал, как по всему лагерю буры защелкали затворами ружей. — Маку мазан, — позвал меня тихий голос — голос Индаба-Зимби, — ты здесь? — Да, — ответил я. — Тогда посвети мне, чтобы я смог войти в лагерь, — сказал он. — Ладно, посветим ему, — вмешался один из буров. — Не нравится мне этот ваш черный схепсел[95], хеер Квотермейн. Может, он привел с собой земляков? Бур принес фонарь и направил свет в ту сторону, откуда раздался голос. Индаба-Зимби пришел один. Мы впустили его в лагерь и спросили, что нового. — Новости такие, белые люди, — ответил он. — Я ждал, пока совсем не стемнело, потом подполз к лагерю зулусов, спрятался за камнем и стал слушать. Там целый полк мтетва, как и думал баас Бота. Три дня назад они напали на след фургонов и пошли за ними. Сегодня они спят, не выпуская копий из рук, а завтра на рассвете нападут на лагерь и всех перебьют. Они очень злы на буров из-за битвы у реки Блад и других сражений. Потому-то они и последовали за фургонами, вместо того чтобы идти прямо на север, на соединение с Моселекатсе. Среди слушавших его голландцев раздались испуганные возгласы, кто-то даже застонал. Мы вернулись на свои посты. Мучительная ночь тянулась долго, а рассвет все не наступал. Только тот, кому приходилось стоять перед лицом неминуемой и жестокой смерти, может представить себе это томительное ожидание, длившееся часами. Но часы эти как-то прошли, и наконец далеко на востоке появилась светлая полоса. Холодное дыхание зари колыхало навесы фургонов и пронизывало меня до костей. Толстая голландка позади меня проснулась, зевнула. Но, вспомнив обо всем, громко застонала, зубы ее застучали от холода и страха. Ганс Бота подошел к своему фургону, достал бутылку персиковой водки и, наполнив жестяную кружку, дал каждому отведать крепкого напитка. Он бодрился, старался выглядеть повеселее. Однако его напускная веселость, казалось, только усиливала уныние товарищей. О себе я могу сказать это совершенно точно. Понемногу светлело, уже можно было кое-что различить в тумане, все еще густо висевшем над рекою. И вот началось! С противоположной стороны возвышенности, ярдов за тысячу, а то и больше от лагеря, послышалось нечто вроде слабого гудения. Постепенно оно становилось все громче и наконец превратилось в пение — в устрашающую военную песнь зулусов. Вскоре я смог уже разобрать слова. Они были достаточно просты: Будем убивать, убивать! Не так ли, братья мои? Наши копья окрасятся кровью. Не так ли, братья мои? Ибонас вскормил Чака, кровь — наше молоко, братья мои! Проснитесь, дети Мтетвы, проснитесь! Стервятник парит, шакал принюхивается. Проснитесь, дети Мтетвы[96], проснитесь! Кричите громче, мужчины с кольцами на голове! Вот враги, убьем их. Не так ли, братья мои? Хе! Хе! Хе![97] Таков приблизительно перевод этой ужасающей песни, которая и по сей день раздается у меня в ушах. Записанная на бумагу, она производит не такое уж жуткое впечатление. Но если бы читатель сам слышал, как отчетливо и ритмично она разносится в тихом воздухе, вырвавшись из глоток почти трех тысяч воинов, он изменил бы свое мнение. И вот над гребнем возвышенности появились щиты. Воины шли ротами, по девяносто человек в каждой. Всего тридцать одна рота. Я сам пересчитал их. Перевалив через гребень, зулусы построились в тройную линию и начали спускаться по склону к нашему лагерю. В полутораста ярдах, еще за пределами досягаемости наших ружей, они остановились и опять запели: Вот крааль белых людей, маленький крааль, братья мои! Мы его съедим, мы его вытопчем, братья мои! Но где же скот белых людей? Где их волы, братья мои? Последний вопрос они задавали неспроста — наш скот, конечно, очень их интересовал. Поэтому они снова и снова повторяли свою песню. Наконец вперед выступил вестник — мужчина громадного роста, с браслетами из слоновой кости на руках. Приставив ладони ко рту, он громко спросил, куда мы дели волов. Ганс Бота взобрался на крышу фургона и проревел: — Нечего спрашивать, сами знаете. Тогда вестник снова прокричал: — Да, мы видели, как угоняли скот. Мы пойдем и найдем его. А потом вернемся и убьем вас, потому что без волов вам не сдвинуться с места. Мы убили бы вас сейчас, но не можем задерживаться: скот угонят слишком далеко. А если вы попытаетесь удрать, мы все равно поймаем вас, белые люди! Мне это показалось странным, ибо обычно зулусы сначала атакуют врага, а затем уже забирают его скот. Все же слова вестника были не лишены правдоподобия. Пока я соображал, что это может означать, зулусы, по-прежнему поротно, пробежали мимо нас к реке. Радостный крик возвестил, что они напали на след скота, и весь их полк ринулся вниз по реке и вскоре скрылся за грядой холмов, поднимавшейся примерно в четверти мили от лагеря. Мы прождали с полчаса, даже больше. Зулусы не появлялись. — Интересно, действительно ли ушли эти дьяволы, — сказал Ганс Бота. — Очень странно. — Пойду посмотрю, — сказал Индаба-Зимби. — Иди и ты со мной, Макумазан. Мы подползем к гребню высотки и посмотрим, что за ней. Я заколебался, но любопытство оказалось сильнее. В те дни я был молод, и ожидание измучило меня. — Отлично, — сказал я, — пойдем вместе. И мы отправились. Со мной было ружье для охоты на слонов и боеприпасы. Индаба-Зимби захватил свой мешок со снадобьями и ассегай. Мы подобрались к гребню возвышенности бесшумно и осторожно, как охотники, выслеживающие дичь. Противоположный склон был усеян камнями, среди которых росли кусты и высокая трава. — Они, верно, пошли вниз по течению, — сказал я. — Я никого не вижу. Не успел я договорить, как со всех сторон раздался рев. Из-за каждого камня, из-за каждого пучка травы поднялся зулусский воин. Я взялся за ружье, но не тут-то было — меня крепко схватили и бросили на землю. — Держите его! Крепко держите Белого духа! — кричал чей-то голос. — Держите его, а не то он ускользнет, как змея. Не причиняйте ему вреда, но держите хорошенько. Пусть Индаба-Зимби идет рядом с ним. Я повернулся к Индаба-Зимби и воскликнул: — Ты предал меня, черный дьявол! — Погоди, увидишь сам, что будет, — холодно ответил он. — Сейчас начнется бой.Глава 5
КОНЕЦ ЛАГЕРЯ
Я задыхался от удивления и ярости. Что имел в виду этот негодяй Индаба-Зимби? Зачем меня выманили из лагеря и захватили, а захватив, не убили тут же? Дальнейшие мои размышления были прерваны. Воины толпами поднимались из оврага и с берега реки, где прятались. Военная хитрость удалась, и теперь полк снова построился на склоне возвышенности. Меня отвели на гребень и поместили в центре резервной линии, отдав под надзор огромного зулуса по имени Бомбиан-того самого, который играл роль вестника. Он посматривал на меня с ласковым любопытством и время от времени тыкал мне в ребра древком своего копья, вероятно, для того, чтобы убедиться, что я сделан не из воздуха. Раза три он настойчиво умолял меня сказать, сколько зулусов будет убито, прежде чем амабуну, как они называли буров, окажутся «съеденными». Тут зулусы снова запели: Мы поймали Белого духа, о брат мой, о брат мой! Железный язык шепнул про него, он вынюхал его, брат мой… Теперь амабуну — наши, они уже мертвы, о брат мой! Итак, этот вероломный негодяй Индаба-Зимби предал меня! Вдруг командир полка, седоволосый мужчина по имени Сусуса, поднял свой ассегай. Мгновенно воцарилось молчание. Потом он повернулся к индунам, стоявшим подле него, и отдал им короткий приказ. Те тотчас же побежали вправо и влево вдоль передней линии, что-то: передавая по пути каждому ротному. Достигнув противоположных, концов линии, они разом подняли копья. И вот вся линия — около тысячи человек — со страшным криком: «Булала амабуну!» («Бей буров!»), словно зверь, потревоженный в своем логове, ринулась на маленький лагерь. Великолепное зрелище! Ассегай сверкали на солнце, поднимаясь и опускаясь над черными щитами, ветер отбрасывал назад перья головных украшений, свирепые лица были обращены к врагу, земля сотрясалась от топота ног. «Бедные мои друзья-голландцы! — горестно подумал я. — Разве устоять им перед столь многочисленным врагом?» Между тем зулусы, построившись на бегу дугой, чтобы окружить лагерь с трех сторон, быстро приближались к нашему укреплению. Вот они уже ярдах в семидесяти от него. Тут из каждого фургона сверкнули огни выстрелов. Многие мтетва покатились по земле, но остальные, даже не взглянув на раненых и убитых, неслись прямо на лагерь, пробиваясь вперед под выстрелами буров. Залп за залпом! Ружья для охоты на слонов, заряженные картечью и дробью, сеяли смерть в плотном боевом порядке зулусов. Только одному мтетва удалось подойти к фургону вплотную, но бурская женщина ударила его топором по голове, и он упал. Зулусы дрогнули и отступили, осыпаемые насмешками воинов двух резервных линий, стоявших на склоне холма. — Теперь веди нас, отец! — кричали своему вождю эти воины, среди которых под зорким присмотром находился и я. — Ты послал в бой маленьких девочек, вот они и перепугались. Покажем им путь! — Нет, нет! — смеясь, отвечал вождь Сусуса. — Погодите минутку, и маленькие девочки вырастут в женщин, а женщины вполне справятся. Зулусы, ходившие в атаку, услышали насмешки своих товарищей и с ревом бросились вперед. Однако буры успели перезарядить свои ружья и оказали им горячий прием. Они выждали, пока зулусы не сгрудились, как овцы в краале, и принялись в упор разряжать свои «руры»… Груды тел выросли на земле. Но воинами мтетва овладело бешенство; я хорошо видел это издали. На этот раз они не собирались отступать. Несчастные буры — конец был уже близок. Вот шестеро воинов вскарабкались на фургон, убили укрывшегося за ним бура и спрыгнули в лагерь. Все шестеро были тут же убиты, но за ними сейчас же последовали другие. Я отвернулся. Заткнуть бы и уши, чтобы не слышать крики ярости, предсмертные стоны и это страшное «Хе! Хе!». Только раз я взглянул в сторону лагеря и увидел бедного Ганса Боту. Он стоял на крыше фургона, отбиваясь прикладом от ассегаев, которые тянулись к нему, словно стальные языки. Я закрыл глаза, а когда открыл их снова, его уже не было. Я опять отвернулся. Мне стало дурно от страха и бешенства. Увы! Что мог я сделать? Буры погибли, теперь, верно, наступила моя очередь, только вряд ли я мог рассчитывать на быструю смерть. Бой окончился, воины, стоявшие двумя линиями на склоне холма, разбрелись и толпами стали спускаться к лагерю. Он представлял собой ужасное зрелище. По крайней мере пятьдесят из атаковавших лагерь зулусов были убиты и не менее полутораста ранены, многие смертельно. По приказанию вождя Сусусы мертвых сложили в кучу, а легкораненые отправились искать кого-нибудь, кто мог перевязать им раны. Уцелевшие забирались в фургоны и растаскивали добро; не избежали этой участи, конечно, и мои повозки. Убитых буров тоже сложили вместе. Я посмотрел на груду мертвых: все они там… не было только одного тельца дочери Ганса Боты, маленькой Тоты. Мне пришла в голову безумная мысль: а вдруг ей удалось бежать? Но нет, это невозможно. И как раз в эту минуту огромный зулус Бомбиан с громким криком вышел из фургона: — Глядите, глядите, я нашел маленькую белую! Я быстро обернулся и увидел, что он несет Тоту, ухватив ее за платье огромной черной рукой. Этого я уже не мог перенести. Я подскочил к нему и изо всей силы ударил по лицу. А теперь пусть проткнет меня копьем, мне все равно! Бомбиан выронил Тоту. Тотчас же меня окружили воины, перед глазами замелькали свирепые лица, засверкали копья. Я скрестил руки на груди и спокойно стоял, ожидая конца… Но тут сквозь шум и яростные вопли услышал громкий, дребезжащий голос Индаба-Зимби. — Назад, глупцы! — кричал он. — Разве духа можно убить? — Копьями его, копьями! — в бешенстве орали зулусы. — Посмотрим, какой он дух… Проткни его копьем, ты, вызывающий дождь, а мы поглядим, что станется. — Назад! — снова закричал Индаба-Зимби. — Хорошо, я сам покажу вам, можно ли его умертвить. Убью его своей рукой и тут же верну к жизни у вас на глазах. — Доверься мне, Макумазан, — прошептал он мне на ухо, переходя на сесото, которого зулусы не понимали. — Доверься мне: встань на колени в траву передо мной и, когда я нанесу удар копьем, падай словно мертвый. А когда снова услышишь мой голос, поднимись с земли. Доверься мне — это твоя единственная надежда. Выбора у меня не было, я кивнул в знак согласия, хотя не имел ни малейшего понятия, что он намерен сделать. Шум немного стих, и воины снова отошли от меня. — Великий Белый дух, Дух победы, — торжественно и громко обратился ко мне Индаба-Зимби, прикрыв глаза рукой, — выслушай меня и прости. Эти дети ослеплены безумием и думают, что ты смертный… Соблаговоли опуститься передо мной на колени и разреши проткнуть твое сердце этим копьем, а потом, когда я снова окликну тебя, встань невредимым. Я опустился на колени. Иного выхода у меня не было. Индаба-Зимби я не особенно доверял и вполне допускал, что он и в самом деле прикончит меня. Но я был до того измучен страхами и ужасами последних суток, что не очень тревожился о своей судьбе. Через полминуты Индаба-Зимби снова заговорил. — Люди Мтетвы, дети Чаки, — сказал он, — отойдите немного, чтобы вас не постигло зло, ибо воздух сейчас полон призраков. Они немного отодвинулись, оставив нас в центре круга диаметром около двенадцати ярдов. — Посмотрите на того, кто стоит перед вами на коленях, — продолжал старик, — и слушайте меня, слушайте Индаба-Зимби — того, кто выискивает колдунов и вызывает дождь, кто прославлен по всем племенам. Дух кажется молодым человеком, не так ли? А я говорю вам, дети Мтетвы, что он не человек. Он — тот дух, который приносит победу белым людям, кто дал им гремящие ассегаи и научил убивать. Почему полки Дингаана были отброшены у реки Блад? Потому что он был там. Почему амабуну уничтожили тысячи воинов Моселекатсе? Потому что он был там. И если бы я не выманил его колдовством из лагеря три часа назад, вы потерпели бы поражение, да, говорю вам, вы были бы развеяны, как пыль ветром, сгорели бы, как сухая трава зимой, когда ее пожирает огонь. Да, только оттого, что он был среди амабуну, многие храбрейшие из вас пали в бою с горстью врагов, которых можно было пересчитать по пальцам. Но потому, что я люблю вас, потому, что вождь ваш Сусуса приходится мне единокровным братом — не один ли у нас отец? — я пришел к вам и предупредил. Тогда вы стали просить меня, и я выманил духа из лагеря. Но вы не удовлетворились своей победой, и когда из всего, что вы забрали, дух захотел взять одного лишь белого ребенка, чтобы принести в жертву самому себе и сделать из него колдовское зелье… Мне стоило большого труда сдержаться, но я превозмог себя. — …вы сказали ему «нет». А теперь я покажу вам, дух ли он или просто человек. Я убью его у вас на глазах и потом снова призову к жизни. Но вы сами накликали на себя эту беду. Если бы вы поверили мне и не оскорбили духа, он остался бы с вами и сделал вас непобедимыми. Теперь же он восстанет и покинет вас, и горе вам, если вы попытаетесь удержать его. Воины, — продолжал он, — смотрите все на ассегай в моей руке. Все взоры устремились на широкий блестящий клинок. Какое-то время он держал его высоко над головой, чтобы вся толпа могла разглядеть ассегай. Потом стал описывать им круги, что-то бормоча; глаза воинов продолжали следовать за клинком. Я же следил за движениями старика с величайшей тревогой… Да, я отнюдь не был уверен, что Индаба-Зимби не собирается убить меня. Поступки его оставались совершенно непонятными, и меня нисколько не увлекала перспектива стать объектом его магических опытов. — Глядите! Глядите! Глядите! — закричал он. И вдруг громадное копье, направленное прямо в мою грудь, сверкнуло на солнце. Я ничего не почувствовал, но мне показалось, что оно прошло сквозь меня. — Видите! — загремели зулусы. — Индаба-Зимби проткнул его копьем. Ассегай стал красным и торчит из его спины. — Падай, Макумазан, — прошептал мне на ухо Индаба-Зимби. — Падай и притворись мертвым. Быстрей, быстрей! Не теряя времени, я последовал этим странным указаниям: упал на бок, раскинул руки, задрыгал ногами и умер так артистически, как только сумел. Затем дернулся, как полагается на сцене, и затих. — Видите! — заговорили зулусы. — Он умер. Дух умер. Посмотрите на окровавленный ассегай. — Назад! Назад! — закричал Индаба-Зимби. — Не то призрак бросится на вас. Да, он умер, а теперь я снова призову его к жизни. Глядите! Опустив руку, он вытащил копье и поднял вверх. — Копье красное, не так ли? Следите за мной, воины, следите! Оно белеет! — Да, белеет, — повторили они. — О, оно становится белым! — Оно белеет потому, что кровь возвращается туда, откуда вытекла, — сказал Индаба-Зимби. — А теперь, Великий дух, выслушай меня. Ты умер, дыхание покинуло твои уста. И все же услышь меня и восстань. Восстань, Великий дух, восстань и покажи свою мощь. Восстань! Восстань невредимым. Я с удовольствием отозвался на это торжественное заклинание. — Не так быстро, Макумазан, — прошептал Индаба-Зимби. Я внял его предостережению и сначала поднял руку, потом голову, но сейчас же опустил ее. — Он жив! Клянемся головой Чаки, он жив! — заревели воины, объятые смертельным страхом. Тут я медленно и с величайшим достоинством поднялся во весь рост, вытянул руку, зевнул, словно только что проснулся, и равнодушно взглянул на толпу. А Индаба-Зимби — я хорошо это видел — буквально падал с ног от усталости. На лбу у него выступили капли пота, руки и ноги дрожали, грудь вздымалась. Ужас охватил зулусов. С громкими воплями весь полк повернулся и бросился бежать. Вскоре они скрылись за гребнем, и мы остались одни с мертвыми и ребенком, находившимся в глубоком обмороке. — Как ты это проделал, Индаба-Зимби? — с удивлением спросил я. — Не спрашивай, Макумазан, — с трудом проговорил он. — Вы, белые, очень умны, но знаете не все. На свете есть люди, которые умеют внушить другим, будто те видят то, чего на самом деле не видят. Уйдем, пока не поздно, ибо мтетва могут вернуться, когда преодолеют свой страх, и, чего доброго, станут задавать вопросы, на которые я не в силах ответить. Замечу, кстати, что я никогда так и не получил от Индаба-Зимби дополнительных объяснений того, что произошло. Но у меня есть своя теория, и я изложу ее в нескольких словах. Я полагаю, что Индаба-Зимби загипнотизировал всю толпу зрителей, включая и меня, внушив, что они видят, как ассегай вонзается в мое сердце и как кровь стекает с клинка. Читатель может улыбнуться и сказать: «Это невозможно», но тогда я задам ему вопрос: каким образом проделывают индийские фокусники свои удивительные штуки, если не прибегают к гипнозу? Зрителям кажется, что они видят, как мальчик скрывается под корзиной, а фокусник пронзает ее кинжалами, им кажется, что они видят женщину, висящую в воздухе и опирающуюся только на острие меча. Подобные явления невозможны, они нарушают законы природы, насколько эти законы нам известны, и, значит, порождаются иллюзией. Вот и воинам зулусского полка показалось по воле Индаба-Зимби, что меня насквозь проткнул ассегай, который даже не прикасался ко мне. Такова по крайней мере моя теория. Если у кого есть лучшая, пусть он ее и придерживается. Объяснение лежит где-то между внушением и колдовством. Я предпочитаю первое.Глава 6
СТЕЛЛА
Я не замедлил последовать совету Индаба-Зимби. Ярдах в полутораста слева от лагеря была маленькая лощинка, где я укрыл свою лошадь и еще одну, принадлежавшую бурам, а также седло и уздечку. Туда-то мы и направились. Я нес на руках бесчувственную Тоту. К великой нашей радости, лошади оказались на месте: зулусы их не заметили. Теперь они стали для нас единственным средством передвижения, так как волов угнали; впрочем, будь они здесь, у нас все равно не было бы времени, чтобы их запрячь. Я положил Тоту на землю, поймал лошадь, отвязал повод и оседлал ее. Тут я спохватился, что без оружия в пути нам придется плохо, ведь при мне был только мой «рур» для охоты на слонов да совсем мало пороха и пуль — всего на несколько выстрелов. Я сказал Индаба-Зимби, чтобы он скорее шел назад, в лагерь, — может, ему удастся отыскать мою двустволку, — и прихватил побольше пороха и дроби. Пока Индаба-Зимби ходил в лагерь, к бедной маленькой Тоте вернулось сознание. Она не сразу узнала меня и заплакала. — Ах, мне приснился такой плохой сон, — сказала она по-голландски. — Мне снилось, что черные кафры хотели меня убить. Где мой папа? Тяжело было ответить на такой вопрос. — Твой папа отправился в путешествие, — сказал я, — и поручил мне заботиться о тебе. Когда-нибудь мы его разыщем. Ты согласна ехать с хеером Алланом, да? — Нет, — сказала она с сомнением в голосе и опять заплакала. Тут она вспомнила, что хочет пить, и попросила воды. Я свел ее к реке. Между тем вернулся Индаба-Зимби. Ружей он не нашел — зулусы забрали их вместе с порохом, — но раздобыл кое-какие нужные вещи и принес их в мешке. Там оказались толстое одеяло, около двадцати фунтов билтонга — мяса, высушенного на солнце, сухари, правда, всего несколько горстей, две бутылки для воды, жестяная кружка, немного спичек и разные мелочи. — А теперь, Макумазан, — сказал он, — нам лучше уходить, потому что мтетва возвращаются. Я видел одного на вершине холма. Для меня этого было достаточно. Я положил Тоту на луку своего седла, сам вскочил в него и поскакал, крепко придерживая девочку. Индаба-Зимби всунул уздечку в рот лошади буров, закинул ей на спину мешок с вещами и тоже вскочил на коня. В руке он сжимал ружье для охоты на слонов. Мы молча проехали восемьсот-девятьсот ярдов, пока фургоны, стоявшие в низине, не скрылись из глаз… Но куда нам направиться? Я задал этот вопрос Индаба-Зимби, спросил, не думает ли он, что нам надо последовать за скотом, который мы отправили накануне ночью вместе с кафрами и женщинами. Он покачал головой. — Мтетва погонятся теперь за скотом, — отвечал он, — а мы на них достаточно насмотрелись. — Вполне достаточно, — воскликнул я. — Не хочу больше видеть никого из них. Но куда ехать? Что нам делать с одним ружьем в безлюдном велде, да еще с маленькой девочкой на руках? Куда повернуть? — До встречи с зулусами лица наши были обращены на север, — ответил Индаба-Зимби. — Пусть так и будет. Едем, Макумазан! Сегодня вечером, когда мы расседлаем коней, я придумаю, как быть дальше. Мы ехали вдоль реки, по ее течению, и весь остаток этого длинного дня не слезали с коней. Неровная местность не позволяла двигаться быстро, но еще до захода солнца я с удовлетворением установил, что мы удалились не менее чем на двадцать пять миль. Маленькая Тота почти все время спала: она устала до изнеможения, а поступь коня была легкой. Наконец наступил закат, и мы расседлали лошадей в долине подле реки. Запасов у нас почти не было. Я размочил в воде немного сухарей для Тоты, а для нас приготовил с помощью Индаба-Зимби скромный ужин из провяленного мяса, нарезанного узкими полосками. После ужина я раздел Тоту, завернул в одеяло, уложил у костра и закурил трубку. Тут я заметил, что старый Индаба-Зимби, тоже примостившийся у огня, вытащил из мешка пожелтевшие кости и, смешав их с пеплом, смоченным водой, совершает какое-то таинство, одному ему понятное. Я спросил, чем это он занялся. Он ответил, что намечает наш дальнейший маршрут. «Чепуха!» — чуть не вырвалось у меня, но, вспомнив некоторые весьма замечательные проявления его оккультных способностей, я попридержал язык. Прижав к себе Тоту, до предела утомленную перенесенными тяготами, опасностями и волнениями, я закрыл глаза и скоро заснул. Проснулся я, когда на небе появились бледно-желтые и золотистые блики рассвета. Вернее, меня разбудила маленькая Тота, она поцеловала меня и шепнула: «Папа». Она назвала меня «папой»! Несчастная сиротка, сердце мое готово было разорваться от жалости. Я встал, умыл и одел ее непривычными к такому делу руками. Позавтракали мы тем же вяленым мясом и сухарями, которыми ужиналивчера. Тота попросила молока, но откуда же его было взять?! Затем мы поймали лошадей и оседлали мою. — Ну, Индаба-Зимби, — сказал я, — какой путь указывают нам твои кости? — Прямо на север, — сказал он. — Путь будет тяжелым, но примерно через четверо суток мы достигнем крааля белого человека — англичанина, а не бура. Крааль этот находится в чудесном месте, а позади него стоит высокая гора, где водится много бабуинов. Я посмотрел на него с недоверием и сказал: — Ты говоришь глупости, Индаба-Зимби. Где это слыхано, чтоб англичанин построил себе дом в таких дебрях? И откуда тебе знать об этом? Думаю, нам лучше взять направление на восток, к Порт-Наталю. — Как знаешь, Макумазан, — ответил он. — Но до Порт-Наталя три месяца пути, если мы вообще туда доберемся. За такую долгую дорогу ребенок может умереть. Скажи, Макумазан, разве до сих пор мои предсказания не сбывались? Разве я не говорил тебе, чтоб ты верхом не охотился на слонов? Разве я не говорил тебе, чтоб ты взял один фургон вместо двух, ибо лучше потерять один, чем два? — Ты говорил все это, — согласился я. — А теперь я говорю тебе, что надо ехать на север, Макумазан. Там ты найдешь великое счастье. И великое горе тоже. Однако ни один мужчина не должен бежать от счастья, убоявшись горя. Что ж, поступай как знаешь, да, как знаешь! Я снова взглянул на него. В его чары я не верил, но хорошо понимал: он говорит правду, которая каким-то образом стала ему известна. Мне пришло в голову, что он мог прослышать о белом, жившем почему-то отшельником в дебрях, но, чтобы поддержать свою репутацию пророка, не хочет говорить об этом. — Хорошо, Индаба-Зимби, — сказал я, — поедем на север. Мы отправились в путь. Вскоре река, течению которой мы следовали, повернула на запад, и мы покинули ее долину. Весь этот день мы ехали по неровной, возвышенной местности и примерно за час до заката остановились у ручейка, стекавшего с гряды холмов. Мне уже порядком надоело вяленое мясо, а потому, взяв ружье для охоты на слонов — другого оружия у меня не было, — я оставил Тоту под присмотром Индаба-Зимби и отправился на поиски дичи. Как ни странно, накануне мы не встретили ни одного животного, да и теперь мне не везло. По какой-то причине все звери покинули эти места. Я пересек ручей, надеясь обнаружить в чаще антилопу, и вдруг увидел на песчаном берегу следы двух львов. Разумеется, я сильно встревожился, но, решив, что вряд ли львы поджидают меня где-нибудь по соседству, подошел к зарослям колючего кустарника. Долго бродил я там в поисках добычи. Правда, на глаза мне попалась антилопа дукер, но она тут же с шумом спрыгнула с каменистого выступа и исчезла, не дав мне времени даже прицелиться. Уже в сумерках я приметил карликовую антилопу — грациозное маленькое существо, размером не больше крупного зайца. Она стояла на камне, ярдах в сорока от меня. Разумеется, я никогда не стал бы стрелять в такую крошку, особенно из ружья для охоты на слонов, но мы были голодны. Поэтому я сел, упершись спиной в скалу, и тщательно прицелился ей в голову — угоди трёхунцевая пуля в туловище, антилопу разорвало бы на куски. Наконец я нажал курок; ружье выстрелило с таким грохотом, словно это была небольшая пушка. Антилопа исчезла. Я бросился к тому месту, где она только что стояла, с таким волнением, какого никогда не испытывал, охотясь на антилоп куду или эланд. Попал! Маленькое существо лежало на земле — огромная пуля снесла ему голову. Пожалуй, это был самый удачный выстрел за всю мою жизнь охотника. Кто сомневается в этом, пусть попробует попасть за пятьдесят ярдов в голову кролика, стреляя трёхунцевой пулей из ружья для охоты на слонов. Я с торжеством подобрал карликовую антилопу и вернулся в лагерь. Там мы освежевали ее и поджарили мясо на костре. Нам хватило его на хороший ужин, а задние ноги даже остались на завтра. Эта ночь была безлунной. Вспомнив о львиных следах, я предложил Индаба-Зимби привязать лошадей поближе к нам, хотя они и так паслись неподалеку, всего в пятидесяти ярдах. Потом мы разожгли костер поярче. Больше мы ничего не смогли сделать, осталось лишь положиться на волю случая. Вскоре я заснул, обняв обеими руками маленькую Тоту. Разбудило меня жалобное ржание лошади где-то поблизости, почти у самого костра, горевшего по-прежнему ярко. В следующее мгновение — я даже не успел вскочить — раздался топот копыт, и мой бедный конь появился в круге, освещенном огнем. Словно при вспышке молнии, я увидел его глаза, чуть не вылезшие из орбит, и раздувавшиеся ноздри. Повод, которым он был стреножен, бился в воздухе. Увидел я еще кое-что: на спине лошади сидел большой темный зверь, он глухо ворчал, глаза его сверкали. Это был лев. Лошадь скакала во весь опор. В ужасе она пронеслась через костер, к счастью, не задев нас, и скрылась в ночи. Топот копыт слышался еще некоторое время, верно, она пробежала ярдов сто или больше. Потом наступила тишина, нарушаемая иногда отдаленным ворчанием. Нетрудно понять, что в ту ночь мы уже не спали. До восхода солнца оставалось часа два, и мы с тревогой ожидали рассвета. Как только стало достаточно светло, мы поднялись и, стараясь не разбудить Тоту, со всяческими предосторожностями направились в ту сторону, куда убежала лошадь. Ярдов через пятьдесят мы увидели в велде ее растерзанную тушу. Два больших, похожих на кошек зверя отскочили от нее и исчезли в сероватой дымке. Идти дальше было бесполезно. Мы знали все. Теперь надо было поспешить ко второй лошади. Оказалось, что мы испили чашу бедствий не до дна: коня нигде не было видно. Вскоре мы напали на его след и поняли, что произошло. Почуяв львов, конь отчаянным усилием порвал повод, которым его стреножили, и ускакал прочь. Я сел на землю, чувствуя, что сейчас заплачу, как женщина. Ведь мы остались одни в этой пустынной местности без конца и без начала. Лошадей больше нет, а такая маленькая девочка не пройдет и двух сотен шагов. Но отчаиваться тоже не следовало. Молча вернулись мы в лагерь. Тота горько плакала у потухшего костра: она проснулась и, никого не увидев подле себя, испугалась. Перекусив, мы принялись готовиться в дорогу. Прежде всего разделили на две равные части самые необходимые вещи; то, без чего можно было хоть как-то обойтись, мы безжалостно выбросили. Затем наполнили водой фляги. Правда, я сначала возражал против этого, боясь лишнего груза, но, к счастью для всех троих, Индаба-Зимби переубедил меня. Я решил, что на первом отрезке пути поведу Тоту, а ружье для охоты на слонов понесет Индаба-Зимби. Наконец все было готово, и мы пошли. С моей помощью (в трудных местах я брал ее на руки) Тота сумела подняться по тому склону холма, где я застрелил карликовую антилопу. Но вот мы достигли вершины. Оглядев местность, простиравшуюся перед нами, я издал вопль отчаяния. Она была непохожа на обычную пустыню и напоминала скорее Кару в Капской колонии — обширное песчаное плато, по которому там и сям разбросаны низкорослые кусты и глыбы камня. И ничего больше, насколько хватал глаз. Далеко впереди эту пустыню окаймляла гряда пурпурных холмов, в центре которой поднимался высокий пик. — Индаба-Зимби, — сказал я, — мы не доберемся до горы и за шесть дней. — Поступай как знаешь, Макумазан, — ответил он, — но я говорю тебе, что белый человек живет именно там. — Он указал на пик. — Поворачивай куда хочешь, но куда бы ты ни повернул, тебя ждет гибель. Я задумался. Наши возможности были бесконечно малы. В этом безнадежном положении действительно не имело значения, в какую сторону мы пойдем. Одни, почти без пищи, без средств передвижения, да еще с ребенком, которого нужно нести на руках! Не все ли равно, где погибать — на песчаном плато или в велде, среди деревьев на склоне холма… — Пойдем, — сказал я, посадив Тоту на плечи — она уже успела устать. — Все дороги ведут к отдыху. Как описать бедствия следующих четырех дней? Мы тащились по страшной пустыне, голодные, изнемогая от жажды. Ни один ручей не попался нам по пути, а воду из фляжек мы берегли для ребенка. Все это вспоминается как кошмар. Даже сейчас мне тяжело рассказывать о нашем походе. Днем мы по очереди несли девочку по глубоким пескам, а вечером, добравшись до каких-нибудь кустов, ложились на землю, жевали листья и слизывали росу с редкой травы. Нигде ни источника, ни озерка, ни какой-либо дичи. В третью ночь мы буквально сходили с ума от жажды. Тота была без чувств. У Индаба-Зимби еще сохранилось во фляжке немного воды — может, с рюмку. Мы смочили губы и почерневшие языки, остаток отдали ребенку. Вода оживила девочку. Она очнулась от обморока и тут же уснула. Наступил рассвет. До холмов оставалось миль восемь или около того. Мы видели, что они покрыты зеленью. Там должна быть вода! — Идем, — сказал я. Индаба-Зимби посадил спящую Тоту в своего рода заплечный мешок, который мы соорудили из одеяла, и мы еще около часа пробирались вперед по песку. Тота проснулась, заплакала, попросила пить. Увы! Воды нет ни капли. Язык чуть не вываливается изо рта, мы едва говорим. Когда мы сделали привал, Тота, к счастью, снова потеряла сознание. Потом мы поднялись с земли, и Индаба-Зимби опять посадил ее себе на спину. Несмотря на худобу, старик отличался необыкновенной выносливостью. Еще час. Теперь до склона высокой горы оставалось две мили. В двух сотнях ярдов от нас рос большой баобаб. Добредем ли мы до него? Мы уже прошли половину расстояния, и тут Индаба-Зимби в изнеможении упал. Однако, полежав немного, он поднялся. Мы оба так ослабели, что не могли уже нести девочку. Мы взяли ее за ручки и потащили к баобабу. Еще пятьдесят ярдов — они показались нам; пятьюдесятью милями, — и мы наконец все-таки добрались до дерева. После зноя пустыни сумрак и прохлада под его густой листвой напомнили нам склеп. В голове даже промелькнула мысль: хорошо бы здесь умереть. Больше я ничего не помню. Проснулся я с таким ощущением, будто мне на лицо, на голову льется благословенный дождь. Медленно, с большим трудом я раскрыл глаза и тут же закрыл их, ибо увидел призрак. Некоторое время я лежал так, а дождь все лил и лил. Верно, я все еще сплю и вижу сон, а может, сошел с ума от жажды и жары… Иначе я не увидел бы прекрасную черноглазую девушку, склонившуюся надо мной. Белую девушку, а не кафрскую женщину. Вода освежала лицо, видение не исчезало. — Гендрика, — сказал по-английски сладчайший из всех слышанных мною голосов, похожий на шелест листвы под ночным ветром. — Гендрика, боюсь, что он умирает. В моем седельном вьюке есть фляжка с бренди. — Ага! Ага! — послышался в ответ грубый голос. — Пусть его умирает, мисс Стелла. Он навлечет на вас беду. Говорю вам — пусть умирает. Я почувствовал над собой легкое движение воздуха, будто девушка из моего видения быстро обернулась. Тут я снова открыл глаза. Та, что привиделась мне, поднялась с земли. Теперь я мог разглядеть, что она высока и грациозна, как стебель камыша. Черные глаза ее гневно сверкали, рука вытянулась к женщине, стоявшей рядом, к существу, в одежде не то мужской, не то женской. Женщина эта была молодой и тоже белой. В глаза бросались ее малый рост, кривые ноги и огромные плечи. Лоб был вдавлен, а подбородок и уши, наоборот, выступали вперед. И все же лицо ее нельзя было назвать безобразным. Больше всего она походила на красивую обезьяну. Быть может, она-то и представляла собой недостающее звено[98]. — Как ты смеешь? — крикнула девушка, взмахнув рукой. — Ты опять меня не слушаешься! Ты уже забыла, что я тебе сказала, Бабиан[99]. — Нет, нет! — проворчала женщина и словно сжалась в комок под гневным взглядом девушки. — Не сердись на меня, мисс Стелла, ведь ты знаешь, что я не могу этого перенести. Я только сказала правду. Сейчас принесу бренди. Было это все сном или явью, но я решился заговорить. — Не надо бренди, — пробормотал я по-английски, стараясь как можно более внятно произносить слова своим распухшим языком. — Дайте воды. — О, он жив! — воскликнула прекрасная девушка. И говорит по-английски. Взгляните, сэр, ваша фляжка полна воды. Вы находитесь почти у самого источника, он выходит из-под земли по ту сторону дерева. Я с трудом приподнялся, сел, поднес фляжку к губам и стал пить! О, эта холодная, чистая вода! Никогда не пил ничего восхитительнее! С первым же глотком жизнь начала возвращаться ко мне. Но девушка поступила мудро и не дала мне напиться вдосталь. — Довольно! Довольно! — сказала она и чуть ли не силой отняла фляжку. — А ребенок? — спросил я. — Умер? — Еще не знаю, — ответила она. — Мы только что нашли вас всех, и я прежде всего занялась вами. Я повернулся и подполз к Тоте, лежавшей рядом с Индаба-Зимби. Невозможно было понять, мертвы ли они или находятся в глубоком обмороке. Девушка брызнула водой в лицо Тоты. Я жадно следил за ней, ибо все еще чувствовал страшную жажду. Тем временем женщина, которую девушка звала Гендрикой, занялась Индаба-Зимби. Вскоре, к моему восторгу, Тота открыла глаза и попыталась заплакать. Но бедняжка даже всхлипнуть не смогла, так распухли ее губы и язык. Девушке все же удалось влить немного воды в рот ребенка. Как и со мной, вода совершила прямо волшебство. Мы дали Тоте выпить с четверть пинты[100], не больше, хотя она горько плакала и просила еще. Тут со стоном пришел в себя и Индаба-Зимби. Он открыл глаза, огляделся и сразу все понял. — Что я говорил тебе, Макумазан? — невнятно пробормотал он и, схватив фляжку, сделал долгий глоток. Я оперся спиной о ствол огромного дерева и посмотрел кругом, стараясь представить себе, что же произошло. Слева я увидел двух добрых коней, одного неоседланного, другого — под грубо сработанным дамским седлом. Рядом с лошадьми сидели две большие собаки из породы борзых, не спускавшие с нас глаз, а неподалеку от собак лежала мертвая антилопа ориби, которую они, верно, затравили. — Гендрика, — сказала девушка, — им пока нельзя есть мясо. Обойди дерево и взгляни, нет ли на нем зрелых плодов. Женщина сейчас же повиновалась. Вскоре она вернулась. — Я видела зрелые плоды, — сказала она, — но высоко, почти на макушке. — Достань их, — сказала девушка. «Это легче сказать, чем сделать», — подумал я. Однако я ошибся. Женщина вдруг подпрыгнула, по крайней мере фута на три, и схватилась своими большими плоскими ладонями за нижний сук. Потом подтянулась с ловкостью, которой позавидовал бы акробат, и, сделав сальто, уселась на сук верхом. «Ну, дальше-то ей не взобраться», — снова подумал я, потому что следующая ветка находилась вне пределов ее досягаемости. И опять ошибся. Она встала на сук, уцепилась за него голыми ступнями, а затем перепрыгнула на другой, повыше, уцепилась руками за следующий и перебросила на него свое тело. Я был поражен, и девушка, верно, это заметила. — Не удивляйтесь, сэр, — сказала она. — Гендрика не такая, как все. Она не упадет. Я ничего не ответил и с величайшим интересом следил за акробатическими упражнениями необыкновенного существа. А Гендрика поднималась все выше и выше, перепрыгивая с сука на сук и бегая по ним, словно обезьяна. Наконец она достигла макушки и поползла по тонкой ветви к спелым плодам. Подобравшись поближе, она принялась энергично трясти ветку. Раздался треск, сначала слабый, потом посильнее, и ветвь обломилась. Я невольно зажмурился — вот сейчас женщина упадет на землю рядом со мной и разобьется. — Не бойтесь, — снова сказала девушка, ласково усмехнувшись. — Смотрите, она уже в полной безопасности. Я глянул и убедился, что это так. Падая, женщина успела схватиться за сук, удержалась и теперь спокойно спускалась на нижний. Старый Индаба-Зимби тоже с интересом следил за ней, но не выказывал особого удивления. — Женщина-бабуин, — сказал он так, будто подобные существа — самое обычное явление. Потом повернулся к Тоте, все еще выпрашивавшей воду, и стал ее утешать. А Гендрика между тем быстро спускалась все ниже и ниже и наконец, уцепившись одной рукой за сук, спрыгнула на землю с высоты восьми футов. Еще две минуты — и вот мы уже сосем мясистые плоды. В иных условиях они показались бы нам безвкусными. Но сейчас это было самое восхитительное из всех яств, которые мне доводилось пробовать. После трех суток, проведенных в пустыне без пищи и питья, становишься неразборчивым. Пока мы ели плоды, девушка, представшая предо мной подобно сновидению, велела своей спутнице освежевать ориби, затравленного собаками, а сама собрала валежник и разожгла костер. Как только огонь разгорелся достаточно ярко, она поджарила нарезанное тонкими полосами мясо антилопы и подала нам его на листьях. Мы поели, и лишь после этого нам позволили еще понемногу выпить воды. Потом девушка повела Тоту к источнику и вымыла бедного ребенка, который очень в этом нуждался. Теперь наступил «наш черед мыться. О, какая это была радость! Я возвратился к дереву, еще с трудом переставляя ноги, но совсем другим человеком. Прекрасная девушка сидела под деревом, держа на коленях Тоту. Она убаюкивала ребенка и подняла палец, призывая меня к молчанию. Наконец девочка уснула крепким естественным сном, и я охотно последовал бы ее примеру, если б не снедавшее меня любопытство. — Можно спросить, как вас зовут? — спросил я. — Стелла, — ответила она. — А фамилия? — Просто Стелла, — ответила она с некоторым раздражением. — Мое имя — Стелла. Оно короткое и по крайней мере легко запоминается. Моего отца зовут Томас. Мы живем вон у той горы, — она показала на подножие высокого пика. Я взглянул на нее с удивлением. — И давно вы живете здесь? — спросил я. — С семи лет. Мы приехали сюда в фургоне. А до этого жили в Англии — в Оксфордшире. Я могу вам показать это местечко на большой карте. Оно называется Гарсингем. Я снова подумал, что девушка привиделась мне во сне. — Знаете, мисс Стелла, — сказал я, — все это очень странно, настолько странно, что кажется почти невероятным. Дело в том, что много лет назад я тоже приехал из Гарсингема в Оксфордшире. Она встрепенулась. — Так вы английский джентльмен? — сказала она. — О, я так давно мечтала увидеть английского джентльмена. С тех пор как мы живем здесь, я видела только одного англичанина, а он, конечно, не был джентльменом. Да я и вообще почти не встречала белых людей, если не считать нескольких бродячих буров… Но я читала об англичанах, читала во многих книгах — поэмах и романах. Пожалуйста, скажите, как вас зовут. Негр назвал вас Макумазаном, но ведь белые обращаются к вам по имени. — Мое имя — Аллан Квотермейн, — сказал я. Девушка побледнела, ее розовые губы в удивлении приоткрылись, и она пристально посмотрела на меня своими прекрасными черными глазами. — Как ни странно, — сказала она, — но я часто слышала это имя. Отец рассказывал мне, как однажды маленький мальчик по имени Аллан Квотермейн спас мне жизнь, потушив пламя на моем загоревшемся платье. Глядите! — и она указала на бледно-розовую метку на своей шее. — Это след ожога. — Помню, — сказал я. — Вы были одеты Дедом Морозом. Действительно я потушил огонь. И при этом обжег себе ладони. Некоторое время мы сидели молча, глядя друг на друга. Стелла медленно обмахивалась своей широкой фетровой шляпой, украшенной страусовыми перьями. — Тут видна рука Божья, — сказала она наконец. — Вы спасли мою жизнь, когда я была ребенком. А теперь я спасла жизнь вам и маленькой девочке. Это ваша дочка? — торопливо спросила она. — Нет, — ответил я. — Сейчас я вам все расскажу. — Да, — сказала она, — вы расскажете мне все по дороге домой. Пора отправляться в путь, отсюда до дома добрых три часа. Гендрика, Гендрика, приведи лошадей!Глава 7
ЖЕНЩИНА-БАБУИН
Гендрика повиновалась и подвела лошадей к стволу дерева. — Теперь, мистер Аллан, — сказала Стелла, — вам придется ехать на моей лошади, а старому негру — на другой. Я пойду пешком, а Гендрика понесет ребенка. Да не бойтесь, она очень сильная и могла бы нести даже вас или меня. В подтверждение этих слов Гендрика что-то проворчала. Жаль, что я не могу найти более вежливого слова, чтобы охарактеризовать ее способ выражать свои мысли. Она то ворчала, как обезьяна, то цокала, как бушмен, а случалось, делала то и другое одновременно, и тогда понять ее было вовсе невозможно. Я пытался возражать против предложения Стеллы, сказав, что мы тоже можем идти пешком, хотя это была совершенная неправда: я вряд ли прошел бы больше мили. Но Стелла и слушать не хотела и, не разрешив мне даже нести ружье, потащила его сама. Мы не без труда взобрались в седла, а Гендрика взяла спящую Тоту на руки — они у нее были длинные и мускулистые. — Последи за бабуинкой, чтоб она не убежала в горы с маленькой, — сказал мне Индаба-Зимби на языке кафров, взбираясь на коня. К сожалению, Гендрика поняла его слова. Ярость исказила ее черты, лицо стало мертвенно-бледным, и она буквально прыгнула на Индаба-Зимби, как это делают обезьяны. Но старый джентльмен, хотя и был измучен, оказался проворнее. Испуганно вскрикнув, он спрыгнул с лошади. Результат был несколько комичный: в мгновение ока Гендрика оказалась на том месте, которое он только что занимал. Тут только Стелла поняла, что произошло. — Слезай с лошади, дикарка, слезай сейчас же! — приказала она, топнув ногой. Удивительное существо тут же соскочило с лошади, буквально распростерлось у ног своей хозяйки и залилось слезами. — Простите, мисс Стелла, — лепетала она на отвратительном английском языке, — он назвал меня бабуинкой. — Скажите вашему слуге, что он не должен называть так Гендрику, мистер Аллан, — обратилась ко мне Стелла. — А если он не послушается, — добавила она шепотом, — Гендрика, без сомнения, убьет его. Я объяснил это Индаба-Зимби, который очень испугался и даже соблаговолил извиниться. Но с того часа их разделила ненависть, иногда переходившая в открытую войну. Восстановив спокойствие, мы двинулись в путь, собаки следовали за нами. От склона горы нас отделял участок пустыни шириной мили в две. Перейдя его, мы достигли сочного луга, через который протекал поток, спускавшийся с холмов. Пустынный участок он не орошал, русло его находилось восточнее — у подножия холмов. Через этот поток нам пришлось переправляться вброд. Гендрика с Тотой на руках смело вошла в воду. Стелла прыгала с камня на камень, словно газель. Я подумал, что никогда не встречал такого грациозного существа. Выйдя на берег, мы последовали дальше по тропе, которая вилась вокруг отрога горы, красиво поросшего лесом. Как я узнал, гору называли Бабиан Кап, или Голова Бабуина. Разумеется, мы могли ехать только шагом, а потому продвигались вперед медленно. Стелла некоторое время шла молча, а потом заговорила. — Скажите, мистер Аллан, — спросила она, — как получилось, что я нашла вас умирающим в пустыне? Я рассказал ей обо всем с самого начала. На это ушло около часа, и она все время внимательно слушала, изредка прерывая меня вопросами. — Удивительно, — сказала она, когда я кончил. — Просто удивительно. А я, знаете ли, утром отправилась с Гендрикой на прогулку верхом, взяв с собой собак. Мы собирались вернуться домой к полудню, потому что мой отец болен и я не хотела оставлять его надолго. Но когда я собралась повернуть назад — мы находились тогда примерно в том же месте, что и сейчас, да, вон у того кустарника, — оттуда выскочила антилопа ориби, и собаки бросились за нею. Я пустилась за ними вскачь, и когда мы достигли реки, ориби не повернула налево, как делают обычно антилопы, а переплыла поток и очутилась на противоположном берегу, где тянутся Негодные земли. Я последовала за ней, и собаки прикончили ее в сотне ярдов от большого дерева. Гендрика хотела сразу ехать домой, но я предложила отдохнуть в тени дерева, так как знала, что поблизости есть источник. Мы направились к дереву и там нашли всех вас, лежащих словно мертвые. Но Гендрика, которая кое в чем очень умна, сказала, что это не так. Остальное вы знаете. Это совершенно поразительный случай. — Да, действительно. А теперь скажите мне, мисс Стелла, кто такая Гендрика? Она оглянулась, чтобы удостовериться, что женщины нет поблизости. — Это странная история, мистер Аллан. Вы, конечно, знаете, что эти горы и местность за ними кишат бабуинами. Когда мне было лет десять, я много гуляла одна по холмам и долинам и наблюдала за бабуинами, которые играли среди скал. Особенно внимательно я следила за одной семьей — она жила в лощине в миле от нашего дома. Старик бабуин был очень крупный, у одной из самок было серое лицо. Я так часто наблюдала за ними потому, что среди них находилось существо, похожее на девочку. У нее была совсем белая кожа, и, что еще важнее, в холодную погоду она окутывала шею чем-то вроде мехового шарфа. Старые бабуины, видимо, были особенно привязаны ’ к ней и любили сидеть, обняв ее руками за шею. Почти целое лето я наблюдала за белокожей бабуинкой, пока любопытство не взяло во мне верх. Я заметила, что, хотя она лазала по скалам вместе с другими бабуинами, в определенный час, незадолго до захода солнца, взрослые помещали ее вместе с одной или двумя обезьянками поменьше в небольшую пещеру, и только тогда все семейство отправлялось добывать пищу — вероятно, на кукурузные поля. Тогда мне пришло в голову, что я могу поймать эту белую бабуинку и притащить домой. Но, разумеется, я не могла сделать это без помощи и потому посвятила в свой план одного готтентота, который жил в нашем поселке, весьма умного человека, когда он не был пьян. Его звали Гендрик, и он очень любил меня. Однако долгое время он и слышать не хотел о моем плане, говоря, что бабуины убьют нас. Наконец я подкупила его ножом с четырьмя лезвиями, и однажды после полудня мы двинулись в путь. Гендрик нес прочный мешок из звериной шкуры. В него была вдета веревка, так что верх можно было в случае надобности затянуть. Итак, мы тщательно спрятались среди деревьев, росших у подножия холма, и стали следить за бабуинами, которые, ворча, играли друг с другом. Наконец они взяли белого и трех других младенцев и посадили, как всегда, в пещерку. Затем старик вышел, внимательно осмотрел местность, что-то крикнул своему семейству и вскоре перевалил с ним через гребень холма. После этого мы медленно и очень осторожно поползли по скалам, достигли входа в пещеру и заглянули внутрь. Малыши крепко спали, обняв друг друга за шею, белый посередине. Все благоприятствовало нашей затее. Гендрик, который к этому времени хорошо усвоил, что от него требуется, пополз по пещере, как змея, и внезапно напялил мешок на голову белого бабуина. Бедный младенец проснулся, подскочил и исчез в мешке. Тогда Гендрик затянул веревку, и мы вместе завязали ее так, что наш пленник никак не мог освободиться. Остальные маленькие бабуины с криками выбежали из пещеры, и когда мы вышли, их уже нигде не было видно. — Идем, мисси! — сказал Гендрик. — Бабуины скоро вернутся. Он закинул на плечо мешок, в котором отчаянно бился белый бабуин, кричавший, как ребенок. Крики эти были ужасны. Мы поспешно спустились по склону лощины и во всю прыть побежали домой. Поблизости от водопада, когда до стены сада оставалось не больше трехсот ярдов, мы услышали позади чей-то голос и, обернувшись, увидели, что все семейство бабуинов во главе со стариком бежит по траве, прыгая с камня на камень. — Беги, мисси, беги! — задыхаясь, бросил мне Гендрик, и я полетела вперед, как ветер, оставив его далеко позади. Я ворвалась в сад, где работали несколько кафров, крича: «Бабуины! Бабуины!» К счастью, у работников были с собой палки и копья. Они выбежали из сада как раз вовремя, чтобы спасти Гендрика, которого едва не настигли бабуины. Однако бабуины вступили с ними в бой, хорошо дрались и бежали только после того, как старика убили ассегаем. В краале, находящемся на территории нашего поселка, есть каменная хижина, куда по решению моего отца иногда запирают провинившихся туземцев. Она очень прочная и имеет зарешеченное окно. Гендрик снес туда свой мешок и, развязав веревку, поставил на пол и убежал, прикрыв за собой дверь. Через мгновение бедная малютка выбралась из мешка и принялась метаться как безумная по хижине. Подпрыгнула к окну, схватилась за прутья решетки, повисла и билась о них головой, пока не показалась кровь. Затем свалилась на пол, уселась и заплакала, раскачиваясь, как ребенок. Зрелище было настолько грустное, что я тоже стала плакать. Тут пришел мой отец и спросил, из-за чего столько шума. Я объяснила, что мы поймали маленького белого бабуина. Отец рассердился и велел отпустить его. Но, посмотрев на пленника через окошко, едва не свалился с карниза от удивления. — Да ведь это не бабуин, а белый ребенок, которого бабуины украли и вырастили, — сказал он. — Судите сами, мистер Аллан, прав ли мой отец. Вы видите Гендрику — мы дали ей имя Гендрика, поймавшего ее, — это женщина, а не обезьяна, но у нее обезьяньи повадки и такая же наружность. Вы видели, как она лазает по деревьям, а теперь слышите, как она разговаривает. Кроме того, у нее очень свирепый нрав, а когда она рассердится или приревнует, то буквально сходит с ума. Ее, должно быть, украли бабуины, когда она была совсем маленькая, а потом вырастили. Потому она так на них похожа. Но я хочу продолжить свой рассказ. Отец сказал, что наш долг сохранить Гендрику, чего бы это ни стоило. Хуже всего было то, что целых три дня она ничего не ела, и я боялась, что она умрет. Все это время она неподвижно сидела и хныкала. На третий день я подошла к окну и протянула через решетку чашку молока и несколько плодов. Она долго смотрела на них, затем подползла, стеная, к окну, взяла из моих рук чашку с молоком, жадно его выпила, а потом съела и плоды. С тех пор она охотно брала пищу, но только из моих рук. А теперь я должна рассказать вам об ужасном конце Гендрика. С того дня, как мы захватили Гендрику, наша местность заполнилась бабуинами, которые, видимо, следили за краалями. Как-то раз Гендрик отправился один к холмам, чтобы собрать лекарственные травы. Назад он не вернулся, и на следующий день были организованы поиски. У большой скалы, которую я могу показать вам, были найдены его останки, разорванные на куски, с переломанными костями, обломки его ассегая и четверо мертвых бабуинов. Отец мой очень встревожился, но все же не отпустил Гендрику, говоря, что она человек и что мы обязаны вернуть ее людям. В известной степени нам это удалось. После убийства Гендрика бабуины исчезли из нашей округи и возвратились совсем недавно. После ухода бабуинов мы наконец решились выпустить Гендрику на свободу. К этому времени она очень ко мне привязалась. И все же при первой же возможности убежала. Но к вечеру возвратилась. Она искала бабуинов и не нашла. Вскоре после этого она начала говорить — я ее научила, — и с того времени полюбила меня так, что не оставляет одну. Мне кажется, она бы умерла, если б я уехала. День-деньской она глядит на меня, а ночью спит на полу моей хижины. Однажды она даже спасла мне жизнь, когда я тонула в разлившейся реке. Но она ревнива и ненавидит всех остальных людей. Заметьте, как сверкает она на вас глазами, потому что я говорю с вами! Я взглянул на Гендрику. Она шла с ребенком на руках и искоса зло на меня посматривала. Пока я размышлял над странной историей женщины-бабуинки, я думал, что лучше держаться от нее подальше, тропа сделала внезапный поворот. — Посмотрите! — сказала Стелла. — Вот наш дом. Правда, он прекрасен? Он действительно был прекрасен. Здесь, на западном склоне высокой горы, образовалось большое углубление, имевшее в поперечнике восемьсот — тысячу ярдов. Оно простиралось на три четверти мили. За ним шла отвесная стена высотой в несколько сот футов, а еще дальше высилась, уходя в поднебесье, большая гора Бабиан. Пространство, находившееся как бы в объятиях горы, состояло из трех террас, расположенных одна над другой, как если бы их распланировала рука человека. Справа и слева от верхней террасы зияли пропасти, в которые стекали потоки. Водопады были довольно большие, хотя низвергались с незначительной высоты. Эти два потока текли по обе стороны замкнутого пространства: один — на север, а другой, по течению которого мы следовали, — вокруг подножия горы. Стекая с террас, они превращались в каскады, так что взору приближающегося путника представлялось сразу восемь водопадов. На берегу ручья слева от нас располагались краали кафров. Хижины, стоявшие правильными группами, имели веранды, как у построек басуто. Значительная часть всего участка была возделана. Я сразу заметил все это, так же как и необыкновенное плодородие почвы, залегавшей глубоким слоем: она смывалась с горных вершин на протяжении многих веков. Затем, следуя вдоль прекрасной проезжей дороги, по которой мы теперь ехали (она извивалась между террасами), мой взор остановился на главном чуде этого пейзажа. В центре верхней платформы, или террасы, площадью в восемь-десять акров, в роще апельсиновых деревьев, сверкали белизной постройки, каких мне еще не доводилось видеть. Они располагались тремя группами — одна в центре и две по бокам, немного позади. Но, как я узнал впоследствии, все они были сооружены по одному плану. В центре находилось здание, построенное как обыкновенная зулусская хижина, то есть в виде улья. Но только она была раз в пять крупнее самой большой из виденных мною хижин, материалом для ее постройки послужили глыбы обтесанного белого мрамора, сложили их люди, которые обладали недюжинными познаниями и опытом в деле возведения сводчатых зданий. Глыбы были соединены с такой точностью и искусством, что было трудно определить места стыков. От центральной хижины отходили три крытые галереи, которые вели в другие здания, совершенно такой же формы, только поменьше. Каждое окружала мраморная стена высотой около четырех футов. Разумеется, мы находились еще слишком далеко от строений, чтобы разглядеть все эти подробности, но я сразу же получил общее представление о них и был поражен увиденным. Даже старый Индаба-Зимби, на которого не произвела впечатления женщина-бабуин, соизволил выразить удивление. — Ого! — сказал он. — Тут полно чудес. Кто и когда видел краали, построенные из белого камня? Стелла весело поглядела на нас, но ничего не сказала. — Краали построил ваш отец? — наконец выдавил я из себя. — Мой отец? Конечно, нет, — ответила она, — разве один белый человек смог бы возвести такие постройки, да еще проложить эту дорогу? Он нашел их готовыми. — Кто же тогда построил их? — снова поинтересовался я. — Не знаю. Отец думает, что они очень древние, ибо нынешние жители этих мест не знают, как уложить один камень на другой, а хижины построены так замечательно, что хотя им, видимо, уже несколько веков, ни один камень не сдвинулся с места. Я могу показать вам карьер, где добывался мрамор; он находится поблизости, а позади него — вход в древний рудник, где, как полагает мой отец, добывали серебро. Быть может, рудокопы и построили мраморные хижины. Мир стар, и несомненно, что многие из живших прежде народов теперь забыты[101]. Дальше мы ехали молча. Я видел в Африке много прекрасного, и в подобных случаях всякие сравнения пошлы и бесполезны. Думаю, однако, что никогда прежде не видал столь прекрасного пейзажа. Восхищала меня не какая-либо деталь его, а весь вид в целом. Могучая гора над бескрайними равнинами, огромные скалы, водопады, переливавшиеся всеми цветами радуги, реки, прорезавшие возделанные плодородные земли, тронутая золотом зелень апельсиновых деревьев, блестящие купола мраморных хижин… А над всем этим царила тишина вечера и бесконечное великолепие солнечного заката, который окрасил небосвод сверкающими красками и окутал гору и утесы пурпурно-золотистой мантией, отражаясь в спокойном лике вод, словно улыбка божества. Возможно, что контраст с ужасными днями и ночами, проведенными в безнадежной пустыне, еще усиливал впечатление, а красота девушки, шедшей рядом, довершала очарование. Ибо я уверен в том, что из всего милого и прекрасного, что предстало тогда моему взору, она была всего милее и прекраснее. Да, я быстро нашел свою судьбу. Но как долго придется мне ждать, чтобы найти ее вновь?Глава 8
МРАМОРНЫЕ КРААЛИ
Наконец мы достигли последней платформы, или террасы, и придержали лошадей у стены, окружавшей центральную группу мраморных хижин — мне приходится называть их так, за неимением лучшего названия. Наше приближение было замечено туземцами. Их этническую принадлежность мне так и не удалось точно установить. Они скорее относились к басуто и вообще к миролюбивой части народов банту, чем к зулусам и иным воинственным племенам. Несколько человек подбежали, чтобы отвести лошадей. На нас они взирали с удивлением и даже со страхом. Мы спешились. Мне это удалось с большим трудом, и если бы не помощь Стеллы, я не удержался бы на ногах. — Теперь вам следует повидать моего отца, — сказала она. — Не знаю, что он подумает, все это так странно. Гендрика, отнеси девочку в мою хижину, дай ей молока и положи в мою постель. Я скоро приду. Гендрика, криво улыбаясь, ушла выполнять приказание хозяйки, а Стелла повела меня через узкие ворота к мраморной стене, окружавшей участок почти в три четверти акра. На нем был разбит чудесный сад, где росло много европейских овощей и цветов, а также неизвестных мне растений. Вскоре мы пришли к центральной хижине, и тут я заметил необыкновенную красоту каменной кладки и прекрасную ее обработку. В хижину напротив ворот вела дверь современного типа, вытесанная довольно грубо из красноватого дерева, выглядевшего так, словно его разрисовали иглой. Стелла открыла дверь, и мы вошли в просторную комнату с высоким потолком и стенами из гладкого полированного мрамора. Она была освещена не ярко, но достаточно: свет падал через особые отверстия в крыше, с которой дождевая вода скатывалась по свесам. Мраморный пол устилали циновки местного производства и шкуры животных. Вдоль стен тянулись книжные шкафы, в центре стоял стол, а вокруг него располагались стулья с сиденьями из римпи — полос, вырезанных из шкур. Позади стола находилась кушетка, а на ней лежал с книжкой в руках мужчина. — Это ты, Стелла? — спросил голос, который и через столько лет показался мне знакомым. — Где ты была, дорогая? Я уже начал думать, что ты опять заблудилась. — Нет, дорогой папа, я не только не заблудилась, а сама кое-кого нашла. В этот момент я выступил вперед, так что свет упал на мое лицо. Старый джентльмен не без труда приподнялся с кушетки и довольно учтиво поклонился. Это был красивый старик с длинной седой бородой, глубоко сидевшими темными глазами и бледным лицом, на котором сохранились следы физических и духовных страданий. — Добро пожаловать, сэр, — сказал он. — В этих дебрях я давно уже не видел белого лица, а ваше лицо, к тому же, если не ошибаюсь, выдает в вас англичанина. За двенадцать лет здесь побывал только один наш соотечественник, да и тот, к сожалению, оказался отщепенцем, бежавшим от правосудия. Тут он снова поклонился и протянул мне руку. Я взглянул на него и внезапно вспомнил его фамилию. — Как вы поживаете, мистер Керсон? — спросил я, пожимая ему руку. Он отшатнулся, словно ужаленный. — Кто сказал вам мою фамилию?! — вскричал он. — Это мертвое имя. Стелла, ты сказала? Я запретил тебе произносить его. — Я и не произносила, отец. Никогда не произносила, — ответила она. — Сэр, — вмешался я. — Если позволите, я объясню, откуда мне известна ваша фамилия. Помните ли, как много лет назад вы вошли в дом одного священника в Оксфордшире, чтобы сообщить ему о вашем решении навсегда покинуть Англию? Он кивнул головой. — А помните вы маленького мальчика, который сидел на коврике перед камином и рисовал? — Помню, — сказал он. — Этим мальчиком был я, сэр. Мое имя — Аллан Квотермейн. Мои братья и мать, которые были тогда больны, все умерли, мой отец, — ваш старый друг — тоже. Как и вы, он эмигрировал и в прошлом году скончался в Капской колонии. Но это еще не конец рассказа. Мы с кафром и маленькой девочкой, пережив множество приключений, много дней блуждали без воды по Негодным землям. Совершенно обессилев, мы лежали без сознания и, несомненно, погибли бы там, если б не ваша дочь, мисс… — Зовите ее Стеллой, — поспешно сказал он. — Я не выношу этой фамилии. Я отрекся от нее. — Мисс Стелла случайно нашла нас и спасла нам жизнь. — Вы сказали «случайно», Аллан Квотермейн? Игра случая не имела здесь большого значения. Подобные случаи происходят не по нашей, а по иной воле. Добро пожаловать, Аллан Квотермейн, сын моего старого друга. Мы живем здесь отшельниками, единственный наш друг — природа, но все, что мы имеем, — ваше, на столько времени, на сколько вы пожелаете. Но вы, вероятно, умираете с голоду. Прекратим пока этот разговор. Стелла, пора подавать на стол. Поговорим завтра. По правде говоря, я не помню почти ничего из событий того вечера. Я впал в какое-то оцепенение. Знаю, что сидел за столом рядом со Стеллой и ел с аппетитом. Что было потом — совершенно не помню. Проснулся я в удобной постели, в хижине, построенной и спланированной по типу центральной. Пока я размышлял о том, который теперь час, явился туземец с чистой одеждой и — о блаженство! — принес ванну, выдолбленную из дерева. Я встал и почувствовал, что силы вернулись ко мне, что я совсем другой человек. Затем я оделся и по крытому проходу направился в центральную хижину. Там уже был подан завтрак, на столе я увидел обилие вкусных вещей, каких не пробовал уже много месяцев. Я принялся рассматривать их со здоровым аппетитом. Подняв затем глаза, я увидел куда более восхитительное зрелище: в одной из дверей, которые вели в спальные помещения, стояла Стелла, держа за руку маленькую Тоту. Она была очень просто одета, в свободное голубое платье с белым воротником, перехваченное в талии кожаным пояском. На груди был приколот букетик цветов апельсинового дерева, а волнистые волосы были собраны на изящной головке в узел. Она приветливо улыбнулась мне, спросила, как я спал, а затем подвела Тоту, чтобы я поцеловал ребенка. Благодаря ее нежным заботам девочка совершенно преобразилась. На ней было опрятное платье из той же голубой материи, что и у Стеллы, белокурые волосы были причесаны. Если б не ожоги от солнца на лице и руках, было бы трудно поверить, что это тот самый ребенок, которого мы с Индаба-Зимби тащили час за часом по раскаленной, безводной пустыне. — Нам придетсязавтракать одним, мистер Аллан, — сказала Стелла. — Ваш приезд так взволновал отца, что он еще не встал. О, вы знаете, как я благодарна за то, что вы пришли к нам. Последнее время я так за него тревожилась. Он становится все слабее и слабее; силы словно вытекают из него. Он теперь почти не выходит из крааля, о ферме приходится заботиться мне одной; он ничего не в силах делать — только читает и размышляет. В этот момент вошла Гендрика, неся в одной руке кувшин с кофе, а в другой — с молоком. Оба кувшина она поставила на стол, бросив на меня не очень-то приветливый взгляд. — Осторожнее, Гендрика, ты проливаешь кофе, — сказала Стелла. — Вас не удивляет, мистер Аллан, что мы пьем здесь кофе? Я скажу вам, откуда он, — мы сами его выращиваем. Это моя идея. О, нам есть что показать вам. Вы и не представляете, чего только мы не переделали за то время, что живем здесь. Рабочей силы у нас здесь хватает, тем более что окрестные жители считают отца своим вождем. — Да, — сказал я, — но как вы получаете все эти предметы цивилизации? — тут я показал на книги, посуду, ножи и вилки. — Очень просто. Большую часть книг отец взял с собой, когда мы впервые отправились в дебри Африки. Их был почти полный фургон. Кроме того, каждые несколько лет мы отправляем караван из трех фургонов в Порт-Наталь. Фургоны загружаются слоновой костью и другими товарами, а возвращаются с предметами, которые мы выписываем для себя из Англии. Поэтому мы, хотя и живем в столь диких местах, не совсем отрезаны от мира. Гонцы, посылаемые в Наталь, возвращаются через три месяца, а фургоны — через год. Месяца три назад благополучно вернулась последняя такая экспедиция. Слуги очень нам преданы и некоторые говорят по-голландски. — А вы когда-нибудь ездили с фургонами? — спросил я. — С детских лет я не удалялась от горы Бабиан больше чем на тридцать миль, — ответила она. — За одним исключением, вы, мистер Аллан, первый англичанин, с которым я познакомилась, если не считать книжных героев. Вероятно, я показалась вам очень дикой и невоспитанной, но у меня есть одно преимущество — хорошее образование. Отец сам учил меня, и, быть может, я знаю и то, что осталось вам неизвестным. Например, я читаю по-французски и по-немецки. Мне кажется, что сначала у отца было намерение предоставить меня самой себе, но потом он от него отказался. — И у вас нет желания увидеть мир? — спросил я. — Иногда, когда я чувствую себя одинокой, мне этого хочется, — сказала она. — Но, вероятно, мой отец прав: этот мир может напугать и ошеломить меня. Отец, во всяком случае, никогда не вернется в цивилизованную страну. Он вбил себе в голову — не знаю уж почему, — что нашу фамилию нельзя произносить, и не терпит, когда ее все-таки произносят. Короче говоря, мистер Квотермейн, человек не волен устраивать свою жизнь сам, а принимает ее такой, какая она есть. Вы позавтракали? Тогда пойдемте, я покажу вам дом. Я встал и отправился за шляпой в хижину, где спал. К тому времени, когда я вернулся, мистер Керсон — ибо такова была его фамилия, хотя он не разрешал произносить ее, — уже пришел завтракать. Он сказал, что теперь чувствует себя лучше и пойдет с нами, если Стелла возьмет его под руку. Так мы двинулись в путь, а за нами шли Гендрика с Тотой и старый Индаба-Зимби, который, свежий как огурчик, ожидал меня снаружи. Ничто не могло утомить этого старика. Пейзаж, открывшийся с террасы, почти не уступал по красоте виду снизу на гору. Как я уже сказал, мраморные краали были обращены на запад, а потому вся верхняя терраса почти до одиннадцати часов утра находилась в тени высокой горы — большое преимущество в этом жарком климате. Сначала мы прошлись по прекрасно обработанному саду, который поразил меня своим плодородием. Там работали трое или четверо туземцев, и все они приветствовали моего хозяина словом «баба», что означает «отец». Затем мы посетили две другие группы мраморных хижин. В одной помещались конюшни и службы, другая использовалась как склад, а центральная была превращена в часовню. Мистер Керсон не был рукоположен, но он искренне стремился обратить в христианство туземцев (большинство их бежали к нему, спасаясь от врагов) и так давно совершал простейшие церковные обряды, что стал считать себя священником. Он, например, всегда венчал тех из своих людей, которые соглашались соблюдать единобрачие, и крестил их детей. Осмотрев мраморные хижины, эти замечательные памятники древности, и полюбовавшись на апельсиновые и другие фруктовые деревья и виноградники, благодаря замечательной почве и климату не требовавшие особого ухода, мы спустились на следующую террасу, где вовсю шли полевые работы. Мне кажется, это была лучшая ферма из виденных мной в Африке. Воды для орошения хватало, луга, расстилавшиеся внизу, стали пастбищами для сотен голов крупного рогатого скота и лошадей. Население было очень трудолюбиво. Мистер Керсон организовал ферму на кооперативных началах; себе он забирал только десятую часть продукции, да и на что ему больше в этой стране полного изобилия? Поэтому туземцы, которые, кстати сказать, звали себя детьми Томаса, порядком разбогатели. Они выносили все свои споры на рассмотрение «отца», он же был судьей и по уголовным делам. Наказаниями за проступки служили заключение, конфискация имущества, а за наиболее тяжкие — изгнание из общины, которое воспринималось этими обласканными судьбою туземцами с таким же ужасом, с каким Адам воспринял приказ покинуть рай. Опершись на руку дочери, старый мистер Керсон с гордостью смотрел вокруг себя. — Все это дело моих рук, Аллан Квотермейн, — сказал он. — Отрекшись от цивилизации, я случайно забрел сюда. Мне хотелось поселиться в самых отдаленных местах — и вот я попал в эти дебри. Зелень все заглушила, кроме террас, куполов мраморных хижин да водопада. Я использовал хижины, расчистил участок для сада и посадил апельсиновые деревья. В то время со мной было только шестеро туземцев, но мало-помалу мое племя росло и теперь насчитывает тысячу душ. Здесь царят мир и изобилие. Я имею все необходимое, а большего мне не нужно. Небо благоволило ко мне — пусть будет так до самого конца, который уже близок. А теперь я устал и хочу вернуться. Если желаете посмотреть старый карьер и спуск в рудник, Стелла покажет их вам. Нет, любовь моя, тебе незачем идти со мной — я доберусь и один. Смотри, вон несколько старейшин дожидаются меня. Он ушел, мы же по берегу одной из речек прошли позади хижин и достигли карьера, где когда-то добывался мрамор для их строительства. Тут мы увидели толстый пласт белейшего и красивейшего мрамора. Ничего подобного я в Натале не встречал. Не могу сказать, кто именно разрабатывал этот пласт… Кстати, от этих строителей осталась только отлично обработанная бронзовая кирка, которую Стелла нашла однажды в карьере. Затем мы взобрались вверх по склону горы к входу в древние рудники, расположенные в ущелье. В них скорее всего добывали серебро. Ущелье было длинным и узким. Как только мы вошли в него, со всех сторон послышались лай и ворчание, почти оглушившее нас. Я сразу понял: в ущелье полно бабуинов. Они со всех сторон спускались к нам по скалам, проявляя бесстрашие, показавшееся мне неестественным. Стелла немного побледнела и ухватилась за мою руку. — Это очень глупо с моей стороны, — прошептала она. — Я не пуглива, но с тех пор как они убили Гендрика, я не выношу вида этих животных. Мне всегда кажется, что в них есть что-то человеческое. Между тем бабуины приближались, переговариваясь между собой. Тота заплакала и прижалась к Стелле. Стелла прижалась ко мне, я же и Индаба-Зимби приняли возможно более хладнокровный вид. Одна лишь Гендрика сохраняла на своем обезьяньем лице спокойную улыбку. Когда большие обезьяны подошли совсем близко, она вдруг что-то крикнула. Словно по команде, они мгновенно прекратили свою отвратительную трескотню. Тогда Гендрика с ними заговорила — другого выражения я не нахожу. Она стала издавать такие же звуки, как бабуины, когда обращаются друг к другу. Я знавал готтентотов и бушменов, которые утверждали, что могут говорить с бабуинами и понимают их язык, но признаюсь, ни до, ни после не был сам свидетелем такого разговора. Гендрика стонала, ворчала, пищала, цокала и издавала множество других ужасающих звуков, которые в совокупности походили на увещевания. Как бы то ни было, бабуины слушали ее. Один что-то проворчал в ответ, и все стадо поднялось на скалы. Это поразило меня. Не произнеся ни слова, мы повернули к краалю. Гендрика находилась слишком близко, чтобы я мог заговорить. Когда мы достигли столовой, Стелла вошла внутрь, а за нею и Гендрика. Тут Индаба-Зимби потянул меня за рукав. — Макумазан, — сказал он. — Женщина-бабуинка — чертовка. Будь осторожен, Макумазан. Она любит ту Звезду (такое прозвище дали Стелле туземцы) и ревнует ее. Будь осторожен, Макумазан, не то Звезда зайдет.Глава 9
«ПОЙДЕМ, АЛЛАН!»
Мне очень трудно описать период между моим появлением у горы Бабиан и женитьбой на Стелле. В моих воспоминаниях это время благоухает ароматом цветов и как бы подернуто сладостной дымкой летник вечеров. Сквозь нее пробивается столь же сладостный звук голоса Стеллы, светятся звездным светом ее глаза. Мне кажется, что мы полюбили друг друга с первого взгляда, хотя долгое время не произносили ни единого слова любви. Каждый день я обходил ферму в сопровождении Гендрики и Тоты, Стелла же занималась тысячью дел, которые легли на нее из-за того, что отец ее становился все слабее. Впрочем, со временем всеми делами стал заниматься я, она же только сопровождала меня. Мы проводили вместе весь день. После ужина, когда спускалась ночь, мы вместе гуляли по саду, потом наконец входили в дом, и некоторое время ее отец читал нам вслух какого-нибудь поэта или историка. Если он чувствовал себя плохо, читала Стелла. После этого мистер Керсон произносил краткую молитву, и мы расходились до утра, которое приносило с собой счастливый миг новой встречи. Так шли недели, и я все лучше узнавал свою любимую. Часто я задумывался над тем, не обманывает ли меня нежное чувство к ней и бывают ли на самом деле женщины столь милые и очаровательные, как она. Быть может, одиночество научило ее такой глубине чувства, такому благородству? А долгие годы жизни наедине с природой придали особое изящество, то самое, какое мы находим в раскрывающихся цветах и расцветающих деревьях? Не у потоков ли, непрерывно стекающих со скал у ее дома, заимствовала она свой журчащий голосок? А нежность вечернего неба, под которым она так любила гулять, — не она ли легла тенью на ее лице? И не свет ли вечерних звезд отражался в ее спокойных очах? Во всяком случае, для меня она была воплощением грез, которые посещают во сне нас, грешных. Такой рисует ее моя память, такой надеюсь я снова увидеть ее, когда отлетит сон и придет пора исполнения желаний. Наконец наступил день, — самый благословенный в моей жизни, — когда мы признались друг другу в любви. Все это утро мы были вместе, но после обеда мистер Керсон почувствовал себя так плохо, что Стелла осталась с ним. За ужином мы встретились снова, а после ужина она уложила спать маленькую Тоту, к которой очень привязалась, и мы вышли в сад, оставив мистера Херсона дремать на кушетке. Ночь была теплая, и мы молча прошли по саду к апельсиновой роще и уселись на скале. Легкий ветерок осыпал нас дождем цветочных лепестков и далеко разносил их нежный аромат. Кругом царило молчание, прерываемое только шумом водопадов, который то затихал до слабого шепота, то громко звучал у нас в ушах, когда ветер менял направление. Луна еще не показывалась, но темные тучи, плывшие по небу над нами после недавнего дождя, блестели серебром. Это означало, что она уже ярко светит за вершиной горы. Стелла тихим нежным голосом заговорила о своей жизни в Африке, о том, как она ее полюбила, как в уме ее одни идеи сменяли другие, какое представление составила она по прочитанным книгам о большом, вечно спешащем мире. Оно было достаточно странным; в нем были нарушены все пропорции, оно напоминало скорее мечту, чем действительность, мираж, а не реальный облик вещей. Большие города, и особенно Лондон, возбуждали ее воображение. Ей было трудно представить себе толчею, шум и спешку, густые толпы мужчин и женщин, чуждых друг другу и лихорадочно гоняющихся под пасмурным небом за богатством и наслаждениями, топчущих друг друга в лихорадке конкуренции… — К чему все это? — серьезно спросила она. — Чего они ищут? Жизнь так коротка, зачем же они тратят годы попусту? Я сказал, что в большинстве случаев их подгоняет суровая необходимость, но ей было трудно понять меня. Живя среди полного изобилия, на плодородной земле, она, видимо, не могла осознать, что миллионы людей не в состоянии изо дня в день утолять свой голод. — Никогда не захочу туда поехать, — продолжала она. — Я бы до смерти удивилась и испугалась. Жить так — противоестественно. Бог поселил Адама и Еву в саду и хотел, чтобы дети их жили так же в мире, в любви к прекрасному. Вот как я понимаю идеальную жизнь. Другой мне не надо. — Однажды вы как будто сказали мне, что иногда чувствуете себя одинокой… — сказал я. — Да, — простодушно ответила она, — но то было до вашего приезда. Теперь я больше не чувствую себя одинокой, моя жизнь идеальна — идеальна, как эта ночь. В этот миг из-за вершины горы вышла полная луна, и лучи ее далеко осветили туманную долину. Они сверкали в воде, переливались на равнине, забирались в потаенные расщелины между скалами, словно окутывая прекрасные формы природы серебряной фатой, сквозь которую таинственно просвечивала ее красота. Стелла взглянула на уходившие вниз террасы долины. Потом повернула голову и посмотрела на исчерченный шрамами лик серебристо светившей луны. И наконец обратила свой взор ко мне. На лице ее лежала красота этой ночи, аромат этой ночи был в ее волосах, тайна этой ночи сверкала в ее прикрытых ресницами очах. Она взглянула на меня, я взглянул на нее, и в наших сердцах расцвела любовь. Мы не проронили ни слова, слов у нас не было, но мы медленно приблизились друг к другу, пока губы не прижались к губам в знак вечной любви. Она первая нарушила священное молчание и заговорила изменившимся голосом, тихим и идущим от самого сердца. Он действовал на меня, как негромкие аккорды арфы. — О, теперь я понимаю, — сказала она, — теперь я знаю, почему мы одиноки и как можем избавиться от своего одиночества. Теперь я знаю, что вызывают в нас красота неба, журчание воды и аромат цветов. Во всем звучит голос Любви, хотя мы этого не понимаем, пока услышим его. Но стоит его услышать, как загадка разгадана и врата наших сердец раскрываются… Пойдем домой, Аллан. Пойдем, прежде чем рассеются чары, чтобы в любой беде, которая может на нас обрушиться, будь то скорбь, смерть или разлука, нас всегда спасало от отчаяния воспоминание об этом чудном миге. Пойдем, дорогой, пойдем! Я поднялся как во сне, все еще держа ее за руку. При этом мой взгляд упал на что-то белое в листве апельсинового дерева подле меня. Я ничего не сказал, но всмотрелся попристальнее. Ветерок шевелил листья, свет луны на мгновение ярко осветил белый предмет. То было лицо Гендрики — женщины-бабуинки, как называл ее Индаба-Зимби. На нем была написана такая ненависть, что я вздрогнул. Я ничего не сказал. Лицо исчезло, и тотчас же я услышал, как в скалах за нами залаял бабуин. Мы пересекли сад, и Стелла вошла в центральную хижину. Я увидел Гендрику, стоявшую в тени подле двери, и подошел к ней. — Гендрика, — сказал я, — зачем ты следила в саду за мной и мисс Стеллой? Она оскалилась так, что зубы ее засверкали в лунном свете. — Разве я не следила за ней все эти годы, Макумазан? И неужели перестану из-за того, что белый бродяга пришел ее украсть? Зачем ты целовал ее в саду, Макумазан? Как смеешь ты целовать ту, кого мы почитаем как Звезду? — Я поцеловал ее потому, что люблю ее и она любит меня, — сказал я в ответ. — Какое тебе дело до этого, Гендрика? — Потому что любишь ее… — прошипела она. — А я не люблю мою спасительницу от бабуинов? Я такая же женщина, как и она, а ты — мужчина. В краалях говорят, что мужчины любят женщин сильнее, чем женщины женщин. Но это ложь, хотя и верно, что когда женщина любит мужчину, она забывает про другую любовь. Разве я этого не видела? Я собираю для нее цветы — прекрасные цветы, забираюсь за ними на скалы, куда ты никогда не решился бы за мной последовать. Ты же срываешь цветок апельсинового дерева в саду и подаешь ей. А она что делает? Берет цветок, прячет его на груди, а моим цветам дает увянуть. Я окликаю ее — она не слышит меня, занятая своими мыслями. Но вот ты что-то шепнул вдалеке от нее, она услыхала и улыбнулась. Прежде она иногда целовала меня. Теперь целует эту белую пискуху, которую ты принес, — потому что… — принес ее ты. О, я все вижу, все. Ты крадешь ее у нас, крадешь для себя, а те, кто любил ее до твоего прихода, уже забыты. Берегись, Макумазан, берегись, а не то я отомщу тебе. Ты ненавидишь меня, считаешь полуобезьяной. Что ж, я жила с бабуинами, а они умны — да, они горазды на всякие штуки и умеют делать такое, чего не можешь ты; я же умнее их, ибо восприняла мудрость белых людей, и я говорю тебе: «Ступай осторожнее, Макумазан, не то упадешь в яму». Бросив на меня еще один злобный взгляд, она удалилась. Я остался на месте, размышляя. Меня пугало это странное существо, в котором, казалось, хитрость воспитавших ее обезьян соединилась со страстностью людей. Я предчувствовал, что она причинит мне зло. И все же в ее свирепой ревности было что-то трогательное. Обычно считают, что это чувство бывает сильным только тогда, когда предмет любви принадлежит к другому полу. Сознаюсь, однако, что и в этом, и во многих других случаях, с которыми мне приходилось сталкиваться, все обстояло иначе. Я знавал мужчин, особенно из числа нецивилизованных, которые ревновали друга или хозяина не менее сильно, чем любовник любовницу. А кто не наблюдал проявления этого чувства в отношениях между родителями и детьми? Чем ниже спускаешься по лестнице жизни, тем пышнее расцветает эта страсть. Можно сказать, что она достигает своего апогея у зверей. Женщины ревнивее мужчин, слабодушные мужчины ревнивее тех, которые сильны духом и умом, а всего ревнивее животные. Гендрика в известном смысле недалеко ушла от животных, чем, возможно, и объясняется та свирепая ревность, которую вызывало в ней увлечение хозяйки. Стряхнув с себя зловещие предчувствия, я вошел в центральную хижину. Мистер Керсон лежал на кушетке, а рядом с ним стояла на коленях Стелла, держа его руку и положив голову ему на грудь. Я сразу же понял, что она рассказала ему о происшедшем между нами, и не жалел об этом, ибо всякий кандидат в зятья охотно передоверяет это тягостное объяснение. — Идите сюда, Аллан Квотермейн, — сказал мистер Керсон почти сурово. Сердце у меня упало, я испугался, как бы он не предложил мне уйти восвояси. Но я все-таки приблизился к нему. — Стелла сказала мне, — продолжал он, — что вы решили пожениться. Она сказала, что любит вас и что вы тоже признались ей в любви. — Я действительно люблю ее, сэр, — прервал я его. — Люблю по-настоящему. Никто на свете не любил женщину сильнее. — Благодарение небу, — сказал старик. — Слушайте, дети мои. Много лет назад на меня обрушились беда и позор. Беда настолько страшная, что, как мне иногда кажется, у меня помутился от нее разум. Во всяком случае, я решился на поступок, который в глазах других людей говорил о моем безумии, и отправился со своим единственным ребенком в дикие дебри, чтобы жить подальше от цивилизации и ее зол. Я открыл это место, и здесь мы провели много лет — достаточно счастливо и даже делая добро, но избрав образ жизни, неестественный для людей нашей расы и общественного положения. Сначала я намеревался предоставить дочери расти в состоянии полнейшего неведения, превратить ее в дитя природы, но со временем понял, что план мой безумен и порочен. Я не имел права низвести ее до уровня окружавших нас дикарей, так как, хотя плод познания горек, он дает возможность отличать добро от зла. Поэтому я дал ей наилучшее образование, какое мог, и теперь знаю, что и умом она никак не уступает своим сестрам — детям цивилизованного мира. Она выросла, стала взрослой девушкой, и тут мне пришло в голову, что я поступаю с ней очень дурно, изолируя в дебрях от соплеменников, где она не может найти ни друга, ни спутника жизни. Тем не менее я не мог решиться на то, чтобы возвратиться к активной жизни: мне полюбились эти места. Я страшился вернуться в мир, от которого отрекся. Снова и снова я откладывал окончательное решение. В начале этого года я заболел. Некоторое время я надеялся, что мне станет лучше, но наконец понял, что этому не бывать, что надо мной простерта длань смерти. — О нет, папа, только не это! — воскликнула Стелла. — Да, дорогая, это так. Теперь ты сможешь позабыть нашу разлуку, окунувшись в счастье новой встречи, — тут он взглянул на меня и улыбнулся. — Итак, осознав все это, я решился оставить дом и отправиться к побережью, хотя хорошо знал, что путешествие убьет меня. Сам я никогда до побережья не добрался бы, но Стелла в конце концов достигла бы его, и это все же лучше, чем оставить ее одну в дебрях. В тот самый день, когда я принял это решение, Стелла нашла вас умирающим на Негодных землях, Аллан Квотермейн, и привела сюда. Из всех людей она привела именно вас — сына моего близкого друга. Когда-то, еще младенческими руками, вы спасли ее жизнь, чтобы она потом смогла спасти вашу. В то время я ничего не сказал, но усмотрел в этом перст Божий и решил подождать и посмотреть, что у вас получится. В худшем случае я смог бы доверить вам после моей смерти доставить ее невредимой на побережье. Но уже давно понял я, как обстоит дело, а теперь все вышло так, как я желал, о чем молился. Бог да благословит вас обоих, дети мои. Будьте счастливы в вашей любви. Да продлится она до самой смерти и после нее. Бог да благословит вас обоих! — повторил он, протянув мне руку. Я пожал ее, а Стелла поцеловала отца. Затем он снова заговорил. — Если вы оба согласны, — сказал он, — я обвенчаю вас в ближайшее воскресенье. Мне хочется сделать это поскорее, ибо я не знаю, сколько мне еще отпущено жить. Полагаю, что этот обряд, совершенный в торжественной обстановке и в присутствии свидетелей, будет совершенно законным; но вам, разумеется, при первой же возможности придется повторить его со всеми формальностями. А теперь мне осталось сказать вот что: когда я покидал Англию, мое состояние было совершенно расстроено. За эти годы дела мои поправились, и, как я узнал, когда фургоны последний раз вернулись из Порт-Наталя, накопившиеся доходы позволили погасить всю задолженность. Поэтому вы женитесь не без приданого, но, разумеется, наследницей моей будет Стелла, и я хочу поставить одно условие: как только я умру, вы уедете отсюда и вернетесь в Англию. Я не требую, чтобы вы всегда жили там. Это может оказаться невозможным для людей, которые, подобно вам, выросли в диких дебрях. Но я прошу вас избрать там место постоянного жительства. Согласны ли вы? Обещаете ли выполнить мое желание? — Согласен, — ответил я. — Я тоже, — сказала Стелла. — Отлично, — ответил он. — Я очень устал. Бог да благословит вас обоих. Доброй ночи!Глава 10
ГЕНДРИКА ЗЛОУМЫШЛЯЕТ
На следующий день у меня был разговор с Индаба-Зимби. Прежде всего я сообщил ему, что собираюсь жениться на Стелле. — О! — сказал он. — Так я и думал, Макумазан, разве я не говорил тебе, что ты найдешь счастье в этом путешествии? Большинству людей приходится довольствоваться тем, чтобы глядеть на Звезду издалека, тебе же дано прижать ее к своему сердцу. Но запомни, Макумазан, что и звезды заходят. — Неужели ты не можешь перестать каркать хоть на один день? — сердито ответил я, потому что от его слов меня пронзил страх. — Истинный пророк должен говорить и о плохом, и о хорошем, Макумазан. Я говорю только то, что думаю. Но что из того? Что есть жизнь человека, как не потери, следующие одна за другой, пока он сам не утратит жизнь? Но в смерти мы можем найти все то, что потеряли. О! Я не верю в смерть. Это только перемена — вот и все, Макумазан. Подумай, вот идет дождь. Дождевые капли, которые составляли воду в облаках, падают одна возле другой. Они уходят в землю. Потом показывается солнце, почва высыхает, капли исчезают. Глупец, взглянув на землю, говорит, что капли мертвы, они никогда больше не будут вместе, не станут снова падать подле друг друга. Но я умею вызывать дождь и знаю его повадки. Капли снова поднимутся к небу в утреннем тумане, снова станут тем, чем были прежде. Мы — капли дождя, Макумазан. Падение — это наша жизнь. Когда мы уходим в землю — это смерть, а когда снова поднимаемся к небу — что это, Макумазан? Нет! Нет! Находя, мы теряем, а когда нам кажется, что теряем, то на самом деле находим. Я не христианин, Макумазан, но я стар, много наблюдал и видел такое, чего, быть может, не замечают христиане. Итак, я сказал. Будь счастлив со своей Звездой, а если она зайдет, потерпи, Макумазан, и она взойдет снова. Ждать придется недолго. Наступит день, когда ты уснешь, а открыв снова глаза, увидишь другое небо, и на нем будет сиять твоя звезда, Макумазан. В то время я ничего не ответил. Я не мог говорить о подобных вещах. Но как часто в последующие годы я думал об Индаба-Зимби и его пленительной улыбке и находил в этом утешение. — Индаба-Зимби, — сказал я, переходя на другую тему. — Мне нужно что-то сказать тебе. И я рассказал ему об угрозах Гендрики. Он слушал меня с каменным лицом, время от времени качая своей белой прядью. Но я заметил, что мой рассказ встревожил его. — Макумазан, — сказал он наконец. — Я уже говорил тебе, что это дурная женщина. Она вскормлена молоком бабуинки, и бабуинский характер у нее в крови. Таких надо убивать, а не держать подле себя. Она сделает тебе зло, если сможет. Но я буду следить за ней, Макумазан. Гляди, Звезда дожидается тебя; иди, а не то она возненавидит меня, как Гендрика ненавидит тебя. Я послушался его с охотой, потому что, как ни привлекательна выла мудрость Индаба-Зимби, находил более глубокий смысл в самых простых словах Стеллы. Весь остаток дня я провел в ее обществе, так же как и большую часть следующих двух дней. Наконец наступил субботний вечер — канун нашей свадьбы. Лил дождь, поэтому мы не вышли в сад и провели вечер в хижине. Мы сидели, держась за руки, и говорили мало, а мистер Керсон, напротив, много рассказывал о своей молодости и о тех странах, где побывал. Потом он еще почитал вслух Библию и пожелал нам доброй ночи. Я поцеловал Стеллу и пошел спать. В свою хижину я попал через крытый проход и, прежде чем раздеться, открыл дверь, чтобы посмотреть, какая погода. Было очень темно, дождь не прекращался, но когда свет из хижины заставил мрак отступить, мне показалось, что я заметил темную фигуру, которая скрылась во мгле. Я тотчас же подумал о Гендрике — не она ли бродит возле хижины? Кстати, я ничего не сказал о Гендрике и ее угрозах ни мистеру Керсону, ни Стелле, не желая их тревожить. К тому же, я знал, что Стелла привязана к этому странному существу, и не хотел без крайней надобности колебать ее доверие к Гендрике. Минуту или две я простоял в нерешительности, а затем подумал, что если это Гендрика, то пусть она остается там, где находится. Зайдя в хижину, я задвинул на двери тяжелый деревянный засов. Последние несколько ночей Индаба-Зимби спал в крытом проходе — втором пути в хижину. Направляясь в постель, я перешагнул через него. Он завернулся в одеяло и, по-видимому, крепко спал. Убедившись, что мне нечего бояться, я перестал думать о Гендрике, тем более что был поглощен совсем иными мыслями. Я лег в постель и некоторое время думал о великом счастье, ожидающем меня, и о поразительном ходе событий, которые сделали его возможным. Несколько недель назад я брел по пустыне с умирающим ребенком, сам умирал от жажды. У меня не осталось почти ничего, кроме зарытой в землю слоновой кости, которую я не чаял когда-либо увидеть вновь. А теперь мне предстояло жениться на одной из самых очаровательных женщин на земле — женщине, которую я любил больше, чем полагал возможным, и которая любила меня. К тому же, как будто одной этой удачи было недостаточно, я приобретал весьма значительные владения, и благодаря этому мы сможем жить так, как сочтем нужным. Думая об этом, я испугался своего везения. Вспомнил грустные пророчества старого Индаба-Зимби. До сих пор он всегда предсказывал правильно. А что если и эти его пророчества сбудутся? При этой мысли я похолодел и стал молить небо сохранить нас, чтобы мы могли жить и любить друг друга. Никогда еще я так не нуждался в молитве. С молитвой на устах я уснул и увидел страшный сон. Мне приснилось, что я и Стелла стоим рядом и нас собираются венчать. Она вся в белом и блещет красотой, но красота эта дикая и пугает меня. Глаза ее сверкают, как звезды, бледный свет играет на ее лице, а ветер не шевелит ее волос. Но это еще не все: ее белое платье — это саван, а алтарь, у которого мы стоим, насыпан из земли, вынутой из могилы, что зияет между нами. Мы стоим, ожидая, чтобы нас обвенчали, но никто не приходит. Вдруг из разверстой могилы выпрыгивает Гендрика. В руке у нее нож, и им она ударяет меня, не пронзает сердце Стеллы; без единого крика моя невеста падает в могилу, продолжая глядеть на меня. За нею в могилу прыгает Гендрика. Я слышу, как ударяются о дно ее ноги. — Проснись, Макумазан, проснись! — раздался голос Индаба-Зимби. Я проснулся и вскочил с постели, обливаясь холодным потом) В темноте я услышал с другой стороны хижины шум ожесточенной схватки. К счастью, я не растерялся. Возле меня на стуле лежали спички и тонкая сальная свеча. Я зажег спичку и поднес к свече. Она разгорелась, и я увидел два тела, перекатывавшихся друг через друга на полу, и блеск стали между ними. Сало растопилось, свет погас. Боролись Индаба-Зимби и Гендрика, причем женщина одолевала мужчину, несмотря на всю его силу. Я бросился к ним. Она вырвалась из его мертвой хватки и, оказавшись наверху, занесла над ним большой нож, который держала в руке. Но я подскочил сзади, схватил ее под мышки и изо всей силы рванул к себе. Она упала навзничь и, к счастью, выронила нож. Тогда мы кинулись на нее. Боже, какая сила была у этой чертовки! Те, кто не испытал ее на себе, мне бы не поверили. Она дралась, царапалась и кусалась, был момент, когда она едва не одолела нас обоих. Во всяком случае, ей удалось вырваться. Она бросилась к постели, вскочила на нее, а оттуда подпрыгнула прямо до крыши хижины. Я никогда не видал такого прыжка и не понимал, что она задумала. В крыше имелись специальные отверстия, о которых я уже говорил. Через них проходил свет, прикрывались они свесами. Гендрика прыгнула с ловкостью обезьяны и, ухватившись за край отверстия, попыталась пролезть в него. Но тут силы, истощенные долгой борьбой, изменили ей. На мгновение она повисла на руках, потом упала на пол и потеряла сознание. — Эге! — задыхаясь, вымолвил Индаба-Зимби. — Надо связать чертовку, прежде чем она придет в себя. Я решил, что это хороший совет. Мы взяли ремень, лежавший в углу комнаты, и связали ей руки и ноги так, чтобы она не смогла освободиться от пут. Затем мы отнесли ее в проход, и Индаба-Зимби уселся на нее с ножом в руке. Я не хотел поднимать тревогу в этот час ночи. — Знаешь, как я поймал ее, Макумазан? — спросил он. — Несколько ночей я проспал здесь, держа один глаз открытым, ибо решил, что у нее есть свой план. Сегодня ночью я вовсе не смыкал глаз, хотя притворился спящим. Примерно через час после того, как ты залез под одеяло, взошла луна и через отверстие в крыше в хижину проник луч света. Но вдруг он исчез. Сначала я решил, что луну закрыло облако, но, прислушавшись, услышал шорох, как если бы кто-то протискивался в узкое отверстие. Вскоре этот кто-то повис под потолком на руках. Тут снова в хижину проник луч света, и я увидел, что поперек этого луча висит бабуинка, собираясь спрыгнуть вниз. Она держалась за край обеими руками, а во рту у нее был нож. Не успела она соскочить, как я бросился вперед и обхватил ее у пояса. Она услышала мое приближение и хотела меня ударить ножом, но в темноте промахнулась. Тут мы начали бороться, остальное ты знаешь. Ты был на волосок от смерти, Макумазан. — Это верно, на волосок, — ответил я, еще задыхаясь и стараясь прикрыть наготу клочьями своей ночной рубашки. Тут на память мне пришел страшный сон. Несомненно, он был вызван шумом, который произвела Гендрика, падая на пол, — в моем сне она свалилась в могилу. Значит, все мое сновидение продолжалось одну секунду. Что ж, сны скоротечны. Быть может, и само Время только сон, и события, которые кажутся разделенными им, на самом деле происходят одновременно. Остаток ночи мы сторожили Гендрику. Она пришла в себя и принялась отчаянно биться, чтобы разорвать ремень. Но недублёная буйволовая кожа оказалась слишком крепкой даже для Гендрики, и, к тому же, Индаба-Зимби снова бесцеремонно уселся на нее, чтобы утихомирить. Наконец она затихла. В должный час наступил день — день моей свадьбы. Я вызвал из конюшен несколько туземцев и с их помощью отнес Гендрику в тюремную хижину, где она уже сидела, когда ее маленькой принесли с гор. Там мы ее заперли. Индаба-Зимби остался сторожить ее снаружи, а я вернулся в свою спальню и оделся во все лучшее, что можно было достать в поселке Бабиан краальс. Но, взглянув в зеркало на свое лицо, я ужаснулся. Оно было покрыто царапинами от ногтей Гендрики. Я, как умел, замаскировал эти царапины и пошел пройтись, чтобы успокоиться после событий минувшей ночи и в ожидании тех, которые должны были произойти днем. Вернулся я к завтраку. В хижине-столовой Стелла дожидалась меня, одетая в простое белое платье с цветами апельсинового дерева на груди. Очень робко она подошла ко мне, но, вглядевшись в мое лицо, отпрянула. — Аллан! Что ты с собой сделал? — спросила она. Я не успел ответить, так как в хижину вошел, опираясь на палку, ее отец. Увидев меня, он тотчас же повторил вопрос. Тогда я рассказал об угрозах Гендрики и ее яростной попытке привести их в исполнение. Только об ужасном сне я умолчал. Стелла побледнела, лицо отца приняло суровое выражение. — Вам следовало сказать об этом раньше, Аллан, — сказал он. — Теперь я вижу, что поступал неправильно, стараясь цивилизовать это’ злобное и мстительное существо. Если оно и осталось человеком, то восприняло все дурные страсти воспитавших ее зверей. Что ж, я сегодня же положу этому конец. — О папа, — сказала Стелла. — Не надо ее убивать. Все это ужасно, но убить ее было бы еще ужаснее. Я очень привязалась к ней, и она, какой бы дурной ни оказалась, любила меня. Не надо убивать ее в день моей свадьбы. — Нет, — ответил ее отец, — она не будет убита, хотя заслужила смерть. Я не хочу обагрять свои руки ее кровью. Это зверь, который и ведет себя как зверь. Она возвратится туда, откуда пришла. Больше об этом ничего не было сказано, но, когда кончился завтрак, или, вернее, подобие завтрака, мистер Керсон послал за старейшиной и отдал ему некоторые приказания. Мы должны были обвенчаться после богослужения, которое мистер Керсон совершал каждое воскресное утро в большой мраморной хижине, предназначенной для этой цели. Служба началась в десять часов, но задолго до этого стали подходить с песнями туземцы, желавшие присутствовать на свадьбе Звезды. Это было красивое зрелище — мужчины во всем параде, со щитами и палками в руках, женщины и дети с зелеными ветками, папоротником и цветами. Наконец около половины девятого Стелла встала, пожала мне руку и оставила меня наедине с моими мыслями. Около десяти она снова появилась в сопровождении отца, в белой фате, с венком из цветов апельсинового дерева на вьющихся темных волосах и букетом таких же цветов в руках. Мне она показалась прекрасной грезой. Ее сопровождала маленькая Тота, веселая и взволнованная. Она была у Стеллы единственной подружкой. Затем мы все отправились в хижину, служившую церковью. Площадка перед нею была заполнена сотнями туземцев, которые при нашем появлении запели. В хижине также толпились туземцы, они молились. Мистер Керсон отслужил службу как обычно, хотя для этого ему пришлось сесть. Когда молебен закончился, — мне казалось, что он не кончится никогда, — мистер Керсон шепотом сказал, что хочет обвенчать нас при всех. Мы вышли наружу и встали в тени большого дерева, росшего у хижины. Мистер Керсон поднял руку, требуя молчания. Затем он объявил на местном наречии, что намерен обвенчать нас по христианскому обряду и на глазах у всех. После этого он совершил свадебный обряд — необычайно торжественно и красиво. Мы произнесли обет, я надел на палец Стеллы кольцо, служившее печаткой ее отцу, — другого у нас не было, — и венчание закончилось. Затем заговорил мистер Керсон. — Аллан и Стелла, — сказал он, — я верю, что этот обряд сделал вас мужем и женой перед лицом Бога и людей. Чтобы брак был законным, он должен быть совершен по обычаям той страны, где живут брачащиеся. Согласно обычаю, действующему здесь не менее пятнадцати лет, вы были обвенчаны на виду у всех, в доказательство чего распишитесь сейчас в книге, где я регистрирую браки христиан. Все же во избежание осложнений юридического характера я снова требую от вас торжественного обещания при первой возможности повторить обряд в цивилизованной стране. Обещаете? — Обещаем, — ответили мы. Тогда принесли книгу, и мы в ней расписались. Сначала моя жена написала только «Стелла», но отец велел ей в первый и последний раз в жизни подписаться именем «Стелла Керсон». После этого несколько индун, то есть старейшин, включая Индаба-Зимби, приложили руку в качестве свидетелей. Индаба-Зимби нарисовал звездочку — то был юмористический намек на туземное имя Стеллы. Эта книга с вложенным в нее локоном моей любимой и сейчас лежит передо мной, когда я пишу. Это самое ценное из всего, что у меня есть. Сохранились все подписи и закорючки, поставленные много лет назад в тени дерева, росшего в поселке Бабиан краальс, далеко в дебрях Африки, — но, увы, где те, кто их вписал? — Люди, — сказал мистер Керсон, когда все кончили подписываться и мы при всех поцеловались. — Макумазан и дочь моя Звезда стали теперь мужем и женой, будут жить в одном краале и есть из одной чаши, деля горести и радости до самой могилы. Слушайте, люди, вы знаете эту женщину, — продолжал он и, повернувшись, указал на Гендрику, которую незаметно для нас вывели из тюремной хижины. — Да, да, мы знаем ее, — раздалось из небольшой группы индун, которые составили первобытный суд и, по туземному обычаю, уселись на корточках в круг прямо на земле перед нами. — Мы знаем ее, это белая женщина-бабуинка, Гендрика, служанка Звезды. — Вы знаете ее, — сказал мистер Керсон, — но не до конца. Выступи вперед, Индаба-Зимби, и расскажи людям, что произошло прошлой ночью в хижине Маку мазана. Индаба-Зимби повиновался и, сев на корточки, с большой выразительностью и множеством жестов поведал волнующую историю, а в заключение представил большой нож, от которого меня спасла его бдительность. После этого вызвали меня. В нескольких словах я подтвердил его рассказ. Состояние моего лица, видимо, о многом сказало присутствующим. Затем мистер Керсон повернулся к Гендрике, которая хранила угрюмое молчание, вперив взгляд в землю, и спросил ее, имеет ли она что-нибудь сказать. Она смело взглянула на него и сказала: — Макумазан украл у меня любовь моей госпожи. А я хотела украсть у него жизнь — мелочь по сравнению с тем, чего я лишилась из-за него. Мне это не удалось, и я жалею о своей неудаче, потому что, если бы я его убила, не оставив следа, Звезда забыла бы его и снова стала сиять мне. — Никогда, — прошептала мне на ухо Стелла. Мистер Керсон побледнел от гнева. — Люди, — сказал он, — вы слышали слова этой женщины. Вы слышали, чем она отплатила мне и моей дочери, в любви к которой клянется. Она хотела убить человека, который не причинил ей зла, мужа моей дочери. Мы спасли ее от бабуинов, кормили, обучали, и как она отплатила за все. Скажите, люди, что она заслужила? — Смерть, — раздалось из круга индун, которые повернули к земле большие пальцы рук. Толпа, стоявшая за ними, повторила, как эхо: «Смерть». — Смерть, — повторил еще раз главный индуна, добавив: — Если ты спасешь ее, отец мой, мы убьем ее своими руками. Эта женщина-бабуинка — чертовка; о, мы уже слыхали о таких. Надо убить ее, прежде чем она натворит еще больше зла. Тут выступила вперед Стелла и в трогательных выражениях стала просить сохранить Гендрике жизнь. Она говорила о дикой натуре этой женщины, о ее долгой службе, о том, что она неизменно проявляла к ней привязанность. Сказала, что я простил Гендрику, она, жена моя, едва не сделавшаяся вдовой до венца, — тоже; пусть и они простят ее, пусть изгонят, но только не убивают, чтобы день ее свадьбы не был запятнан кровью. Отец слушал очень внимательно. У него не было намерения убить Гендрику — он уже обещал этого не делать. Но туземцы были настроены иначе. Они считали Гендрику чертовкой и, дай им волю, растерзали бы ее на месте. А тут еще подлил масла в огонь Индаба-Зимби, завоевавший в поселке репутацию мудреца и колдуна. Он вдруг поднялся и произнес страстную речь, призывая убить Гендрику на месте, чтобы избежать зла. Двое индун хотели уже тащить ее на казнь. Только горькие слезы Стеллы, приказания мистера Керсона и мои доводы спасли Гендрику. Она стояла с совершенно безучастным видом. Наконец шум улегся, и главный индуна велел ей уходить, добавив, что если ее заметят поблизости от крааля, то прикончат, как шакала. Тогда Гендрика тихо сказала Стелле: — Пусть они убьют меня, госпожа, так будет лучше для всех. Если я не смогу любить тебя, я сойду с ума и снова стану бабуинкой. Стелла ничего не ответила, и Гендрику развязали. Она сделала несколько шагов вперед и окинула туземцев взором, полным ненависти. Потом повернулась и прошла мимо меня. Мне на ухо она шепнула на языке туземцев: — До следующей луны, — что соответствует нашему «До свидания». Это испугало меня. Я понял, что она собирается свести со мной счеты и что напрасно мы проявили милосердие. Увидев, что выражение моего лица изменилось, она быстро побежала. Поравнявшись с Индаба-Зимби, она внезапно вырвала у него из рук свой нож. Шагах в двадцати от нас она остановилась, долго и серьезно смотрела на Стеллу, потом испустила громкий вопль страдания и убежала. Несколькоминут спустя мы увидели ее вдалеке: она взбиралась по почти отвесной скале, вершины которой не смог бы достичь никто, кроме нее и бабуинов. — Гляди, — сказал мне на ухо Индаба-Зимби. — Гляди, вон где бабуинка. Но, Макумазан, она вернется. Ах, зачем ты меня не послушал? Разве все, что я говорил тебе, не сбывалось, Макумазан? Он пожал плечами и отвернулся. Я был очень встревожен, но Гендрика все-таки убралась хоть на время, а рядом со мной была Стелла, моя дорогая, прелестная жена. Ее улыбка заставила меня забыть все страхи. Наконец-то, пусть ненадолго, я обрел покой и идеальную радость. Мы вечно стремимся к ним, но так редко их находим.Глава 11
ИСЧЕЗЛА!
Не знаю, многие ли супруги бывают так счастливы, как были мы со Стеллой. Циники, число которых все растет, утверждают, что лишь немногочисленные иллюзии переживают медовый месяц. Не берусь об этом судить, так как был женат только раз и могу основываться лишь на собственном ограниченном опыте. Но несомненно, что наша иллюзия или, вернее, великая истина, тенью которой она является, сохранилась, ибо по сей день живет она в моем сердце, несмотря на мрачную пропасть разлуки, уже столько лет разделяющую нас. Но полного счастья не бывает на этом свете даже на час. Как день нашей свадьбы был омрачен описанной сценой, так и нашу супружескую жизнь омрачила печаль. Через три дня после нашей свадьбы с мистером Керсоном случился удар. Приближение его чувствовалось уже давно. И вот теперь, придя обедать в центральную хижину, мы нашли его лежащим молча на кушетке. Сначала я подумал, что он умирает, но это было не так. Четыре дня спустя у него восстановилась речь, он стал даже немного двигаться. Память, однако, так и не вернулась к нему, хотя он узнавал Стеллу, а иногда и меня. Любопытно, что Тоту он помнил лучше нас всех, но принимал ее иногда за свою родную дочь в детстве; тогда он спрашивал ее, где мама. В таком состоянии он пробыл около семи месяцев. Старик становился все слабее. Разумеется, состояние его полностью исключало для нас возможность покинуть Бабиан краальс. Это было тем более неприятно, что меня угнетало предчувствие опасности, угрожавшей Стелле, да и состояние ее здоровья требовало скорейшего переселения в цивилизованные края. Однако ничего нельзя было поделать. Конец пришел внезапно. Однажды вечером мы сидели у постели мистера Керсона в его хижине. К нашему удивлению, он вдруг приподнялся, сел и проговорил громким голосом: — Я слышу тебя. Да, да, я прощаю тебя. Бедная женщина, ты тоже страдала. С этими словами он откинулся назад и умер. Я почти не сомневаюсь в том, что он обращался к своей жене, представшей вдруг перед его мысленным взором. Стелла была вне себя от горя. До моего приезда отец был ее единственным другом, и понятно, что они были привязаны друг к другу сильнее, чем обычно отец и дочь. Она так сильно горевала, что я боялся за нее. Мы были не одиноки в нашем горе: туземцы звали мистера Керсона отцом и теперь оплакивали его, как отца. Всюду слышался женский плач, мужчины ходили с опущенными головами и сетовали, что солнце зашло на небе и теперь осталась только Звезда. Один Индаба-Зимби не горевал. Он говорил, что для инкоси было лучше умереть. К чему жизнь, когда лежишь бревном. Он утверждал даже, что для всех было бы лучше, если бы мистер Керсон умер раньше. На следующий день мы похоронили его на маленьком кладбище у водопада. Нам было очень тяжело, и Стелла горько плакала, как я ни старался ее утешить. В тот вечер было жарко. Я сидел и курил подле хижины, а Стелла лежала в доме. Тут ко мне подошел Индаба-Зимби, поздоровался и уселся на корточках у моих ног. — Что тебе, Индаба-Зимби? — спросил я. — Вот что, Макумазан, — ответил он. — Когда ты собираешься отправиться к побережью? — Не знаю, — ответил я. — Звезда сейчас не в состоянии путешествовать, придется обождать. — Нет, Макумазан, ждать нельзя, ты должен ехать, а Звезда должна рискнуть. Она сильная. Это пустяки. Все будет хорошо. — Почему ты говоришь так? Почему мы должны уехать? — Вот по какой причине, Макумазан, — он настороженно оглянулся и понизил голос. — Бабуины вернулись — их тысячи. Гора кишит ими. — А я и не знал, что они ушли, — сказал я. — Да, — ответил он, — они ушли после свадьбы, остался только один или двое. Но теперь они вернулись. По-моему, здесь собрались бабуины со всего света. Я видел, что скала черна от них. — Это все? — спросил я, почувствовав, что у него еще что-то на уме. — Я не боюсь бабуинов. — Нет, Макумазан, это не все. С ними бабуинка Гендрика. Гендрики мы не видели и не слышали со дня ее изгнания, и, хотя я долго не забывал ее угроз, воспоминание о них постепенно сгладилось, ибо мои мысли были полностью заняты Стеллой и болезнью тестя. Я вздрогнул. — Откуда ты знаешь? — спросил я. — Я видел ее, Макумазан. Она изменила свой облик, напялила на себя шкуры бабуинов и вымазала лицо. Но хотя она была далеко, я узнал ее по росту, а когда шкура соскользнула, заметил белую кожу у нее на руке. Она вернулась, Макумазан, и с нею все бабуины, какие есть на свете, а возвратилась она для того, чтобы делать зло. Теперь ты понял, почему тебе надо уходить? — Да, — сказал я, — и хотя не вижу, каким образом она и бабуины могут нам повредить, думаю, что все же лучше уйти. Если потребуется, мы сможем остановить фургоны в пути и стать лагерем. Послушай, Индаба-Зимби, не говори ничего Звезде, я не хочу ее пугать. А теперь слушай дальше. Попроси старейшин, чтобы они поставили караульных у хижин и садов и чтобы охрана не снималась ни днем, ни ночью. Завтра мы приготовим фургоны, а на следующий день отправимся в путь. Он кивнул своей белой прядью и пошел выполнять мою просьбу. Я же остался в сильной тревоге, хотя для этого как будто не было особой причины. Да, странная история. Я знал, что эта женщина может говорить с бабуинами[102]. Это не столь уж поразительно, ведь и бушмены разговаривают с бабуинами, а она выросла среди этих обезьян. Но организовать их силой своей человеческой воли и разума, организовать для мести нам… Нет, это невероятно! Поразмыслив, я решил, что мне нечего особенно бояться, но что все же лучше уйти. В конечном счете путешествие в фургоне, запряженном волами, не такое уж страшное испытание для сильной женщины, привыкшей к трудностям, каково бы ни было состояние ее здоровья. Все-таки мне очень не нравилась вся эта история с появлением Гендрики и бесчисленного количества бабуинов. Я пошел к Стелле и, ни слова не сказав про бабуинов, сообщил, что долг повелевает нам буквально выполнить указания ее отца и немедленно покинуть Бабиан краальс. Не стану подробно передавать наш разговор, скажу только, что в конце концов она согласилась и сказала, что отлично перенесет путешествие. Теперь, когда любимый отец ее скончался, она и сама охотно уедет отсюда. В эту ночь ничто нас не тревожило, а утром я поднялся рано и взялся за приготовления к отъезду. Узнав, что мы уезжаем, жители так расстроились, что на них было жалко смотреть. Я утешил их тем, что мы отправляемся только путешествовать и в будущем году вернемся. — Мы жили в тени нашего отца, который теперь умер, — говорили они. Так было с их детства. Он принял их, когда они были отверженными странниками, не имели ни циновки для подстилки, ни одеяла, чтобы укрыться ночью, а в его тени они стали тучными. Потом он умер. Звезда, дочь их отца, вышла замуж за меня, Макумазана, и они были уверены, что я займу место их отца и позволю им жить в моей тени. Что ждет их теперь, когда они остались без защиты? Только страх перед белым человеком удерживает другие племена от нападения на них. Если мы уедем, их съедят. Увы! Их страхи были обоснованными. В полдень я вернулся к хижинам, чтобы перекусить. Стелла сказала, что займется упаковкой вещей во второй половине дня. Я не счел нужным предупредить ее, чтобы она не выходила одна. Мне не хотелось без крайней надобности говорить о Гендрике и бабуинах. Я обещал вернуться и помочь ей, как только освобожусь. Затем я правился в туземные краали, чтобы отделить скот мистера Керсона, который намеревался угнать с собой. Стадо оказалось большое, отбор скота длился бесконечно долго. Наконец уже перед самым заходом солнца я поручил Индаба-Зимби довести это дело до конца, сел на коня и поехал домой. Там я передал лошадь конюху и вошел в центральную хижину. Стеллы не было видно, а вещи, которые она укладывала, лежали еще на полу. Я прошел сначала в хижину, служившую нам спальней, а оттуда — в остальные, но Стеллы нигде не было. Тогда я вышел наружу, окликнул кафра, работавшего в саду, и спросил, не видел ли он хозяйку. Тот ответил, что видел, как она направилась с цветами к кладбищу, держа за руку маленькую белую девочку — мою дочь, как назвал он Тоту. В то время солнце стояло «там» — он показал на горизонте точку, где оно находилось часа полтора назад. «С ними были две собаки», — добавил он. Я побежал к кладбищу, расположенному в четверти мили от хижины. Разумеется, для тревоги не было оснований: Стелла, очевидно, отправилась на могилу отца. И все же я был встревожен. У кладбища я встретил туземца, который по моему приказанию был назначен караульным, и заметил, что он трет глаза и зевает. Ясно было, что он спал. Я спросил, видел ли он госпожу, но он, конечно, ответил отрицательно. Я не стал тратить время на упреки, приказал ему следовать за мной и пошел к могиле мистера Керсона, там лежали уже осыпающиеся цветы, которые принесла Стелла. На мягком грунте остался след кожаной туфельки Тоты. Но где же они сами? Я выбежал с кладбища и закричал во всю мочь, но ответа не последовало. Между тем туземец пошел по следам. Ярдов через сто он очутился у группы мимоз, расположенной между потоком и древними каменоломнями над самым водопадом, у начала ущелья. Там он остановился, и я услышал его удивленный возглас. Я бросился к нему, продираясь сквозь кусты, и вот что я увидел. В центре большой поляны, куда вели следы трех пар человеческих ног, двух обутых и одной босой, — следы Стеллы, Тоты и Гендрики, — незадолго до нас явно происходила борьба. Рядом валялись клочья, именно клочья, оставшиеся от двух собак, и тело издыхающего бабуина, которому они перегрызли горло. Кругом виднелись бесчисленные следы бабуинов. Тут только я осознал весь ужас происшедшего. Мою жену и Тоту утащили бабуины. Они еще не были убиты — раз я нигде не нашел их останков. Значит, их похитили. Под главенством женщины-обезьяны Гендрики эти звери утащили их в тайное убежище, чтобы держать там до самой смерти или убить! В первый момент я буквально зашатался от ужаса. Потом, овладев собой и поборов отчаяние, велел туземцу бежать в краали и поднять людей. Пусть они вооружатся сами и принесут мне ружья и боеприпасы. Он полетел как ветер, а я стал изучать следы. На протяжении нескольких ярдов все было ясно — Стеллу тащили силой. Я нашел места, где она цеплялась каблуками за землю. Девочку, видимо, несли на руках, — во всяком случае, нигде не было отпечатков ее ног. На берегу ручья следы пропали. Ручей был неглубоким, можно было идти по его дну, и Гендрика так и поступила со своими жертвами, чтобы не оставить следов. Я заметил, что поросший мхом камень, лежавший в русле, перевернут. Я бросился по берегу вдоль ущелья в тщетной надежде увидеть их. И вдруг услышал лай наверху, в скалах. Раздался ответный лай, и я заметил по обеим сторонам ущелья десятки бабуинов, которые медленно спускались, чтобы преградить мне путь. Идти вперед безоружным было бесполезно. Меня только разорвали бы на куски, как собак Стеллы. Поэтому я повернул назад и побежал к хижинам. За это время мой гонец поднял на ноги жителей поселка, и туземцы с копьями и палицами в руках бежали ко мне. Войдя в хижину, я встретил Индаба-Зимби. Лицо у него было очень озабоченное. — Итак, пришла беда, Макумазан, — сказал он. — Пришла, — ответил я. — Не падай духом, Макумазан, — продолжал он. — Она не умерла, и девочка тоже; мы найдем их, прежде чем они умрут. Помни: Гендрика любит ее. Она не причинит ей вреда и бабуинам не позволит. Она попытается спрятать ее от тебя, вот и все. — Молю Бога, чтобы мы нашли ее, — простонал я. — Уже темнеет. — Через три часа взойдет луна, — ответил он. — Мы будем искать ее при свете. Пускаться в путь сейчас бесполезно: видишь, солнце заходит. Соберем людей, поедим и приготовимся. Поспешай медленно, Макумазан. Делать было нечего, я последовал его совету. Есть я не мог, но взял с собой еду на дорогу, приготовил веревки и простейшие носилки. Ведь если мы их найдем, вряд ли они смогут идти самостоятельно. О, только бы найти их! Как медленно тянется время! Казалось, прошли целые часы, пока взошла луна. Но наконец она показалась. Тогда мы пустились в путь. Всего нас собралось около ста человек, но у нас были только мой «рур» для охоты на слонов и четыре ружья мистера Керсона. Мы достигли места у ручья, где была захвачена Стелла. Глядя на разбросанные останки собак и следы насилия, туземцы поклялись, что, жива Звезда или нет, они не успокоятся, пока не уничтожат всех бабуинов на горе Бабиан. Я повторил эту клятву, и, как увидите, мы ее выполнили. Идя вдоль ручья, мы старались не потерять следы бабуинов. Но в самом ручье их, естественно, не было, да и на скалистых берегах оставалось очень немного. И все же мы двигались вперед… Когда мы прошли около мили вверх по течению, Индаба-Зимби вдруг повернул направо в один из бесчисленных оврагов, которые проходили у подножия высокой горы. Так мы шли, минуя овраг за оврагом. Индаба-Зимби, который вел нас, ни разу не растерялся. Он обходил овраги и переваливал через гребни холмов с уверенностью собаки, идущей по горячему следу. После трехчасового марша мы достигли большой тихой долины на северном склоне высокой горы. С одной стороны долины тянулась гряда холмов, с другой — возвышалась отвесная каменная стена. Мы прошли вдоль нее около двух миль. Тут Индаба-Зимби вдруг остановился. — Здесь, — сказал он, указывая на отверстие овальной формы в стене. Оно находилось в сорока футах от земли. Высота его не превышала двадцати футов, ширина — десяти. Его частично скрывали папоротники и кусты, росшие на каменной стене. Как ни зорки были мои глаза, я бы, вероятно, не заметил его, тем более что на склоне горы было много таких трещин и углублений. Мы подошли ближе и тщательно осмотрели это место. Прежде всего я заметил, что скала не совсем отвесная и поверхность ее истерта постоянно лазавшими по ней бабуинами; далее, мне бросилось в глаза, что на кусте, росшем у вершины скалы, висел какой-то белый предмет. Это был носовой платок. Сомнений больше не оставалось. С бьющимся сердцем я начал восхождение. Первые двадцать футов подъем облегчали уступы в скале. Следующие десять футов оказались очень трудными, но все же доступными для ловкого человека, и я преодолел их, как и Индаба-Зимби. Но последние десять-пятнадцать футов можно было одолеть, только забросив веревку на ствол чахлого дерева, которое росло внизу отверстия. Это удалось нам не без труда, остальное оказалось значительно легче. На высоте в один-два фута над моей головой качался на ветру носовой платок. Уцепившись за веревку, я схватил его. Это был носовой платок моей жены. Тут я заметил, что через край на меня смотрит бабуин. То был первый бабуин, замеченный нами после утренней встречи. Зверь тявкнул и исчез. Сунув носовой платок себе за пазуху, я уперся ногами в скалу и изо всех сил полез вверх. Я понимал, что мы не можем терять времени, ибо этот бабуин быстро поднимет на ноги остальных. Вскоре я добрался до отверстия. Это был всего-навсего сводчатый туннель, пробитый водой. Он заканчивался ущельем, которое вело к обширной площадке. Я заглянул в туннель и увидел, что ущелье черно от заполнивших его бабуинов. Их были сотни. Я снял с плеча ружье для охоты на слонов и стал ждать, крикнув людям, находившимся внизу, чтобы они поднимались как можно быстрее. Звери приближались по мрачному туннелю, ворча и показывая огромные зубы. Я подпустил их на пятнадцать ярдов и тогда выстрелил из ружья, заряженного картечью, в самую гущу бабуинов. В этом узком месте эхо прозвучало как после орудийного выстрела, но звук быстро потонул в пронзительных, похожих на человеческие криках и стонах обезьян. Картечь, как я и хотел, попала в скопление бабуинов, и целая дюжина их полегла в туннеле. Остальные на мгновение заколебались, но потом снова бросились ко мне, испуская отвратительные крики. К счастью, к этому времени подле меня уже стоял Индаба-Зимби, тоже с ружьем; без него я был бы разорван в клочья, прежде чем успел бы перезарядить свое. Он выстрелил из обоих стволов и снова остановил натиск обезьян. Но они опять ринулись на нас; несмотря на появление еще двух туземцев, которые не без успеха разрядили свои ружья в бабуинов, большие и свирепые животные взяли бы верх над нами, если б я не успел перезарядить ружье для охоты на слонов. Когда они приблизились вплотную, я выстрелил. Этот выстрел оказался для обезьян еще более гибельным, чем предыдущие, потому что на такой близкой дистанции каждая пуля нашла цель. Неописуемые вопли, крики боли и ярости наполнили ущелье. Можно было подумать, что мы ведем бой с легионом демонов. Во мраке — от нависавшего над нами каменного свода в туннеле было почти темно — скрежетавшие зубами и сверкавшие глазами обезьяны действительно напоминали демонов. Но они не выдержали последнего залпа и отступили, унося с собой часть раненых. Это дало возможность всем нашим людям взобраться на скалу. На подъем ушло всего несколько минут, потом мы двинулись вперед по туннелю, который вскоре перешел в скалистое ущелье с уступчатыми стенами. На дне ущелья протекал ручей длиной около ста ярдов. С обеих сторон его высились крутые утесы. Они были буквально усеяны бабуинами, которые ворчали, лаяли, кричали и в ярости били себя в грудь длинными руками. Я посмотрел вниз. Вдоль потока в сопровождении толпы или, так сказать, охраны из бабуинов неслась Гендрика. Ее длинные волосы развевались, на лице было написано безумие. На руках она несла безжизненное тело маленькой Тоты. При виде нас на губах Гендрики появилась пена ярости, и она громко крикнула. Мне этот крик ничего не сказал, но бабуины определенно поняли ее и начали сбрасывать на нас камни. Один чуть не попал в меня и уложил кафра, шедшего позади. Другой убил моего спутника, находившегося рядом со мной. Индаба-Зимби поднял ружье, чтобы застрелить Гендрику, но я толкнул ствол вверх, испугавшись, что он убьет ребенка. Затем я велел своим людям построиться в линию и перегородить ущелье. Разъяренные гибелью двух товарищей, они послушались меня. Я двинулся вперед по руслу потока в сопровождении Индаба-Зимби и других туземцев с ружьями, а остальным подал сигнал к атаке. Тут начался настоящий бой. Трудно сказать, кто бился с большим ожесточением — туземцы или бабуины. Кафры кинулись вдоль стен ущелья, а бабуины устремились им навстречу, ободряемые криками Гендрики, которая носилась взад и вперед, прикрываясь вместо щита несчастной Тотой. Десятки обезьян были заколоты ассегаями, другие полегли под нашими выстрелами. Но это не остановило тех, кто был жив. У нас тоже не обошлось без потерь. Иногда кто-нибудь падал, поскользнувшись или от удара бабуина. Тогда бабуины кидались на него, как псы на крысу, и тут же приканчивали. Мы потеряли таким образом пять человек, а мне самому бабуин прокусил мясистую часть предплечья. К счастью, прежде чем он сумел свалить меня с ног, его пронзил ассегай находившегося подле меня туземца. Совершенно внезапно бабуины прекратили бой. Их, видимо, охватила паника. Несмотря на крики Гендрики, они думали теперь не о борьбе, а о бегстве. Некоторые даже не пытались спастись от ассегаев кафров. Спрятав в лапы отвратительные морды и жалобно стеная, они ждали смерти. Гендрика поняла, что бой проигран. Выпустив из рук ребенка, она бросилась прямо на нас — это было ужасающее зрелище безумия. Я поднял ружье, но не смог заставить себя выстрелить в эту полуобезьяну-полуженщину, лишившуюся рассудка. Поэтому я отскочил в сторону, и она со всего размаха налетела на Индаба-Зимби, сбив его с ног и даже этого не заметив. Страшно крича, она пробежала ущелье и туннель с немногими уцелевшими бабуинами и скрылась из виду.Глава 12
ЧТО ПРОИЗОШЛО СО СТЕЛЛОЙ
Бой кончился. Всего мы потеряли семь человек убитыми, многие были искусаны, и мало у кого не осталось следов от зубов и когтей бабуинов. Не знаю, сколько именно мы убили зверей, — мы не считали, но, во всяком случае, много. Думаю, что стадо бабуинов, жившее в окрестностях горы Бабиан, долгие годы оставалось немногочисленным. Однако с того дня и посейчас я избегаю бабуинов и боюсь их больше всех других зверей. Путь был расчищен, и мы бросились вперед. Прежде всего подобрали маленькую Тоту. Девочка не потеряла сознания, как я думал, а была парализована ужасом и едва могла говорить. Никакого другого вреда ей не причинили, однако только через несколько недель она пришла в себя. Не уверен, что она поправилась бы, если бы была старше или не знала Гендрику раньше. Меня она сразу узнала, обняла ручонками за шею и так прижалась, что я не решился передать ее кому-либо другому, опасаясь напугать еще больше. Нетрудно представить себе, какой страх я испытывал. Найду я Стеллу живой или мертвой? Найду ли вообще? Между тем ущелье кончилось, и глазам нашим представилось необычайное зрелище. Мы находились в большом естественном амфитеатре, раза в три больше любого амфитеатра, построенного руками человека. Стены его состояли из отвесных утесов высотой от ста до двухсот футов. На окаймленном ими ровном участке росли деревья, напоминавшие парковые, сверкали цветы. Посередине протекал ручей, который, как я потом установил, питался водами источника, выходившего из-под земли у края ровного участка. Мы построились в линию и прочесали местность в поисках Стеллы. Тота была слишком потрясена, чтобы показать нам, где она находится. Почти полчаса мы тщательно осматривали скалистые стены, разыскивая отверстие или пещеру. Но все было напрасно, мы ничего не находили. Я обратился к старому Индаба-Зимби, но и его способности имели предел… Наконец мы достигли вершины амфитеатра. Перед нами высилась стена, заросшая внизу травой, лишайниками и ползучими растениями. Я стал ходить вдоль нее, крича во весь голос. Вдруг сердце мое замерло — мне показалось, что я слышу тихий отклик. Я подошел ближе к тому месту, откуда он как будто раздался, и снова закричал. Да, в ответ послышался голос моей жены. Казалось, он идет из скалы. Я подошел к ней и стал искать расселины среди ползучих растений, но никакого отверстия не нашел. — Отодвинь камень, — раздался голос Стеллы. — Вход в пещеру закрыт камнем. Я ткнул копьем туда, откуда звучал голос, и оно внезапно ушло через лишайники в почву. Я отодвинул их и увидел камень, закрывавший отверстие в скале и замаскированный лишайниками так удачно, что оно оставалось незаметным даже для самого зоркого глаза. Вдвоем мы отвалили камень. За ним открылся узкий проход, пробитый водой. С бьющимся сердцем я вступил в него. Он привел нас в пещерку в форме бутылки из-под уксуса, дальний конец которой был горлышком. Мы миновали ее и очутились в другой, гораздо большей пещере… Она освещалась сверху — как именно, не знаю. При этом освещении я заметил в дальнем конце пещеры фигуру женщины, которая полулежала на шкурах. Я бросился к ней. То была Стелла! Стелла, связанная полосками кожи, вся в ссадинах, оборванная, но все же живая. Она увидела меня, вскрикнула и потеряла сознание в тот самый миг, как я заключил ее в объятия. Какое счастье, что она не упала в обморок раньше: ведь если бы не звук ее голоса, мы вряд ли нашли бы эту тщательно замаскированную пещеру… Мы вынесли ее на воздух, положили в тени дерева и разрезали путы на лодыжках. Выходя, я окинул взглядом пещеру. Там горел огонь, лежали грубые деревянные сосуды, один был до половины налит водой… Теперь я мог разглядеть Стеллу. Лицо ее было исцарапано, осунулось от страха и слез, одежда почти сорвана с тела, прекрасные волосы распущены и всклокочены. Я велел принести воды, и ей слегка побрызгали в лицо. Затем я влил ей в рот немного персиковой водки, которую мы гнали в поселке. Она открыла глаза и, обняв меня, прижалась, как маленькая Тота, повторяя с рыданиями: «Благодарение Богу! Благодарение Богу!» Потом она немного успокоилась, и я дал ей и Тоте поесть из того запаса, который мы захватили с собой. Я тоже поел с удовольствием: если не считать кукурузных лепешек, у меня целые сутки ничего не было во рту. После этого Стелла вымыла руки и лицо и, как могла, почистила обрывки своего платья. Постепенно она рассказала, что произошло. Накануне, во второй половине дня, она устала паковать вещи и отправилась с Тотой на могилу отца. Ее сопровождали две собаки. Стелла хотела положить на могилу цветы и проститься с прахом отца. Она не была уверена, что ей удастся сделать это позднее, так как мы собирались выехать рано утром следующего дня. Проходя по саду, они срывали цветы с апельсиновых деревьев и собирали их по пути, а затем отправились на маленькое кладбище. Там она положила цветы на могилу, а сама уселась рядом и впала в глубокое грустное раздумье. Тота, шаловливая, как котенок, незаметно ушла. С ней отправились и собаки. Через некоторое время Стелла услышала ярдах в полутораста бешеный лай собак. Потом Тота вскрикнула, а собаки завыли от страха и боли. Стелла со всех ног кинулась на шум. Вскоре она увидела на поляне фигуру, в которой, несмотря на маскировку с помощью бабуиновых шкур и краски, без труда узнала Гендрику. Та держала на руках Тоту, а вокруг нее катались по земле бабуины, образовавшие две отвратительные кучи. В центре их Стелла различила несчастных псов: бабуины рвали их в куски. — Гендрика, — вскричала Стелла, — что это значит? Что ты делаешь с Тотой и этими зверями? Женщина взглянула на нее, и тут Стелла поняла, что та сошла с ума: глаза ее сверкали безумием. Гендрика опустила на землю Тоту, которая побежала к Стелле. Стелла подхватила ее, но тут же сама была схвачена Гендрикой. Она отчаянно сопротивлялась, но все было бесполезно: бабуинка не уступала в силе десятерым мужчинам. Она подняла ее и Тоту, как будто они ничего не весили, и убежала с ними по руслу потока, чтобы не оставлять следов. Но бабуины не желали лезть в воду и шли по берегу, не отставая от Гендрики. Следующая ночь походила скорее на кошмар, чем на действительность. Стелла так и не смогла рассказать, что именно происходило с ней. Смутно помнила только, что ее несли по скалам и ущельям, а вокруг раздавались ужасные крики и стоны бабуинов. Она заговаривала с Гендрикой по-английски и на языке кафров. Но женщина, если ее можно назвать так, в своем безумии, видимо, совершенно забыла эти языки. Стоило Стелле сказать слово, как Гендрика принималась целовать ее и гладить по голове, но, видимо, не понимала мою жену. Зато она могла объясняться с бабуинами, и они беспрекословно ей подчинялись. Она не разрешала им прикоснуться к Стелле или к ребенку, которого держала на руках. Когда один из них попытался нарушить запрет, Гендрика с такой силой ударила его сухой палкой по голове, что он упал без сознания. Стелла трижды пыталась убежать, когда, несмотря на свою гигантскую силу, похитительница уставала и опускала ее и девочку наземь. Но всякий раз Гендрика ловила их и одолевала Стеллу в борьбе. Незадолго до рассвета они достигли утеса, и с первыми лучами солнца начался подъем. На первых порах Гендрика тащила их вверх. Когда же они достигли обрыва, она продела Стелле под мышки полосы шкуры, обмотанные у нее вокруг пояса. Бабуины легко преодолевали крутой подъем, прыгая с уступа скалы на ствол дерева, росшего у края пропасти. Гендрика следовала за ними, держа в зубах конец ремня из шкуры. При этом один из бабуинов помогал ей, свесившись с дерева. Вот во время подъема Стелла и решила уронить носовой платок, питая слабую надежду, что кто-нибудь из разыскивающих увидит его. Гендрика оседлала дерево и, ворча, стала отдавать приказания бабуинам, столпившимся внизу вокруг Стеллы. Внезапно обезьяны схватили мою жену и маленькую Тоту, которую она держала на руках, и подняли с земли. После этого Гендрика, находившаяся наверху, напряглась и с помощью бабуинов подтянула их к себе. Стелла дважды сильно ударилась о скалу. После второго удара она почувствовала, что теряет сознание, и пришла в ужас, боясь уронить Тоту. Но ей удалось не выпустить ребенка из рук, и они вместе достигли верхушки скалы. — С этого времени, — продолжала Стелла, — я ничего больше не помню до того момента, пока не очнулась в мрачной пещере на ложе из шкур. Ноги мои были связаны, а рядом сидела сторожившая меня Гендрика. Между тем толпа этих ужасных бабуинов собралась у входа в пещеру, и они просовывали головы внутрь. Тота все еще была у меня на руках, полумертвая от страха. Она издавала жалобные стоны. Я заговорила с Гендрикой, умоляя отпустить нас. Но она либо совершенно перестала понимать человеческую речь, либо притворялась, что перестала. Она только и делала, что ласкала меня и целовала мои руки и платье с выражением величайшей преданности. Тота прижималась ко мне все сильнее. Гендрика заметила это и стала глядеть на девочку с такой ненавистью, что я испугалась, как бы она не убила ее. Тогда я отвлекла ее внимание, показав знаками, что хочу пить, и она напоила меня из деревянной чаши… Эта пещера, судя по запасам фруктов и сушеного мяса, была, очевидно, жилищем Гендрики. Она накормила меня и дала немного пищи Тоте, которую я заставила поесть. Ты не можешь себе представить, что я пережила, Аллан. Я убедилась, что Гендрика совершенно безумна и недалеко ушла от зверей, на которых похожа, но при этом обладает над ними огромной властью и употребляет ее во зло. Человеческой в ней осталась только привязанность ко мне. Очевидно, она хотела держать меня при себе и подальше от тебя. Ради этого она была готова на любую хитрость, любую уловку. В этом отношении она была вполне нормальна, но во всех остальных — совершенно безумна. К тому же, она не забыла своей ужасной ревности. Я заметила, с какой ненавистью она смотрела на Тоту, и понимала, что убийство ребенка только вопрос времени. Вероятно, через несколько часов Тота была бы убита у меня на глазах. Шансов на побег не было никаких, даже если бы у меня хватило сил. Мало надежды было и на то, что меня найдут. Нам предстояло оставаться в плену у безумного существа — полуобезьяны, полуженщины, — пока мы не погибнем самым жалким образом. Тут я подумала о тебе, дорогой, о страданиях, которые ты испытываешь, и сердце у меня едва не разорвалось. Я только молила Бога, чтобы он скорее послал мне спасение или смерть. Во время молитвы я от усталости впала в забытье, и тут мне приснился странный сон. Мне снилось, что надо мной склонился Индаба-Зимби, покачивая своей белой прядью, и говорит мне на языке кафров, чтобы я не боялась, ибо скоро ты будешь со мной, а пока что надо угождать Гендрике и притворяться, что мне приятно ее общество. Сон был как наяву, мне казалось, что я вижу и слышу его, как сейчас. Тут я поднял глаза и взглянул на старого Индаба-Зимби, сидевшего поблизости… — Проснувшись, — продолжала она, — я решила последовать совету, полученному во сне. Я взяла руку Гендрики и пожала ее. Она хотя и дико, но радостно захохотала и положила голову мне на колени. Тут я знаками дала понять, что хочу есть. Она подбросила дров в огонь и занялась приготовлением похлебки, которую раньше готовила очень хорошо. Очевидно, она не все забыла: похлебка получилась довольно вкусной, но от страха и усталости ни я, ни Тота не смогли съесть много. После еды — а я старалась продлить наш обед возможно дольше — я заметила, что Гендрика начинает снова ревновать меня к Тоте. Опять она смотрела на нее с ненавистью, поглядывая на большой нож, висевший у нее на поясе. Я сразу узнала этот нож: им она хотела убить тебя, дорогой. В конце концов она схватила нож. Страх парализовал меня, но тут я вдруг вспомнила, что, будучи нашей служанкой, она часто выходила из себя, но мне всегда удавалось успокоить ее пением. И я запела гимны. Она немедленно забыла о ревности и вложила нож обратно в ножны. Эти звуки были ей знакомы, и она слушала меня с восхищением. Бабуины тоже столпились у входа в пещеру и слушали. Около часа или даже больше я пела все гимны, которые только могла припомнить. Было странно и страшно сидеть там и петь для безумной Гендрики, видеть, как отвратительные человекообразные обезьяны закрывают глаза и покачивают головами, слушая меня. Это напоминало кошмар… Я уже стала терять голос, как вдруг услышала, что снаружи бабуины подняли страшный шум, как если бы они сердились. А потом, дорогой, до меня донесся звук выстрела твоего ружья, и он показался мне сладчайшим из слышанных звуков. Уловила его и Гендрика. Она вскочила, мгновение колебалась, потом, к моему ужасу, схватила на руки Тоту и бросилась к выходу из пещеры. Я, разумеется, не могла следовать за ней, потому что ноги мои были связаны. В следующее мгновение я услышала, как привалили камень ко входу в пещеру, в ней стало темнее, и я поняла, что заперта. Теперь даже выстрелы едва доносились до меня, а потом я и вовсе перестала что-либо слышать, сколько ни напрягала слух. И все же через каменную стену проник слабый зов. В ответ я закричала во весь голос. Остальное тебе известно. О дорогой муж мой, благодарение Богу, благодарение Богу! С этими словами она, плача, упала мне в объятия.Глава 13
ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Стелла и Тота были слишком утомлены, чтобы двинуться в путь, и мы провели ночь в становище бабуинов, но обезьяны нас не тревожили. Стелла не захотела спать в пещере: это место пугало ее. Я устроил ей нечто вроде постели под кустом терновника; окруженная скалами долина была одним из самых жарких мест, где я бывал, и я решил, что для Стеллы это не опасно. Но утром, когда взошло солнце, я заметил, что над местностью висит облако тумана, полного миазмов. Однако ни Стелла, ни Тота не чувствовали себя хуже, и мы направились домой. Я еще накануне послал несколько человек в крааль за лестницей, и, когда мы добрались до вершины утеса, они уже ждали нас внизу. Спуститься по лестнице было легко. Стелла сошла на вершине утеса со своих примитивных носилок, а после спуска снова улеглась в них. Так мы благополучно добрались до крааля и больше не видели Гендрики. Если бы все это было сказкой, я, без сомнения закончил бы ее здесь словами: «Стали жить-поживать да добра наживать». Но — увы! — вышло не так. Как мне написать об этом? Теперь, когда опасность миновала, силы Стеллы совершенно иссякли, и уже через несколько часов после возвращения я понял, что при ее состоянии мы не можем в ближайшее время уехать из Бабиан краальс. Физическое напряжение, душевные страдания и ужасы страшной ночи совершенно подорвали ее здоровье. К тому же, она заболела лихорадкой, которую, несомненно, схватила в нездоровой атмосфере той проклятой долины. Правда, лихорадка вскоре прошла, но Стелла ослабела еще больше. Мне кажется, она сознавала, что скоро умрет; во всяком случае, она говорила о моем будущем, но никогда о нашем. Не нахожу слов, чтобы рассказать, какой милой она была, какой кроткой, терпеливой, безропотной… Да мне и не хочется говорить об этом — слишком это грустно. Скажу одно: если когда-нибудь женщина приближалась к идеалу, еще живя на земле, то это была Стелла Квотермейн. Роковой час приближался. Родился мой сын Гарри, и мать успела поцеловать и благословить его. Потом она впала в забытье. Мы сделали все, что могли, но нам не хватало умения. Я провел у ее изголовья целую ночь, и сердце мое разрывалось от тоски. Наступил рассвет, взошло солнце. Лучи его, падавшие на гору за нами, отразились во всем великолепии на западной стороне неба. Стелла очнулась, увидела свет, шепотом попросила открыть дверь и обратила свой угасающий взор на лучезарное утреннее небо. Потом посмотрела на меня, улыбнулась, последним усилием подняла руку и, указывая на ослепительно блестевшее небо, прошептала: «Там, Аллан, там!». С этими словами она скончалась. Мое сердце разбито навсегда. Те, кто пережил такую же потерю, сумеют понять мое горе, описать его невозможно. Пусть и я умру в такой час, и да пребудет мир со мной… Я похоронил Звезду рядом с могилой отца, и рыдания людей, которые ее любили, поднялись к небесам. Плакал даже Индаба-Зимби, только у меня уже не было слез. На вторую ночь после похорон ее я не мог заснуть. Встал, оделся и вышел. Луна светила ярко, и при свете ее я без труда добрался до кладбища. В ночной тишине мне показалось, что с дальнего конца его слышится стон. Я заглянул через стену. У могилы Стеллы, скорчившись, разрывая руками дерн, словно стараясь откопать ее тело, сидела Гендрика. Вид у нее был измученный, глаза смотрели дико. Она настолько похудела, что когда шкуры, в которые она была закутана, распахнулись, стало заметно, что ее лопатки туго обтянуты кожей. Вдруг она подняла глаза и увидела меня. Со страшным смехом маньяка она поднесла руку к поясу и обнажила свой большой нож. Я подумал, что она собирается напасть на меня, и приготовился защищаться как смогу, ибо был безоружен. Но она вместо этого высоко подняла нож, засверкавший в свете луны, и воткнула его себе в грудь; тут же она упала на землю. Я перепрыгнул через стену и подбежал к ней. Она была еще жива. Когда она открыла глаза, я заметил, что взгляд ее больше не безумен. — Макумазан, — сказала она по-английски, запинаясь, как человек, наполовину забывший язык. — Макумазан, теперь я вспомнила. Я потеряла разум. Она действительно умерла, Макумазан? — Да, — сказал я, — она умерла, и это ты ее убила. — Я ее убила! — дрожащим голосом воскликнула умирающая женщина. — А ведь я любила ее. Да, да, теперь я знаю. Я снова стала зверем и утащила ее к зверям, а теперь я опять женщина, но она мертва, и это я ее убила — потому что так сильно любила. Я убила ту, кто спас меня от зверей. Я еще жива, Макумазан. Пытай меня, пока я не умру, только медленно, очень медленно. Я сошла с ума из ревности к тебе и убила ее, и теперь она никогда мне не простит. — Проси прощения у Неба, — сказал я. Гендрика была христианкой, и сила ее раскаяния тронула меня. — Ни у кого не прошу прощения, — ответила она. — Пусть Бог вечно меня пытает за то, что я ее убила. Да стану я навеки зверем, пока она сама не разыщет меня и не простит. Мне нужно только ее прощение. Испустив страдальческий вопль, шедший из глубины души, и словно позабыв в муках совести свои физические страдания, Гендрика, женщина-бабуин, скончалась. Я вернулся в крааль, разбудил Индаба-Зимби и велел послать кого-нибудь посторожить мертвое тело, которое я намеревался похоронить. Но к утру оно исчезло: туземцы забрали труп и, полные ненависти, бросили на съедение стервятникам. Таков был конец Гендрики. Через неделю после смерти Гендрики я покинул Бабиан краальс. Полный призраков, он стал мне ненавистен. Я послал за старым Индаба-Зимби и сообщил, что уезжаю. Он ответил, что я поступаю правильно. — Это место послужило тебе, — сказал он. — Здесь ты познал радость, которую тебе было на роду написано испытать, и пережил страдания, которые уготовил тебе рок. Сейчас ты этого еще не понимаешь, но радость и страдания, как затишье и буря, — одно и то же. Они найдут наконец успокоение на небе, откуда явились. А теперь ступай, Макумазан. Я спросил его, пойдет ли он со мной. — Нет, — ответил Индаба-Зимби. — Пути наши расходятся, Макумазан. То, ради чего мы встретились, свершилось. А теперь каждый пойдет своей дорогой. Ты проживешь еще много лет, Макумазан, я же — мало. Пожмем друг другу руки, но это будет в последний раз. Быть может, мы еще и встретимся, но только не на этом свете. Отныне у каждого из нас будет одним другом меньше. — Грустные слова, — сказал я. — Правдивые слова, — ответил он. Мне тяжело рассказывать о том, что было потом. Я ушел, оставив Индаба-Зимби ферму, часть скота и ненужных мне вещей. Тоту я, разумеется, взял с собой. К счастью, она уже почти оправилась от пережитого потрясения. Маленький Гарри оказался очень здоровым ребенком. Мне повезло и в другом: достойная туземка, муж которой погиб в схватке с бабуинами, согласилась быть его кормилицей и сопровождать меня. Медленно удалялся я от Бабиан краальс. Все его жители провожали меня часть пути. Дорога в Наталь шла вдоль Негодных земель, и в первую ночь мы заночевали под тем самым деревом, где умирали от жажды, когда нас нашла Стелла. Я мало спал. Все же я был рад тому, что не умер в пустыне за одиннадцать месяцев до того… Я завоевал любовь моей дорогой Стеллы, и хоть недолго — мы были счастливы. Счастье наше было слишком полным, чтобы длиться долго… Утром я простился у дерева с Индаба-Зимби. — До свидания, Макумазан, — сказал он, качая своей белой прядью. — До свидания, но не прощай. Я не христианин. Твой отец не смог обратить меня в свою веру. Но он был мудрый человек и не лгал, когда говорил, что те, кто расстается, встретятся вновь. По-своему я тоже мудрый человек, Макумазан, и говорю тебе: правда, что мы встретимся вновь. Все мои предсказания тебе, Макумазан, подтвердились — подтвердится и это, последнее. Говорю тебе, что ты вернешься в Бабиан краальс и не застанешь меня. Говорю тебе, что ты попадешь в более далекую страну, чем Бабиан краальс, и найдешь меня там. До свидания. С этими словами он взял щепотку табаку, понюхал его, повернулся и ушел. О моем путешествии в Наталь много не расскажешь. Я пережил немало приключений, но все они были довольно обычными, и в конце концов благополучно добрался до Дурбана, где никогда прежде не бывал. И Тота, и мой малыш хорошо перенесли путешествие. Тут, пожалуй, кстати рассказать о дальнейшей судьбе Тоты. Один год она находилась со мной. Потом ее удочерила жена английского полковника, служившего в Капской колонии. Новые родители увезли ее в Англию, там она выросла очаровательной, красивой девушкой и в дальнейшем вышла замуж за священника в Норфолке. Но я больше никогда ее не видел, хотя мы переписывались. Прежде чем я возвратился на родину, Тота ушла в страну теней, оставив трех сирот. Увы! Все это произошло давно, я был тогда молод, а теперь стар. Быть может, читателю будет интересно узнать о судьбе имения мистера Керсона, которое, разумеется, должен был унаследовать его внук Гарри. Я написал в Англию о правах моего сына на это имение, но юрист,занимавшийся делом, решил, что с точки зрения английского права брак мой со Стеллой не является законным, ибо обряд венчания был совершен не священником. По этой причине Гарри не может наследовать имение. У меня хватило глупости согласиться с ним, и имение отошло к двоюродному брату моего тестя. Однако в Англии я узнал, что правильность заключения юриста вызывает большие сомнения и что суд, по всей вероятности, признал бы совершенно законным мой брак, заключенный в торжественной обстановке и по обычаям того места, где происходило венчание. Но я сейчас настолько богат, что мне не стоит ворошить это дело. Двоюродный брат тестя умер, имением владеет его сын, и пусть он пользуется наследством. Однажды, только однажды, я снова побывал в Бабиан краальс. Лет через пятнадцать после смерти моей любимой, уже человеком среднего возраста, я предпринял экспедицию в Замбези. Как-то вечером я распряг волов у начала хорошо знакомой долины в тени высокой горы. Сев на коня, я один, без спутников, поехал вверх по долине. Со странным предчувствием беды я заметил, что дорога заросла и, если не считать мелодичного журчания воды, повсюду царит молчание смерти. Краали, стоявшие слева от реки, исчезли. Я направился к тому месту, где они прежде находились. Кукурузные поля заросли сорняками, тропы — травой. От краалей остался только пепел, тоже заросший травой, среди которой блестели в свете луны белые человеческие кости. Я понял все: поселок подвергся нападению сильных врагов, жителей его перебили. Предчувствия туземцев оправдались: теперь Бабиан краальс был населен только воспоминаниями. Я поднялся на террасы. Крыши мраморных хижин блестели как встарь. Эти хижины не сгорели и были слишком прочны, чтобы их могли снести без труда. Я вошел в одну — то была наша спальня — и зажег свечу, которую привез с собой. Хижины оказались разграбленными. Повсюду валялись листы, вырванные из книг, и полусгнившие обломки мебели. Тут я вспомнил, что в полу был устроен прикрытый камнем тайник, где Стелла прятала свои маленькие сокровища. Я подошел к камню и приподнял его. В тайнике лежал сверток, завернутый в ветхую ткань. Я развернул ее. Внутри оказалось подвенечное платье моей жены. В складках платья лежали увядшие венки и цветы, которые украшали ее в день свадьбы, и маленький бумажный пакетик. Я развернул его: в нем оказалась прядь моих волос! Я вспомнил, что перед отъездом искал это платье, но не нашел, ибо забыл о тайнике в полу. Я взял платье и в последний раз покинул хижину. Затем привязал лошадь к дереву и через опустошенный сад отправился на кладбище. Оно заросло сорняками, но на могиле моей любимой выросло апельсиновое дерево, и ароматные лепестки его цветов падали на могильный холм. Когда я подошел ближе, раздался шум и треск. Большой бабуин выскочил из глубины кладбища и скрылся между деревьев. Я ненадолго задержался, погрузившись в мысли, которые не берусь описать. Потом, оставив мою покойную жену спать мертвым сном там, где слышится грустная музыка воды, струящейся в тени вечной горы, я повернулся и стал искать место, где мы впервые признались друг другу в любви. Апельсиновая роща превратилась в непроходимую чащу. Многие деревья погибли, задушенные ползучими растениями, но некоторые еще цвели. Я узнал то, под которым мы тогда сидели на камне. А на камне я увидел призрак Стеллы, той Стеллы, на которой я женился! Да, она сидела там, и на поднятом кверху лице было такое же выражение счастья, как в тот миг, когда мы впервые поцеловались. Луна сияла в ее темных глазах, ветерок играл вьющимися волосами, грудь поднималась и опускалась, нежная улыбка играла на полуоткрытых устах. Я стоял, исполненный страха и радости, и глядел на тень прелестного создания, которое некогда принадлежало мне. Я не мог говорить, а она не сказала ни слова. Казалось даже, что она не замечает меня. Я подошел ближе. Она опустила глаза. На мгновение наши взоры встретились, и я всем своим существом понял, что она хотела мне сказать. Потом она исчезла. Исчезла. Остались только яркий свет луны, освещавший место, где она сидела, грустная музыка вод, тень вечной горы и в сердце моем — скорбь и надежда.
Книга IV. РАССКАЗ О ТРЕХ ЛЬВАХ
Аллан Квотермейн рассказывает о том, как он вместе с сыном были золотоискателями, охотились на антилоп и встретились с тремя львами.
Проценты на полсоверена
Многие из вас, вероятно, слышали об Аллане Квотермейне, участнике экспедиции, которая не так давно нашла копи царя Соломона. Вскоре после этого он поселился в Англии, по соседству со своим другом сэром Генри Кертисом, однако впоследствии снова вернулся в дебри Африки. Так происходит почти со всеми старыми охотниками — они возвращаются, воспользовавшись любым поводом.[103] Они не могут долго выносить цивилизацию с ее шумом и грохотом. Толпы людей, одетых в сукна или хлопчатобумажные ткани, действуют им на нервы сильнее, чем опасности пустыни. Думаю, что среди нас они страдают от одиночества; многие отмечали, хотя мало кто осознал это до конца, что самое страшное одиночество — одиночество в толпе, особенно для того, кто к ней не привык. «Нет ничего более грустного, — говаривал старина Квотермейн, — чем стоять на улице большого города, прислушиваться к шарканью ног, бесчисленных, как капли дождя, и вглядываться в лица бледных людей, вереницей спешащих неведомо куда и зачем. Они появляются и проходят мимо, окидывают вас равнодушным взглядом, на мгновение их черты запечатлеваются в вашем сознании, а затем они исчезают навсегда. Вы больше никогда их не увидите, и они не увидят вас. Они возникают из неизвестности и тотчас же возвращаются в нее, унося с собой свои тайны. Да, это полное и подлинное одиночество. И только тот, кто знает и любит пустынные дебри, не чувствует себя одиноким, ибо дух природы всегда сопутствует ему. Его сопровождают ветры, у его ног лепечут, словно дети, ручьи, пронизанные солнцем. Далеко вверху, в багровых тучах заката, возносятся купола, минареты, дворцы, воздвигнутые не рукой смертного человека. И кажется, что врата их открыты для солнечных ангелов, которые то входят, то выходят. А еще в дебрях есть дичь — целые армии, передвигающиеся по привычным тропам от пастбища к пастбищу. Впереди, словно боевое охранение, южноафриканские газели. За ними ряды длинномордых антилоп бубалов. Они маршируют и перестраиваются, заходят во фланг, как пехота. И, наконец, блестящее войско антилоп квагга и лохматых, со свирепым выражением глаз антилоп гну — они напоминают казачью конницу, охраняющую армию с обеих сторон». «Нет, нет, мой мальчик, — повторял он, — в диких дебрях не чувствуешь себя одиноким…» Как бы то ни было, Квотермейн вернулся в Африку, и уже много месяцев я не получаю от него известий. Говоря по совести, я сильно сомневаюсь, получает ли их кто-нибудь другой. Боюсь, что дебри, столько лет служившие ему домом отчим, станут теперь могилой ему и тем, кто с ним пошел, ибо цель, которую они перед собой поставили, совершенно недостижима. Но в течение почти трех лет, которые он провел в Англии после находки клада мудрого царя, и до того дня, когда, похоронив единственного сына, снова покинул родину, я часто встречался со старым Алланом Квотермейном. Я познакомился с ним давно, еще в Африке, и после его приезда отправлялся к нему в Йоркшир всякий раз, когда у меня не было срочных дел. Там я услышал от него множество рассказов о всяких приключениях, и некоторые из них были очень интересны. Невозможно столько лет жить трудной жизнью охотника за слонами, не подвергаясь самым различным испытаниям. А на долю старого Квотермейна их выпало немало. История, которую я сейчас вам расскажу, повествует об одном его приключении. Не помню, в каком именно это было году, но знаю, что это единственная экспедиция, в которую он взял с собой своего четырнадцатилетнего сына Гарри, умершего несколько лет спустя. А теперь начну рассказ и постараюсь как можно точнее повторить то, что услышал однажды вечером в обшитой дубовыми панелями столовой старого дома в Йоркшире от самого охотника Квотермейна. Разговор зашел о золотоискателях. «Золотоискательство! — прервал он меня. — Я как-то и сам занялся было этим делом в трансваальском местечке Пилигримс Рест, а история с Джим-Джимом и львами — она уже случилась потом. Бывали вы в Пилигримс Ресте? Доложу вам, никогда не видывал более странного местечка. Оно словно засунуто в каменистую долину, окруженную горами. Такой пейзаж не часто увидишь. Я то и дело с отвращением бросал кирку и лопату, вылезал из ямы, уходил мили на две и поднимался на какой-нибудь холм. Там я бросался на траву и любовался великолепным видом. Я видел радостные долины, подцвеченные золотом, чистопробным золотом солнечного заката, и прикрытые просторным плащом кустарников. Я вглядывался в глубину прекрасного неба. И благодарил Бога за то, что не слышу здесь ни брани, ни грубых шуток старателей… Так я несколько месяцев терпеливо ковырял свой участок, пока не возненавидел кирку и лоток для промывки породы. Раз сто на дню я проклинал собственную глупость — ведь я вложил в участок восемьсот фунтов, то есть почти все, что имел в то время. Но меня, как многих других людей и получше, чем я, укусил москит, переносящий золотую лихорадку, и я заболел ею. Я купил участок, на котором один золотоискатель нажил себе состояние — не менее пяти-шести тысяч фунтов, — купил, как мне казалось, задешево. Это значит, что я уплатил ему наличными пятьсот фунтов — все, что мне удалось скопить после целого года трудной охоты на слонов по ту сторону Замбези. Тяжелый и — увы! — пророческий вздох вырвался у меня, когда мой новый удачливый приятель, а он был янки, сложил пачку билетов «Стандард бэнк»[104] и с высокомерным видом состоятельного человека сунул их в карман бриджей. — Что ж, — сказал я счастливцу, — участок замечательный, я надеюсь, что мне повезет здесь не меньше, чем вам. Он усмехнулся. В моем нервном состоянии усмешка показалась мне зловещей. А потом я услышал его ответ, произнесенный с характерным для янки акцентом: — Видишь ли, прекрасный незнакомец, я не из тех, кто мешает другим переваривать пищу, особенно когда я сам хорошо пообедал. Ну, а что до этого участка, так он сослужил свою службу, как хороший негр. Однако скажу тебе, незнакомец, как мужчина мужчине, теперь я могу сдернуть грязный покров с лица истины: участок-то, в сущности, выработан. Я остолбенел. От наглости этого типа у меня перехватило дыхание. Каких-нибудь пять минут назад он клялся всеми богами — их было много и самых разных религий, — что на участке осталось еще с полдюжины состояний и что он бросает его лишь потому, что ему чертовски надоело выковыривать киркой золото. — Не унывай, незнакомец, — продолжал мой мучитель, — кто знает, ты еще, может, добьешься проку от этой старухи. Ты ведь парень хоть куда, небось сумеешь обработать фортуну по первому разряду. Как бы то ни было, а с такой работы ты нарастишь мускулы на руках, почва здесь дьявольски твердая. Самое же главное, через какой-нибудь год у тебя будет солидный опыт, а уж его-то не купишь за какие-то две тысячи долларов. И он ушел — как раз вовремя. Помедли он хоть секунду, я бы бросился на него. Больше я его в глаза не видел. Так вот я и начал работать на старом участке вместе с моим мальчиком и полудюжиной кафров.[105] Это единственное, что мне оставалось после того, как я вложил сюда почти все свои деньги. И мы работали, честно работали с утра до ночи, но золота так и не видели. Мы не нашли ничего, даже маленького самородка, из которого можно было бы сделать булавку для галстука. Американский джентльмен забрал все, а нам оставил одну пустую породу. Так продолжалось три месяца, пока почти все, что еще уцелело от нашего небольшого капитала, не ушло на жалованье кафрам и на покупку еды для всех нас. Если я скажу вам, что цена на кукурузную муку доходила иногда до четырех фунтов за мешок, то вы поймете, что мой счет в банке оказался быстро исчерпанным. Наконец наступил кризис. В субботу вечером я, как обычно, рассчитался с работниками и купил за шестьдесят шиллингов муйд[106] кукурузной муки, чтобы было чем набить их желудки. А затем мы с Гарри вернулись на участок и уселись на краю большой ямы, которую выкопали в склоне холма и в насмешку прозвали Эльдорадо. Так мы сидели, освещенные луной, спустив ноги в яму. Очень нам было грустно. Я вытащил свой кошелек и высыпал на ладонь его содержимое: полсоверена, два флорина[107] и серебряный девятипенсовик. Медяков не было: медные деньги почти не ходили в Южной Африке, и это одна из причин тамошней дороговизны. Всего набралось, таким образом, четырнадцать шиллингов и девять пенсов. — Вот, Гарри, мальчик мой! — сказал я. — Это все наше земное достояние, остальное поглотила яма. — Клянусь святым Георгом! — сказал юный господин Гарри. — Придется нам с тобой, папа, наниматься на работу вместе с кафрами и жить на кукурузной каше. Тут он усмехнулся своей горькой шуточке. Но мне было не до шуток, ибо совсем невесело копать землю как не знаю кто, месяцы подряд, только для того, чтобы окончательно разориться. Особенно, если вы вообще не любите копать. Легкомыслие Гарри рассердило меня. — Помолчи, мальчик! — сказал я, шутливо замахиваясь, словно для того, чтобы отпустить ему затрещину. При этом монета в полсоверена выскользнула у меня из рук и упала в яму. — Вот незадача! — сказал я. — Укатилась. — Видишь, папа, — ответил Гарри, — что получается, когда человек дает волю своим страстям. Теперь у нас осталось только четыре шиллинга и девять пенсов. Я ничего не возразил на сии мудрые слова и начал спускаться по крутому склону ямы, чтобы спасти остатки своего состояния. Гарри последовал за мной. Искали мы, искали, но свет луны — не то освещение, при котором можно найти монету в полсоверена. К тому же, это место было перерыто, потому что кафры копали сегодня как раз здесь и кончили работу часа два назад. Я взял кирку и стал отбрасывать комья земли в надежде найти монету. Однако усилия мои оказались тщетными. Вконец разозлившись, я с силой ударил острой киркой по грунту, который был здесь особенно твердым. К моему удивлению, кирка ушла в землю до самой ручки. — Послушай, Гарри, — сказал я, — кто-то уже копал здесь. — Едва ли, папа, — ответил он. — Сейчас узнаем. С этими словами он принялся разгребать землю руками. — А-а! — сказал он вскоре. — Да это просто камни; кирка прошла между ними, посмотри-ка. — Слушай, папка, — вдруг проговорил он почти шепотом, — камень здорово тяжелый. Попробуй сам. И он поднял один из камней. Он встал с земли и поднес мне двумя руками круглый коричневатый ком размером с большое яблоко. Я с любопытством взял его и поднял повыше, чтобы разглядеть как следует. Он был очень тяжелым. Свет луны падал на его неровную поверхность, заляпанную грязью. Я вгляделся… и по мне пробежала нервная дрожь. Впрочем, уверенности еще не было. — Дай свой нож, Гарри, — сказал я. Он подал мне нож, и, уперев коричневый камень в колено, я царапнул его поверхность. Бог ты мой, он оказался мягким! Через миг стало ясно, что мы нашли большой самородок — весом фунта в четыре или даже больше. — Это золото, мой мальчик, — сказал я, — чистое золото, или я не англичанин. У Гарри просто глаза на лоб полезли. Он уставился горячим взором на блестящую желтую царапину, оставленную ножом на девственном металле, а затем испустил крик восторга. Этот крик пронесся над погруженными в тишину участками золотоискателей, словно вопль человека, которого убивают. — Тихо ты! — сказал я. — Хочешь, чтобы на тебя накинулись грабители? Не успел я вымолвить эти слова, как послышались тяжелые шаги. Я поспешно положил самородок на землю и уселся на этом немыслимо твердом сиденье. Тут я увидел над краем ямы худое темное лицо и пару маленьких глаз, подозрительно уставившихся на нас. Я знал это лицо — оно принадлежало человеку с очень дурной репутацией, известному под кличкой Том Колодка. Насколько я знаю, он получил это прозвище на алмазных приисках, где убил своего компаньона колодкой для торможения колес. А теперь он бродил по окрестностям, как гиена в человеческом образе, вынюхивая, где что плохо лежит. — Это вы, охотник Квотермейн? — спросил он. — Да, это я, мистер Том, — вежливо ответил я. — А кто тут вопил? — спросил он. — Я гулял, дышал вечерним воздухом и размышлял о звездах, как вдруг слышу крики, похоже, будто совы разорались. — Что ж, мистер Том, — ответил я, — удивляться нечему, ведь они, как и вы, ночные птицы. — Слышу крики, — сурово повторил он, не обращая внимания на мое замечание. — Я остановился и сказал себе: «Тут кого-то убивают». Но потом прислушался и решил: «А вот и нет. Это кричат от радости. Клянусь, кто-то засунул пальцы в липкий желтый горшок, а потом потерял голову, когда принялся облизывать их». Верно, охотник Квотермейн? Самородки, а? О Боже! — тут он громко причмокнул губами. — Большие желтые парни, не о них ли вы сейчас споткнулись? — Чепуха! — отважно сказал я. — С чего вы взяли? Жестокость, глядевшая из его черных глаз, превозмогла мое отвращение ко лжи, ибо я знал, что если он узнает, на чем я сижу, то у меня появится много шансов подвергнуться обработке колодкой еще до конца этой ночи. Кстати, выражение «пить и есть на золоте» обычно обозначает приятное времяпрепровождение, но я не посоветую никому, кто дорожит своими удобствами, сидеть на нем. — Если уж вы хотите знать, что произошло, мистер Том, — продолжал я с самым любезным видом, хотя самородок причинял мне страшные мучения, — то я скажу вам: мы с сыном разошлись во мнениях, и я старался поубедительнее аргументировать свою точку зрения. Вот и все. Я вообще считаю, что с человеком, который с такой легкостью прибегает к колодке, лучше обходиться полюбезнее. — Да-а-а, мистер Том, — вступил Гарри, зарыдав, ибо он был умным мальчиком и быстро оценил трудность положения. — Так и было, я закричал потому, что отец здорово меня стукнул. — Вот как, милый мальчик, вот как? Что же, я могу только сказать, что выработанный, старый участок самое что ни на есть странное место для аргимитирования в десять часов вечера. К тому же, мой сладкий, если мне когда доведется аргимитировать с тобой, — тут он злобно взглянул на Гарри, — ты у меня закричишь не так весело. А теперь я пожелаю вам доброй ночи, потому что не люблю мешать семейным досугам. Нет, я не таковский, право, не таковский. Доброй ночи, охотник Квотермейн, доброй ночи, аргимитированный ты мой мальчик. Тут мистер Том недовольно повернулся и потрусил дальше, словно шакал в поисках добычи. — Слава Богу! — сказал я, слезая с куска золота. — Сходи, Гарри, посмотри, убрался ли этот мерзавец. Гарри так и сделал и вскоре сообщил, что Том держит путь в Пилигримс Рест. После этого мы приступили к работе и очень осторожно, подавляя дрожь возбуждения, принялись выбирать руками землю в том месте, где я ударил киркой. Как я и надеялся, там оказалось гнездо самородков — целая дюжина, размером от обыкновенного ореха до куриного яйца, хотя первый все же был самым большим. Как они очутились там все вместе?! Удивительный каприз природы, о каком хотя бы понаслышке знал каждый, кто так или иначе имел дело с добычей рассыпного золота. Впоследствии выяснилось, что американец, продавший мне участок, именно таким же образом набил себе мошну, но только потуже: он тоже напал на гнездо, а потом проработал еще полгода, но золота так больше и не увидел: тогда он бросил поиски. Как бы то ни было, перед нами лежали самородки стоимостью, как потом оказалось, около тысячи двухсот фунтов, так что в конечном счете я выкопал из этой ямы на четыреста пятьдесят фунтов больше, чем зарыл в нее. Выбрав все самородки, мы завернули их в носовой платок. Нести домой такое сокровище ночью мы боялись, тем более что где-то, по-видимому, рыскал мистер Том Колодка. Решили дождаться утра на своем участке. Это унизительное решение изрядно подсластила близость носового платка, набитого золотом. Солидные проценты на потерянные полсоверена! Ночь отступала медленно. Перед моим мысленным взором стояла зловещая фигура Тома Колодки, не дававшая мне уснуть. Наконец наступил рассвет. Я видел, как он расцветал на восточной стороне неба, словно бутон, раскрывавший свои лепестки. Но вот величественные лучи солнца стали зажигать горные вершины одну за другой. Я следил за ними глазами и вдруг почувствовал, что с меня хватит. Я исполнился твердой решимости навсегда распрощаться с золотыми приисками, уехать из Пилигримс Реста и отправиться на охоту за буйволами в район бухты Делагоа. Я взял в руки кирку и лопату, безжалостно разбудил Гарри, хотя день был воскресный, и мы принялись искать новые самородки. Как я и предполагал, их не оказалось. Те, что мы нашли вечером, лежали небольшим гнездом в рыхлой земле, резко отличной от твердого грунта вокруг. Даже следов золота мы не обнаружили. Возможно, конечно, что где-то поблизости были еще гнезда, но я твердо сказал себе: если кто и найдет их, то это буду не я. Кстати, я слышал потом, что этот участок разорил двух или трех старателей, как едва не разорил меня. — Гарри, — сказал я сыну, — на этой неделе я отправлюсь в сторону Делагоа охотиться на буйволов. Взять тебя с собой или ты уедешь в Дурбан? — Ой, папа, возьми меня с собой, — принялся упрашивать Гарри. — Мне так хочется убить буйвола! — А если вместо этого буйвол убьет тебя? — спросил я. — Ничего, — весело ответил он, — там, где я родился, таких ребят много. Я пожурил его за легкомыслие, но в конце концов согласился.Что мы увидели в водоеме
Прошло чуть больше двух недель с той ночи, когда я потерял полсоверена, но зато нашел тысячу двести пятьдесят фунтов. Вместо ужасной ямы, которую, как оказалось, мы все-таки не зря прозвали Эльдорадо, перед моими глазами теперь открывался совсем иной вид, залитый серебристым светом луны. Мы, то есть Гарри, я и два кафра, расположились с фургоном и шестью волами на склоне возвышенности, поросшей кустарником. Впрочем, там, где мы разбили лагерь, кустарник был редким и кое-где над ним поднимались мимозы с плоскими кронами. Справа от нас пел песенку ручей, проложивший в склоне глубокое русло. По берегам его зеленели адиантум, дикая спаржа и другие красивые растения. Ручей пробил себе путь в красном граните. Много веков он терпеливо размывал огромные каменные глыбы и выдолбил наконец глубокие желоба и широкие чаши. Мы пользовались ими для купания. Ни одна ванна из порфира[108] или алебастра, в которых омывались римские дамы, не могла сравниться с нашими природными бассейнами для купания. И это в каких-нибудь пятидесяти футах от скерма — изгороди из колючей мимозы, которую мы поставили вокруг фургона, чтобы предохранить себя от нападения львов. О том, что они бродят неподалеку, мне сказали следы, хотя самих львов мы не видели и не слышали. Ванной нам служила большая промоина, над которой вода потрудилась особенно хорошо. На краю ее росла удивительно красивая старая мимоза. Прямо от нее начиналась большая и ровная глыба гранита, окруженная зарослями адиантума и других папоротников. Она полого спускалась к наполненной чистейшей водой гранитной чаше шириной около десяти футов и глубиной около пяти. Сюда-то мы и ходили каждое утро купаться, и эти восхитительные минуты принадлежат к моим наиболее приятным воспоминаниям. В то же время, как вы сейчас услышите, это очень тягостные воспоминания. Стояла чудесная ночь. Мы с Гарри сидели с наветренной стороны костра, а двое кафров жарили бифштексы из мяса антилопы импала, которую Гарри, к своей великой радости, застрелил утром. Мы были вполне довольны друг другом и даже всем миром в целом, насколько это вообще возможно. Ночь была великолепная, и толком рассказать о строгой красоте освещенных луной дебрей может только такой человек, у которого на кончике языка больше слов, чем у меня. Великий океан зарослей молчаливо катил волны кустарников все дальше и дальше к таинственному северу. Далеко внизу, справа от нас, несла свои воды широкая река Олифантс. Чтобы добраться до нее, пришлось бы спуститься на целую милю или даже больше. Подобно зеркалу, она отражала серебристые копья лунных лучей, направленных прямое ее грудь, а на гору и равнину свет луны ложился причудливыми яркими линиями. На берегах реки росли высокие деревья, и кроны их торжественно возносились к небу. Бесшумная красота ночи обволакивала их, словно облаком. Повсюду царило молчание — молчание в звездной бездне, молчание на груди спящей земли. В такие минуты в уме человека рождаются возвышенные мысли и он способен забыть о своем ничтожестве, почувствовав себя частицей огромного первозданного мира, окружающего его. — А это что? Слышите? Снизу, от самой реки, поднимался громкий, раскатистый звук. Он повторялся снова и снова. Это лев искал добычу. Я заметил, что Гарри вздрогнул и слегка побледнел. Он был достаточно смелый мальчик, но рык льва, впервые услышанный в торжественной тиши Бушвелда, испугает любого. — Это львы, мой мальчик, — сказал я. — Они охотятся внизу, у реки. Но я полагаю, тревожиться нечего. Мы здесь уже третью ночь, и если бы они собирались нанести нам визит, то, наверно, сделали бы это раньше. Впрочем, не мешает подбросить дров в костер. Послушай, Фараон, сходи-ка с Джим-Джимом, принесите еще хвороста, пока мы не заснули. А то эти кошки замурлыкают у тебя над ухом еще до рассвета. Фараон, большой, мускулистый свази, нанявшийся ко мне в работники еще в Пилигримс Ресте, засмеялся, встал, потягиваясь, и крикнул Джим-Джиму, чтобы тот захватил топор и веревку. Они пошли по освещенному луной пространству к зарослям протеи медоносной, где мы обычно обрубали на топливо сухие сучья. Фараон был отличный парень. Думаю, его прозвали Фараоном потому, что он смахивал на египтянина, да и походка у него была просто царственная. Однако вел он себя довольно своевольно, настроение у него то и дело менялось, и немногие могли поладить с ним. К тому же, когда ему попадалось спиртное, он пил, как рыба, а уж если напивался, то становился невероятно кровожадным. Таковы были дурные стороны его натуры. А хорошее в нем было то, что, как большинство людей зулусской крови, он сильно привязывался к человеку, если, разумеется, тот ему нравился. Он был трудолюбивым, рассудительным человеком, отчаянным смельчаком и, попав в беду, проявлял редкое мужество. Ему было около тридцати пяти лет, но он еще не стал кешла, то есть мужчиной с головным кольцом. Я подозревал, что у него случились какие-то неприятности в стране свази и племенные власти не разрешали ему носить кольцо.[109] Потому-то он и ушел работать на золотые прииски. Второй слуга, Джим-Джим, еще юноша, был кафр из племени мапочей, или кнобнозов, и, даже зная, что случилось потом, я не могу сказать о нем ничего хорошего. Он был ленив и невнимателен. Ну так вот, они ушли, хотя Джим-Джиму совсем не хотелось покидать лагерь в такой час, даже при ярком сиянии луны. Через некоторое время они благополучно возвратились с большой вязанкой хвороста. Поддразнивая Джим-Джима, я спросил, не попался ли ему кто-нибудь навстречу. Он ответил, что видел пару больших желтых глаз, уставившихся на него из-за куста, и слышал чей-то храп. Однако произведенный тут же беспристрастный допрос убедил меня, что желтые глаза и храп существовали, видимо, только в живом воображении Джим-Джима, а потому его тревожное сообщение не очень меня обеспокоило. В костер подбросили дров, я забрался за скерм и спокойно заснул рядом с Гарри. Среди ночи я внезапно проснулся. Не знаю, что именно меня разбудило. Луна заходила, она уже почти исчезла за кустами, и я видел только ее красный краешек. Подул ветер. Он быстро нес длинные гряды облаков по звездному небу. Ночь стала другой. По виду неба я определил, что до рассвета остается часа два. Волы, как обычно привязанные к дышлу фургона, вели себя неспокойно, громко сопели и фыркали, то поднимаясь с земли, то снова ложась. Я заподозрил, что они кого-то учуяли, и вскоре узнал кого: ярдах в пяти-десяти от нас зарычал лев, не очень громко, но достаточно внушительно, чтобы у меня душа ушла в пятки. Фараон спал по другую сторону фургона. Заглянув под повозку, я заметил, что он поднял голову и прислушивается. — Лев, нкоси, — прошептал он, — лев! Джим-Джим тоже вскочил, и даже при слабом свете гаснущего костра было видно, как он перепуган. Я решил, что пора объявить осадное положение, велел Фараону подбросить дров в костер и разбудил Гарри, который способен был безмятежно проспать светопреставление. Сначала он немного испугался, но тут же загорелся любопытством и пожелал встретиться с его величеством лицом к лицу. Я зарядил свою винтовку и сунул в руки Гарри его ружье системы Уэстли Ричардса. Оно очень удобно для юношей — легкое и бьет наповал. Потом мы стали ждать. Долгое время все было спокойно, и я уже подумал было, что лучше всего снова улечься спать, но тут вдруг услышал в каких-нибудь двадцати ярдах от скерма — нет, не рев, а характерное покашливание. Мы всматривались в темноту, но ничего не могли разглядеть. Опять тревожное ожидание. Ждать нападения с любой стороны, нападения, которого, впрочем, может и не быть, — уверяю вас, это очень взвинчивает нервы. У меня был большой опыт, но я беспокоился за Гарри. Удивительно, насколько присутствие близкого человека лишает нас хладнокровия в минуты опасности. Стало довольно прохладно, однако я чувствовал, как по носу у меня катятся капли пота, и, чтобы отвлечься, принялся наблюдать за жуком, которого, видимо, привлек свет костра. Он сидел перед огнем и задумчиво шевелил усами. Вдруг жук подскочил и едва не угодил в огонь. Подскочили и мы. Удивляться нечему: под самой изгородью раздался страшный рев, от которого дрогнул фургон, а у меня перехватило дыхание. Гарри вскрикнул, Джим-Джим завопил во все горло, а бедные волы жалобно замычали и от страха задрожали так, что чуть не выскочили из шкуры. Ночь стала совсем темной — луна зашла, тучи заволокли звезды. Только хорошо разгоревшийся костер давал немного света. Но вы же знаете, стрелять при свете костра бесполезно. Он не проникает сквозь тьму, а противник ваш прекрасно видит из мрака и костер, и вас. Волы, которые было поутихли, снова учуяли льва, и началось то, чего я больше всего боялся: они принялись рваться с привязи, чтобы стремглав ринуться в заросли. Львы прекрасно знают эту особенность нрава волов. Вообще волы, на мой взгляд, самые глупые животные на свете, по сравнению с ними любая овца — настоящий Соломон. Лев редко подкрадывается к стаду или упряжке. Он добивается того, чтобы волы учуяли его, сорвались с привязи и разбежались по кустарнику. Там, в темноте, они, разумеется, совершенно беззащитны, а лев спокойно выбирает самого упитанного и с аппетитом ужинает им. Вот так шестерка наших бедных волов принялась кружиться и в неистовстве чуть не растоптала нас. Мы поспешили убраться с их пути, чтобы они не задавили нас насмерть или не изувечили. Один вол все-таки слегка задел Гарри, а бедного Джим-Джима захлестнула под мышками веревка, которой были привязаны волы, и его отбросило далеко в сторону. Он грохнулся в нескольких шагах от меня. Не выдержав напряжения, переломилось дышло, и слава Богу, а то фургон наверняка перевернулся бы. Еще через минуту волы, веревки, упряжь, сломанное дышло, фургон — все смешалось в одну ревущую кучу, которая то вздымалась, то опадала. Словом, получился узел, который невозможно было развязать. Это ненадолго отвлекло мое внимание от льва. Но пока я соображал, что же все-таки предпринять и что будет, если волы вырвутся в заросли и пропадут там (ошалевший скот мчится как безумный), лев снова напомнил о себе, и притом самым неприятным образом Я вдруг увидел при свете костра желтую тень, летящую по воздуху в нашу сторону. — Лев! Лев! — заорал Фараон. В тот же миг лев, вернее, львица, ибо зверь оказался большой худущей самкой, видимо, вконец обезумевшей от голода, опустился прямо в середине нашего лагеря и стоял теперь в дымной мгле, хлеща хвостом и громко рыкая. Я схватил винтовку и выстрелил, но в неверном свете костра, среди всеобщего смятения я в львицу не попал, зато чуть не прикончил Фараона. Вспышка от выстрела ярко осветила всю сцену, производившую, уверяю вас, самое дикое впечатление. Вокруг фургона метались в куче волы. Казалось, что головы растут у них из крестцов, а рога торчат из спин. Костер дымил вовсю, и только в самой глубине столба дыма блистал огонь. На переднем плане, там, куда забросили его дико мечущиеся волы, лежал охваченный ужасом Джим-Джим. А в центре стояла большая тощая львица и смотрела на нас голодными желтыми глазами. Она рычала с подвыванием, лихорадочно соображая, как ей поступить. Однако в нерешительности она пребывала недолго, не дольше, чем требуется для того, чтобы искра погасла во мраке. Я не успел ни выстрелить еще раз, ни вообще шевельнуться, как она с дьявольским хрипом кинулась на бедного Джим-Джима. Я услышал крик несчастного юноши и одновременно увидел, что ноги его взметнулись в воздух. Львица схватила его за шею и рывком перебросила себе на спину, так что ноги его свесились с другой стороны.[110] Затем без всяких видимых усилий, одним прыжком перемахнула через скерм и, унося бедного Джим-Джима, скрылась во мраке, в сторону нашего купального бассейна. Мы вскочили, почти обезумев от ужаса, и бросились в погоню, стреляя наугад. Мы надеялись, что выстрелы напугают ее и заставят бросить жертву. Но львица исчезла во мраке вместе с Джим-Джимом, преследовать ее до рассвета было бы безумием: мы рисковали разделить участь бедняги. Итак, мы забрались обратно за изгородь и принялись ждать утра, до которого теперь оставалось не больше часа. У всех было тяжело на сердце. Пытаться расцепить волов пока не рассветет не имело смысла, и нам оставалось лишь сидеть да раздумывать, почему одного из нас унес зверь, а другие целы и невредимы, и тешить себя несбыточными надеждами, что бедному нашему слуге чудом удастся спастись из пасти львицы. Наконец первые проблески рассвета поползли, словно призраки, вверх по склону возвышенности и высветили спутавшиеся рога волов. Бледные и испуганные, мы принялись высвобождать животных, ожидая, когда совсем рассветет, чтобы отправиться по следу львицы. Но тут нас ждали новые неприятности. Когда нам с превеликим трудом удалось наконец расцепить беспомощных огромных волов, оказалось, что один из них тяжело болен. Он стоял, расставив ноги и понурив голову. Сомнений не было — вол заболел пироплазмозом. Я это понял сразу. Во время путешествий по Южной Африке наибольшие неприятности причиняют, пожалуй, волы. Они способны довести человека до белого каления. Вол не обладает сопротивляемостью болезням и не упускает случая подхватить какой-нибудь таинственный недуг. Назло вам он теряет в весе неизвестно по какой причине и подыхает от истощения; самое большое наслаждение для него неожиданно свернуть в сторону или отказаться тащить фургон на середине реки либо как раз тогда, когда колесо по ступицу застряло в грязи. Стоит вам поехать по плохой дороге — и через несколько миль вы убедитесь, что у него сбиты ноги. Пустите его пастись — и вы скоро обнаружите, что он убежал, а если не убежал, так наелся, чтобы напакостить вам, «тюльпана» и отравился. С ним всегда что-нибудь случается. Вол — гнусное животное. Поведение нашего вола вполне соответствовало привычкам этой породы: он заболел пироплазмозом — надо думать, нарочно — именно в тот час, когда лев унес его погонщика. Ничего другого я и не ожидал, а потому нисколько не удивился. Ну так вот, плакать было бесполезно, хотя слезы так и навертывались на глаза. Если заболел один вол, то и остальные, скорее всего, заразятся, хотя мне их продали как «просоленных», то есть не подверженных пироплазмозу и легочной чуме. В Южной Африке со временем к этому привыкаешь — ведь ни в какой другой стране не бывает, вероятно, столь массового падежа скота. Итак, захватив винтовку, я отправился вместе с Гарри на поиски останков несчастного Джим-Джима или хотя бы его одежды. Фараона нам пришлось оставить сторожить волов, не зря же я называл их тощими коровами фараона.[111] Почва вокруг нашего лагеря была твердой и скалистой, и мы не могли найти следов львицы, хотя у самого скерма обнаружили несколько капель крови. Ярдах в трехстах от лагеря, немного вправо от него, росло несколько кустов протеи медоносной вперемежку с обычными для этих мест деревцами мимозы. Я направился туда, предполагая, что львица наверняка затащила свою жертву в кусты, чтобы там ее сожрать. Мы стали пробираться по высокой траве, прижатой к земле выпавшей росой. Не прошло и двух минут, как ноги у нас промокли по самую щиколотку, словно мы брели по воде. Однако мы все же добрались до зарослей и в сером свете наступающего утра медленно и бесшумно вошли в их гущу. Под деревьями было еще темно, ибо солнце не поднялось, а потому мы двигались очень осторожно, все время опасаясь набрести на львицу, облизывающую кости бедного Джим-Джима. Но львицы мы не увидели и не нашли даже фаланга пальца Джим-Джима. Здесь ее не было. Продираясь сквозь кустарник, мы обыскали, казалось бы, все подходящие участки, но с тем же результатом. — Видно, она унесла его, — сказал я с грустью. — Так или иначе, Джим-Джим уже мертв и помочь ему мы не можем, да смилуется над нами Господь. Что теперь делать? — Думаю, нам следует умыться в каменной чаше, а потом вернуться и поесть. Я весь перемазался, — сказал Гарри. Это было практичное, хотя и несколько бездушное предложение. Во всяком случае, мне показалось бездушным говорить о купании, когда беднягу Джим-Джима только что съели. Однако я не поддался своим чувствам, и мы отправились к чудному местечку, которое я уже описал. Я первый достиг его, спустившись по заросшему папоротником берегу. И тут же с воплем кинулся назад, потому что у самых моих ног раздалось грозное рычание. Оказывается, я спрыгнул чуть ли не на спину львицы, которая спала на глыбе, где мы обычно сушились после купания. Не успел я опомниться и прицелиться, как львица с сердитым рыком перемахнула через бассейн с хрустальной водой и исчезла на противоположном берегу. Все это произошло в одно мгновение, с быстротой молнии. Она спала на гранитной глыбе. Боже мой, что лежало рядом на залитой кровью скале! Красноватые останки бедного Джим-Джима! — Ой, папа, папа! — закричал Гарри. — Погляди на воду! Я посмотрел. В центре чарующей, спокойной заводи плавала голова Джим-Джима. Львица откусила ее, и она по наклонной скале скатилась в воду.Джим-Джим отомщен
Мы, конечно, больше не купались в нашем бассейне. Я даже не мог взглянуть на мирный, красивый водоем с каймой из папоротников, покачивающихся на ветру, чтобы не вспомнить эту страшную голову, которую мы долго не могли выловить из воды. Бедный Джим-Джим! Мы похоронили то, что осталось от него, а осталось немного, в старом мешке из-под хлеба. При жизни он не блистал добродетелями, но теперь, когда его не стало, мы готовы были его оплакивать. Гарри даже разрыдался. Фараон страшно ругался по-зулусски, а я молча поклялся, что не пройдет и двух дней, как я впущу дневной свет в брюхо львицы. Ну, вот мы и погребли Джим-Джима в мешке из-под хлеба (с которым я, впрочем, расстался не без сожаления, потому что другого у нас не было). Львы больше не потревожат его, а вот гиены могут, если только решат, что ради этих останков стоит разрывать землю. Впрочем, он на это уже не рассердится. Так кончается повествование о Джим-Джиме. Теперь осталось решить, как настигнуть его убийцу. Я подозревал, что львица вернется, как только вновь проголодается, но не знал, когда именно ей захочется есть. Она так мало оставила от Джим-Джима, что я не ожидал ее увидеть до следующей ночи, если только у нее нет львят. Однако было бы глупо проворонить ее возвращение, и мы занялись приготовлениями к приему. Прежде всего мы укрепили скерм, для чего натаскали колючих кустов, соединили их кронами и уложили колючками наружу. После печального опыта с Джим-Джимом эта предосторожность казалась нам необходимой; как говорят кафры, второй козел может пройти там, где прошел первый, а мы имели дело с таким энергичным и сильным зверем, как лев! Но как побудить львицу вернуться? Львы обладают поразительной способностью появляться как раз тогда, когда их меньше всего хотят видеть, и тщательно избегают человека, если он стремится к встрече с ними. Разумеется, если Джим-Джим пришелся ей по вкусу, она могла вернуться за другой такой же поживой, но полной уверенности в этом не было. Гарри, который, как я уже говорил, отличался крайней практичностью, предложил, чтобы Фараон при свете луны вышел из лагеря и уселся за оградой в качестве своего рода приманки. При этом он уверял зулуса, что тому нечего бояться: мы успеем прикончить львицу раньше, чем она прикончит его. Однако, к удивлению Гарри, Фараон отнесся к этому предложению холодно. Он даже обиделся и отошел в сторону. Тем не менее слова мальчика навели меня на одну мысль. — Клянусь Юпитером! — сказал я. — Есть ведь больной вол! Раньше или позже, он все равно издохнет, так почему бы нам не использовать его? Ярдах в тридцати слева от нашего скерма (если повернуться лицом к реке) торчал пень — остаток дерева, разбитого молнией много лет назад. За ним шагах в пятнадцати виднелись две группы кустов. Мне казалось, что лучше всего привязать вола к пню. Незадолго до захода солнца Фараон отвел к нему больное животное. Бедная тварь не знала, зачем это сделали. Началось длительное ожидание; костра мы не зажигали, поскольку хотели привлечь львицу, а не отпугнуть. Тянулся час за часом, и, чтобы не уснуть, мы щипали друг друга (примечательно, кстати, сколь велико расхождение во мнениях о силе подходящего к случаю щипка между щиплющим и щипаемым). Однако львица не появлялась. Наконец луна зашла, и тьма поглотила мир, как говорят кафры, но ни один лев не приблизился, чтобы пожрать нас. Мы ждали, не решаясь сомкнуть глаза, и только с рассветом, полные горечи, позволили себе немногоотдохнуть. Утром мы отправились на охоту — не потому, что нам хотелось, для этого мы чувствовали себя слишком подавленными и усталыми, просто у нас кончилось мясо. Часа три, если не больше, мы бродили под палящими лучами солнца в поисках добычи, но без результата. По неведомым причинам дичь в этой местности перевелась, хотя двумя годами раньше, когда я побывал здесь, крупных животных, за исключением слонов и носорогов, была тьма. Теперь тут водились толькольвы, притом во множестве, и я думаю, что они стали такими свирепыми именно потому, что дичь, которой они обычно питаются, куда-то откочевала. Как правило, лев, если его не беспокоить, довольно мирный зверь, но голодный лев опасен почти так же, как голодный человек. Я слышал самые разноречивые суждения о смелости или трусости льва, но мой опыт показывает, что, в сущности, все зависит от состояния его желудка. Голодный лев не останавливается ни перед чем, а сытого легко обратить в бегство. Ну так вот, мы шли и шли, но не видели решительно ничего, даже антилопы дукер. Вконец усталые и раздраженные, мы перевалили через гребень крутого холма, направляясь обратно к лагерю. Тут я застыл на месте, потому что ярдах в шестистах от меня показался самец благородной антилопы куду. Его прекрасные, изогнутые рога четко выделялись на фоне голубого неба. Как вы знаете, у меня зоркий глаз, и даже на таком расстоянии я отчетливо различал белые полосы на его боку, освещенные солнцем, и большие заостренные уши, которые шевелились, отгоняя мух. Что ж, прекрасно; но как до него добраться? Нелепо рисковать выстрелом с такой дистанции. В то же время при подобном рельефе местности преследовать дичь, да еще с наветренной стороны, бесполезно. Я решил, что единственный шанс — сделать крюк в милю или около того и подкрасться к куду с другого бока. Я подозвал Гарри и объяснил ему, что нужно делать. Но тут куду избавил нас от трудов, со скоростью ракеты ринувшись вниз по склону. Не знаю, что его напугало, но только не мы. Быть может, внезапно появились гиены или леопард — в тех местах леопардов называют тиграми. Так или иначе, куду бросился вскачь. Клянусь, что никогда не видел такой быстроногой антилопы. Я забыл о Гарри и выразился довольно крепко, но, право же, в тех условиях это было извинительно, тем более что Гарри увлеченно следил за скачками прекрасного животного. Вскоре оно исчезло за кустами, потом показалось снова шагах в пятистах от нас и продолжало мчаться уже по сравнительно ровному месту, усеянному камнями. Куду преодолевал препятствия огромными прыжками, смотреть на них было одно удовольствие. Вот я и наслаждался этим зрелищем, но, повернувшись к Гарри, с удивлением увидел, что он вскинул винтовку к плечу. — Ах ты молодой осел! — воскликнул я. — Неужели ты надеешься… Как раз в этот миг винтовка выпалила. И тут случилось чудо, какого я не видывал за всю свою охотничью жизнь. Куду в тот момент парил в воздухе. Он перелетал через кучу камней, поджав под себя все четыре ноги. Вдруг ноги его распрямились, он встал на них, но тут же они подломились под тяжестью его тела. Благородное животное упало на землю головой вперед. На мгновение показалось, что оно стоит на рогах, задрав тонкие ноги высоко в воздух. Затем куду перевернулся и затих. — Силы небесные! — воскликнул я. — Да ты попал в него! Он мертв. Гарри молчал и вообще выглядел перепуганным. И немудрено. Никогда я не видал такого невероятного, сногсшибательного везения. Взрослый мужчина, не говоря уже о мальчишке, мог сделать хоть тысячу таких выстрелов и ни разу не попасть в цель. Напомню вам, что цель эта скакала и перепрыгивала через камни в добрых пятидесяти ярдах от нас. И вот мой мальчик случайным выстрелом, даже не подняв прицельную рамку и лишь инстинктивно учтя скорость животного и угол прицеливания, уложил антилопу. Она мертва, как дверной гвоздь. Я ничего больше не сказал, — момент был слишком торжественным для слов, — я просто отправился к тому месту, где лежал куду. Там я и нашел его, прекрасного и неподвижного. Примерно в середине шеи виднелась круглая дырочка с ровными краями. Пуля пробила спинной мозг и, пройдя позвоночник насквозь, вышла с другой стороны. Уже наступил вечер, когда, вырезав из туши лучшие куски, которые можно было унести на себе, мы привязали к рогам (длина их достигала, кстати, пяти футов) красный носовой платок и несколько пучков травы, чтобы отпугнуть шакалов и стервятников, и повернули к лагерю. Нас встретил Фараон, уже начавший тревожиться из-за нашего долгого отсутствия. Он поспешил нас «обрадовать», сообщив, что заболел еще один вол. Но даже это страшное известие не огорчило Гарри; невероятно, но в глубине души он приписывал смерть куду своему искусству. Мальчик стрелял неплохо, но подобное утверждение было сущей нелепостью. Я так и сказал ему. Мы поужинали бифштексами из мяса куду (они были бы нежнее, будь самец помоложе) и начали готовиться к приему убийцы Джим-Джима. Мы решили снова использовать в качестве приманки несчастного больного вола, который и без того уже чуть не протянул ноги, во всяком случае, едва на них стоял. Фараон рассказал, что после полудня вол кружился, как всегда делают больные животные в последней стадии пироплазмоза. Сейчас он стоял с опущенной головой и качался из стороны в сторону. Мы привязали его к тому же пню, что и накануне. Если львица не убьет его, он все равно к утру будет мертв. Я даже боялся, что он испустит дух раньше и не сможет служить приманкой. Ведь у льва нрав спортсмена, и он, если не слишком голоден, предпочитает сам убивать животное, которым намерен пообедать. Впрочем, потом он не раз возвращается к этой туше. Мы сделали все так же, как прошлой ночью, и просидели много часов. Один Гарри крепко спал. У меня, хоть я и привык к такого рода бдениям, тоже слипались глаза. Я совсем было задремал, когда Фараон толкнул меня в бок. — Слушай! — прошептал он. Я мгновенно очнулся и начал внимательно прислушиваться. Со стороны кустарника, справа от разбитого молнией дерева, к которому был привязан больной вол, донесся легкий треск. Вскоре он повторился. Там кто-то двигался, тихо и почти незаметно, но в напряженной тишине ночи любой звук казался громким. Я разбудил Гарри. Он вскочил и с криком: «Где она, где она?» стал прицеливаться из винтовки. Не знаю, как львица, а мы с Фараоном и волы подвергались при этом непосредственной опасности. — Тихо! — с яростью прошептал я. В этот момент раздался ужасный, низкий рык и от группы кустов справа мелькнула как бы вспышка желтого света и перебросилась к кустам слева. Несчастный больной вол испустил стон и затопотал на месте, весь дрожа. Он хорошо был нам виден при луне — она светила теперь очень ярко. Мне стало невыразимо стыдно за то, что я обрек бедное животное на такие муки, а в том, что оно их испытывало, не могло быть никакого сомнения. Львица — это была она — пронеслась так быстро, что мы не успели не то что выстрелить, а даже разглядеть ее толком. Вообще ночью пытаться стрелять бесполезно, если только цель не находится близко и не сохраняет неподвижность. Лунное освещение столь неверно и мушку так трудно разглядеть, что у самого лучшего стрелка больше шансов промахнуться, чем попасть. — Она сейчас вернется, — сказал я. — Глядите в оба, но, ради Бога, не стреляйте без моей команды. Не успел я произнести эти слова, как она вернулась и опять пронеслась мимо вола, не тронув его. — Что это она? — прошептал Гарри. — Вероятно, играет с ним, как кошка с мышкой. Сейчас она его убьет. Только я это сказал, как львица снова выскочила из кустарника и на этот раз перепрыгнула через дрожавшего обреченного вола. Великолепное зрелище! Освещенная ярким светом луны, львица пронеслась прямо над ним, словно ее специально этому обучали. — Может, она убежала из цирка? — прошептал Гарри. — Здорово прыгает! Я не ответил, но про себя подумал, что если это и так, то юному господину Гарри представление доставляет не слишком большое удовольствие. Во всяком случае, у него чуть слышно стучали зубы. Затем наступила длительная пауза, и я уже решил, что львица совсем ушла, но вдруг она появилась вновь, одним прыжком вскочила на спину вола и нанесла ему сильный удар лапой. Вол упал и лежал на земле, слегка подрыгивая ногами, а львица наклонила свирепую голову и, заворчав от удовольствия, впилась длинными белыми зубами в горло умирающего животного. Когда зверь поднял морду, она была окровавлена. Львица стояла, искоса поглядывая на нас, лизала растерзанную тушу и издавала звуки, похожие на мурлыканье. — Теперь наш черед, — сказал я. — Стреляем разом. Я целился как можно тщательнее, но Гарри, не дождавшись команды, выстрелил, и это, естественно, заставило меня поторопиться. Когда дым рассеялся, я с восторгом увидел, что львица катается по земле за тушей вола. К сожалению, туша прикрывала ее, и мы не смогли прикончить зверя новыми выстрелами. — Она готова! Конец желтой дьяволице! — радостно завопил Фараон. В тот же миг львица, поднявшись судорожным рывком, не то перекатилась, не то прыгнула в густой кустарник справа. Я выстрелил ей вслед, но, кажется, безуспешно. Во всяком случае, она благополучно укрылась в кустарнике и там принялась издавать дьявольские звуки, каких я никогда прежде не слыхал. Она то выла и стонала от боли, то рычала так, что все сотрясалось вокруг. — Что ж, — сказал я, — придется оставить ее в покое, пусть себе рычит. Преследовать ее ночью в кустарнике было бы безумием. В это мгновение, к моему удивлению и тревоге, со стороны реки послышался ответный рев, а затем еще один, прямо у кустов. Клянусь, тут были еще львы! Раненая львица стала вопить громче, верно, звала их на помощь. Как бы то ни было, они явились, и даже очень скоро; уже минут через пять мы увидели сквозь колючую изгородь великолепного льва, направлявшегося к нам через заросли травы тамбоуки,[112] которые ночью были удивительно похожи на поле зреющей кукурузы. Он приближался большими прыжками — величественное зрелище! Ярдах в пятидесяти от нас, на открытом пространстве, он остановился и заревел. Заревела и львица. Затем рев раздался с третьей стороны, и на сцену царственной поступью вышел еще один, большой черногривый, лев. Он присоединился к своим товарищам — и тут я перечувствовал все, что испытал бедный вол. — Слушай, Гарри, — прошептал я, — ни в коем случае не стреляй, слишком большой риск. Может быть, они оставят нас в покое. Ну так вот, оба льва направились к кустарнику, где раненая львица прямо надрывалась от рева, а затем все трое принялись реветь и покашливать. Вскоре, однако, львица замолкла, а львы вышли из кустарника. Впереди — черногривый, вероятно, в качестве разведчика. Он направился к тому месту, где лежала туша вола, и понюхал ее. — Ох, какая мишень, — прошептал Гарри, дрожа от волнения. — Да, — сказал я, — но не стреляй. А не то они вдвоем навалятся на нас. Гарри промолчал. То ли юности вообще присуща импульсивность, то ли волнение окончательно лишило Гарри душевного равновесия, то ли, наконец, его просто обуяли бесшабашность и озорство — не знаю, мне так и не удалось получить от него вразумительного объяснения. Остается фактом, что без предупреждения, без единого слова, полностью пренебрегая моими предостережениями, Гарри поднял ружье «уэстли ричардс» и выпалил в черногривого льва. И главное, ранил его в бок. Лев испустил ужасающий рев. Он стал оглядываться, продолжая рычать от боли в ране. Я лихорадочно соображал, что предпринять. Тем временем этот огромный черногривый зверь, явно не понявший, откуда взялась боль, вцепился в горло своего желтогривого приятеля, сочтя его виновником своих неприятностей. Надо было видеть изумление второго льва, ставшего жертвой невесть чем спровоцированного нападения. Он с сердитым рыком покатился по земле, а черногривый дьявол прыгнул на него и принялся трепать. Это, видимо, помогло желтогривому правильно оценить обстановку, и, клянусь, он сумел за себя постоять. Каким-то образом он ухитрился встать на ноги и со страшным ревом и рыком схватился со своим могучим противником. Ну и картина! Видели ли вы когда-нибудь, как дерутся два больших пса? Так вот, целая сотня грызущихся псов не была бы так ужасна, как эти два свирепых зверя, которые, рыча, катались по земле и в дикой ярости терзали друг друга. Они рвали один другого когтями, старались перегрызть горло, вырывали клочья из гривы. Их желтые шкуры окрасились кровью. Мы с ужасом и восхищением следили за сражением двух огромных кошек, кипевших дикой энергией. Ночь наполнилась отвратительными, душераздирающими звуками. Бесподобная схватка! Несколько минут нельзя было сказать, кто берет верх, но наконец черногривый лев, хотя он казался несколько крупнее своего врага, начал заметно терять силы. Думаю, что это из-за раны в боку. Во всяком случае, ему приходилось не сладко. Что ж, он напал первым и заслужил свою участь. И все же я испытывал некоторое сочувствие к нему: он проявил себя стойким бойцом даже тогда, когда противник добрался наконец до его глотки и, невзирая на сопротивление, принялся выжимать из него жизнь. Они катались, сцепившись, по земле, это было и страшно, и отвратительно. Но желтогривый не разжимал своей хватки, и черногривый постепенно слабел, дыхание вырывалось у него со стонами, в ноздрях свистело. Потом он разинул огромную пасть, испустил слабеющий рев, дернулся и сдох. Убедившись в победе, желтогривый выпустил свою жертву и принялся ее обнюхивать. Затем он лизнул мертвого льва в глаз и, не снимая лап с его туши, затянул победную песню, которая понеслась по темным тропам ночи. Тут я решил вмешаться. Хорошенько прицелившись в центр его туловища, чтобы избежать промаха, я нажал на спусковой крючок и прострелил зверя насквозь пулей калибра 570, выпущенной из нарезного ствола. Лев замертво упал на труп своего могучего противника. Затем, удовлетворенные успехом, мы с Гарри мирно проспали до рассвета. Бодрствовал только Фараон, он не ложился спать на всякий случай: вдруг еще какому-нибудь льву взбредет в голову нанести нам визит. Солнце стояло уже высоко, когда мы с Фараоном — Гарри я не разрешил идти с нами — отправились на поиски раненой львицы. Она замолкла вскоре после появления львов и с тех пор не издала ни звука. Скорее всего, решили мы, она сдохла. Я взял с собой винтовку, а Фараон нес топор: в руках Фараона огнестрельное оружие представляло подлинную опасность для окружающих. Мы постояли немного над мертвыми львами. Оба были великолепными экземплярами, но шкуры их были безнадежно испорчены в ожесточенной схватке. Очень жаль, что так получилось. Минуту спустя мы увидели кровавый след раненой львицы. Он вел в кустарник, где она укрывалась. Вряд ли нужно говорить, что мы шли по следу с величайшей осторожностью. Мне все это ужасно не нравилось, я утешал себя только мыслью, что так нужно и что кустарник не слишком густой. Мы старались обходить каждый куст, в то же время внимательно осматривая его, но львицы нигде не было, хотя кровавых пятен виднелось немало. — Она, верно, ушла куда-то подыхать, Фараон, — сказал я по-зулусски. — Да, нкоси, — ответил он. — Она действительно ушла. Не успел он промолвить эти слова, как я услышал рев и, повернувшись, увидел львицу. Она как раз выскочила из глубины кустарника. Львица подобралась сзади к Фараону и поднялась на задние лапы. Стало видно, что одна из передних лап перебита у плеча и безжизненно повисла. Стоя на задних лапах, львица была гораздо выше Фараона. Она занесла здоровую лапу, чтобы ударом свалить его на землю. Прежде чем я успел прицелиться или сделать хоть движение, чтобы предотвратить беду, зулус начал действовать смело и умно. Поняв, какая опасность ему угрожает, он отскочил в сторону и, взмахнув над головой тяжелым топором, нанес удар по спине львицы. Он убил ее наповал, перешибив хребет. К моему удивлению, она свалилась, как пустой мешок. — Честное слово, Фараон, — сказал я, — это было сделано здорово и вовремя. — Да, — сказал он с усмешкой, — это был хороший удар, нкоси. Теперь Джим-Джим может спать спокойно. Мы позвали Гарри и осмотрели львицу. Она была старой, если судить по источенным зубам, и не очень крупной, но коренастой и отличалась исключительной живучестью. Шутка ли, протянуть столько времени после подобного ранения! У нее не только было сломано плечо — моя пуля из нарезного оружия проделала в середине ее туловища дыру, в которую свободно проходил кулак. Ну, вот и весь рассказ о смерти бедного Джим-Джима и о том, как мы за него отомстили. Самое интересное в нем — схватка двух львов. Я никогда не видел ничего подобного, хотя не так уж мало знаю о львах и их повадках». — А как вы вернулись в Пилигримс Рест? — спросил я охотника Квотермейна, когда он закончил свое повествование. — О, нам крепко досталось, — ответил он. — Второй заболевший вол издох, а за ним еще один, и нам пришлось довольствоваться тремя, которых мы и запрягли треугольником. Они кое-как волокли фургон, я мы подталкивали его сзади. Таким манером мы делали не больше четырех миль в день, и добрались до поселка только через месяц. В последнюю неделю мы здорово отощали от голода. — Выходит, — сказал я, — что большинство ваших экспедиций кончались бедой, не одной, так другой, и все же вы опять и опять бросались в новые приключения. Не перестаю удивляться этому! — Да, так оно и есть. Но не забудьте, что много лет я жил охотой. К тому же, половина радости, которую она приносит, как раз и заключается в опасностях и бедствиях, они страшны только тогда, когда случаются. Да и не все мои экспедиции кончались неудачей. Когда-нибудь я расскажу вам, если захотите, историю со счастливым концом, ибо я заработал в тот раз несколько тысяч фунтов и любовался удивительным зрелищем, какое не часто увидит охотник. Именно в этом путешествии я встретился с самой отважной туземной женщиной. Ее звали Майва, и второй такой храброй женщины я не встречал. Но уже слишком поздно, и, к тому же, мне надоело говорить о себе. Передайте мне, пожалуйста, воду!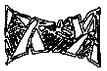
Книга V. МЕСТЬ МАЙВЫ
В повести Аллан Квотермейн рассказывает своим друзьям о событиях, произошедших с ним в землях южноафриканского племени матуку, куда он отправился охотиться на слонов. После этой охоты к Аллану Квотермейну пришла Майва, одна из жён вождя матуку Вамбе, предупредила о грозящей со стороны Вамбе опасности, сообщила о находящемся у вождя в плену друге Аллана и попросила помочь отомстить Вамбе за смерть её маленького сына.
Глава 1
ХОБО УПРЯМИТСЯ
В один славный осенний день мы отлично поохотились с моим приятелем Алланом Квотермейном в его поместье в Йоркшире и вернулись к обеду в самом веселом расположении духа. Наши сумки были туго набиты дичью, и в довершение удачного дня Аллан сделал уже на обратном пут три поразительно метких выстрела по трем бекасам, которые летели разом с трех сторон довольно далеко от нас. Несмотря на уже наступавшую темноту и поднявшийся довольно сильный ветер, он не дал ни одного промаха и уложил всех трех, одного за другим. Подобная быстрота и меткость поразили даже меня, привыкшего к охотничьим подвигам моего приятеля. — Ну, Квотермейн, — сказал я ему с невольным восхищением, — хотя вы и превосходный охотник, а все же, думаю, вам нечасто приходилось делать на своем веку такие выстрелы. — Пожалуй, вы правы, — ответил он с довольной улыбкой. — Это напоминает мне случай, произошедший со мной в Восточной Африке, но тогда дичь была покрупнее бекасов. Я уложил тремя выстрелами трех слонов, только тогда дело могло кончиться иначе: слоны чуть было не убили меня самого. Слова моего приятеля сильно заинтересовали меня, и я дал себе слово при первом удобном случае заставить его рассказать об этом приключении. Случай представился в тот же вечер. К обеду в Грендж (так называлось поместье Квотермейна) приехали еще двое его знакомых — сэр Генри Курте и мистер Гуд, оба также страстные охотники. Обед прошел очень весело. Выйдя из-за стола, мы все вчетвером уселись с сигарами около пылающего камина и принялись болтать. Разговор, конечно, зашел об охоте, каждый из нас рассказывал о своих приключениях. Гуд поведал, между прочим, как однажды охотился в горах Кашмира за каменным бараном и загнал ею в расщелину, из которой тому, казалось, не было выхода: перед ним зияла бездонная пропасть по крайней мере в тридцать футов шириной. Но баран, недолго думая, махнул через пропасть. Тогда Гуд выстрелил в него и убил наповал; баран перевернулся в воздухе и полетел в бездну. Гуд уже думал, что добыча потеряна для него, но, к счастью, баран зацепился своими огромными рогами за выступ скалы и висел до тех пор, пока Гуд не ухитрился накинуть на него петлю и таким образом втащить наверх. История эта была встречена слушателями с нескрываемым недоверием, что заметно рассердило рассказчика. — Если вы мне не верите, — воскликнул он с досадой, — то пусть кто-нибудь из вас расскажет о приключении, равносильном моему. Я поверю, я знаю по опыту, что на охоте может случиться все что у годно. — Слово за вами, Квотермейн, — вмешался я, — расскажите о трех слонах, о которых упоминали давеча. — Куда мне гнаться за Гудом! — Аллан лукаво кивнул на раздосадованного приятеля. — Такие диковинные случаи, какие бывают с ним, приключаются не с каждым. А впрочем, пожалуй, я опишу вам кое-что из моих похождений в Восточной Африке. Среди них есть довольно интересные. И Аллан начал рассказ. «Вы знаете, что я приехал в Африку с небольшим капиталом. Там я открыл было ссудную кассу в Претории, в компании с одним из тамошних дельцов. Договор был заключен на том условии, что я вкладываю в дело мой капитал, а он — свой опыт. Но наша затея не выгорела, через четыре месяца после открытия кассы нам пришлось закрыть ее, и почему-то вышло так, что мой капитал перешел в руки компаньона, а опыт — увы! — достался на долю мне. Я понял, что держать ссудную кассу не по моей части и решил заняться охотой на слонов, как делом наиболее мне подходящим. Из всех средств у меня осталось не более четырехсот фунтов стерлингов. На эти деньги я закупил все необходимое для экспедиции, сел в Дурбане на пароход, шедший в бухту Делагоа, нанял там двадцать носильщиков и двинулся к северу, по направлению к Лимпопо. В первые же три недели все мои люди переболели лихорадкой, я один остался здоров, к великой своей радости, так как хворать мне было некогда: нужно было охотиться, чтобы наш караван не испытывал недостатка в пище, а дичи в пустынной местности, по которой мы шли, нам попадалось совсем немного. На двадцатый день мы добрались до берегов довольно широкой реки Гонуру, перешли ее вброд и направились к высоким горам, синие хребты которых высились вдали. Насколько мне известно, это было продолжение Драконовых гор, тянувшихся к берегу на протяжении пятидесяти миль или около того, — длинный отрог, оканчивавшийся весьма высокой горой. Этот отрог, как я узнал впоследствии, разделял владения двух туземных властителей; одного звали Ньяла, а другого — Вамбе. Земли Ньялы лежали к югу, а владения Вамбе — к северу. Ньяла был вождем племени бутана, происходившего от зулусов, а Вамбе властвовал над племенем матуку, гораздо более многочисленным и имеющим много общего с племенем басуто. Матуку — племя более развитое, чем бутианы; они строят себе шалаши с дверями, даже с крытыми навесами перед дверью, умеют отлично выделывать кожи и носят что-то вроде куртки вместо грубой умутши[113], которой бутианы укрывают верхнюю часть тела. Лет двадцать назад матуку напали врасплох на бутианов, перебили большую часть их племени, а остальных сделали своими данниками. Но в то время, к которому относится мой рассказ, бутианы начинали обретать независимость и, понятно, тяготились игом матуку. Я слышал еще в Делагоа, что в густых лесах на склонах и у подножья гор, граничащих с владениями Вамбе, очень много слонов. Но вместе с тем я наслышался много дурного о самом Вамбе, жившем в краале, расположенном на склоне горы и укрепленном так хорошо, что его считали совершенно неприступным. Мне рассказывали, что он — самый жестокий властитель в этой части Африки и, между прочим, хладнокровно перерезал целую партию англичан, приехавших поохотиться на слонов в его владения. При них в качестве проводника находился друг моего детства Джон Эвери, и я часто со вздохом вспоминал о его безвременной кончине. Это, однако, не отбило у меня желания пробраться во владения Вамбе, где было так много зверей, ради которых я предпринял экспедицию в эту дикую часть Африки. Я вообще не боялся туземцев, к тому же я, как вам известно, немного фаталист — и потому был убежден: если мне на роду написано, чтобы Вамбе отправил меня на тот свет следом за моим приятелем Эвери, то так тому и быть, что бы я ни делал. Через три дня после того как вдали показались горы, мы почти достигли их подножья. Идя по берегу реки, протекающей через леса вблизи гор, мы вступили в земли грозного Вамбе. Но прежде мне пришлось испытать нешуточную схватку со своими носильщиками. Когда мы достигли границ его владений, они сели на землю и наотрез отказались следовать за мной дальше. Все мои уговоры были напрасны: сколько я не доказывал, что «чему быть, того не миновать», они стояли на своем. «Теперь, — говорили они, — наша шкура цела, а если мы войдем в земли Вамбе, не спросясь его, она скоро сделается похожей на лист, изъеденный червями. Судьба ходит в его владениях, а мы не пойдем туда, чтобы с ней не встретиться». — Как же вы поступите, если я не захочу возвращаться назад? — спросил я в конце концов. — Мы пойдем назад одни, Макумазан, — дерзко заявил Хобо, старший у носильщиков. — Хорошо, — проговорил я хладнокровно, хотя желчь кипела во мне, — только помните: вы все-таки недалеко уйдете. С этими словами я прислонился к дереву и взял в руки ружье. — Ступайте, — продолжал я, — но предупреждаю: первому, кто пойдет, я выстрелю в спину, а вы знаете, я промаха не даю. Хобо замахнулся на меня копьем, которое держал в руке, — к счастью, все ружья лежали у дерева возле меня, — но одумался и, не говоря ни слова, пошел назад. Я, тоже молча, прицелился в него. Прочие стояли неподвижно, не спуская глаз с дула моего ружья. Он явно храбрился, однако время от времени поглядывал на меня украдкой через плечо. Когда он отошел от меня ярдов на двадцать, я сказал ему спокойно: — Послушай, Хобо, лучше вернись, не то выстрелю! Я играл в опасную игру. Понятно, я не собирался стрелять. Какое право имел я убивать человека за то, что он не хотел подвергать свою жизнь опасности ради моей прихоти? Но я чувствовал, что нужно сделать так, чтобы они слепо повиновались мне. Поэтому я стоял зло-презлой и целил ему прямо в спину, против сердца. Он сделал еще несколько шагов — и вдруг обернулся. — Не стреляй, баас, я пойду с тобой! — крикнул он, протягивая ко мне руки с умоляющим видом. — И отлично сделаешь, — заметил я совершенно спокойно. — Иначе тебе пришлось бы убедиться, что «судьба ходит» не только во владениях Вамбе. Тем дело и кончилось. Хобо был зачинщиком сопротивления; когда покорился он, покорились и другие. Доброе согласие между мной и моими подчиненными было восстановлено. Мы перешли границу, и на другой же день я всерьез принялся за охоту.Глава 2
ПЕРВАЯ ОХОТА
Местность в пяти или шести милях от высокой горы, о которой я упоминал раньше, самая живописная из всех, какие я видел в этой части Африки, за исключением Страны Кукуанов. Отрог, отходящий почти под прямым углом от главной цепи, образует широкую логовину в виде громадного полумесяца; река пересекает ее, как серебряная лента, на протяжении тридцати миль. По одну сторону реки растет густой кустарник вперемежку с зелеными просеками, на которых местами виднеются группы высоких деревьев, одинокие холмы и крутые скалы, возвышающиеся к небесам так прямо и гордо, как будто это монументы, поставленные рукой человека, а не памятники, воздвигнутые самой природой в честь прошлых веков. Все это обширное пространство кажется громадным парком. По другую сторону реки тянутся попеременно то зеленые болота, то сочные луга; вся эта изумрудная поверхность поднимается чуть заметным отрогом к лесу, который начинается на склоне гор приблизительно в тысяче футов над равниной и вдет почти до вершины. Многие деревья так высоки, что птицу, сидящую на верхушке одного из них, не убить из обычного ружья. Все они перевиты гирляндами из темно-зеленого висячего мха, местами разукрашенного громадными орхидеями всевозможных ярких цветов. Мох этот — растение весьма полезное, туземцы добывают из него чудную темно-пурпуровую краску и красят ею кожи и ткани. Вечером того же дня, когда состоялась вышеописанная стычка с Хобо, мы расположились на ночлег на опушке леса, а на другой день рано утром я отправился на охоту. Так как у нас было мало мяса, то мне хотелось убить буйвола, прежде чем отправиться на поиски слонов. Пройдя не более полумили, мы увидели в лесу тропинку шириной с порядочный проселок, очевидно проложенную целым стадом буйволов, которое, по всей вероятности, имело обыкновение ходить туда на водопой к реке, а оттуда — опять тем же путем — в прохладную тень леса. Взяв с собой Хобо и еще двоих носильщиков, я смело пошел по этой тропинке. Чем дальше мы шли, тем гуще становился лес. Ярдах в двухстах от опушки кустарник, росший между деревьями, стал настолько плотен, что, не будь тропинки, мы бы не смогли сделать и шагу вперед. Мои спутники не хотели идти дальше, говоря, что если нам попадется зверь, то некуда будет убежать от него. Я отвечал им, что они могут вернуться, но что я, конечно, пойду вперед. Им стало стыдно, и они пошли за мной. Так прошли мы ярдов пятьдесят. Наконец тропинка вывела нас на небольшую просеку. За ней опять начинался лес, но в нем уже не было широкой тропинки, виднелись только узенькие проломы. Очевидно, стадо, выйдя на просеку, разбилось и пошло дальше вразброд, — но сколько я ни смотрел, нигде не видел буйволов. Выбрав один из проломов, я прошел по нему ярдов шестьдесят, и чем дальше я шел, тем больше убеждался, что дичь кишит вокруг меня, хотя и не видел ее. То мне слышался невдалеке треск ветвей, то особый звук, который производят буйволы, когда трутся рогами о ствол дерева, то, наконец, глухой рев свидетельствовал, что старый бык стоит, быть может, в нескольких шагах от меня. Я пробирался вперед на цыпочках, сдерживая дыхание и остерегаясь наступить на какую-нибудь сухую ветку, чтобы не спугнуть дичь. Мои спутники следовали за мной, дрожа от страха. Вдруг Хобо прикоснулся ко мне и, когда я оглянулся, молча указал влево. Я поднял голову и взглянул через гущу вьющихся растений, который сплелись между собой наподобие изгороди; за нею возвышался большой куст колючего алоэ, а за алоэ, шагах в пятнадцати от меня, я увидел рога, шею и часть хребта огромного быка. Я тотчас схватился за ружье, но не успел еще прицелиться, как он тяжело вздохнул и лег на землю. Что мне было делать? Стрелять в него, пока он лежал, я не мог, у меня не было точки опоры для прицела. Подумав немного, я решился ждать, рассчитывая, что когда-нибудь ему все же придется встать, сел на землю и закурил трубку, в надежде, что табачный дым заставит его подняться. Но ветер дул не в его сторону, и дым не доходил до него. Тем не менее эта трубка, как вы сейчас убедитесь, обошлась мне дорого. Прошло около получаса, а буйвол все не двигался с места. Я наконец потерял терпение и стал прикидывать, как бы заставить его подняться. Пока я раздумывал об этом, не спуская с него глаз, с противоположной стороны послышался треск ветвей. Сначала я не обратил на это внимания, но треск становился все сильнее и сильнее, и вдруг ярдах в сорока от меня из лесу выскочил чудовищной величины носороги устремился прямо на меня. Должно быть, он почуял мою трубку, и это выманило его из чащи. Охотникам известно, как быстро бегают эти с виду неповоротливые твари. Не успел я сообразить, что мне делать, как нас уже разделяло не более восьми ярдов. Прицелиться и выстрелить времени уже не было, я едва успел растянуться на земле и откатиться под кусты. Он пронесся мимо; на меня пахнуло особым, присущим ему запахом, и уверяю вас, я потом целую неделю не мог забыть этого запаха. Его горячее дыхание обожгло мне лицо; одной из своих чудовищных ног он наступил на мои широкие шаровары и слегка прищемил мне кожу. Мои спутники как раз преградили ему дорогу. Один из них успел подкатиться, подобно мне, под кусты, другой громко взвизгнул и прыгнул, словно резиновый мяч, прямо в куст алоэ, но третий, мой бедный Хобо, не успел посторониться. Страшный зверь налетел на него, просунул ему рог между ног и подбросил вверх, как перышко. Он упал сначала к нему на спину, а уже потом — на землю, и это смягчило падение. Хобо остался лежать на земле, громко охая, но, как оказалось впоследствии, не получил никаких серьезных ушибов. К счастью, носорог не обратил на него внимания и продолжал мчаться по направлению к кусту алоэ. Тут случилось нечто необычное: заслышав шум, старый буйвол, спавший за кустом сном праведника, поднялся на ноги и, увидев несущуюся на него серую громаду, застыл в недоумении как вкопанный. Носорог наскочил на него, подхватил рогом под брюхо, повернул на спину и пронесся, как вихрь, по направлению к просеке. Лес мгновенно ожил и наполнился разнообразными звуками. Всюду слышался глухой рев и топот ног разбегающихся буйволов. Я лежал на земле, от всей души желая, чтобы бегущая ватага миновала меня. Один из моих людей — тот, который успел откатиться в куст, — лез на дерево с таким проворством, будто от этого зависело, попадет ли он в рай небесный; Хобо лежал на земле, а тот, кто прыгнул к алоэ, жалобно кричал на весь лес. Я взглянул в его сторону и увидел, что положение бедного малого незавидно: он зацепился одеждой за колючку алоэ, крепкую и острую как гвоздь, и повис в воздухе на высоте шести футов, а буйвол, вероятно считая его виновником своего злоключения, яростно ревел и рыл копытами землю перед кустом, стараясь подкопать его и таким образом добраться до повисшего на нем бедняги. Чтобы спасти жизнь несчастному, нельзя было терять ни секунды. Я схватил ружье, наскоро прицелился и попал буйволу в правую переднюю ногу. Он с громким ревом повалился на землю. Тогда я подошел к нему ближе и вторым выстрелом в сердце убил его наповал. Между тем второй носильщик слез с дерева, Хобо поднялся на ноги, и мы втроем принялись освобождать несчастного кафра, засевшего на алоэ. Немалого труда стоило нам отцепить его. Он дрожал как лист, плакали, очутившись на твердой земле, набожно проговорил: «Видно, мой дух-покровитель взглянул в мою сторону, иначе не быть бы мне в живых». Я всегда уважал искреннюю набожность, а потому не счел нужным намекнуть ему, что дух-покровитель удостоил воспользоваться моим ружьем, чтобы спасти его от смерти. Что же касается Хобо, то он еще больше утвердился во мнении, что «судьба ходит по земле во владениях Вамбе». Убитый буйвол оказался, как я уже сказал, колоссальных размеров, поэтому мяса нам должно было хватить надолго. Отправив людей за ножами и помощниками, чтобы разрезать его на части и перенести на стоянку, я отправился на поиски носорога, наделавшего такого переполоха. Я никак не мог простить ему смешного положения, в которое он меня поставил. Большого труда стоило мне отыскать его, однако я все-таки его выследил, убил и вернулся на стоянку усталым, но очень довольным утренней охотой.Глава 3
ЗА СЛОНАМИ
С аппетитом пообедав жареной буйволятиной с консервами, закупленными еще в Претории, я уснул как убитый тем славным сном, каким могут спать только охотники, истомившие ум и тело в преследовании опасного зверя. Но в четыре часа Хобо разбудил меня, сообщив, что индуна[114] одного из краалей Вамбе прибыл к нам и желает меня видеть. Я велел позвать его. Явился тщедушный болтливый старикашка в куртке и грязном кароссе[115] из кроличьих шкур, наброшенном на плечи. — Что тебе нужно от меня? — сердито спросил я его (было ужасно досадно, что он помешал мне спать). — Как ты смеешь беспокоить такого важного человека, как я, и нарушать мой отдых? Я знал, с кем имею дело. Мой прием тотчас же заставил посетителя, вошедшего ко мне довольно нахально, принять рабски-угодливый вид. Туземцев в этих краях проймешь только дерзким обхождением: дерзость всегда кажется им признаком силы. — Прости, великий человек, — смиренно обратился он ко мне. — Сердце мое разбито твоими словами. Я понимаю, как нехорошо я поступил, что потревожил тебя. Но меня привело сюда очень важное дело. Я слышал, что в наших краях пребывает великий белый охотник чудной красоты, но я и понятия не имел о том, как ты прекрасен, пока не увидел тебя (можете представить, как рассмешил меня подобный комплимент моей топорной фигуре). Великий человек, будь нашим избавителем. Наш край опустошают три слона огромной величины, прошлой ночью они вытоптали целое поле проса около нашего крааля. Если не унять их, скоро нам всем будет нечего есть. Великий охотник, будь милостив, убей их! Тебе это легко. О, так легко! Сегодня ночь будет лунная; наверняка они опять придут кормиться на наши поля. Поговори с ними своим ружьем. Они падут мертвые к твоим ногам и перестанут есть наше просо. Предложение это восхитило меня, но я, конечно, не подал виду, напротив — заставил долго просить себя, пока наконец не согласился, при условии, чтобы он послал к Вамбе гонца с извещением, что я прибыл в его владения и прошу у него позволения поохотиться в его лесах, пока сам не явлюсь к нему и не принесу ему гонго — подарок. Старик обещал тотчас же исполнить мое желание, но прибавил, что не ручается за ответ Вамбе. Мы снялись с места стоянки и направились к краалю индуны. Мы пришли туда ровно за час до заката. Крааль был расположен в ложбине горы, частью поросшей мхом, частью засеянной просом; он состоял приблизительно из десяти шалашей. Все они были обнесены одной общей изгородью из терновника, только один шалаш стоял за ее пределами, в стороне, ближе к полям. В нем хранились снопы проса и жила главная жена индуны. Эта почтенная особа, уже весьма преклонных лет, поссорилась со своим супругом из-за предпочтения, которое тот оказывал своей младшей жене, молоденькой и хорошенькой, и, объявив ему, что не желает дольше оставаться под его кровлей, перешла жить из лучшей хижины в краале в шалаш, служивший кладовой, то есть, говоря местным языком, «оторвала себе нос, чтобы досадить своему лицу». Поблизости от этого шалаша рос огромный баобаб, и за ним находилось большое поле проса, наполовину опустошенное слонами. Взглянув на следы, оставленные животными, я изумился: никогда в жизни не видел таких громадных. В особенности поразили меня следы старого самца, у которого, как уверяли туземцы, был всего один клык. В любом из этих следов можно было принимать сидячую ванну — так они были широки и глубоки. Все три слона, как утверждали туземцы, скрывались в лесах, лежавших за полями, и выходили только ночью. План мной был составлен быстро. Я решил влезть на дерево и оттуда стрелять по слонам, как скоро они появятся. Я объяснил этот план индуне, и он пришел от него в восхищение. «Значит, — сказал он, — мы можем спать спокойно в эту ночь. Чего же нам бояться, если великий белый охотник будет бодрствовать над нами, как дух, и охранять наши жизни!» Я возразил ему, что он — неблагодарная бестия, если думает спокойно спать в то время, когда я буду сидеть на дереве в самом неудобном положении ради его интересов. Он опять оробел и почтительно заметил, что мои слова «остры, но справедливы». Настала ночь. Весь крааль уснул, не исключая и престарелой ревнивицы в шалаше, где хранилось просо, а я взобрался на дерево. Выбрав два сука, растущие параллельно, я, заблаговременно потребовав от индуны доску, укрепил ее на сучьях и уселся на этом сиденье рядом с Хобо. Мы находились на высоте приблизительно футов двадцати восьми от поверхности земли и могли удобно свесить ноги, а спиной прислониться к дереву. Я дал ему держать одно из моих ружей с крупным зарядом, а себе взял другое, полегче. Мы сидели молча. Было уже около девяти часов, и совсем стемнело; луна должна была взойти не раньше чем через полчаса. Курить я не смел, зная по опыту, как чутки слоны к табачному дыму. Признаюсь, полчаса ожидания, проведенные мною посреди полнейшего мрака и глубочайшего безмолвия, царившего кругом, показались мне целым веком. Наконец взошла луна, и вместе с нею поднялся легкий ветерок. Листва деревьев зашелестела таинственным шепотом. Как пустынны показались мне горы, леса и равнины, облитые мягким светом месяца! Вид был так хорош, что я непременно пришел бы в самое поэтическое настроение и вообразил бы, пожалуй, что нахожусь в каком-то волшебном мире, но жесткое сиденье неровной и неотесанной доски — увы! — напоминало мне слишком хорошо, что я не в эмпиреях, а на земле, где всегда и везде сплошные неудобства. Поэтому я мысленно ограничился замечанием, что ночь чертовски хороша, и стал зорко вглядываться вдаль, не идут ли слоны. Но слоны не появлялись, и я, напрасно прождав более часу, под конец задремал. Вдруг Хобо, сидевший, как я уже сказал, рядом, чуть слышно щелкнул пальцами. Сон у меня, как у всех охотников, когда они настороже, очень чуток. Я сейчас же очнулся и быстро взглянул на него, зная по опыту, что это его обычный способ обращать без шума мое внимание на что-нибудь. Он молча указал мне на лес. В ту же минуту я услышал слабый шорох, и из-за деревьев появился слон — самый громадный из всех, каких мне когда-либо случалось видеть. Сделав несколько шагов по просяному полю, он остановился и стал поводить ушами, пробуя хоботом, откуда дует ветер. Я невольно залюбовался его чудовищным единственным клыком, на котором ярко отражались лучи месяца, и тут же решил, что этот клык во что бы то ни стало должен быть моим. Вдруг за первым слоном появился второй, поменьше ростом, но потолще, с парой клыков чудной красоты. За вторым вышел и третий, еще меньше; но и этот был двенадцати футов ростом. Все они выстроились в одну линию и постояли так несколько минут, причем тот, который был с одним клыком, нежно гладил хоботом товарища, стоявшего по левую сторону от него. Потом ониначали есть, с изумительным проворством срывая хоботом головки проса и пряча их себе в рот. Все это происходило ярдах в ста двадцати от меня. Я не смел стрелять на таком расстоянии и при таком слабом освещении, как лунный свет, но с радостью заметил, что они понемногу подходят ближе к шалашу, стоявшему невдалеке от моей засады. Только это происходило крайне медленно, что сводило меня с ума. Я весь горел ожиданием, страхом и надеждой и уже подумывал, не спуститься ли с дерева и не пойти ли к ним самому, хотя, как вы легко можете понять, это было бы с моей стороны безумной отвагой. Вдруг один из слонов, великан с одним клыком, круто повернул в мою сторону, издал носом странный звук, словно высморкался, и зашагал прямо к шалашу, где хранилось просо. Я прицелился, но в ту же секунду мне показалось, что как будто темнеет. Я взглянул на луну и с ужасом увидел, что на нее надвигаются густые дождевые облака. «Ну, — подумал я, — прощай, охота!» И как раз в то время, когда слон был уже ярдах в двадцати пяти от меня, облако надвинулось и закрыло свет. Стрелять стало невозможно, но в наступившем полумраке я все-таки мог видеть, что серая громада движется к шалашу все ближе и ближе. Наконец совсем стемнело, я не мог уже ничего видеть, только слышал, как слон возится около шалаша. Через несколько минут опять посветлело, и я увидел, что он стоит у шалаша, запустив хобот внутрь. Я уже начал прицеливаться, как вдруг раздался оглушительный визг, и я увидел, что слон вытащил из шалаша свой хобот с целым снопом проса и со спавшей на снопе старухой! Ее длинные костлявые рута и ноги торчали во все стороны, она кричала и визжала как бешеная. Не знаю, кто был перепуган больше — она, я или слон. Он, конечно, и не думал ничего замышлять против нее, а пришел за просом и схватил ее случайно вместе со снопом. Крики женщины страшно переполошили его, он фыркнул и швырнул ее в сторону. Она упала в росшую неподалеку мимозу и засела там, продолжая визжать, словно паровозный свисток, а он поджал уши и побежал было в лес, но тут я изловчился и выстрелил ему в плечо. Выстрел грянул и рассыпался громовым раскатом в горах. Слон повалился на землю; я думал, он убит наповал. В эту минуту доска, на которой мы сидели, — как видно, гнилая, — надломилась под нами. Хобо успел уцепиться за сук и остался на дереве, а я полетел вниз и не помню как очутился у подножья в сидячем положении. Должно быть, я соскользнул по стволу, как с горы. Потрясение от падения было жестокое, несколько секунд я сидел как оглушенный, однако наконец пришел в себя и почувствовал, что у меня нет серьезных повреждений. Между тем слон, не убитый, как я думал, а только раненый, очнулся, приподнялся на коленях и принялся реветь от боли. На его рев прибежали два других слона. Я стал шарить вокруг, ища ружье, но его не было: оно осталось на дереве! Положение было крайне незавидным. Я не смел подняться с места и попытаться опять влезть на дерево. Во-первых, после такой встряски, какую я получил при падении, это было бы весьма затруднительно; во-вторых, если бы я встал, слоны непременно бросились бы на меня, а бежать было некуда. Пробираясь ползком, я обогнул дерево и шепотом приказал Хобо спуститься ко мне с ружьем; но Хобо, понятно, очень довольный тем, что находится в безопасности, сделал вид, будто не слышит. Итак, я остался за деревом безоружный, недоумевая, что делать. Оба слона между тем оставались около своего раненого товарища. Когда они подошли к нему, он перестал реветь и тихо простонал, указывая хоботом на рану, из которой буквально хлестала кровь. Они опустились по обеим сторонам его, просунули под него свои клыки и хоботы и помогли ему встать, затем, поддерживая с обеих сторон, повели по направлению к деревне. В это время луну закрыло тучей, словно свечу гасильником. Я уже ничего не мог видеть, а только слышал их шаги. Через несколько минут туча пронеслась, выглянула луна, и я увидел трех великанов около самой изгороди крааля. Недолго думая, они вломились в ограду, проломили изгородь с противоположной стороны и ушли в лес. Спавший люд переполошился, расшумелся и забегал, как муравьи в муравейнике. К счастью, как я узнал впоследствии, никто не получил ран, что можно поистине назвать чудом. Добравшись до деревни, я нашел всех в смятении, а индуну — в полном исступлении: он метался во все стороны перед своим шалашом, словно его укусил тарантул. На мой вопрос, что с ним, он разразился целым потоком брани и упреков. — Какой ты охотник! — вопил он. — Ты обманщик, пустомеля и больше ничего! Что ты с нами сделал? Ты обещал нам убить слонов, а они по твоей милости чуть не передавили всех нас! Эти упреки до того меня взбесили (нужно вам признаться, что я и без того был раздосадован своим падением и неудачей), что я схватил его за ухо и принялся колотить головой о стену шалаша. — Ах ты, негодяй! — кричал я на него. — Как ты смел мне дать гнилую доску! По твоей вине я чуть не убился, да и жену твою Сотрясающий Землю[116] вытащил из шалаша, словно улитку из раковины, и зашвырнул невесть куда. Мы все пострадали по твоей милости, а ты смеешь жаловаться на испуг — вот тебе, вот тебе за это! Говоря так, я продолжал без жалости трясти и колотить его, положительно не владея собой от злости. — Виноват, виноват, великий человек! — взмолился он наконец. — Сердце мое говорит мне, что я виноват перед тобой. Его жалобный писк образумил меня, я выпустил его из рук. Он встряхнулся, как наказанный кот, постоял на месте несколько секунд, должно быть собираясь с мыслями, и наконец робко проговорил: — Что сказал ты, великий человек? Жену мою, говоришь ты, зашвырнул Сотрясающий Землю? Ах, если бы он зашиб ее до смерти, было бы лучше! С этими словами он сложил руки, набожно поднял глаза к небу и скорчил такую забавную мину, что я от души расхохотался и забыл о своей досаде. — Не надейся на это, старый грешник, — сказал я, — Твоя жена сидит на мимозе и кричит благим матом. Чем желать смерти, поди-ка лучше сними ее. — Ох, нет, не пойду, — отвечал он. — Уж коли она жива, так сама слезет с дерева, когда ей наскучит там сидеть. Значит, я от нее не избавился… ну, что делать! Неси, вол, ярмо, пока… Тут рассуждения индуны были прерваны появлением его дражайшей половины, растрепанной, исцарапанной, а в остальном целой и невредимой. Ей как-то удалось соскочить с дерева, и она побежала, чтобы хорошенько побраниться с муженьком и выместить на нем все испытанные ею страхи. Оставив нежных супругов объясняться, я ушел к себе на стоянку, лег на землю, завернулся в одеяло и скоро забылся крепким сном.Глава 4
ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
На другой день я проснулся изрядно разбитым, но с твердым намерением продолжал» охоту за слонами, которые прошлой ночью ушли у меня, как говорится, из-под носа. Их молочно-белые клыки мелькали у меня в глазах и не давали покоя. Мои люди, очевидно, считали такую решимость безумием, но не смели мне противоречить. Мы снялись с места, я наскоро простился с индуной, которому, замечу кстати, было не до меня (он усердно колотил свою престарелую супругу с помощью молоденькой жены), и мы пошли по следам слонов. Нелегко нам было отыскать их, приходилось идти по каменистому грунту, на котором ноги животных не оставляют отпечатков, и довольствоваться кровавыми следами, оставленными раненым слоном, но и это было крайне затруднительно, поскольку ночью шел дождь и местами кровь была почти совсем смыта. Так промучились мы полтора часа, затем каменистый грунт сменился рыхлой почвой, на которой следы были видны хорошо. Мы шли по ним до вечера и весь следующий день, едва давая себе время перекусить и отдохнуть. Нам попадалась масса другой дичи, но я не обращал на нее внимания и неуклонно шел по следам слонов. Наконец к вечеру второго дня я убедился по многим признакам, что слоны находятся от меня уже не более чем в четверти мили, но местность, по которой мы шли, поросла густым кустарником, мешавшим обзору. Измученные и усталые, мы разбили лагерь. После ужина мои спутники уснули, а я сел к дереву, прислонясь к нему спиной, и закурил трубку. Вдруг не далее как в трехстах ярдах от меня послышался резкий крик слона — тот резкий, похожий на звук труб крик, который обычно означает, что животное чем-то испугано. Забыв усталость, я вскочил, схватил ружье — мою тяжелую, но надежную четырёхстволку, сунул в карман несколько запасных зарядов и пошел на крик Тропинка, которую слоны проложили через кустарник, была узка, но явственно виднелась передо мной в лунном свете. Я осторожно направился по ней и прошел уже шагов двести, как вдруг передо мной открылась просека ярдов в сто, вся поросшая густой сочной травой, с несколькими деревьями. Заглянув в нее с присущей бывалому охотнику осторожностью, я понял, почему кричал слон. Посреди просеки стоял большой лев с густой гривой и тихо рычал, помахивая хвостом, словно игривый котенок. Не успел я опомниться, как из кустов выскочила львица и, бесшумно приблизившись ко льву, начала к нему ласкаться. Я стоял неподвижно, не зная, что предпринять, но они, должно быть, не заметили меня и, постояв несколько минут, ушли в лес — вероятно, за дичью. Я переждал немного и хотел было уже вернуться на стоянку, думая, что появление львов спугнуло слонов, и досадуя, что напрасно беспокоился, но внезапно услышал в конце просеки треск и направился в ту сторону. Там опять был проход в высоких кустах, но до того узкий, что я едва мог различить путь перед собой. Пробравшись по нему, я вышел на другую просеку и посередине нее, не далее как в восьмидесяти ярдах от себя, увидел моих трех слонов: раненый стоял, опершись о дерево, и, по видимому, едва держался на ногах; другой стоял с ним рядом, а третий — немного впереди. Вдруг этот третий круто повернулся и ушел в лес. Я подождал с минуту, недоумевая, что мне делать, идти ли назад на стоянку и отправиться на охоту на рассвете с людьми или напасть на слонов сейчас же. Первое было, конечно, гораздо благоразумнее. Напасть одному на трех слонов да еще при свете луны — вещь не только рискованная, но даже безрассудная. С другой стороны, они могли к утру уйти далеко, и я остался бы опять ни с чем. Я решился напасть на них немедленно. Но как это сделать? Выйти на просеку я не мог, они тотчас же увидели бы меня. Нужно было незаметно подкрасться к ним в кустарнике. Я начал осторожно пробираться вперед, но никак не мог найти точки, с которой можно было бы выстрелить незаметно, и потому двинулся за тем, который ушел в лес. Проход, сделанный им, резко поворачивал в сторону, образуя острый угол. Я осторожно заглянул за этот угол, рассчитывая увидеть невдалеке от себя хвост слона, и вдруг, к своему изумлению, увидел прямо перед собой, ярдах в пяти, его голову со слегка поднятым хоботом. Это меня до того удивило, что я с минуту стоял в оцепенении. Должно быть, он удивился не меньше моего, однако опомнился первый и крикнул, словно собираясь напасть на меня. Бежать было немыслимо: вокруг рос кустарник, а если бы я бросился назад, он мигом настиг бы меня. Я поднял ружье и, не целясь, выстрелил ему в грудь. Выстрел прозвучат громко в безмолвном лесу. Слон вскрикнул и на секунду словно замер на месте. Признаюсь, я растерялся. Мне следовало бы сразу же выстрелить опять, но я этого не сделал. Не успел я что-либо сообразить, как он бросился на меня. Его страшный хобот взвился надо мной, как темная полоса. Я бросился бежать, а он пустился за мной. Мы пробежали несколько ярдов — и он повалился мертвый. Пуля, должно быть, угодила ему в легкие. Я спасся чудом, но не успел еще порадоваться этому, как, оглянувшись, увидел позади, шагах в пятнадцати, двух других слонов, вероятно прибежавших на выстрел и теперь каменными громадами надвигавшихся на меня с двух сторон. Почти не целясь, я выстрелил в голову одному из них. Пуля попала прямо в мозг, и серый великан рухнул, как пораженный молнией. Но передо мной еще оставался страшный противник — раненый самец со сломанным клыком. Он уже наступал на меня, надвигаясь, как туча, при бледном свете месяца. Я поднял ружье, прицелился ему в шею… и тут оружие дало осечку. Я вспомнил, что ружье было немного испорчено. Не теряя времени, я прыгнул в сторону и едва избежал страшного удара хоботом — он прошел совсем близко от меня. Затем я пустился бежать со всех ног, не выпуская из рук ружья и рассчитывая спрятаться где-нибудь в кустах. К счастью, раненый самец не мог бежать так быстро, как обычно бегают слоны, но все-таки он был от меня не дальше чем в трех футах, и я никак не мог увеличить расстояние между нами. Так пробежали первую просеку. Я надеялся попасть во вторую через проход, которым вышел на нее из первой, но впопыхах пробежал мимо. Бегу, оглядываюсь — и нигде не вижу хода в чаще, плотной, как стена. Что мне оставалось делать! Я круто повернул, как делает затравленный заяц, и побежал назад. Слон не мог затормозить так быстро, как я, и это дало мне возможность перевести дух, но очень скоро он опять начал догонять меня, и я внезапно почувствовал над своей головой его горячее дыхание. Одному Богу известно, что я перенес в эту минуту! Невдалеке от себя я увидел большое дерево и бросился туда, чтобы спрятаться за ним. Он налетел на дерево и свалил его, как тростинку, ударившись о него головой. К счастью, я успел отпрыгнуть в сторону, и ствол рухнул мимо, но один из сучьев задел меня и опрокинул на спину. Слон пробежал мимо, но тотчас повернулся ко мне. Не имея возможности подняться, я почта бессознательно сделал попытку вновь выстрелить. Ружье на этот раз послушалось, грянул выстрел. Но слон продолжал бежать на меня, и я даже не знал, попал ли в него, а сам, придавленный суком, не мог встать на ноги. Он был уже рядом, когда вдруг остановился и стал медленно опускаться на колени. В эту минуту я лишился чувств. Очнувшись, я заметил по положению луны на небе, что пролежал в обмороке по крайней мере часа два. Я насквозь промок от росы и сначала не мог сообразить, что со мной и как я попал в эту пустынную местность, но, увидев перед собой неподвижно стоявшего на коленях исполина, понял все. «Да полно, убит ли он? — мелькнула у меня мысль. — Может быть, он жив и только отдыхает». С трудом выкарабкавшись из-под придавившего меня сука, я зарядил ружье, подкрался к слону и заглянул ему в глаза. Взгляд его тускло светился при свете месяца тем страшным стеклянным блеском, который свойствен только мертвому глазу. Не было никакого сомнения, мой страшный противник закончил свою жизнь. Несколько минут я стоял молча, глядя на его исполинскую тушу, облитую лунным светом, и мысленно благодарил Бога за спасение, затем стал пробираться на стоянку и кое-как добрел туда, едва передвигая ноги. Мои люди еще спали. Яне стал никого будить, выпил глоток водки, сбросил с себя верхнее платье и башмаки, завернулся в одеяло и уснул мертвым сном. Когда я проснулся на другой день, солнце стояло уже высоко. В первую минуту мне показалось, что все испытанное мной прошлой ночью было всего лишь сном. Но стоило мне пошевелиться, как я убедился, что ошибаюсь. Все мое тело страшно болело, и особенно плечо. Хобо и еще один из носильщиков сидели у разведенного огня — утро было очень свежее — и разговаривали. Я стал прислушиваться. — Ужасно мне надоело бегать за слонами, которых никак нельзя догнать, — говорил Хобо. — Макумазан (так звали меня мои люди), может быть, и храбрый человек, но он какой-то сумасшедший. Стоит ему чего-то захотеть, как подавай ему непременно. Кругом пропасть всякой дичи, а ему, видишь, подавай слонов, да еще именно тех, которых он наметил! Да мы быстро с этим покончим: скажем ему, что не пойдем за ним дальше, и все тебе тут. — И пора! — согласился его товарищ. — Нужно образумить его, пока у нас еще шкура цела. Во владениях Вамбе нам несдобровать, здесь пропасть духов и привидений. Я сегодня ночью слышал сквозь сон, как они охотились, несколько раз стреляли. Нет, пора, пора нам убираться отсюда, пока у нас еще цела голова на плечах. Что нам смотреть на этого сумасшедшего… — Хобо! — крикнул я, приподнявшись на циновке. — Будет тебе болтать, лентяй, вари скорее кофе! Оба носильщика мигом вскочили с места и принялись ухаживать за мной с подобострастием, сильно шедшим вразрез с пренебрежением, с каким они только что отзывались обо мне. Тем не менее когда я напился кофе, все носильщики явились ко мне и объявили, что если я хочу продолжать искать слонов, то могу идти один, а они со мной не пойдут. Я притворился, будто их заявление сильно меня огорчает, и начал их уговаривать. Они стояли на своем, уверяя, что не останутся и дня в стране, где духи стреляют по ночам. Я возражал, что если бы стреляли духи, то у них, наверное, были бы воздушные ружья, выстрелы которых смертные слышать не могут. Но мои уговоры на них не действовали, они упрямо стояли на своем: «Или пойдем назад, или иди дальше один». — Хорошо, пусть будет по-вашему, — согласился я наконец. — Только вот что я предложу вам: поохотимся за слонами еще полчаса, не больше, и если мы их не найдем, то я готов идти за вами и даже совсем уйти из владений Вамбе. На это предложение они согласились с охотой. Мы снялись со стоянки, и я повел их на просеку, где стоял на коленях убитый мною слон, а невдалеке от него лежали и двое других. Завидев их еще издали, мои люди остановились и начали молча указывать мне на них. — Вот они! — прошептал Хобо чуть слышно. — Они спят. — Ты думаешь, они спят? — спокойно спросил я. — А то как же! — ответил Хобо также шепотом, очевидно удивляясь, что я говорю громко. — Нет, Хобо, они убиты. — Убиты! — воскликнул Хобо вне себя от изумления. — Кто же их убил? — Как ты зовешь меня, Хобо? — уклонился я от прямого ответа. — Макумазан. — Что значит «Макумазан»? — Бодрствующий-В-Ночи. — Таков я и есть. Слушайте все вы, трусы и лентяи! Пока вы спали прошлой ночью, я вышел один на слонов и убил всех троих, каждого одним выстрелом. Смотрите, вот мой след, а вот их следы. Вот что сделал я один! Смотрите и стыдитесь своей лености и трусости! Несколько минут все молчали. Один за другим подходили они к каждому из слонов и осматривали их, не говоря ни слова. — О! — сказал наконец Хобо. — Оу инкоси, инкоси умкулу[117], ты не простой человек, Макумазан, простой человек не мог бы сделать того, что сделал ты. В тебе сидит великий дух. Веди нас куда хочешь, мы всюду пойдем за тобой без спора. И точно — до самой последней минуты, пока они оставались со мной, между нами больше не было разногласий. Моя безрассудная выходка чуть не стоила мне жизни, но все же кончилась счастливо и внушила моим подчиненным такое доверие ко мне, что, кажется, скажи я им: прыгайте в пропасть, вы не убьетесь, — они прыгнули бы не задумываясь. Ну и слоны же это были! Таких клыков я никогда больше не видел, ни прежде, ни после. Один клык большого слона весил сто шестьдесят фунтов, а остальные четыре клыка — по девяносто девять с половиной каждый, — вещь неслыханная! К сожалению, большой клык пришлось распилить надвое». — Ах вы, варвары! — вмешался я. — Неужели вам не жаль было… — Легко вам говорить, молодой человек, — улыбнулся Квотермейн, — если бы я этого не сделал, мы и вовсе не смогли бы унести его, особенно в таких обстоятельствах, в которые попали потом. — Значит, вашей истории еще не конец? — осведомился Гуд. — А история хороша, Квотермейн. Право, я и сам не придумал бы лучше. Аллан сурово взглянул на Гуда. — Вы мне не верите? — спросил он. — Что ж, верьте или не верьте, как вам будет угодно. Да, моей истории еще не конец, самое интересное впереди, только сегодня я больше рассказывать не буду, устал. Дай вряд ли стоит рассказывать, когда людям правду говоришь, а они не верят. Сколько мы ни старались умилостивить его, все оказалось напрасно, и так как действительно было уже поздно, то мы простились и разошлись по своим комнатам.Глава 5
МАЙВА
На следующий день прежняя компания вновь собралась обедать к моему приятелю, и после обеда все опять уселись у каминами с трубками и сигарами. Поломавшись немного — недоверие, высказанное Гудом, задело его за живое, — Квотермейн согласился наконец продолжать свой рассказ. «Покончив с клыками, — начал он, — пообедав слоновым сердцем, поджаренным в слоновом жире, — кушанье, скажу я вам, самое превкусное на свете, — мы принялись распиливать большой клык. Время шло уже к вечеру. Люди, которым я поручил это дело — замечу мимоходом, весьма нелегкое, — работали усердно, а я сидел под деревом, покуривая трубочку, и следил за их работой. Вдруг кто-то дотронулся рукой до моего плеча. Я оглянулся: передо мной стояла туземка лет двадцати, высокая, стройная и замечательно красивая, с корзиной местных плодов на голове. — Марем (здравствуй)! — сказала она, хлопнув по туземному обычаю в ладоши в знак приветствия. — Откуда ты взялась, красавица? — удивился я ей. Насколько мне было известно, поблизости не стояло ни одного крааля. — Ты продаешь плоды? — Нет, великий белый охотник, я принесла их в подарок, — ответила она. — Хорошо, спасибо тебе, — поблагодарил я. — Передай корзину моим людям. — Но знаешь, белый человек, подарок за подарок, — заметила она, чуть улыбнувшись. — А! Вот как! Ну, понятно. В этом презренном мире ничто не делается даром. Чего же тебе надобно? Бусы? Она утвердительно кивнула головой. — Хорошо. Я сейчас скажу моему главному носильщику, чтобы он открыл тебе ящик с бусами. Выбирай любое ожерелье. С этими словами я хотел подозвать Хобо, но она остановила меня. — Кто дает собственной рукой, тот дает вдвое, — произнесла она с каким-то особенным выражением в голосе. — Ты хочешь, чтобы я сам дал тебе бусы? — догадался я. Мне почему-то показалось, что она хочет поговорить со мной наедине. — Изволь, я готов исполнить твое желание. Говоря это, я встал и пошел с ней в ту сторону, где стоял сундук с бусами. Она последовала за мной. — Как тебя зовут? — осведомился я по дороге. — Майва. — Откуда ты родом? Ты хорошо говоришь на наречии матуку, видно, ты из этого племени. — Я из племени бутиана, которым правит Ньяла. Но я долго жила среди матуку, я одна из жен Вамбе. При последних словах ее глаза сверкнули каким-то диким блеском. — Как же ты сюда попала? — недоумевал я. — Пешком пришла, — ответила она отрывисто. Разговаривая так, мы пришли к сундуку с бусами. Я открыл его, выбрал одно из самых красивых ожерелий и подал ей. Она накинула украшение на себя, почти не взглянув на него, и, увидев стоявший возле сундука пустой ящик, начала перекладывать в него плоды из своей корзины. На дне корзины было несколько листьев, похожих на листья каучукового дерева, но только гораздо крупнее. Выбрав один из них, она понюхала его и подала мне. Думая, что она хочет, чтобы я тоже понюхал его, я поднес его к лицу, и вдруг заметил на нем какие-то красноватые знаки. — Разбери эти знаки, белый человек, — чуть слышно произнесла она. Я стал всматриваться в лист, исцарапанный чем-то острым. Там, где едкий сок растения выступил наружу, засохнув, он принял зеленоватый оттенок. К моему великому удивлению, знаки оказались словами, написанными по-английски. Я прочел следующее:Белому, который охотится теперь во владениях Вамбе. Предупреждаю вас, что вам грозит большая опасность, и советую бежать как можно скорее через горы в земли Ньялы. Сегодня на рассвете Вамбе посылает отряд, чтобы убить вас и всех, кто при вас находится, за то, что вы осмелились охотиться в его владениях, не принеся ему прежде подарка. Ради Бога, кто бы вы ни были, помогите мне. Уже шесть лет я в рабстве у этого демона. Меня бьют и мучают каждый день. Он перерезал всех нас, а меня пощадил, потому что я умею ковать железо. Майва, жена Вамбе, передаст вам это письмо. Она бежит от мужа к своему отцу Ньяле, потому что Вамбе убил ее ребенка. Постарайтесь уговорить Ньялу, чтобы он пошел войной на Вамбе. Майва знает тайный проход в горах и может провести там войско. Вы будете вознаграждены за труды: изгородь вокруг хижины Вамбе вся из слоновых клыков. Ради Бога, не оставляйте меня, не то я покончу с собой, я не в состоянии более выносить моих мучений.— Эвери! Великий Боже, да это друг моего детства! — воскликнул я вне себя. Майва взяла у меня из рук лист, перевернула его и подала мне. — Это еще не все, — сказала она, — читайте дальше.Джон Эвери
Я сейчас узнал, — прочитал я, — что белого охотника, которому я пишу, прозвали Макумазан. Если так, то это, должно быть, мой старый приятель Квотермейн. Если это ты, дружище, умоляю тебя именем нашей дружбы, выручи меня. Смерти я не боюсь, но я не хотел бы умереть, не отплатив Вамбе. Дай Бог, чтобы это был ты! Я знаю, ты меня не покинешь.«Нет, старый друг, я тебя не покину, — подумал я, — только как мне до тебя добраться — вот вопрос! Нужно будет что-то придумать. Игра стоит свеч, выручить друга детства и притом приобрести разом столько слоновой кости, сколько мне и за год не добыть охотой. Черт возьми — еще бы не попробовать!» Пока я раздумывал, Майва стояла передо мной, не спуская с меня глаз. Я обернулся к ней. — Ты дочь Ньялы и бежала к отцу от мужа? — спросил я. — Да. — Зачем ты бежала? Вместо ответа она сунула руку в кожаную сумочку, висевшую у нее на плече, вытащила оттуда мертвую ручку ребенка и протянула ее мне. Я с ужасом отпрянул. — Вот зачем я бежала, — сказала она. — У меня был сын от Вамбе, ему было полтора года, и я любила его. Но Вамбе не любит своих детей, он убивает их всех: боится, что они убьют его, когда вырастут. Он давно убил бы и моего ребенка, но я просила за него. На днях несколько солдат прошли мимо меня, когда я сидела с сыном, и поклонились ему, называя его своим будущим инкоси. Вамбе услышал это, пришел в бешенство и ударил ребенка; ребенок заплакал. «Хорошо же, — сказал злодей, — ты у меня еще не так заревешь». Она приостановилась на минуту, затем продолжала со страшным спокойствием в голосе: — В числе вещей, которые он отнял у перерезанных им белых людей, был капкан для львов. Он так велик, что четыре человека с трудом могут открыть его». На этом месте рассказчик запнулся и, помолчав с минуту, словно собираясь с духом, продолжал: — Слушайте, господа, вы знаете, я человек бывалый и чего уж только не повидал! Но видеть, как мучают детей, да даже просто говорить об этом — я не могу, это выше моих сил. Вы сами догадаетесь, что сделал изверг Вамбе и чему несчастная мать была вынуждена стать свидетельницей. Не знаю, как у меня хватило сил выслушать ее рассказ. А она поведала мне об этом страшном злодеянии без запинки, ровным, спокойным голосом, только губы ее слегка дрожали. — Что же ты теперь будешь делать, Майва? — спросил я, стараясь говорить как можно спокойнее, хотя весь кипел от бешенства. Она гордо выпрямилась, глаза ее дико сверкнули. — Что я буду делать, белый человек? — переспросила она твердым, как сталь, голосом со страшным ледяным спокойствием. — Буду добиваться своего день и ночь, ночь и день и не успокоюсь до тех пор, пока не увижу своими глазами, как Вамбе умрет той же смертью, какой он убил моего ребенка. — Хорошо сказано! — заметил я. — Да, — согласилась она. — Хорошо сказано. Могу ли я — о! — могу ли я забыть! Смотри: эта мертвая рука покоится у моего сердца. Так же покоилась она, когда была жива. И теперь, хоть рука и мертва, она каждую ночь выходит из своего убежища и гладит меня по волосам, и хватает мои руки своими крошечными пальчиками. Каждую ночь делает она это, она боится, чтобы я не забыла. О дитя мое, дитя мое, десять дней назад я держала тебя у груди, а теперь… вот все, что мне осталось от тебя? С этими словами она прижала к губам мертвую ручку и содрогнулась всем телом, но глаза ее были сухи. — Слушай дальше, — продолжала она, немного успокоившись. — Белый, которого Вамбе держит в плену, всегда был добр ко мне. Он любил моего ребенка, плакал, когда его убивали, и не побоялся сказать Вамбе в глаза: «Ты не человек, а зверь!» — хотя знал, что его самого могут убить за это. Он придумал, что мне нужно делать. Он сказал мне: «Вамбе заставил тебя похоронить своего ребенка. Скажи ему, что тебе нужно прожить одной две недели в пустыне, чтобы очиститься после того, как ты прикоснулась к мертвому телу. Ведь у вас существует такой обычай. Уйди одна и беги к своему отцу, уговори его, чтобы он пошел войной на Вамбе в наказание за смерть твоего ребенка». Так я и сделала. Перед тем как мне уйти, Вамбе пришли сообщить, что какой-то белый охотник охотится в его владениях. Вамбе в это время был пьян, он страшно взбесился и послал отряд убить белого и забрать все его вещи. Тогда Кующий Железо (она имела в виду Эвери) написал тебе письмо и велел мне отыскать тебя — что я и сделала, Макумазан. — Благодарю тебя, — проговорил я. — А как велик отряд Вамбе? — Сотня человек и еще полсотни. — А где они теперь? — Там, — Майва указала рукой на север. — Они уже близко. Я видела вчера, как шел отряд, но догадалась, что ты должен быть ближе к горам, пошла сюда и нашла тебя. Завтра на рассвете убийцы будут здесь. — Может быть, — я пожал плечами, — но Макумазана они уже не найдут. Я знаю этот народ: они увидят убитых слонов, остановятся и наверняка устроят себе пир, а мы тем временем уйдем. Тут мне пришло в голову, что хорошо было бы отравить мясо слонов стрихнином. Они поели бы мясо и передохли бы все сами. Но, к сожалению, у меня было мало стрихнина». — Скажите лучше, что не решились на подобное дело, — заметил я. — Говорю вам, у меня было мало стрихнина! — сердито воскликнул Аллан. — Как вы думаете, сколько его нужно, чтобы отравить мясо трех слонов? Я замолчал и улыбнулся, так как был убежден, что мой приятель не решился бы ни на что подобное даже ради спасения своей жизни. Но он ужасно любит выставлять себя человеком бессердечным, тут его слабость. Между тем Аллан продолжал: «В эту минуту Хобо, которому я еще раньше приказал собираться в путь, пришел сообщить мне, что все готово. — Отлично! — произнес я. — Мы выступаем в путь сейчас же и пойдем как можно скорее, иначе не миновать нам беды. Вамбе выслал отряд, чтобы убить нас, и воины уже близко. Хобо позеленел от страха. — Я говорил тебе, что судьба ходит во владениях Вамбе, — он смотрел на меня с упреком. — Так что ж, — небрежно откликнулся я, — и пусть ходит, а мы пойдем побыстрее ее, и она нас не догонит. Ну, ребята, берите груз — и в путь! — А клыки? — робко спросил Хобо. — И их берите, конечно. Неужели вы думаете, я брошу их, после того как они достались мне такой дорогой ценой!.. Куда же нам идти? — осведомился я у Майвы. — Туда, — ответила она, указывая на гору, которая высилась милях в сорока от нас, разделяя владения Ньялы и Вамбе. — Я знаю ущелье, которое ведет через эту гору. Мы перейдем его и завалим с той стороны камнями. Тогда наши враги не попадут в него, и им придется обходить гору кругом, а это займет у них день, и еще день, и еще полдня. За это время мы успеем придти туда, где будем в безопасности. — А сколько нужно времени, чтобы дойти до этого ущелья? — поинтересовался я. — Если мы пойдем быстро-быстро и будем идти всю ночь и весь день, то завтра к вечеру окажемся там. Признаюсь, я поморщился и свистнул. Значит, нам предстояло пройти почти без отдыха миль сорок пять. Но делать было нечего. Мы захватили с собой столько слонового мяса, сколько каждый мог нести, и перед тем как уйти, я заставил Майву поесть. Не без труда удалось мне уговорить ее подкрепиться, она не думала ни о еде, ни об отдыхе, ни о сне — ни о чем, кроме мщения. Затем мы пустились в путь. Майва шла впереди, показывая нам дорогу. Я шел рядом с ней. Пройдя с полчаса в гору, мы очутились на уступе, с которого можно было обозреть местность на много миль вокруг. Майвы остановилась и, приставив руку козырьком ко лбу, стала вглядываться вдаль. Вдруг она тронула меня за плечо. Я обернулся. Она, не говоря ни слова, подала знак, чтобы я посмотрел вниз. Я повиновался. Милях в восьми от того места, где мы только что стояли, я увидел какую-то светлую полосу, ярко сверкавшую и переливавшуюся в лучах заходящего солнца. — Что это? — спросил я. — Это копья воинов Вамбе, — ответила она. — Видишь, я сказала тебе правду: они идут быстро. Да ты не пугайся, — прибавила она, вероятно заметив по моему лицу, что эта новость мне вовсе не по вкусу. — Они увидят убитых слонов и непременно остановятся. Пока они будут пировать, мы уйдем далеко. Не унывай, мы еще можем спастись. Мы долго шли без отдыха. Я то и дело торопил людей, но не говорил им ничего о том, что неприятель так близко, — иначе они, наверное, побросали бы свою ношу и разбежались во все стороны. Наконец стало темно. Мы были вынуждены остановиться и подождать, пока взойдет луна. Это отняло у нас немало времени, но мы воспользовались им, чтобы отдохнуть. Когда взошла луна, мы опять пустились в путь и шли всю ночь почти без отдыха. На рассвете мы окончательно выбились из сил и остановились. Отдохнув и перекусив, мы переправились через реку и стали подниматься по склону крутой горы, поросшей густым кустарником. С трудом пробивались мы через него, но когда одолели миль шесть, дорога пошла лесом, круче, но легче. Вскоре мы выбрались на бесплодную равнину, усеянную камнями; она вела прямо к пику горы, который виднелся милях в трех перед нами. Выйдя на равнину, мы остановились, чтобы перевести дух, но к своему ужасу, оглянувшись, заметили что-то сверкающее между деревьями. Это были копья солдат Вамбе, они находились уже не более чем в миле от нас. Моими людьми овладела страшная паника, они чуть было не побросали поклажу и не разбежались. Признаюсь откровенно, мне бы следовало бросить хоть клыки, но я на это не решился. Впоследствии я горько раскаялся в своей жадности, почему — увидите дальше. Не успели мы продвинуться и на милю, как позади нас послышались яростные крики — солдаты Вамбе высыпали из леса и заметили нас. Мы бросились вперед, но наши преследователи оказались проворнее, и немудрено: у них не было другой ноши помимо оружия, состоявшего по большей части из копий и легких щитов. Ружья имелись лишь у немногих. Преследование это напоминало лисью охоту, мы играли роль лисы, к тому же постоянно оставаясь на виду у неприятеля. Майва шла впереди, указывая наиболее удобный путь. Я не мог надивиться силе и стойкости этой молодой женщины, нервы у нее оказались просто стальными. Впрочем, ее, быть может, поддерживала сила воли. Она первой достигла подножья пика; вторым был бедняга Хобо, удивительно прыткий на ногу, третьим шел я, но, признаюсь, едва перевел дух, тогда как Майва даже не поморщилась от такого быстрого восхождения. Пик лежал перед нами уступами, образовавшими естественную лестницу. Поэтому мы взобрались на него относительно легко, только в одном месте уступ немного отклонялся в сторону, так что для того, чтобы перебраться на следующий, нужно было сделать над бездной прыжок, положим, небольшой, но весьма неприятный для людей слабонервных. Верхушка пика как бы образовывала каменные ворота, в ней был узкий проход, вероятно проложенный горным потоком. Вот эти-то ворота можно было заложить с противоположной стороны камнями и таким образом спастись от преследователей. Едва успев перевести дух, мы начали восхождение. Времени терять было нельзя, воины Вамбе шли за нами по пятам. Люди помогали друг другу перетаскивать ношу, причем те, которые находились внизу, поддерживали и подталкивали грузы снизу. Труднее всего оказалось перенести слоновую кость: клыки скользили из рук и сильно нас задерживали, а воины подступали все ближе и ближе. Я остался позади, желая пройти в спасительные ворота последним. Впереди неприятельского войска бежали два великана, вероятно, вожди. Когда они были уже на расстоянии трехсот ярдов от нас, я схватил винтовку и уложил обоих на месте. Отряд в смущении остановился, а мы между тем продолжали подъем. Вдруг бедный Хобо как-то неловко схватился за клык, который в эту минуту поднимали на самый опасный уступ, страшно поднимавшийся над бездной. Клык выскользнул у него из рук, несчастный сорвался и с громким криком полетел в пропасть. Так сбылись его опасения: смерть настигла его во владениях Вамбе как раз в ту минуту, когда он готовился их покинуть. Его гибель вечно останется у меня на совести, он погиб, спасая груз слоновой кости, которым я так дорожил. Ошеломленный тем, что случилось, я застыл в неподвижности. В ушах у меня еще звучал последний отчаянный крик погибшего. Копье, пролетевшее от меня так близко, что я почувствовал дуновение воздуха от него, заставило меня очнуться. Неприятель был уже совсем близко. Не теряя времени, я схватил ружье и принялся за работу. Воины матуку падали, как мухи, но рассвирепевшие дикари не унимались и подступали все ближе. Наконец все мои люди взобрались на последний уступ перед воротами, и я бросился вслед за ними, но несколько дикарей добежали до нас, и один из них успел ухватить меня за ногу. Я поднял глаза и увидел Майву, которая явилась на помощь и показалась мне в эту минуту краше любой феи. — Тащи меня, тащи, Майва! — закричал я. Она схватила меня за руку и начала тащить вверх с замечательной силой, но проклятый дикарь тянул вниз также изо всех сил. С минуту я думал, что моя спасительница и мой враг разорвут меня пополам, но, к счастью, вспомнил, что в кармане у меня лежит револьвер. Выхватив его свободной рукой, я выстрелил в моего противника, и он покатился вниз. Через минуту я уже миновал последний уступ и очутился в воротах. Ни один из дикарей не решился преследовать нас дальше. По местному выражению, «сердце у них ожирело», то есть они струсили и оставили нас в покое. Между тем мои люди, согласно приказанию, данному раньше Майвой, уже приготовили камни, чтобы заложить ворота; это было сделано в несколько минут. Обезопасив себя от преследования, мы добрались, едва передвигая ноги, до ближайших кустов, разбили там стоянку и наконец устроили отдых, который вполне заслужили.
Глава 6
ПЛАН КАМПАНИИ
На рассвете следующего дня мы опять пустились в путь и к вечеру добрались до крааля Ньялы, отца Майвы. В этот вечер мы его не видели. Майва пошла к нему одна, а мы расположились на отдых перед оградой крааля. Через некоторое время Ньяла прислал нам жирную овцу, молока и плодов с одним из своих индун, который передал мне приветствие господина и просьбу посетить его на следующий день утром. Когда мы поужинали, нам отвели для ночлега несколько весьма просторных хижин, в которых мы провели ночь так удобно, как не проводили уже давно. На другой день утром, часу в восьмом, Ньяла прислал за мной. Я пошел к нему и нашел вождя сидящим на буйволовой коже у дверей хижины; вокруг сидели на корточках индуны, всего человек двадцать, а возле него стояла его дочь Майва. Сам он произвел на меня очень приятное впечатление. Ему было уже лет под пятьдесят, но его умное и выразительное лицо казалось еще очень красивым, а руки и ноги вождя могли служить своей изящной формой образцом для любого художника. Он принял меня очень любезно, просил сесть на приготовленное место и вежливо поблагодарил за покровительство, оказанное его дочери во время ее бегства к нему. В ответ я заметил, что, напротив, это я обязан его дочери, так как, если бы она не предупредила нас о грозящей опасности, меня теперь уже не было бы в живых. После этого обмена любезностями Ньяла обратился к Майве и просил ее рассказать индунам свою историю. Она сделала это в простых, но весьма эффектных словах. — Вспомните, советники отца моего, — сказала она, — что я вышла замуж за Вамбе против своей воли. Жених не заплатил за меня, не присылал быков в подарок, как всегда делает зять по отношению к тестю, а получил невесту даром, угрожая пойти на нас войной, если меня не выдадут за него. С тех пор как я вошла в его крааль, я не знала ни одного легкого дня, ни одной бесслезной ночи. Со мной обходились с пренебрежением, меня, инкосазану[118], били и заставляли работать, как последнюю рабыню. У меня был ребенок, и вот что сделал с ним отец его… Затем она рассказала ужасную историю смерти своего малютки. Они выслушали в глубоком молчании и, когда она закончила, воскликнули все в один голос: — Оу! Оу! Майва, дочь Ньялы! Больше они ничего не сказали, вероятно, потому что были слишком поражены ее рассказом. — Да, — произнесла она со сверкающими глазами, — да, я говорю правду. Рот мой полон правдой, как цветок полон медом, и слезы падают из глаз моих, как роса падает на траву на рассвете. Я видела смерть моего сына — и вот доказательство. С этими словами она вынула из сумки мертвую руку и подняла ее над головой. — Оу! — вновь воскликнули индуны. — Оу! Это мертвая ручка. — Да, — продолжала она дрожащим голосом. — Это мертвая рука моего ребенка, и я ношу ее с собой, чтобы не забывать ни на час, для чего живу на свете. А живу я для того, чтобы отомстить Вамбе и увидеть собственными глазами, как он умрет. Неужели, отец, ты допустишь, чтобы с твоей дочерью поступили так, как поступил с ней Вамбе? Неужели вы, индуны моего народа, посоветуете отцу моему, чтобы он оставил безнаказанной смерть своего внука? — Нет, — ответил, встав со своего места, один из индун, старейший по возрасту из всех. — Нет, этого перенести нельзя. Довольно терпели мы от собак матуку и от их «громкоязыкого» инкоси, пора положить всему конец. — Да, пора, — согласился Ньяла. — Но как это сделать? Как одолеть такого сильного врага? — Спроси у Макумазана, у белого мудреца, — Майва указала на меня. — Как побеждает шакал носорога, Ньяла? — начал я. — Хитростью, Макумазан, — ответил он. — Так и ты одолеешь Вамбе, Ньяла, — проговорил я. В эту минуту пришли сообщить Ньяле, что прибыли послы от Вамбе требовать выдачи Майвы и белого охотника. — Что мне ответить им, Макумазан? — обратился ко мне с вопросом Ньяла. — Скажи, что ты пришлешь Вамбе ее и меня через неделю, и отпусти их, — ответил я, подумав немного. — Постой, я уйду в хижину, чтобы они меня не видели. С этими словами я ушел. Но в стенке хижины была трещина, и потому я легко мог видеть и слышать все, что там происходило. Послы — их было четверо, все рослые и дюжие дикари, — подошли к Ньяле с нахальным видом и сели, не дожидаясь его приглашения. — Зачем вы пожаловали? — вопрос Ньялы прозвучал сурово. — Мы пришли отВамбе, — заявил старший из них, — и принесли его приказания, которым Ньяла, раб его, должен повиноваться. — Говори, — велел Ньяла, и его красивые губы нервно вздрогнули. — Вот что сказал Вамбе: «Пришли назад дочь твою, жену мою, бежавшую из моего крааля, и с нею белого, который осмелился охотиться в моих владениях без моего позволения и убил моих воинов». Таков приказ твоего господина. — А если я не захочу его исполнить? — спросил Ньяла. — Тогда мы от имени Вамбе объявим тебе войну. Вамбе съест вас всех. Он сотрет вас с лица земли вместе с вашими краалями, вот так. — И с этими словами посол провел ладонью одной руки по другой и дунул на нее, чтобы показать, как полно будет уничтожение тех, кто осмелится ослушаться Вамбе. — Это веские слова, — заметил Ньяла. — Дайте мне посоветоваться с моими индунами, прежде чем я вам отвечу. Послы отошли на некоторое расстояние, но стали так, чтобы видеть все, что происходит. Тогда началась комедия, разыгранная с такой ловкостью, какой я никак не ожидал от дикарей. Ньяла сделал вид, будто советуется со своими индунами. Те, в свою очередь, притворялись, будто спорят с ним и уговаривают его. Майва бросилась к ногам отца, как бы умоляя не выдавать ее, и тот ломал себе руки, делая вид, что он в отчаянии и не знает, на что ему решиться. Наконец он подозвал к себе послов, а Майва, спрятав лицо, ему в колени, разрыдалась так естественно, что я не мог не подивиться ее сценическому дарованию. — Вамбе — сильный властитель, — заявил Ньяла, — а дочь моя — жена ему, и он имеет право требовать ее обратно. Она должна вернуться к нему, но сейчас она не может идти, так как совсем больна с дороги. Через восемь дней я пришлю ее с провожатыми. А до белого охотника и до его людей мне нет никакого дела, и я не могу отвечать за них, если они в чем-нибудь провинились. Они пришли ко мне незваные, поэтому мне нет никакой надобности за них вступаться. Я пришлю и их вместе с Майвой, пусть Вамбе делает с ними, что хочет. Вы можете идти обратно сегодня. Отдохните за оградой моего крааля, я велю накормить вас на дорогу и пошлю с вами подарок Вамбе, чтобы умилостивить его за вину моей дочери. Я все сказал. Послы настаивали, чтобы Майва шла с ними в путь тотчас же, но Ньяла решительно объявил, что она не в состоянии ступить ни шагу, так как у нее распухли ноги от долгой ходьбы. Наконец они перестали спорить и ушли. Когда они скрылись из виду, я вышел из хижины, и мы стали советоваться, что нам делать. — Прежде всего, — начал я, — позволь мне объявить, Ньяла, что я не могу предложить свою помощь даром. Если ты хочешь, чтобы я помогал тебе, ты должен согласиться на условия, которые я предложу. — Говори, — произнес Ньяла. — Во-первых, я слышал, что изгородь около хижины Вамбе целиком сделана из слоновых клыков. Если мы возьмем крааль, ты должен уступить мне эту изгородь и дать носильщиков, чтобы доставить слоновую кость в ближайшую гавань. — Согласен, — с радостью откликнулся Ньяла. — Это будет вполне справедливая награда за твои труды. Только доберемся ли мы до этой изгороди? — прибавил он, покачав головой. — Доберемся, не бойся! — весело заявил я. — Затем, ты должен обещать мне, что твои воины не будут убивать ни женщин, ни детей. — Согласен и на это, — Ньяла кивнул головой. — Я и сам не охотник проливать кровь попусту. Еще что? — Ничего, кажется… Да, вот еще, — прибавил я, стараясь говорить как можно равнодушнее. — Твоя дочь сказала мне, что в числе рабов Вамбе есть один белый. Когда все рабы твоего врага станут с моей помощью твоими, уступи этого белого в мое полное распоряжение со всей собственностью, какая у него найдется. Согласен? — Разумеется, — ответил Ньяла с улыбкой. — Что мне до этого белого? Бери его себе, если хочешь. Больше ты ничего не желаешь? — Ничего. На том и закончилась наша беседа. Само собой разумеется, что только горячее желание выручить Эвери из его жестокого рабства заставило меня принять участие в этой безрассудной войне. Но причины, которые вы легко поймете, вынудили меня скрыть от дикарей мои настоящие побуждения. Затем мы начали обсуждать план кампании. Из сведений, доставленных мне отцом Майвы и в особенности ею самой, я узнал, что Вамбе — самый грозный властитель во всем краю, что он может в несколько дней собрать до шести тысяч войска и даже в мирное время имеет при себе от трех до четырех сотен солдат. Я узнал также, что крааль Вамбе и окружающие его селения укреплены каменными стенами так сильно, что взять их не представляется никакой возможно — ста. Несколько лет назад один из туземных царьков попытался сделать это и был вынужден отступить, потеряв около тысячи человек. — Но с тыла, — утверждала Майва, — укрепления совсем слабы, крааль прилегает к горе, а по горе можно пройти лишь одной тропинкой, которую знают только Вамбе и немногие из его приближенных. — А ты не знаешь этой тропинки, Майва? — спросил я с сожалением, уверенный, что услышу отрицательный ответ. — Я не глупа, Макумазан, — она сопроводила свой ответ пренебрежительной улыбкой. — Кто знает много, тот силен. Я позаботилась узнать тайну этой тропинки и могу провести по ней войско. Только нужно будет веста ею в обход и по ночам: если Вамбе узнает о приближении врага, он тотчас запрет вход. — Сколько людей можешь собрать ты за несколько дней, Ньяла? — задал я вопрос. — Не больше тысячи двухсот или тысячи трехсот человек, — ответил он. — Но это будут надежные люди, мои бутианы — из рода зулусов, они гораздо храбрее матуку. — Так вот что, по-моему, нужно будет сделать, — объявил я, немного подумав. — Собери в три дня как можно больше войска, и пусть Майва ведет его в обход через горную тропинку, по которой можно спуститься к краалю Вамбе. Тем временем пошли другой дорогой, той, которой мы явились к тебе, маленький отряд отборного войска с ружьями. Он поведет меня и моих людей безоружными и якобы плененными, а также женщину, по возможности похожую на Майву. Если по дороге встретятся солдаты Вамбе и спросят, куда мы идем, пусть предводитель отряда ответит, что он ведет к Вамбе его беглянку-жену и прогневавшего инкоси белого охотника. Тогда нас пропустят. У самых ворот крааля, в ограде, как сообщила мне Майва, есть копье[119] с несколькими пещерами, которые не охраняются, так как он находится в пределах ограды. Войдя в ворота, мы немедленно займем его. К этому времени большой отряд должен быть уже на горе. Пусть он разведет огонь в знак того, что достиг условленного места. Когда мы увидим дым, то откроем огонь по неприятелю. Все воины бросятся на нас, а тем временем основные силы нападут на крааль с тыла и ворвутся в него. Таким образом неприятель очутится меж двух огней и будет разбит, прежде чем успеет опомниться. Вот мой план, Ньяла. Если у тебя есть другой, расскажи мне о нем. — Нет, — проговорил Ньяла, подумав, — твой план хорош, очень хорош. Я не могу придумать лучше. Поистине белые люди хитрее шакалов. Пусть будет, как ты говоришь. Да станет великая змея бутианов на хвост и да пошлет она удачу нашим воинам. Тогда мы избавимся от Вамбе и от его тиранства. Затем Майва вышла вперед и, вынув из сумки мертвую ручку, заставила отца и индун поклясться на ней, что они не прекратят войну, пока не доведут ее до победы. Впоследствии эта кампания получила название «Войны Маленькой Ручки». В тот же день Ньяла разослал гонцов, приглашая всех мужчин, способных носить оружие, на Великий танец (мужской праздник). К вечеру второго дня собралось около тысячи двухсот пятидесяти рослых молодцов, вооруженных щитами и копьями. Ньяла лично принял командование над этим войском. Он был хороший военачальник и, зная, что от успеха войны зависит существование его государства, никому не хотел доверить такого важного поста. На четвертый день после ухода послов наше войско выступило в путь с Майвой в качестве проводника, а еще через два дня двинулся маленький отряд, который должен был проводить к Вамбе меня, моих людей и единокровную сестру Майвы. Храбрая девушка охотно согласилась взять на себя роль беглянки, но своих людей я с трудом уговорил принять участие в экспедиции. Им, понятно, было вовсе не по вкусу совать, как говорится, голову в львиную пасть. Но присутствие их было необходимо, и я склонил их обещанием хорошей награды. Наш отряд состоял из двухсот человек с ружьями. В тех краях у многих дикарей есть ружья, хотя стреляют они плохо. Кроме ружей, при них были еще ассегаи, без которых дикари не ходят никуда, но не имелось ни щитов, ни воинского убранства; они должны были иметь вид мирного конвоя, а не войска, идущего в бой. Путь был известен. Нам пришлось идти мимо трупов убитых нами солдат Вамбе, от которых к тому времени остались одни скелеты, шакалы успели обглодать их дочиста. На второй день после выступления мы были уже во владениях Вамбе. Я разделил отряд на три части — авангард, центр и арьергард. В первом и последнем насчитывалось по пятьдесят человек, во втором — сто. В центре его шел я, безоружный, со всеми своими людьми и с мнимой Майвой, голова которой была закутана покрывалом. Не успели мы пройти и пяти миль по равнине после спуска с горы, как нам навстречу попался отряд солдат Вамбе, человек в пятьдесят, очевидно поджидавший нас. Начальник отряда остановил нас и спросил, куда мы идем. Индуна, которому поручено было для вида начальство над нашим отрядом, ответил как было условлено. Начальник отряда матуку спросил, почему нас так много, и получил ответ, что так как я и мои подчиненные — отчаянные храбрецы, то Ньяла побоялся, как бы мы не разбежались по дороге и не навлекли на него гнев Вамбе, потому он и дал нам такой многочисленный конвой. Тогда начальник матуку принялся издеваться надо мной, уверяя, что Вамбе отплатит мне за смерть его воинов и познакомит меня с Тем-что-кусается, то есть с львиным капканом, в который, по его словам, защемят меня и оставят умирать, как шакала, пойманного за лапу. Меня разбирала страшная злость от его слов, но я не подавал вида и притворялся, будто трушу. Сказать по правде, я не совсем притворялся, меня действительно пробирала дрожь при мысли, что, быть может, мне и в самом деле не миновать ужасного капкана. Я прекрасно сознавал, в какую опасную игру играю. Но не мог же я оставить без помощи бедного Эвери… А раз дело было задумано — отступать не приходилось. Начальник отряда матуку объявил, что он и его воины пойдут с нами, и начал нас торопить. Но нам нужно было прибыть на место не раньше вечера, поэтому мы прямо заявили, что идти скорее не можем. Дело чуть не дошло до ссоры, однако они в конце концов перестали подгонять нас, но все же не избавили от своего милого общества и всю дорогу угощали меня намеками на То-что-кусается. Эти намеки расстраивали и злили меня до крайности, хоть я и старался казаться равнодушным. Часу в пятом пополудни перед нами появился крааль Вамбе, расположенный в лощине у подножья горы. С первого же взгляда я убедился, что с фронта он действительно неприступен для войска, не имеющего артиллерии. К вечеру мы спустились в лощину, и сделать это оказалось нелегко, так как дорога была усеяна крупными камнями, через которые мы прыгали, как кузнечики. Уже начинало темнеть, когда мы подошли ко внешним укреплениям, состоявшим из тройной каменной стены с воротами до того узкими, что в них с трудом мог протиснуться один человек. В эти ворота нас пропустили без задержки, поскольку с нами были воины Вамбе. За этой оградой находилась каменистая площадка, а за ней опять шли укрепления с воротами в виде буквы V. Через эти ворота — они были открыты — я увидел пригорок, который нам предстояло занять. Как только мы приблизились к воротам, я подал нашему индуне условный знак. Он остановил отряд и объявил, что мы подождем здесь, пока Вамбе пришлет сказать, что готов принять нас. — Хорошо, — согласился начальник отряда матуку. — Ты со своими людьми можешь остаться здесь, но пленных должен передать мне. Вамбе ждет их, как голодный ждет пищи, он не ляжет спать до тех пор, пока не устроит белому охотнику «спокойного ночлега». И для жены у него тоже готов хороший прием. — Я не могу передать тебе пленных, — возразил индуна. — Ньяла приказал мне вручить их лично самому Вамбе, и я не смею ослушаться его приказания… Спор длился долго. Наконец предводитель матуку уступил и ушел докладывать о нас своему господину, обещая вскоре вернуться за нами. Проходя мимо меня, он остановился и, указывая на последние лучи заката, догоравшие на горизонте, проговорил: — Посмотри в последний раз на солнце, белый. Ты его больше не увидишь. То-что-кусается стоит в темноте. На следующий день мне пришлось застрелить этого негодяя, и, признаться, из всех, кого я вынужден был лишить жизни во время моих африканских странствий, о нем одном вспоминаю я не только без упреков совести, но даже без малейшего сожаления.Глава 7
НАПАДЕНИЕ
Возле того места, где мы стояли, бежал ручеек. При виде его мне вдруг пришло в голову, что на копье, который мы собирались занять, не будет воды и потому нам необходимо сделать хотя бы небольшой запас. Я шепотом сообщил об этом индуне, и он тотчас приказал своим людям напиться и наполнить водой все имеющиеся у нас кувшины, которых было штук восемь. — Теперь что нам делать, белый человек? — спросил он у меня. — Войдем в ворота и займем копье, — ответил я. Мы направились к воротам. Как я и ожидал, стоявшие у ворот двое часовых остановили нас и осведомились, куда мы идем. Индуна ответил, что раздумал ждать и хочет идти в крааль. Они объявили, что не пропустят нас; тогда мы без церемоний отшвырнули их в сторону и вошли в ворота. Они, конечно, побежали звать на помощь, а мы направились к копье, отстоявшему от ворот ярдов на сто. Крики часовых скоро привлекли множество вооруженных людей, которые бросились к нам, а мы пустились бегом и успели добежать до копье прежде, нежели противники перерезали нам дорогу. Только один из наших воинов споткнулся и был схвачен в плен. Как я узнал впоследствии, его убили за то, что он не хотел сообщать никаких сведений о наших планах. К счастью, им некогда было пытать его, а то бы не миновать ему пыток — матуку очень любят мучить своих пленников. Когда мы вошли в главную пещеру копье, наши преследователи остановились, не смея идти за нами. Я наскоро осмотрел занятую нами позицию и убедился, что она очень хороша. Пригорок был обнесен тройной стеной, и здесь находились три пещеры. В одной из них я разместил моих людей. Во-первых, мне хотелось обеспечить им безопасное убежище, во-вторых, они страшно трусили, и я смертельно боялся, как бы они не разбежались и не сообщили Вамбе о наших планах. В других местах я расставил надежных часовых и едва успел отдать распоряжения, как совсем стемнело. Вдруг из темноты послышался голос, который я сразу узнал, — это был голос начальника провожавшего нас отряда. Он требовал, чтобы мы шли за ним к Вамбе. Мы, разумеется, отказались, ссылаясь на то, что не можем идти в такой темноте. Они грозили, что нападут на нас, если мы не послушаемся, а мы отвечали, что откроем по ним огонь, если они не оставят нас в покое. Так как им не хотелось нападать на нас в темноте, они в конце концов отступили, но развели огни вокруг копье, из чего мы могли понять, что за нами зорко следят. Ночь показалась нам очень долгой. Почти никто не спал. К счастью, у нас были и припасы, и вода, так что голодать и мучиться жаждой нам не пришлось. Но неизвестность нашего положения не давала нам сомкнуть глаз. К тому же стало холодно, люди озябли и потому пата духом, но я старался их ободрить, убеждая не срамить себя трусостью перед собаками-матуку. Наконец рассвело, и при первых лучах солнца я увидел длинную колонну войска. Она остановилась ярдах в полутораста от копье; от нее отделился человек в высоком головном уборе, очевидно исполнявший роль глашатая, и, подойдя к стенам укрепления, окликнул нас. Индуна вышел на пригорок и спросил, что ему надо. — Идите к Вамбе, он зовет вас, — прокричал глашатай. — Вручите ему пленных и уходите с миром. Если вы не послушаетесь, то будете убиты все до единого. — Еще очень холодно, — уклончиво ответил индуна. — Мы совсем окоченели. Когда солнце разгонит туман, мы исполним волю Вамбе. — Идите сейчас! — настаивал глашатай. — Нет, — отказался индуна. — Мы пойдем, когда нам самим заблагорассудится, не раньше. — В таком случае готовьтесь умереть! — торжественно изрек глашатай и медленным шагом направился к своим — ни дать ни взять злодей из мелодрамы. Я между тем отдавал последние распоряжения, готовясь к нападению и поглядывая на противоположную гору в надежде увидеть сигнальные огни. Но огней не было, и, признаюсь, сердце замирало при мысли, что нас ждет, если помощь запоздает. О том, чтобы выдержать осаду в пещере, не могло быть и речи: припасов у нас осталось мало, а воды лишь столько, чтобы промочить горло. Волей-неволей приходилось немедленно вступить в открытый бой, а надежды на победу, если не подоспеет помощь, не было ни малейшей. Наконец солнце взошло над горами в чудной своей красоте, и как раз в эту минуту матуку, которых к тому времени собралось около полутора тысяч, запели свой воинственный гимн. Едва они успели его кончить, как раздался залп, пули просвистели над нашими головами, но никого не ранило. «Начинается!» — подумал я и не ошибся. Колонна неприятеля разделилась на три части и напала на нас с трех сторон. Расположив людей за укрытием, я сам стал на пригорке выше всех, чтобы руководить ими, и велел не стрелять, пока противник не подойдет совсем близко. Это был единственный способ не тратить зарядов даром, так как туземцы вообще плохие стрелки, а ружья у них, конечно, прескверные — многие из них были сделаны просто-напросто из газовых трубок, пулями же служили по большей части кусочки железа, отломанные от старой металлической посуды, и даже острые кремешки и камешки. Атака началась стремительно. Неприятель бежал на нас со всех ног. «Бегите, бегите, голубчики! — думал я, не спуская с них глаз. — И ведь как ловко бегут — словно стена. Тем лучше!» — Не пора ли стрелять, отец наш? — спросил меня индуна. — Рано, черт вас побери! — ответил я с досадой. Противник был от нас всего ярдах в двадцати. Но это расстояние стремительно уменьшалось. Когда он подошел приблизительно ярдов на тринадцать, я крикнул: «Стреляй!» — и первый дал два выстрела из своей тяжелой двустволки. Одновременно и мои люди дали залп из своих ружей, а их у нас было больше двухсот! Эффект оказался поразительным, ни один из зарядов не пропал даром. Во вражеских рядах начался переполох. Шедшие впереди попадали, как мухи, остальные разбежались. Мы поспешили перезарядить ружья, радуясь, что сами пока не потеряли ни одного человека. Но сигнальных огней на горе все еще не было, поэтому наше положение оставалось крайне опасным. Отступивший неприятель не возобновлял атаки с полчаса. Очевидно, они совещались, что делать дальше, и, поняв, что лобовой атакой ничего не добьешься, переменили тактику. Разделившись на маленькие группы, воины начали пробираться к нам через канавку, по-видимому намереваясь сосредоточиться в небольшой ложбинке. Отражать атаку оттуда огнестрельным оружием не было никакой возможности, пришлось бы принять рукопашный бой. Конечно, мы старались не пустить вражеских солдат в ложбинку, стреляя в них, но для этого нужны хорошие стрелки, а в нашем отряде такой был всего один — ваш покорный слуга. Вскоре неприятель сосредоточился в ложбинке числом около тысячи и ринулся на нас, а мы бросились ему навстречу, и завязалась рукопашная. Наши бутианы сражались молодцами, холодное оружие — страшный ассегай — было им более по душе, чем ружье, и они наносили врагу порядочный урон, но и сами пострадали немало. Вот тут-то я и покончил со своим приятелем, начальником провожавшего нас накануне отряда. Он вдруг вынырнул передо мной словно из-под земли и сделал попытку схватить меня, говоря: «Вот сейчас мы познакомим тебя с Тем-что…» Выговорить слово «кусается» он уже не успел, поскольку я выхватил их кармана револьвер и уложил его на месте. Между тем бутианы начинали заметно уставать, а врагов все прибавлялось. Я видел, что нет никакой надежды на спасение и дрался как черт, думая только об одном — продать свою жизнь как можно дороже. Вдруг в неприятельских рядах послышались крики: «Воины! Воины на горе!» Я взглянул вверх и увидел целую толпу вооруженных людей, копья которых ярко сияли на солнце. Это был Ньяла со своими воинами, они находились уже недалеко от первого укрепления. Как мне стало известно впоследствии, они опоздали потому, что им пришлось переходить вброд разлившуюся реку. Когда они наконец пришли на гору, бой был уже в разгаре, и они, заметив это, бросились нам на помощь, не теряя попусту времени на сигналы. Увидев их, мы словно ожили, а неприятель бросился им навстречу, дав нам передышку, которой мы воспользовались, чтобы сосчитать наши потери убитыми и ранеными. Первых было шестнадцать, вторых — тридцать пять. Я сразу послал за водой. Мы напились, раненых обмыли и перевязали. Я поручил надзор за ними своим носильщикам, как самым ненадежным в бою людям, а остальных собрал около себя и стал наблюдал за тем, что происходит на горе. Ньяла быстро овладел первым рядом укреплений, но за вторым его ждал серьезный отпор. Матуку успели привести в порядок свои силы, и бутианы продвигались вперед очень медленно. Я глядел на кипевший бой. Матуку были так заняты появлением нового врага, что, казалось, совсем забыли о нашем существовании. Но вскоре мне стало ясно, что без нашей помощи не обойдется. «Худо дело, — подумал я, — эти негодяи матуку, как видно, отлично умеют сражаться за стенами, и нашим бутианам, как они гаг храбры, с ними не справиться, если мы им не поможем. Нужно устроить диверсию». Обдумав свой план, я сообщил его индуне, который одобрил его. Мы быстро двинулись к месту, где кипела битва. Мой план состоял в следующем: зайдя незаметно в тыл противника, дать по нему залп и затем, стремительно бросившись на него, действовать холодным оружием. План был отчаянный, это сознавал и я, но необходимо сказать, что горсть молодцов, которой я располагал, могла бы храбростью и стойкостью сделать честь любой европейской армии. Мы быстро двинулись вперед и поспели как раз вовремя. Матуку своим отчаянным сопротивлением уже начинали теснить бутианов, и те стали отступать. В это время на стене укрепления появилась Майва с копьем в руке. Пока я жив, не забуду, как красива была она в эту минуту. Глаза ее горели, грудь высоко вздымалась, белая одежда развевалась, как знамя. — Трусы! Бабы! Цыплята! — кричала она, обращаясь к оробевшим воинам своего отца. — Неужели вы уступите собакам-матуку? Вперед! Еще немного, и победа наша. За мной, дети Ньялы. С этими словами она спрыгнула со стены укрепления и, как львица, бросилась в середину вражеских рядов. Воодушевленные ее примером, воины Ньялы с громкими криками ринулись за ней на врага, а в это время поспели и мы — и неприятель очутился меж двух огней. Битва, жаркая, отчаянная, беспощадная с обеих сторон, кипела еще час, затем все было кончено. Воины Вамбе разбежались, а бутианы бросились за ними по пятам. Я не участвовал в преследовании. Изнемогая от усталости, я опустился на первый попавшийся мне большой камень и закрыл глаза. Теперь, когда дело было кончено, энергия, воодушевлявшая меня, вдруг уступила место полнейшей апатии. Я не мог даже хорошенько припомнить, что пережито мною за последние часы, и только иногда мелькала мысль: «Ведь я не ранен. Как же я уцелел?» Не знаю, сколько времени просидел я так в забытьи, похожем на что-то среднее между сном и обмороком, как вдруг кто-то громко назвал меня по имени. Я открыл глаза. Передо мной стоял Ньяла, кровь лилась у него из широкой раны на руке. А возле него стояла Майва с гордым и грозным выражением на лице. — Неприятель разбит, Макумазан, — проговорил Ньяла спокойно и просто. — Нам больше нечего бояться его, сердце в нем упало. Воины Вамбе разбежались и попрятались по чащам и пещерам. Но многие из них не успели добежать до безопасного убежища, — прибавил он, и его красивые губы многозначительно дрогнули. — А где сам Вамбе? — внезапно спросил он. — И где белый, которого ты хотел спасти, Макумазан? — Не знаю, — ответил я, еще не вполне придя в себя и машинально поглядывая на лежавшего неподалеку молодого матуку, который не мог встать из-за раны на ноге. Ньяла также взглянул на него и, быстро подойдя к нему, замахнулся своим окровавленным копьем. — Где Вамбе? — грозно спросил он. — Говори скорей, собака, не то я убью тебя. В какой стороне он дрался? — Он совсем не дрался, господин, — с усилием отвечал раненый. — Он никогда с нами не дерется, на это у него, видно, не хватает духу. Он, верно, у себя в доме или в пещере, что за домом, — прибавил он, указывая рукой в том направлении, где находилось жилище Вамбе. — Пойдем посмотрим, — сказал Ньяла и, наскоро собрав несколько десятков воинов, пошел в указанном направлении. Я последовал за ним.Глава 8
МАЙВА ОТМЩЕНА
Внутренний крааль, служивший жилищем Вамбе и его женам, находился невдалеке от того места, где я отдыхал после битвы. Он был обнесен красивой оградой из тростника, за которой стояли полукругом шалаши жен властителя. Майва, отлично знавшая дорогу, быстро привела нас туда. Ни в шалашах, ни на площадке перед ними никого не было, весь крааль как будто выгорел. — Куда же девался этот шакал? — воскликнула Майва. — Он, верно, спрятался в пещеру за своим шалашом. Пойдем туда. Чтобы добраться до пещеры, нам пришлось пройти мимо шалаша Вамбе, стоявшего в стороне возле самой скалы, в которой располагалась пещера. Я невольно остановился, пораженный необычным видом изгороди, окружавшей шалаш, и, подойдя ближе, чуть не вскрикнул от восхищения. Изгородь состояла исключительно из слоновых клыков! Это была та самая изгородь, о которой писал Эвери. Клыки располагались полукругом; поменьше были врыты в землю с обеих сторон ближе к скале, затем их размер постепенно увеличивался, а два самых больших, соприкасаясь концами, образовали что-то вроде ворот перед шалашом. Можно представить себе, что я почувствовал, увидев перед собой около шестисот клыков, которые по уговору составляли мою собственность. Конечно, они совсем почернели от грязи, но я был уверен — под нею кость совершенно цела. Чтобы убедиться в этом, я вынул из кармана складной нож, открыл его и поскоблил один из клыков. Действительно, под черным налетом оказалась белейшая кость. Я готов был прыгать от радости, но вдруг меня поразили крики, раздавшиеся где-то поблизости. «Спасите! Помогите! Режут!» — кричал голос, который заставил меня вздрогнуть. Это кричал Эвери. — Господи! Что я за бездушный эгоист! — вскричал я и чуть не хватил себя кулаком по лбу от досады. — Я тут замешкался с клыками, а мой друг гибнет… Скорей, скорей к нему! — Да, скорей, не то будет поздно, — проговорила Майва каким-то строгим голосом. — Он в пещере, следуйте за мной. Мы мигом добежали до входа в пещеру, находившуюся в громадной скале. Там было настолько темно, что в первую минуту мы ничего не могли различить. Но когда наши глаза немного освоились с темнотой, мы увидели страшную картину. Посреди пещеры лежал огромный львиный капкан, совсем открытый, и семь или восемь женщин тащили к нему белого человека, почти нагого. Возле капкана стоял толстяк с жестоким выражением лица, маленькими злыми глазами и отвисшей нижней губой. Это был сам Вамбе, он держал руку на пружине, готовый закрыть капкан, как только несчастный Эвери угодит в него. Прежде чем я успел сделать хоть одно движение, Майва подняла копье и пустила его в голову Вамбе. Он отскочил в сторону и уклонился от удара, но оступился и попал в капкан; пружина захлопнулась. Раздался крик, до того ужасный, что я до сих пор не могу вспоминать о нем без содрогания. Злодей узнал наконец на своей шкуре, каково было тем несчастным, которых он так любил подвергать этой страшной пытке, и хотя я считаю себя христианином, но не могу сказать, что особенно пожалел о нем в ту минуту. Между тем копье Майвы, от которого Вамбе успел увернуться, попало в руку одной из женщин, державших Эвери. Она оставила его, другие последовали ее примеру, и мой бедный приятель, предоставленный самому себе, упал на землю, утомленный борьбой со своими мучителями. — Злодейки! — крикнул Ньяла женщинам. — За что вы его мучили? Сейчас вы получите то, что заслужили. Убейте их, — повелел он, обращаясь к вошедшим с ним воинам. — Нет, оставьте их, — с усилием проговорил Эвери. — Они не сами… он им велел… Он указал на Вамбе и лишился чувств. Тогда Майва выступила вперед, сделав нам знак отойти, и стала перед Вамбе, прекрасная, грозная, страшная, как сама судьба. — Кто я? — спросила она таким голосом, что он перестал кричать. — Узнаешь ты меня, Вамбе? Кто я? Жена твоя, мать твоего сына, тобой убитого — или ее тень, пришедшая из другого мира отомстить тебе и полюбоваться на твою смерть? Ответа не было. Злодей, пораженный ужасом, молчал, устремив на нее тусклый взгляд своих желтых глаз. — Что это? — вновь заговорила она, показывая ему высохшую ручку. — Отчего эта ручка оторвана от тела моего ребенка? Где он, где мой ребенок? Его это ручка — или это призрак, вышедший из могилы, чтобы схватить тебя за горло? Ответом Вамбе на эти слова был глухой стон. Его посиневшие губы судорожно подергивались, но говорить он не мог. — Где твои воины? — продолжала она. — Может быть, ты думаешь, что они сейчас явятся исполнить твою волю, схватить и казнить меня и всех твоих врагов? Может быть, ты воображаешь, будто все, что ты теперь испытываешь, не более чем тяжелый сон? Нет, Вамбе, это не сон. Твои воины развеяны прахом во все стороны. Ты больше не властитель, другой занял твое место. Женщина перехитрила тебя, она клялась отомстить тебе за сына — и отомстила. Ты умрешь медленной, лютой, страшной смертью, вот что ждет тебя, проклятый убийца моего беззащитного ребенка! — Она с силой ткнула в лицо Вамбе мертвую ручку и упала без чувств. Злодей невольно отшатнулся назад, зубцы капкана глубже впились ему в тело, и он опять начал реветь от боли. Я не мог долее выносить этой сцены. — Послушай, Ньяла, — обратился я к вождю бутианов. — Этот дьявол вполне заслужил свою участь, но не довольно ли мучить его? Вели своим воинам покончить с ним поскорее. — Зачем? — хладнокровно возразил Ньяла. — Пусть он умрет так же, как заставлял умирать других. Мы все уйдем отсюда и оставим его одного… — Нет, нет, прошу тебя, сжалься над ним, — перебил я его. — В живых его оставлять нельзя, но распорядись, чтобы он недолго мучался. — Хорошо, Макумазан, будь по-твоему, — небрежно согласился Ньяла. — Если таково твое желание, я его исполню. Только прежде нужно унести отсюда мою дочь и белого человека, — прибавил он, указывая жестом своим воинам на Майву и Эвери, все еще лежавших без чувств. Послушные его знаку, воины подняли их на руки и понесли из пещеры. Когда Эвери проносили мимо Вамбе, властитель матуку стал умолять своего раба, чтобы тот заступился за него и избавил от той участи, которой Вамбе хотел подвергнуть его самого. Не знаю, хватило ли бы у моего добряка-приятеля великодушия уважить его просьбу, но он не слышал ее, поскольку был в обмороке. Я ушел, оставив Ньялу расправляться с Вамбе. Через несколько минут он пришел сообщить мне, что негодяя уже нет в живых. Как только Эвери вынесли на воздух, он быстро очнулся. Страшно было смотреть на несчастного, он казался шестидесятилетним стариком, хотя ему не было тогда и сорока лет; его высохшее, как щепка, тело, было сплошь покрыто рубцами и ранами — следами мучений, которым подвергал его Вамбе изо дня в день. Борода и волосы были сбиты в комок и местами выдраны целыми клочьями. Придя в себя, он с усилием приподнялся, осмотрелся вокруг, как бы припоминая, что с ним было, и вдруг, увидев меня, пополз, обхватил своими исхудалыми руками мои колени и припал к моим ногам, обливаясь слезами. — Что ты, старина? Перестань, как тебе не стыдно! — взывал я, стараясь поднять его. Мне было ужасно неловко, я, знаете, не привык ни к чему подобному. — Спаси тебя Бог… награди тебя Бог! — повторял он, рыдая. — Если бы ты только знал, что я вытерпел, если бы ты только мог себе представить, от чего ты меня избавил! И ты не побоялся придти ко мне на выручку, рискуя своей головой. Но ты всегда был мне верным другом. Благослови тебя Бог! Ты мой избавитель, ты мое провидение… — Полно чушь молоть, дружище! — сердито перебил я его. — Я пришел сюда вовсе не тебя выручить, а за слоновой костью. Видишь, сколько ее припас туг для меня этот негодяй! Ну, скажи на милость, кто из нашей братии, торговцев слоновой костью, не рискнул бы ради такого сокровища даже своей бессмертной душой, а не только шкурой? Но сколько я ни убеждал его, что он тут ни при чем, он не верил мне и продолжал благодарить, заливаясь слезами. Наконец я понял, что у него нервный припадок, и догадался дать ему хлебнуть коньяку из фляжки, которая была у меня в кармане. Это помогло, он немного успокоился, а я между тем заглянул в шалаш Вамбе, нашел там кое-какое платье, приодел его и усадил рядом с собой. — Скажи ты мне на милость, — спросил я его прежде всего, — за что этому негодяю вздумалось засадить тебя в капкан. — Когда ему пришли сказать, что на горе солдаты и что Майва ведет их, — объяснил он, — одна из женщин заявила, что видела, как я писал что-то на листке и отдал листок Майве перед тем, как она ушла на очищение. Он догадался, в чем дело, и в наказание решил замучить меня до смерти; понимаешь ты меня? Я и язык-то свой забыл. О Господи, как я рад, что опять слышу родную речь! Действительно, его трудно было понять, он все время употреблял туземные слова, не находя подходящих английских. — А давно ты в плену? — расспрашивал я. — Шесть лет и не помню уж сколько месяцев. За последний год я уж и считать перестал. Я пришел сюда с майором Элди. С нами были еще трое англичан и сорок носильщиков. Негодяй Вамбе перебил их всех, чтобы завладеть нашими ружьями, а сам и пользоваться ими не умел. Они все целы и висят в порядке в его хижине. Меня он пощадил, потому что заметил, что я умею ковать железо. Дважды я пытался бежать, но меня ловили. В последний раз Вамбе засек меня чуть не до смерти, да я бы и умер непременно, если бы не Майва. Она потихоньку ухаживала за мной и лечила меня. Этот проклятый львиный капкан также достался ему от нас, и, знаешь ли, он замучил в нем человек двести, не меньше. Любимым его развлечением было приходить и смотреть, как мучается в капкане человек. Сядет, бывало, возле несчастного, любуется и смеется, и не отойдет, пока тот Богу душу не отдаст. Иных он поил и кормил, чтобы они дольше мучились. «Проживи, — говорил он, — до такого-то времени, тогда я тебя выпущу». Но, сколько мне помнится, он ни разу не сдержал слова. — Вот так дьявол! — воскликнул я, невольно содрогнувшись. — Признаюсь, слушая тебя, я готов пожалеть, что дал совет покончить с ним скорее. Пусть бы в самом деле околел в капкане, поделом ему! — Ну, полно, — перебил меня Эвери, мазнув рукой, — довольно с него. Он все-таки попробовал перед смертью, как это вкусно. Да и на том свете, я думаю, ему придется несладко. Мы еще долго толковали с приятелем, и я удивлялся одному: как он не лишился рассудка за те страшные годы, которые провел в плену у дикарей. Можно себе представить, каково ему было жить среди ежедневных истязаний и в постоянном страхе лютой казни. Наш разговор был прерван Ньялой. Он пришел сказать, что обед готов, и, признаюсь, это известие крайне нас обрадовало. После обеда Ньяла пригласил меня и главных своих индун на совет, чтобы решить, что делать с пленными и как быть с покоренной страной. Я дал всем высказаться и изложил свое мнение. — Ньяла, твое мужество и храбрость твоего войска принесли тебе победу. Страна, которую ты покорил, принадлежит тебе по праву завоевателя. Вамбе не оставил после себя детей, так пусть Майва, как его старшая жена и инкосазана, управляет страной под твоим верховным владычеством. Но не забудь, что хотя часть неприятельской армии перебита, все же многие воины успели разбежаться и попрятаться кто куда. Их нельзя оставить так, они могут собраться где-нибудь и напасть на нас врасплох. В числе пленных, которых мы захватили, есть несколько женщин. Наверное, они знают, куда попрятались их отцы, мужья и сыновья. Объяви им свободу, пусть они идут к своим мужчинам и скажут им, чтобы те явились к тебе и сложили оружие. Обещай за это возвратить в целости все их имущество и скот. Скот Вамбе и все его имущество по праву принадлежит тебе как военная добыча. Если же в продолжение трех дней они не придут к тебе и не признают твою власть, тогда придется продолжать войну. Но вряд ли они не примут этих условий. Ньяла одобрил этот план и распорядился немедленно привести его в исполнение. Женщины были отправлены, и по их лицам было видно, что они весьма довольны данным им поручением. — Идите к вашим мужьям и братьям, — объявил им Ньяла, — и передайте: пусть они явятся ко мне без страха. Я не враг им, я воевал с тираном Вамбе, но воевать с его народом не желаю, если он сам не принудит меня к этому. Весь остальной день мы провели, ухаживая за ранеными, а вечером развели костры и собрались возле них поужинать. Можно представить себе, что почувствовал Эвери, когда после ужина я угостил его трубочкой. Он вдыхал дым со слезами радости на глазах, ведь это была первая трубка, выкуренная им за шесть лет. Утром следующего дня мы на всякий случай занялись военными приготовлениями, но часам к двум увидели толпу солдат, направлявшуюся к нам с опущенным оружием в знак покорности. Один из них, почтенный старик, судя по всему индуна, и с ним еще двое выступили вперед, подошли к Ньяле и поклонились ему до земли. — Мы рабы твои, — обратился к нему старик. — Вамбе умер. Ты, Великий Лев, съел его. Мы пришли выслушать, что ты нам скажешь и что скажет дочь твоя Майва, Царица Войны, которая сама вела в бой твоих воинов, и что скажет Хитрый Белый Шакал, который вырыл яму для Вамбе. Говорите, мы будем повиноваться. Ньяла повторил им свои условия и спросил, согласны ли они признать своей властительницей Майву под его верховным начальством. — Согласны, — отвечал старик. — Кто бы над нами ни властвовал, наверное, новый господин наш не будет хуже Вамбе. К тому же мы знаем Майву и не боимся ее, хотя она и колдунья и грозна в битве. Тогда Ньяла обратился к Майве с вопросом, согласна ли она быть его наместницей. — Согласна, — отвечала Майва. — Я буду добра к послушным, и они будут довольны мной. Но непокорными и мятежными я буду править железной рукой. «Верно», — подумал я, невольно любуясь на грозную красавицу. Тем разговор и кончился. К вечеру того же дня все в краале пришло в такой порядок, что если бы не трупы, валявшиеся там и здесь, то можно было бы подумать, будто и вовсе не было войны. На другой день мы стали собираться в дорогу. Главной моей заботой было вырыть и увезти клыки, которых здесь, как я уже говорил, оказалось около шестисот. Я, признаться, побаивался, как бы Ньяла не стал оспаривать у меня это сокровище, но забыл, что имею дело не с европейцем, а с дикарем. Ему и в голову не пришло нарушить слово. — Возьми клыки, Макумазан, — сказал он мне просто. — Они твои, ты их заслужил. Возьми и носильщиков, сколько тебе понадобится. Я набрал более семисот человек и на следующий день выступил в путь с ними и с Эвери. Перед тем как отправиться, я пошел проститься с Майвой, которой отец оставил три сотни воинов в виде почетной стражи. Она приняла меня, как настоящая королева, и дала поцеловать руку на прощанье. — Ты храбрый человек, Макумазан, — проговорила она, — и ты был мне верным другом в беде. Если когда-нибудь тебе понадобится помощь или убежище, помни, что Майва не забывает ни зла, ни добра. Все, что я имею, твое. Так расстался я с этой замечательной женщиной. Два года спустя я услышал, что ее отец умер, а она мудро и твердо управляет обоими племенами. Весело нам было идти обратно по той дороге, по которой несколько дней назад мы шли с таким страхом, но еще веселее было бедняге Эвери покидать землю, где он столько выстрадал. Несколько дней он был до того слаб, что мы вынуждены были останавливаться по дороге чаще обыкновенного, чтобы дать ему передохнуть. Но при хорошем питании и при полном спокойствии он вскоре окреп и выздоровел. Когда мы дошли до вершины горы, с которой могли видеть крааль Вамбе, он стал на колени и со слезами благодарил Бога за свое спасение. Перед тем как отправиться в путь, я вымыл его, смазал раны целебной мазью, которой запасся еще в Претории, одел в свое платье, подстриг ему бороду, и он стал молодец хоть куда. Пройдя ущелье, около которого произошла моя первая стычка с матуку, стоившая жизни бедняге Хобо, мы разделились. Ньяла со своими воинами отправился восвояси, а мы с Эвери и носильщиками пошли к бухте Делагоа. Ньяла расстался со мной очень дружелюбно и благодарил за то, что я уговорил его начать войну, принесшую ему такие выгоды. Правда, он потерял почти треть своей армии, зато из ленного владельца превратился в самого могущественного властителя в краю. Он дал мне конвой в полтораста человек, чтобы присматривать за носильщиками-матуку, не внушавшими мне доверия. Однако они вели себя очень порядочно, и через неделю мы добрались до бухты Делагоа. К сожалению, часть моего сокровища потонула во время переправы через реку, но все же у меня осталось еще достаточно много слоновой кости. Я выручил за свой товар семь тысяч фунтов. Барыш, как видите, был недурной. Половину суммы я отдал Эвери. Он не хотел было брать, но я его заставил. По-моему, эти деньги принадлежали ему по праву: если бы не он, не видать бы мне этих клыков. На свой маленький капиталец он открыл банк в Претории, и теперь его дела идут отлично… Вот и конец моему рассказу». — Ну, господа, как вам нравится моя история? Мы, конечно, поспешили заверить его — совершенно искренне, — что она очень интересная, а Гуд многозначительно заметил, что она будет почище его истории с каменным бараном. — Еще бы! — согласился Квотермейн не менее многозначительно. — Однако мы порядком засиделись, — прибавил он, вставая. — Уже третий час, а завтра нам на охоту. — А куда вы дели капкан, Квотермейн? — поинтересовался я, зажигая свечу, чтобыотправиться в отведенную мне комнату. — Увез с собой и поставил было у себя в спальне, но, признаюсь, он не давал мне спать: каждую ночь мерещился в нем то Эвери, то Вамбе, то малютка Майвы, а напоследок стало казаться, будто я торчу из него сам. Я больше не мог выносить этого и отослал капкан в музей с объяснением, откуда он и чем замечателен. Мы простились и разошлись спать. Я уснул, думая об услышанном, и всю ночь мне снилось, будто я женат на Майве и очень боюсь своей грозной красавицы жены.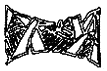
Книга VI. РАССКАЗ ОХОТНИКА КВОТЕРМЕЙНА
Аллан Квотермейн рассказывает о том, как, лишившись во время охоты фургона и волов, он был вынужден в сопровождении двух слуг возвратиться в населённые места. На этом опасном пути длиной в 300 миль они подверглись нападению льва, а также встретились со свирепым буйволом.
* * *
Сэр Генри Кертис, как это знает каждый, кто с ним знаком, — один из самых гостеприимных людей на свете. Недавно, когда я имел удовольствие пользоваться этим гостеприимством в его йоркширском доме, я услышал охотничий рассказ, который мне хотелось бы вам передать. Несомненно, до многих из тех, кто это прочтет, дошли удивительные слухи о том, как сэр Генри Кертис и его друг капитан Гуд нашли в сердце Африки огромный клад из алмазов, которые, как полагают, некогда принадлежали не то египтянам, не то царю Соломону, а может быть, и другому герою древних времен. Впервые я прочел об этом в газетной заметке, как раз когда собирался в Йоркшир погостить у Кертиса. Нечего и говорить, что я ехал туда, сгорая от нетерпения, ведь истории о тайных кладах неизменно волнуют воображение. Едва я переступил порог дома сэра Генри, как сразу же набросился на него с расспросами. Генри не стал оспаривать достоверность заметки, но, несмотря на мои настойчивые просьбы, ни он, ни капитан Гуд, который тоже гостил у него в доме, не захотели рассказать мне историю находки. — Вы все равно не поверите, — сказал сэр Генри и весело рассмеялся громким смехом, который, как в бочке, грохочет в его большой груди. — Подождите охотника Квотермейна; сегодня вечером он возвращается из Африки, и пока он не появится, вы не услышите ни слова об этом деле ни от Гуда, ни от меня. Квотермейн все время был с нами; это он проведал о кладе много лет назад. Да если бы не он, мы бы и не разговаривали бы здесь сегодня. А сейчас я иду встречать его. Больше мне не удалось выжать из него ни слова. Не удалось это и другим гостям, хотя все мы, особенно дамы, томились от любопытства. Я никогда не забуду, как, собравшись в гостиной перед обедом, они разглядывали не огранённый алмаз каратов на пятьдесят. Показывая алмаз, капитан Гуд сказал, что у него есть камни и покрупнее. Если я когда-нибудь видел на прекрасных лицах женщин такую живую заинтересованность и зависть, то именно в тот вечер. Как раз в этот момент лакей открыл дверь и объявил о прибытии м-ра Аллана Квотермейна. Тут Гуд сунул алмаз в карман и бросился к маленькому человечку, который, прихрамывая, застенчиво вошел в комнату в сопровождении самого сэра Генри Кертиса. — Ну, Гуд, вот наконец и он, целый и невредимый, — радостно сказал сэр Генри. — Леди и джентльмены, позвольте представить вам одного из старейших охотников и самою лучшего стрелка Африки, убившею больше слонов и львов, чем кто-либо. Все повернулись к Квотермейну и, словно невзначай, стали разглядывать маленького хромого человечка. Несмотря на свой малый рост, он вполне этого заслуживал. У него были коротко подстриженные седые волосы, торчавшие на его голове, словно щетина на щетке, мягкие карие глаза, казалось, мгновенно замечавшие все вокруг, и обветренное лицо, которое от непогод и солнца приобрело цвет красного дерева. Когда он отвечал на восторженное приветствие Гуда, я заметил, что он говорит с небольшим акцентом, придающим своеобразие его речи. За обедом мне посчастливилось сидеть рядом с Алланом Квотермейном, и я, разумеется, всячески старался его разговорить. Но мне это никак не удавалось. Он подтвердил, что действительно не так давно совершил с сэром Генри Кертисом и капитаном Гудом совершил путешествие в глубь Африки и что они нашли там клад, однако тут же учтиво перевел разговор на другую тему и принялся расспрашивать меня об Англии, где он никогда прежде не бывал — по крайней мере, с тех пор, как вышел из младенческого возраста. Разумеется, это не очень меня интересовало, и я стал искать способа вернуть беседу в нужное русло. Обедали мы в зале, обшитом дубовыми панелями; на противоположной стене висели два огромных слоновых бивня, а под ними — рога буйвола. Рога были грубые, покрытые наростами, какие бывают у старых самцов. Один рог, весь в глубоких царапинах, на конце был отломан. Заметив, что Квотермейн все время останавливал свой взгляд на этих трофеях, я спросил, не напоминают ли они ему о чем-нибудь. — Ну как же, — ответил он с усмешкой, — года полтора назад слон этими бивнями раскроил пополам одного охотника, а что касается рогов буйвола — они чуть не погубили меня и убили слугу, к которому я был очень привязан. Я подарил их сэру Генри, когда он несколько месяцев назад покидал Наталь. Тут м-р Квотермейн вздохнул и повернулся к даме — соседке по столу, Вряд ли нужно добавлять, что и она изо всех сил старалась разузнать что-нибудь об алмазах. Вообще за столом чувствовалось с трудом сдерживаемое возбуждение; оно прорвалось, как только слуги покинули комнату. — О, м-р Квотермейн, — воскликнула дама, сидевшая рядом с ним, — вы должны нам помочь! По милости сэра Генри и капитана Гуда мы долго терпели муки неудовлетворенного любопытства. Они решительно отказывались до вашего прихода проронить хоть словечко о кладе. Мы просто не можем терпеть дольше, прошу вас, начните наконец рассказ. — Расскажите, — подхватили все, — расскажите, пожалуйста. Охотник Квотермейн тревожно оглядел сидевших за столом. Ему явно не нравилось, что он вызывает столь пристальное внимание. — Леди и джентльмены, — сказал он наконец, покачивая седой головой. — Мне неприятно разочаровывать вас, но я не могу исполнить ваше желание. Видите ли, по просьбе сэра Генри и капитана Гуда я написал простой и правдивый отчет о копях царя Соломона и о том, как мы их нашли. Таким образом, вы скоро сами прочтете о нашем удивительном приключении. До этого я ничего о нем не скажу; уверяю вас, я ценю вашу любознательность и совсем не важничаю. Просто вся эта история полна чудес, и я боюсь ее скомкать. При беглом рассказе я рисковал бы предстать перед вами одним из тех пошлых вралей, которые так часто встречаются среди представителей моей профессии. Эти люди не стыдятся рассказывать о том, чего не видели, и сочинять фантастические истории о зверях, которых никогда не убивали. Думаю, что сэр Генри и капитан Гуд присоединятся к моим словам. — Да, Квотермейн, я думаю, что вы вполне правы, — согласился сэр Генри. — Те же самые соображения заставили меня с Гудом попридержать языки. Нам не хотелось попадать в один разряд с другими… гм… знаменитыми путешественниками. Послышался ропот недовольства. — Думаю, что вы просто водите нас за нос, — несколько резко сказала молодая дама, сидевшая рядом с Квотермейном. — Поверьте мне, — ответил старый охотник, склонив седую голову с неожиданной для него учтивостью, — хоть я и прожил всю свою жизнь в дебрях среди дикарей, я никогда не осмелился бы, да и воспитание не позволило бы мне обмануть столь прелестное создание. Эти слова, видимо, удовлетворили молодую даму, действительно очень хорошенькую. — Все-таки это ужасно, — вмешался я. — Мы просим хлеба, а вы кладете в протянутую руку камень, м-р Квотермейн, Расскажите нам хотя бы историю бивней, висящих напротив, Иначе мы не оставим вас в покое. — Я неважный рассказчик, — сказал старый охотник, — но если вы готовы примириться с этим, я согласен. Но расскажу я не о бивнях, ибо они имеют отношение к нашему открытию копей царя Соломона, а о рогах, что висят под ними. Этим событиям уже лет десять… — Браво, Квотермейн! — воскликнул сэр Генри. — Мы все будем в восторге. Выкладывайте свою историю! Но сначала наполните бокал. Маленький человечек повиновался, отпил немного кларета и начал: «Лет десять назад я охотился в самой глубине Африки, в местности, именуемой Гатгарра, неподалеку от реки Чобе. Со мной было четверо слуг-туземцев — погонщик, фоорлоопер, или, проще говоря, проводник, оба родом из Матабелеленда, готтентот Ханс, бывший раб трансваальского бура, и зулусский охотник Машуне, пять лет сопровождавший меня в походах. Неподалеку от Гатгарры я отыскал подходящий, здоровый участок, сущий парк; даже трава сохранилась очень хорошо для этого времени года. Там-то я и разбил небольшой лагерь — штаб-квартиру, откуда мы отправлялись в разные стороны на поиски крупной дичи, главным образом слонов. Однако мне не везло, слоновой кости я добыл очень мало. Поэтому я очень обрадовался, услышав от нескольких встречных аборигенов, что в тридцати милях от нас, в долине, пасется большое стадо слонов. Я уже собрался перенести в эту долину лагерь вместе с фургоном и всем остальным имуществом, но быстро отказался от этой идеи, узнав, что там свирепствует муха цеце, несущая верную смерть всем домашним животным, кроме ослов. С большой неохотой я решил оставить фургон на попечение двух матабеле — проводника и погонщика волов — и отправился к зарослям колючего кустарника только в сопровождении готтентота Ханса и Машуне. Мы выступили, как и было намечено, на следующее утро и к вечеру достигли места, где, по словам аборигенов, паслись слоны. Но и здесь нас ждала неудача. Слоны действительно прошли тут: повсюду виднелся их помет, кусты мимозы были выдернуты из земли и перевернуты вниз плоскими кронами — это огромные животные лакомились их сладкими корнями. Однако самих слонов нигде не было. Они ушли дальше. Нам оставалось одно — следовать за ними, что мы и сделали. Ну и погоня же это была! Недели две или даже больше мы шли следом за слонами. Дважды настигали их (прекрасное, скажу вам, было стадо), но затем снова упускали. В конце концов мы нагнали их в третий раз, и мне удалось застрелить одного самца. Однако они снова ушли, да в такие дебри, что преследовать их было бесполезно. Раздосадованный, я прекратил охоту, и мы в прескверном настроении повернули назад, к лагерю, унося с собой бивни застреленного слона. На пятый день мы добрались до невысокого копье, у подножия которого оставили фургон. Признаться, я взбирался на холм с приятным чувством путника, возвращающегося домой, потому что для охотника фургон — такой же родной дом, как комфортабельное жилище для цивилизованного человека. Я поднялся на вершину копье и взглянул вниз, туда, где стоял наш чудесный фургон с белым верхом. Но… фургона не было. А кругом, сколько хватал глаз, простиралась черная, выжженная равнина. Я зажмурился, посмотрел вновь и на месте лагеря разглядел лишь обуглившиеся бревна. Почти обезумев от горя и тревоги, я со всех ног побежал вниз, а за мной Ханс и Машуне. Не замедляя бега, я пронесся по участку равнины до ключа, где находился лагерь. Добежал — и тут же утвердился в своих худших опасениях. Фургон со всем, что в нем находилось, включая мои запасные ружья и боеприпасы, был уничтожен степным пожаром. Отправляясь в поход, я велел погонщику выжечь траву вокруг лагеря, чтобы предотвратить как раз то, что случилось. За излишнюю предусмотрительность я и был наказан! Верно, ветер взметнул пламя к полотняному верху фургона, и этого было достаточно. Не знаю, куда делись погонщик и проводник; должно быть, они испугались моего гнева и бежали, захватив с собой быков. Больше я их никогда не видел. Я сидел у источника на почерневшей земле велда, тупо рассматривая обуглившиеся оси и дисселбум моего фургона.[120] Уверяю вас, леди и джентльмены, мне хотелось плакать. А Машуне и Ханс громко ругались — один по-зулусски, другой по-голландски. В хорошеньком мы оказались положении. До Бамангвато — столицы государства Кхамы,[121] ближайшего пункта, где мы могли рассчитывать на помощь, — было не меньше трехсот миль. А наши боеприпасы, запасные винтовки, одежда, продовольствие — все погибло! Я остался, в чем был: фланелевая рубашка да пара грубых башмаков. Из оружия — только винтовка восьмого калибра и несколько патронов. У Ханса и Машуне тоже по винтовке «мартини» и немного патронов. С таким снаряжением нам предстояло пройти триста миль по пустынной, почти необитаемой местности. Могу заверить вас, что я редко попадал в худшее положение, хотя бывал в разных переделках. Чего, однако, не случается в жизни охотника! Надо было искать выход из положения. Кое-как скоротав ночь подле остатков фургона, мы утром двинулись в долгий путь к цивилизованным местам. Если б я вздумал подробно рассказывать обо всех трудностях и бедствиях этого ужасного путешествия, мне пришлось бы испытывать ваше терпение далеко за полночь. Поэтому, с вашего разрешения, я перейду прямо к описанию того приключения, о котором невесело напоминает пара буйволовых рогов на стене. Коротко говоря, мы провели в пути около месяца, довольствуясь чем придется. Однажды вечером мы остановились на ночевку милях в сорока от Бамангвато. К этому времени положение наше стало уж вовсе не завидным. Мы шли голодные, совершенно измученные, с израненными ногами. К тому же, у меня разыгрался острый приступ лихорадки, отчего я почти ослеп и совсем ослабел; силе моей не позавидовал бы и ребенок. Боеприпасов, в сущности, не осталось — один-единственный патрон к моей восьмикалиберке да три на обе винтовки «мартини», которыми были вооружены Ханс и Машуне. Итак, мы остановились на ночевку за час до захода солнца и развели костер — к счастью, у нас еще сохранилось несколько спичек. Помню, что место для привала мы выбрали прелестное. Сразу же за звериной тропой, по которой мы притащились, находилась ложбинка, окаймленная деревцами мимозы с плоскими кронами, а на дне ложбинки из земли бил ключ; чистая ключевая вода разлилась здесь озерком. По берегам рос кресс-салат, точь-в-точь такой, какой только что нам подавали к столу. Есть было нечего — еще утром мы прикончили остатки маленькой антилопы ориби, которую застрелили два дня назад. Поэтому Ханс — он стрелял лучше Машуне — взял два из трех оставшихся патронов к винтовке «мартини» и отправился на охоту в надежде раздобыть к ужину еще одну антилопу. Сам я слишком ослабел, чтобы идти с ним. Машуне между тем обламывал засохшие ветки мимозы, чтобы соорудить скерм — шалаш для ночлега. Он поставил его ярдах в сорока от берега. За долгую дорогу львы причиняли нам немало неприятностей. Не далее как прошлой ночью мы едва не подверглись их нападению. Я нервничал, потому что из-за своей слабости не мог надеяться на себя. Не успели мы с Машуне закончить шалаш или, вернее, некое подобие его, как примерно в миле от нас раздался выстрел. — Слышишь?! — напевно произнес Машуне по-зулусски, не то тревожась, не то радуясь. — Слышишь удивительный звук, который помог бурам повергнуть на землю наших отцов в битве при реке Блад? Ныне мы голодны, отец мой; желудки наши малы и сморщены, как высушенный желудок быка, но скоро они наполнятся добрым мясом. Ханс — готтентот, а значит, умфагозан — человек низшего сорта, но стреляет он как надо, конечно, как надо. Да возрадуется твое сердце, отец мой, скоро на огне появится мясо и мы воспрянем духом… Вскоре солнце закатилось в своем алом великолепии, между землей и небом воцарилась великая тишина африканских дебрей. Львы еще не появлялись, вероятно, дожидаясь луны, для других зверей и птиц настала пора отдыха. Не знаю, как вам передать это ощущение полной тишины; мне, ослабевшему и встревоженному долгим отсутствием Ханса, она казалась зловещей, словно природа задумалась над некой трагедией, что разыгрывалась перед ее взорами. Тишина эта напоминала о смерти, а одиночество — о могиле. — Машуне, — сказал я наконец, — где же Ханс? Из-за него у меня тяжело на сердце. — Не знаю, отец мой, не знаю. Может быть, он устал и заснул, а может, заблудился. — Машуне, ты же не ребенок, чтобы болтать такие глупости, — ответил я. — Скажи мне, видел ли ты хоть раз за все годы, проведенные на охоте бок о бок со мной, чтобы готтентот заблудился или заснул на пути в лагерь? — Нет, Макумазан (это, милые дамы, прозвище, данное мне аборигенами. Оно означает — «человек, который встает ночью» или «который всегда бодрствует»). Я не знаю, где он. Так мы переговаривались, и ни один не хотел произнести вслух то, о чем думал про себя. А думали мы о том, что с бедным готтентотом случилось несчастье. — Машуне, — сказал я после долгого молчания, — спустись к воде и нарви зеленых растений, что растут там. Я проголодался, мне нужно поесть. — Нет, отец мой, там, наверное, собрались духи. Ночью они выходят из воды и рассаживаются по берегам, чтобы просохнуть. Мне сказал об этом один исануси.[122] При свете дня Машуне был храбрецом, каких я мало встречал, но суеверия имели над ним большую власть, чем над цивилизованными людьми. — Что ж, мне самому идти, дуралей? — строго спросил я. — Нет, Макумазан, если твое сердце тоскует по этой странной траве, как сердце больной женщины, то я пойду, даже если духи сожрут меня. И он действительно пошел к берегу и вернулся с большой охапкой кресс-салата, который я принялся жадно есть. — А ты разве не голоден? — спросил я рослого зулуса, смотревшего мне в рот. — Никогда я еще не был так голоден, отец мой. — Тогда ешь, — протянул я ему пучок кресс-салата. — Нет, Макумазан, я не стану есть траву… — Не станешь есть — умрешь с голоду. Ешь, Машуне. Некоторое время он с сомнением разглядывал кресс-салат, а затем схватил несколько листьев и засунул их в рот с жалобным воплем. — О, неужели я родился для того, чтобы питаться зеленой травой, как бык? Знай моя мать такое, она убила бы меня при рождении! Так он причитал, поедая кресс-салат пучок за пучком. Прикончив все, Машуне заявил, что живот его полон дрянью, которая холодит внутренности, как «снег на горе». В другое время я бы рассмеялся — уж очень забавно он изложил свои мысли! Зулусы не любят растительной пищи. Едва мы покончили с едой, как услышали громкое рыканье льва, который, видимо, прогуливался гораздо ближе к шалашу, чем нам хотелось бы. Вглядываясь в темноту и настороженно прислушиваясь, я различил блеск больших желтых глаз и хриплое дыхание. Мы громко закричали, а Машуне подбросил сучьев в костер, чтобы огонь отпугнул льва. Это помогло; на некоторое время лев исчез. Вскоре взошла круглая луна, накинув на все серебристый покров. Редко видел я такое красивое полнолуние. Помню, что, сидя в шалаше, я мог разобрать в ярком свете неясные карандашные заметки в моей записной книжке. Как только появилась луна, к озерку у подножия холма потянулась дичь. С моего места было видно, как звери проходили по небольшой возвышенности справа от нас на водопой. Один самец крупной антилопы эланд остановился ярдах в двадцати от шалаша и подозрительно оглядывал его. Прекрасная голова и ветвистые рога животного четко выделялись на фоне неба. Я собрался было подстрелить его в надежде обеспечить нас мясом, но тут же вспомнил, что осталось всего два патрона, а попасть в цель ночью чрезвычайно трудно, и отказался от своего намерения. Эланд спустился к воде. Через минуту-другую оттуда донесся сильный всплеск, а затем быстро-быстро застучали копыта животного, пустившегося в галоп. — Что это, Машуне? — спросил я. — Тот проклятый лев, бык его чуять, — ответил зулус на английском языке, о котором имел весьма смутное представление. Не успел он произнести эти слова, как на противоположном берегу озерка послышался звук, похожий на стон. В ответ совсем близко от нас раздался громкий прерывистый рев. — Клянусь Юпитером! — сказал я. — Их двое. Они упустили антилопу; как бы им не вздумалось теперь поохотиться за нами. Мы подбросили еще сучьев в огонь и принялись кричать. Львы удалились. — Машуне, — сказал я, — посторожи, пока луна не станет вон над тем деревом, — к тому времени пройдет половина ночи. Тогда разбуди меня. Да смотри в оба, не то львы быстро доберутся до твоих негодных костей. Мне надо немного вздремнуть, иначе я не выдержу. — Нкоси! — ответил зулус. — Спи, отец мой, спи спокойно. Мои глаза будут открытыми, словно звезды, и, как звезды, они будут сторожить тебя. Несмотря на слабость, я не сразу смог последовать его совету. Начать с того, что у меня болела голова от лихорадки, а тревога за готтентота Ханса еще усиливала эту боль. Не меньшую тревогу внушала мне и наша судьба: как мы пройдем сорок миль до Бамангвато с израненными ногами, на пустой желудок, имея всего лишь два патрона? Не прибавляло спокойствия и сознание того, что поблизости во мраке бродит голодный лев, а то и целая стая; хотя такое уже случалось со мной, внимание было напряжено, а это мешало уснуть. Помнится, в довершение всех бед я томился по трубочке с табаком, но мечтать о ней тогда было все равно что хотеть достать луну с неба. В конце концов я забылся неспокойным сном, в котором было не меньше кошмарных видений, чем колючек на опунции. Мне, к примеру, снилось, что я наступил босой ногой на кобру, которая встала на хвост и шипела мне в самое ухо: «Макумазан». Шипение повторялось и повторялось, пока я наконец не проснулся. — Макумазан, там, там, — шептал мне в ухо знакомый голос. Приподнявшись еще в полусне, я открыл глаза. Машуне стоял подле меня на коленях и указывал в сторону озерка. Глянув туда, я увидел такое, что заставило вскочить меня, старого охотника, каким я был уже в ту пору. Шагах в двадцати от нашего шалаша возвышался большой термитник, а на вершине, сдвинув все четыре лапы, чтобы уместить свое массивное тело, стояла крупная львица. При ярком свете луны я видел, что она пристально смотрела прямо на шалаш, а потом опустила голову и принялась лизать лапы. Машуне сунул мне винтовку «мартини», прошептав, что она заряжена. Я приник к ложу, попытался прицелиться, но тут же понял, что даже при таком ярком свете не вижу мушки. Стрелять было бы безумием — я мог промахнуться или только ранить львицу. Я опустил винтовку и, поспешно вырвав клочок бумаги из записной книжки, которую просматривал перед сном, стал прилаживать его к мушке. Дело это было нелегкое, но не успел я как следует закрепить бумажку, как Машуне опять схватил меня за руку и показал на что-то темное в тени небольшой мимозы, росшей шагах в десяти от шалаша. — Ну, а это что? — прошептал я. — Ничего не вижу. — Это другой лев, — ответил Машуне. — Ерунда! Твое сердце мертво от страха, у тебя двоится в глазах. Я перегнулся через ограду, окружавшую шалаш, и вгляделся попристальнее. Тут темная масса поднялась и передвинулась в пространство, освещенное луной. Это оказался великолепный темногривый лев — один из самых больших, каких я только видел. Сделав два-три шага, он заметил меня, остановился и замер, глядя прямо на нас. Он стоял так близко, что я различал отражение пламени костра в его злых зеленоватых глазах. — Стреляй, стреляй! — сказал Машуне. — Дьявол приближается. Сейчас он прыгнет! Я поднял винтовку и навел бумажку, прикрепленную к мушке, прямо на клок белых волос, торчавший там, где горло льва переходило в грудь. В этот момент лев оглянулся; я по опыту знал, что эти звери почти всегда оглядываются перед прыжком. Так оно и было: лев слегка пригнулся, и его огромные лапы припали к земле, чтобы было удобнее оттолкнуться. Я поспешно нажал на спусковой крючок «мартини», и как раз вовремя; в тот же момент лев прыгнул. Гулко и отрывисто грянул выстрел в безмолвии ночи. Мгновение спустя огромный зверь упал на голову футах в четырех от нас и покатился в нашу сторону, разбрасывая судорожно бьющими большими лапами ветки кустарника, вкопанные Машуне вместо ограды. Мы выскочили из шалаша с другой стороны, а лев ввалился в него и перекатился через костер. Затем он встал, сел на задние лапы, словно большая собака, и заревел. Боже, как он ревел! Никогда не слышал ничего подобного ни до, ни после. Снова и снова он набирал в легкие воздух и исторгал его с душераздирающим рыком. Вдруг посреди особенно громкого вопля он свалился, недвижный, на бок. Я понял, что он издох. Обычно львы умирают на боку. Со вздохом облегчения я взглянул на термитник, где стояла самка. Она все еще была там и, словно застыв от изумления, глядела через плечо и помахивала хвостом. Но, к нашей великой радости, едва издыхающий зверь перестал рычать, она одним огромным прыжком исчезла в ночи. Мы осторожно приблизились к распростертому чудовищу. Машуне затянул на зулусском языке импровизированную песню о том, как Макумазан, охотник из охотников, чьи глаза открыты ночью, как днем, засунул руку в пасть льва, пришедшего, чтобы пожрать его, и вырвал сердце зверя. Прибегая к обычной для зулусов гиперболизации, он выражал этим свое удовлетворение по поводу того, что произошло. Предосторожности оказались излишними: лев был мертв, как чучело набитое соломой. Пуля, выпущенная из «мартини», поразила зверя на расстоянии дюйма от белого пятнышка, в которое я целил, прошла через все тело и вышла у правой ягодицы, близ основания хвоста. У винтовок «мартини» очень сильный бой, но пуля не производит больших разрушений в теле, и выходное отверстие ее невелико. К счастью, убить льва не так уж трудно. Остаток ночи я спал глубоким сном, положив голову на бок мертвого льва, хотя от его опаленных волос исходил ужасный запах; мне казалось тогда, что в этой позе есть некая доля иронии. Когда я проснулся, легкие розовые краски рассвета уже покрыли восточную часть небосклона. В первое мгновение я не мог понять, почему тревога сдавливает мне сердце ледяной рукой, но запах паленой шерсти мертвого льва, на туше которого покоилась моя голова, напомнил мне о нашем бедственном положении. Я встал и осмотрелся в надежде увидеть Ханса: если с ним не случилось несчастья, он обязательно должен был вернуться с рассветом. Но сколько я ни смотрел, его нигде не было. Надежды мои померкли: бедняге, видно, пришлось туго. Поручив Машуне развести огонь, я торопливо снял шкуру с великолепного зверя, затем отрезал несколько ломтей мяса, зажарил их, и мы с жадностью принялись за еду. Как ни странно, львиное мясо очень вкусно и напоминает телятину, как никакое другое. Когда мы закончили трапезу, которая была нам так нужна, солнце уже взошло. Напившись воды и помывшись в озерке, мы отправились на поиски Ханса, оставив мертвого льва гиенам. Многолетний опыт сделал из нас с Машуне хороших следопытов, и мы по едва различимым приметам без особого труда обнаружили следы Ханса. Мы шли около получаса, когда примерно в миле от места нашей стоянки отпечатки ног готтентота стали перемежаться со следами одинокого буйвола-самца. По многим признакам мы поняли, что Ханс преследовал буйвола. Наконец мы достигли небольшой поляны, где росла старая низкорослая мимоза; корни ее причудливо нависали над ямой в виде воронки, вырытой кабаном или муравьедом. В десяти-пятнадцати шагах от этого колючего дерева начинались густые заросли кустарника. — Гляди, Макумазан, гляди! — взволнованно воскликнул Машуне, когда мы приблизились к дереву. — Здесь буйвол бросился на него. А здесь вот он остановился, чтобы выстрелить. Посмотри, как крепко он уперся ногой в землю. Вот отпечаток его кривого пальца (у Ханса на ноге действительно был кривой палец). Гляди! Здесь буйвол ринулся вниз по холму, словно каменная глыба по склону. Его копыта рыли землю, как мотыга. Ханс попал в него: у буйвола из раны текла кровь — вот ее пятна. Все написано здесь, отец мой, здесь, на земле. — Да, — сказал я. — Но где же Ханс? Не успел я произнести эти слова, как Машуне схватил меня за руку и указал на невысокое дерево рядом с нами. Даже и теперь, джентльмены, тошнота подступает к горлу при воспоминании о том, что я увидел. На высоте примерно восьми футов над землей, между двумя расходящимися ветвями дерева, висел Ханс, точнее, его труп, видно заброшенный в развилку рассвирепевшим буйволом. Одна нога охватывала ветку развилки, верно, в предсмертной судороге. Бок Ханса, как раз под ребрами, был пропорот, и из отверстия вываливались внутренности. Но это еще не все. Вторая нога свешивалась вниз, не доставая до земли футов пяти. С нее была содрана кожа и часть мышц. Мы оцепенели от ужаса и, не отрываясь, смотрели на страшное зрелище. Нам было понятно, что случилось. С дьявольской жестокостью, которой отличаются эти животные, буйвол уже после смерти врага стал под его телом и своим шершавым языком, словно напильником, содрал мясо со свисавшей ноги. Я уже слыхал подобные истории, но считал их охотничьими выдумками. Однако теперь у меня не оставалось сомнений. Стопа и лодыжка Ханса были обнажены до костей — лучшего доказательства не требовалось. Мы все еще стояли под деревом, не в силах отвести глаз от истерзанного тела, когда наше оцепенение было прервано самым ужасным образом. Шагах в пятнадцати от нас вдруг с сильным треском раздвинулся густой кустарник, и на нас кинулся буйвол, издавая звуки, похожие на хрюканье свиньи. Я успел заметить в боку у него окровавленную дыру, оставленную пулей Ханса, и еще большую рваную рану — след поединка со львом; свирепые буйволы часто вступают в схватки со львами. Зверь приближался с высоко поднятой головой, ведь буйволы обычно наклоняют голову только перед тем, как нанести удар. И сейчас, джентльмены, когда эти большие черные рога красуются на стене, я вспоминаю, с какой быстротой они надвигались на меня десять лет назад, выделяясь на фоне зеленого кустарника. Все ближе и ближе! Машуне с криком бросился к кустам. Я же инстинктивно вскинул винтовку, которую держал в руке. Стрелять в голову зверя было бесполезно: пуля отскочила бы от толстой кости у основания рогов. Но мне повезло: когда Машуне кинулся в сторону, буйвол немного замедлил бег, вероятно, чтобы повернуть за ним. Это дало мне, пусть ничтожный, шанс на успех, и я выстрелил ему в плечо, израсходовав последний заряд. Пуля ударилась в лопатку, раздробила ее и прошла под шкурой в бок. В первый момент буйвол зашатался, однако не остановился. Отчаяние придало мне силы. Бросившись на землю, я покатился к корням мимозы и постарался как можно глубже забиться в яму, вырытую муравьедом. В следующее мгновение буйвол меня настиг. Опустившись на одно колено (вторая передняя нога, перебитая пулей у плеча, беспомощно болталась), он попытался подцепить меня своим изогнутым рогом и вытащить из ямы. Сначала он наносил яростные удары по комлю дерева и, как видите, расщепил себе рог. Затем он стал действовать хитрее. Засунув голову как можно дальше под корень он принялся описывать рогами длинные полукружия, стараясь задеть меня. При этом он сердито хрюкал, обдавая меня слюной и горячим, влажным дыханием. Я лежал за пределами досягаемости рога. Однако с каждым ударом яма расширялась, голова буйвола проникала глубже и рог приближался ко мне. Кроме того, буйвол, мотая головой, нанес мне мордой несколько сильных ударов по ребрам. Почувствовав, что теряю сознание, я напряг все свои силы, схватил руками шершавый язык, свисавший из пасти зверя, и рванул во всю мочь. Чудовище взревело от боли и ярости и отпрянуло назад с такой силой, что вытянуло меня на несколько дюймов из ямы. Буйвол тут же снова бросился на меня и на этот раз поддел крючкообразным концом рога под мышку. Я почувствовал, что пришла моя погибель, и завопил. — Он схватил меня! — кричал я в смертельном ужасе. — Гваса, Машуне, гваса! (Бей его, Машуне, бей!) Рывок огромной головы — и я был вытащен из норы, как моллюск из своей раковины! В тот же миг я увидел крепкую фигуру Машуне, приближавшегося к нам с поднятым над головой широким боевым ассегаем. Еще через долю секунды я сорвался с рога и услышал удар копья, сопровождаемый неописуемым звуком, который издает сталь, разрывая мышцы. Я упал на спину и, взглянув вверх, увидел, что отважный Машуне вогнал ассегай на добрый фут в тело буйвола и повернулся, чтобы бежать прочь. Увы! Слишком поздно. Ревя в бешенстве, истекая кровью, лившейся из пасти и ноздрей, дьявольское создание настигло его, подкинуло вверх, как перышко, а затем дважды боднуло распростертое на земле тело. Словно потеряв рассудок, я бросился на помощь Машуне, но не успел сделать и шага, как буйвол издал протяжный стон, тяжело вздохнул и замертво рухнул рядом со своей жертвой. Машуне был еще жив, однако с первого же взгляда я понял, что его час настал. Помимо других ран удар рога пробил большую дыру в его правом легком. В совершенном отчаянии я опустился рядом на колени и взял его за руку. — Он мертв, Макумазан? — прошептал Машуне. — Глаза мои не видят ничего. — Да, он мертв. — Черный дьявол поранил тебя, Макумазан? — Нет, мой бедный друг, это пустяки. — Как я рад! Затем наступило долгое молчание, прерываемое только свистом воздуха, выходившего из раненого легкого при дыхании. — Макумазан, ты здесь? Я не чувствую тебя. — Здесь, Машуне. — Я умираю, Макумазан, все вертится вокруг. Я ухожу, ухожу в темноту. В грядущие дни ты, конечно, будешь иногда вспоминать Машуне, который шел бок о бок с тобой, когда ты убивал слонов, и мы… То были его последние слова; мужественный дух покинул тело вместе с ним. Я подтащил мертвое тело к дереву и опустил его в яму, а рядом положил ассегай, как того требует обычай его народа, чтобы умерший не отправился в дальний путь безоружным. А потом, леди, признаюсь вам без стыда, я долго стоял один у тела Машуне и рыдал, как женщина».
Книга VII. НЕРАВНЫЙ ПОЕДИНОК
Аллан Квотермейн рассказывает о том, как двенадцать лет назад он выступил против семейства львов, чьей жертвой стал вол Аллана.
* * *
То, о чем пойдет речь на этих страницах, поведал мне старый друг Аллан Куотермэн, или, как мы ею звали в Южной Африке, Охотник Куотермэн. Я услышал этот рассказ однажды вечером, когда гостил в его йоркширской усадьбе. А потом у него умер единственный сын, и горе его было так велико, что вскоре он покинул Англию, сопровождаемый двумя спутниками, с которыми всегда путешествовал вместе, — сэром Генри Куртисом и капитаном Гудом. Уехал — и канул навсегда в темные глубины Африки. Он уверял, что где-то на плоскогорье, затерянном в обширной и еще не исследованной внутренней части материка, живет белый народ. За долгую жизнь в Африке слухи об этом народе не раз доходили до него. И вот он поклялся себе, что найдет этих людей, — иначе ему не умереть спокойно. В такую вот авантюру он увлек своих товарищей, отправившихся вместе с ним; сдается мне, что они уже не вернутся никогда. Я получил от старика Куотермэна только одно письмо, отправленное из миссии в верховьях Таны — реки, впадающей в океан на восточном побережье, приблизительно в трехстах милях к северу от Занзибара. В письме говорилось, что они перенесли немало лишений, что приключений у них было предостаточно, однако они живы и здоровы, а самое главное — напали на следы, которые еще больше укрепили их надежду на то, что безумная затея приведет к «замечательному и беспримерному открытию». Боюсь, что открытие это зовется смертью, ведь письмо получено очень давно и с тех пор никто ничего не слышал об экспедиции. Участники ее бесследно исчезли. В тот последний вечер, проведенный в доме Куотермэна, он рассказал мне и капитану Гуду, тоже обедавшему у него, историю, изложенную ниже. За обедом Куотермэн выпил два или три стакана старого портвейна, только чтобы помочь мне и Гуду добраться до донышка второй бутылки. Такое не часто с ним бывало. Все ведь знали, что он абсолютный трезвенник. Куотермэн говорил, что спиртные напитки внушают ему просто ужас, он достаточно насмотрелся, что они делают с охотниками, погонщиками и многими другими людьми, бок о бок с которыми он провел столько лет своей жизни. Может быть, потому доброе вино оказало на него более сильное действие, чем это пристало зрелому мужчине: окрасило румянцем его впалые щеки и сделало ею, обычно молчаливою, гораздо разговорчивее. Дорогой старина! Я как сейчас вижу его; вот он, прихрамывая, шагает по столовой, седые волосы стоят торчком, будто щетина, с морщинистого, желтоватого лица смотрят большие черные глаза, зоркие, как у ястреба, и кроткие, словно у оленя. Вся комната увешана трофеями его многочисленных охотничьих походов. Он мог многое рассказать о любом из них, если, конечно, удавалось его уговорить. Обычно это не удавалось: он не любил распространяться о своих приключениях. Но в тот вечер портвейн развязал ему язык. — Ах ты зверюга! — сказал он, остановившись на миг против гигантскою черепа льва, скалившего зубы из-под длинного ряда ружей, висевших на стене над камином. — Ах ты чудовище! Вот уж двенадцать лет терплю из-за тебя неприятности и, верно, не избавлюсь от них до самой смерти. — Расскажите нам об этом случае, Куотермэн, — попросил Гуд. — Вы много раз обещали, но так и не собрались. — Лучше не просите, — отвечал тот, — это слишком длинная история. — Отлично, — подхватил я, — вечер только начинается, да и портвейна еще предостаточно. Куотермэн сдался. Он набил трубку крупно нарезанным табаком из банки, всегда стоявшей на каминной полке, и начал свой рассказ, продолжая вышагивать по комнате. «В страну Секукуни[123] я прибыл, кажется, в марте 1869 года. Это было сразу после смерти Секвати, я уже не помню, как пришел к власти Секукуни. Мне сказали, что люди племени бапеди привезли из глубинных районов материка огромное количество слоновой кости: поэтому в Мидделбурге я набил целый фургон товарами, рассчитывая наменять побольше клыков. В столь раннее время года в тех местах свирепствует лихорадка, и путешествие туда сопряжено с большим риском. Однако я слыхал, что на эту партию слоновой кости зарится еще кое-кто, а потому твердо решил попытать счастья, пренебрегая опасностью заболеть. Впрочем, не очень-то я боялся лихорадки, считая, что достаточно закален постоянными лишениями. Действительно, некоторое время все шло хорошо. Бушвелд[124] был великолепен; кое-где его пересекали гряды холмов, там и сям виднелись гранитные копье, похожие на часовых, бдительно охраняющих эти бесконечные заросли. Но, как и полагается в марте (в той части Африки это осень), лихорадка так и косила людей, а жара была такая, словно вас сунули в раскаленную духовку. Мы спускались вдоль реки Олифантс, и каждое утро на рассвете я вылезал из фургона, чтобы осмотреть местность. Реки не было видно, в той стороне глаз различал только похожие на валы белые клубы тумана. Точь-в-точь огромные кучи ваты, наметанные гигантскими вилами. Такой туман приносит лихорадку. Из зарослей поднимались тонкие струйки пара, как если бы там горели сотни маленьких костров. То были испарения тысяч тонн гниющих растений. Да, местность поражала своей красотой, но красотой смерти. Все эти полосы и пятна тумана складывались в одно слово, и слово это — лихорадка. В тот год болезнь просто свирепствовала. Помню, как я однажды собрался зайти в небольшой крааль кнобнозов,[125] чтобы достать немного кислого молока — маас — и вареной кукурузы. Еще издали меня поразила странная тишина вокруг крааля. Не слышно было ни детских голосов, ни лая собак, не видно пасущеюся скота. По всем признакам крааль не был заброшен, во всяком случае до самом последнего времени, и все же там было тихо, как в подступавших к нему зарослях. У самого входа в крааль из кустов опунции выпорхнуло несколько цесарок. Я, помнится, не сразу решился войти в крааль — таким опустошением веяло от него. Природа никогда не кажется печальной там, где ее не касалась рука человека; она только вызывает чувство одиночества. Но если человек прошел по местности, а потом покинул ее, она внушает глубокую грусть. Все-таки я вошел в крааль и направился в главную хижину. Перед ней лежало нечто, накрытое старым овчинным кароссом.[126] Я нагнулся, откинул ею и отпрянул: он прикрывал тело недавно умершей молодой женщины. Я чуть было не пустился бежать, но любопытство взяло верх над страхом. Пройдя мимо умершей, я опустился на четвереньки и влез в хижину. Внутри было темно, я ничего не видел, но нос мой почуял недоброе. Я зажег спичку. Спичка была тандстикор,[127] а потому разгоралась медленно и давала мало света. Постепенно в хижине стало светлее, и я разглядел целую семью взрослых и детей, которые, казалось, крепко спали. Внезапно спичка вспыхнула, и я понял, что все они — а их было пятеро — давно мертвы. Один из пятерых был младенец. Я поспешно бросил спичку и стал выбираться из хижины, как вдруг заметил два больших глаза, глядевших на меня из угла. Я подумал, что это дикая кошка или другое животное, и заторопился еще больше. Но тут из угла раздалось бормотание, а затем страшный вопль. Я торопливо чиркнул еще одной спичкой. На меня глядела старуха, кутавшаяся в кусок шкуры. Я взял старуху за руку и вытащил из хижины, потому что она не могла или не хотела идти сама, а я от зловония едва не потерял сознания. Ну и вид у нее был — одни кости в мешке из черного, сморщенного пергамента. Только волосы были белые. Она казалась мертвой, жили лишь глаза да голос. Старуха, видно, решила, что я злой дух, пришедший за ней, потому она и вопила. Кое-как я дотащил ее до фургона и дал глоток капского виски, а затем влил ей в глотку полпинты бульона, который тут же приготовил из мяса антилопы гну, застреленной накануне. Старуха поразительно быстро пришла в себя. Она говорила по-зулусски, и я узнал, что она бежала из страны зулусов во времена Чаки.[128] Старуха рассказала, что все, кого я видел, умерли от лихорадки. Оставшиеся в живых жители крааля ушли и угнали скот, бедную старуху, беспомощную от старости и истощения, бросили умирать от голода или болезни. Когда я нашел ее, она уже трое суток просидела с мертвецами. Я отвез ее в соседний крааль и подарил старейшине одеяло, чтобы он заботился о старухе; еще одно одеяло я обещал ему, если на обратном пути найду ее в добром здравии. Помнится, он очень удивился тому, что я был готов расстаться с двумя одеялами ради никому не нужного старого существа. Почему я не оставилее в зарослях? — спрашивал он. Как видите, эти люди доводят до логического конца учение о выживании наиболее приспособленных. На следующую ночь после того, как я избавился от старухи, мне пришлось познакомиться с этим вот приятелем, — он кивнул в сторону черепа, который, казалось, скалился на нас со стены над каминной полкой. — С самого рассвета до одиннадцати часов я был в пути немалый срок, но мне хотелось быстрее добраться до цели. Все же я распряг волов и пустил их пастись под присмотром проводника, рассчитывая снова запрячь их часов в шесть вечера и ехать при свете луны до десяти. Затем я забрался в фургон и хорошенько поспал. Проснувшись часа в три пополудни, я встал, поджарил мяса и пообедал, запив жаркое кружкой черного кофе (в те времена консервированное молоко было редкостью). Не успел Том — так звали погонщика — вымыть посуду после обеда, как появился проводник. Молодой шалопай гнал перед собой одного вола. — А где же остальные? — спросил я. — Нкоси! — ответил он. — Нкоси! Остальные удрали. Только я отвернулся, они ушли, кроме вот Каптейна, он чесал спину о дерево. — Значит, ты захрапел и упустил волов, негодник, — закричал я в раздражении. Не очень-то приятно застрять этак на неделю в местах, которые лихорадка превратила в ловушку, да еще, к тому же, день и ночь гоняться за волами! — Иди сейчас же за ними, и ты тоже, Том. Да не вздумайте возвращаться без волов! Они, верно, отправились домой, в Мидделбург, и, чего доброго, отошли миль[129] на двенадцать. Так что без разговоров! Ступайте оба! Погонщик Том выругался и отпустил пареньку здоровую затрещину, вполне, разумеется, им заслуженную. Затем они привязали старого Каптейна за поводья к дышлу и, взяв ассегаи и палки, двинулись в путь. Я не прочь был бы пойти и сам, но оставлять на ночь фургон под присмотром одного из них мне не хотелось. Настроение было препоганое, хотя мне давно следовало привыкнуть к подобным происшествиям. Чтобы успокоиться, я взял винтовку и отправился на поиски дичи. Часа два я бродил попусту, не обнаружив ничего, во что стоило бы стрелять. Я повернул назад и тут наконец ярдах[130] в семидесяти от фургона увидел за деревцом мимозы старого самца антилопы импала. Он бежал прямо к фургону, и мне удалось как следует прицелиться, когда он был уже в нескольких футах[131] от повозки. Я нажал спусковой крючок; пуля попала в спину. Импала свалился, жизни в нем оставалось не больше, чем в дверном гвозде. Хороший был выстрел, хотя мне и не подобает говорить об этом. Настроение мое улучшилось, тем более что антилопа рухнула у задней стенки фургона, так что мне осталось только, освежевав ее тушу, обвязать ремнем ноги и подтянуть кверху. Когда я покончил с этим делом, солнце уже зашло, с неба светила полная луна. Да какая прекрасная! А затем наступила та поразительная тишина, которая иногда воцаряется над африканскими дебрями в первые часы ночи. Замолкло все — и животные, и птицы. Ни дуновения ветерка в кронах деревьев, даже тени их не колебались, только становились все больше. Тишина начала угнетать меня, я чувствовал себя безмерно одиноким. Слуг с волами и в помине не было. Меня радовало даже общество старого Каптейна, который лежал, прижавшись к дышлу, и безмятежно пережевывал свою жвачку. Но вдруг Каптейн встревожился. Сначала он засопел, потом встал и снова засопел. Я не мог понять, в чем дело, и как дурак спрыгнул с фургона, чтобы оглядеться вокруг: я решил, что наконец возвращаются пропавшие волы. Уже в следующее мгновение я пожалел о своем поступке: раздался рев, что-то желтое промелькнуло передо мной и обрушилось на бедного Каптейна. Послышался предсмертный хрип вола и хруст шейных позвонков несчастного животного, сокрушаемых зубами льва. Тут я понял, что произошло. «Ружье в фургоне», — молнией сверкнуло у меня в голове. Я повернулся и бросился за ним. Став одной ногой на переднее колесо, я поднялся, чтобы влезть в фургон, но тут же замер, словно окаменев: прямо за собой я услышал дыхание льва, и в следующий миг зверь прикоснулся ко мне, как я вот сейчас прикасаюсь к столу. Я чувствовал, что лев обнюхивает мою левую ногу, болтающуюся в воздухе. Клянусь, это было странное чувство. Не припомню, чтобы я испытывал такое прежде. Я не смел пошевелиться, хотя дело шло о моей жизни. Но самое удивительное, что моя левая нога обрела самостоятельность и я потерял над ней власть; у нее появилось неодолимое стремление брыкаться. Так иногда истеричному человеку хочется смеяться, и тем более неудержимо, чем торжественнее обстановка вокруг. Между тем лев медленно обнюхивал мою ногу, водя носом от лодыжки вверх к бедру. Я подумал, что вот сейчас он в нее вцепится, но лев поступил иначе. Он негромко рыкнул и вернулся к волу. Чуть повернув голову, я его увидел. Вероятно, это был самый большой из виденных мною львов, а видел я их немало. И еще у него была особая примета — огромная черная грива. А зубы! Но на зубы вы можете полюбоваться сами. Порядочные, а? Это было великолепное животное, и, лежа на передке фургона, я подумал, что такой лев украсил бы любой зверинец. А он тем временем стоял над тушей бедного Каптейна и свежевал ее не хуже мясника. Я так и не решался пошевелиться, потому что лев то и дело поднимал голову и следил за мной, не переставая облизывать окровавленные куски мяса. Растерзав Каптейна, он раскрыл пасть и зарычал. Скажу без преувеличения, что от этого рыка дрогнул фургон. Тотчас же послышалось ответное рычание. «Боже мой! — пронеслось у меня в голове. — Да тут еще и супруга!» Не успел я так подумать, как увидел при свете луны львицу, которая приближалась по высокой траве огромными прыжками, а за ней трусили двое львят, каждый величиной с мастифа.[132] Львица остановилась в нескольких футах от моей головы; она стала хлестать хвостом по бокам, уставившись на меня своими желтыми глазами. Я подумал, что мне конец. Но тут она отвернулась и принялась закусывать бедным Каптейном; ее примеру последовали и львята. Все четверо находились футах в восьми от меня. Они рычали и ссорились, рвали и терзали когтями мясо вола и разгрызали зубами кости. Я лежал, трясясь от страха и обливаясь холодным потом, и чувствовал себя, как Даниил,[133] брошенный к львам. Между тем львята наелись досыта и начали расхаживать кругом. Один подошел к фургону сзади и принялся теребить свисавшую тушу антилопы импала. Другой направился ко мне и стал, играючи, обнюхивать мою ногу. Скоро, впрочем, этого показалось ему мало. Приметив, что у меня задралась штанина, он вздумал полизать мою кожу своим шершавым языком. Видно, это ему нравилось, он лизал все настойчивее, все с большим упоением и притом громко мурлыкал. Тут я решил, что теперь и вправду мне конец: вот-вот его язык, как наждак, сдерет мне кожу — слава еще Богу, что она у меня дубленая, — и львенок почувствует вкус крови. Тогда у меня не останется ни малейшей надежды на спасение. Так я лежал, припоминая свои грехи, возносил молитвы Всевышнему и думал, что жизнь все-таки чертовски прекрасная штука. Вдруг раздался треск кустарника, крики, свист — и передо мной появились оба слуги с волами. Потом выяснилось, что волы так и брели стадом, все вместе. Львы, как один, подняли головы, прислушались и… исчезли, сделав огромный беззвучный прыжок куда-то в сторону. А я потерял сознание. В ту ночь львы больше не возвращались, и к утру мои нервы успокоились. Но мысль о том, что я перенес от лап, то есть, простите, носов этих четырех зверей, и об участи вола Каптейна, заднего в упряжке, приводила меня в ярость, Великолепный вол! Я очень любил его! Я так взбеленился, что как дурак решил атаковать львиное семейство. Подобный поступок пристал бы только зеленому новичку, впервые ступившему на охотничью тропу. И все же я поступил именно так. После завтрака я натер маслом ногу, сильно болевшую от прикосновений языка львенка, кликнул погонщика Тома (которому эта затея явно не нравилась), взял обычное гладкоствольное ружье двенадцатого калибра и отправился в поход. Это было мое первое оружие, заряжающееся не с дула, а с казенной части. Бой у гладкоствольного ружья очень хороший. По опыту я знал, что пуля из такого ружья разит льва не хуже, чем пуля из нарезного оружия. Лев не очень живуч, и прикончить его нетрудно — только попасть бы. Убить антилопу куда сложнее. Итак, я отправился на охоту. В первую очередь следовало выяснить, где находятся звери днем. Ярдах в трехстах от фургона вздымалась высотка, поросшая, словно в парке, свободно разбросанными деревцами мимозы. Дальше тянулась открытая равнина, опускавшаяся к высохшему озерцу. Оно занимало около акра[134] и было покрыто камышом, сухим и пожелтевшим. За озерцом начинался намытый водой глубокий овраг, заросший частым кустарником, над которым возносилось несколько больших деревьев, не помню уже, какой породы. Мне сразу пришло в голову, что именно здесь я могу повидаться с моими приятелями, ибо лев больше всего любит лежать в зарослях. Это позволяет ему вести наблюдение за окружающим, а самому оставаться невидимым. Я отправился к озерцу на разведку. Не успел я обойти его и наполовину, как обнаружил остатки антилопы гну. Она была убита не менее трех-четырех дней назад. Львы сожрали только часть ее. По этому признаку, да и по некоторым другим, я определил, что если львы и не побывали здесь сегодня, то, во всяком случае, проводят тут немало времени, А если они и сейчас в зарослях, как выманить их оттуда? Ведь никому, кто не собирался немедленно покончить счеты с жизнью, не придет в голову лезть к ним в лапы. Довольно сильный ветер дул со стороны фургона через покрытое камышами озерцо к поросшему кустарником оврагу. Это и навело меня на мысль поджечь камыши, которые, как я уже, кажется, говорил, почти высохли. Том начал поджигать траву спичками слева, я справа. Но у корней камыши оставались еще зелеными, и нам не удалось бы поджечь их, если бы не ветер, а он задувал все сильнее по мере того, как поднималось солнце. Ветер буквально вгонял пламя в камыши. Мы провозились с полчаса, пока наконец камыши не занялись. Огонь стал распространяться широким веером. Я поспешил на противоположный берег озерца, чтобы там дождаться львов. Встал на совершенно открытом месте — в точности так, как сегодня во время охоты на вальдшнепов в рощице. Тогда это было довольно рискованно, но в те времена я был так уверен в своей меткости, что не боялся. Едва я занял позицию, как услышал треск, — сквозь камыши продиралось какое-то животное. «Вот он!» — сказал я себе. Животное приближалось. Я уже видел ею желтоватую шкуру и приготовился к бою, но тут вместо льва из камышей выскочила великолепная антилопа импала, укрывавшаяся в озерце. Она доверчиво обосновалась рядом со львами, словно лань из библейскою пророчества. Впрочем, я подозреваю, что даже в таких густых камышах она старалась держаться подальше от хищников. Я пропустил импалу, вихрем промелькнувшую мимо меня, и продолжал пристально вглядываться в камыши. Пламя теперь бушевало, как в топке. Оно бесновалось и ревело, пожирая камыши. Огненные искры взлетали футов на двадцать, а то и выше. Раскаленный воздух плясал, причудливыми струями поднимаясь вверх. Однако от полузелёных камышей шел густой дым, валом катившийся в мою сторону. Ветер прижимал его к земле. И вдруг сквозь треск и гул огня я услышал рев потревоженного льва, потом другого, третьего… Значит, львы и вправду были дома. Теперь я начал волноваться. Вы ведь знаете, друзья мои, что ничто так не ударяет по нервам, как приближение льва, если не считать, разумеется, раненою буйвола. Еще больше я встревожился, когда увидел сквозь дым, что все львиное семейство пробирается вдоль края камышей. Иногда они приподнимались над камышами точь-в-точь кролики, выглядывающие из норы, — но, заметив всего ярдах в пятидесяти меня, прятали головы снова. Я понимал, что львов порядком поджаривает и эта игра недолго еще продлится. И действительно, все четверо разом покинули укрытие. Старый черногривый дев опередил остальных на несколько ярдов. За всю свою жизнь охотника я не видел более великолепного зрелища, чем эта четверка, несущаяся прыжками по велду[135] на фоне густой тучи дыма. За ними, как в жаркой печи, пылали камыши. Я рассчитывал, что по пути к заросшему кустарником оврагу они промчатся мимо меня на расстоянии примерно двадцати пяти ярдов. Поэтому, сделав глубокий вдох, я тщательно прицелился в плечо льва — того самого, черногривого, — с таким расчетом, чтобы пуля, сместившись на дюйм[136] или два, угодила в сердце. Лев попал мне на мушку, и мой палец уже начал нажимать на спусковой крючок, когда я вдруг ослеп от искры, влетевшей мне в правый глаз. Я заплясал от боли, принялся тереть глаз и более или менее протер его как раз вовремя, чтобы полюбоваться, как хвост последнего льва скрылся за кустарником в верхней части оврага. Можете себе представить, как я бесновался! Надо же было случиться такому невезению! Выстрел на открытом месте непременно принес бы удачу. Однако я не желал признавать себя побежденным и бросился к оврагу. Погонщик Том кричал и умолял меня не ходить туда. Я никогда не выставлял себя отчаянным храбрецом, да я таким не был сроду. Но на этот раз я твердо решил: либо я убью львов, либо пускай они прикончат меня. Поэтому я сказал Тому, что он может не ходить за мной, если не хочет, но сам я пойду, что бы там ни было. Том происходил из народа свази и был отважным парнем. Он пожал плечами и, бормоча, что я сошел с ума или околдован, покорно пошел за мной следом. Вскоре мы достигли оврага. Он имел ярдов триста в длину и порос совсем не так густо, как казалось издали. Тут-то и началась комедия. За каждым кустом мог прятаться лев, ведь их было все-таки четверо. Оставалось решить, где же именно они находятся? Я уж и смотрел, и высматривал во всех направлениях, а душа у меня то и дело уходила в пятки. Наконец я был вознагражден: за кустом мелькнуло что-то желтое. В тот же миг из-за другого куста, как раз напротив меня, выскочил львенок и помчался галопом обратно к выгоревшей части озерка. Я сделал поворот кругом и выстрелил, не целясь. Пуля раздробила ему хребет в двух дюймах от копчика. Львенок перевернулся через голову и упал, беспомощный, но глаза его горели яростью, Погонщик прикончил его ассегаем. Я открыл затвор и поспешно вытащил гильзу. Потом я понял, что она, очевидно, разорвалась в стволе и часть заряда застряла там. Так или иначе, когда я пытался вогнать новый патрон, он вошел только наполовину. И поверите ли, именно в этот момент соизволила появиться на сцене львица: ее, очевидно, привлекли вопли детеныша. Она остановилась шагах в двадцати от меня, хлеща хвостом по бокам, и вид у нее был зловещий донельзя. Я медленно отступил, стараясь вогнать патрон. Тут она направилась в мою сторону короткими прыжками, всякий раз приседая на мгновение. Опасность надвигалась неотвратимо, а патрон все не входил. Как ни удивительно, я думал в эту минуту о фабриканте, выпускающем такие патроны. Имени его я вам не назову, но тогда мною владело одно страстное желание: если уж зверюга схватит меня, пусть и фабриканта постигнет достойное возмездие. Убедившись, что патрон не входит, я попытался вытащить его, но он заклинился. А, между тем, если я не закрою затвор, то не смогу выбить гильзу и воспользоваться вторым стволом, то есть останусь, в сущности, безоружным. Я начал медленно отступать назад, не спуская глаз с львицы, подползавшей на брюхе. Она двигалась беззвучно, все хлеща себя хвостом по бокам, и тоже не спускала глаз с меня. А по глазам ее было видно — через несколько секунд она прыгнет. Я изо всей силы нажимал ладонью на медную закраину гильзы, пока из руки не потекла кровь. Глядите, следы остались до сих пор! Тут Куотермэн поднес к свету правую руку и показал нам четыре или пять белых шрамов на том месте, где запястье переходит в кисть. — Но это нисколько не помогло, — продолжал он, — патрон не двигался с места. Никому не пожелаю очутиться в таком переплете. Львица вся подобралась, и я уже попрощался с жизнью, как вдруг откуда-то сзади раздался голос Тома: — Возьми вправо! Ты идешь прямо к раненому львенку! Я не очень-то понимал, в чем дело, но все же послушался и, не отрывая глаз от львицы, продолжал отходить, теперь уже взяв в сторону под прямым углом. И что вы думаете? К моей величайшей радости, львица, негромко рыкнув, выпрямилась и побежала вверх по оврагу. — Пойдем, нкоси,[137] — сказал Том, — вернемся к фургону. — Хорошо, Том, — ответил я, — я вернусь. Но сперва убью остальных трех. Такой ярости и такой решимости довести дело до конца я не испытывал никогда в жизни ни до, ни после. — Можешь убираться, если хочешь, или залезай на дерево. Том взвесил оба предложения и благоразумно взобрался на дерево. Жаль, что я не последовал его примеру. Я нашарил в кармане нож с экстрактором и наконец с превеликим трудом вытащил злополучный патрон, который чуть не погубил меня. При этом я прочистил и ствол. Кусочек заряда, застрявший там, был не толще почтовой марки (во всяком случае, не толще листа писчей бумаги) Покончив с этим, я зарядил ружье, перевязал носовым платком руку, чтобы остановить кровь, и опять принялся за свое. Я приметил, что львица скрылась ярдах в пятидесяти выше того места, где я стоял, в густом зеленом кустарнике, что рос над ручьем, протекавшим по дну оврага, Туда я и направился. Однако когда я продрался в гущу, я ничего не смог разглядеть. Тогда я поднял большой камень и швырнул его в кусты. Вероятно, он попал во второю львенка. Так или иначе, звереныш выпрыгнул и очутился сбоку от меня, дав мне таким образом возможность открыть, как говорят, огонь с левого борта. Я поспешил воспользоваться этим и уложил его наповал. За львенком из кустов с быстротой молнии выскочила львица. Но как проворна она ни была, я успел всадить ей из второго ствола пулю между ребер, да так, что она, подпрыгнув, сделала в воздухе тройное сальто, словно подстреленный на бегу кролик. Я тут же загнал в ружье два новых патрона. Львица приподнялась и поволокла ко мне свое тело на передних лапах, рыча и испуская стоны, и голос ее выражал такую сатанинскую злобу, какой я еще не видел. Я снова выпалил и на сей раз попал ей в грудь. Тут львица упала на бок и испустила дух. Это был первый и последний раз, когда мне привелось стрелять по двум львам справа и слева. Да я и не слыхал, чтобы кому-нибудь удавалось такое. Я был, конечно, очень доволен собой и, зарядив снова ружье, отправился на поиски черногривого красавца, задравшего Каптейна. Поднимался я по оврагу медленно и с величайшей осторожностью, обыскивая по пути каждый куст, каждый пучок травы. Уверяю вас, это было волнующее занятие: ведь в любое мгновение лев мог броситься на меня. Успокаивал я себя тем, что лев, если он не загнан в тупик а не ранен, редко первым нападает на человека. Редко, но случается, и вы об этом сейчас услышите. Вероятно, я потратил на поиски не меньше часа. Один раз мне показалось, что я вижу какое-то движение в траве, но, верно, это была ошибка, льва я так и не обнаружил. Наконец я добрался до конца оврага и очутился в тупике. Дальнейший путь преграждала каменная скала высотой около пятидесяти футов. С нее низвергался небольшой водопад, а впереди футах в семидесяти находилось нагромождение валунов высотой футов в двадцать пять. Они поросли кое-где папоротником, травой и чахлыми кустами. Стены оврага и здесь били довольно крутые, но я все же забрался наверх и осмотрелся. Ничего! Я, как видно, упустил льва в нижней части оврага, а может, он и вовсе удрал. Вот досада! Впрочем, застрелить за утро трех львов из одного ружья не так уж плохо. Я решил удовлетвориться этим и спустился обратно, обходя нагромождение валунов. От возбуждения и усталости я совсем обессилел, а ведь мне еще предстояло снимать шкуру с трех львов. Отойдя от груды валунов ярдов на восемнадцать, я огляделся. Глаз у меня достаточно зоркий, наметанный, но я решительно ничего не заметил. И вдруг увидел такое, от чего у меня кровь застыла в жилах. Прямо напротив, на груде валунов, стоял, четко вырисовываясь на фоне скалы, черногривый. Он прятался там, припав к земле, а теперь поднялся и возник передо мной во весь рост, словно по велению волшебника. Он стоял там, бил хвостом — живая копия скульптуры, украшающей ворота дома Нортумберлендов.[138] Как раз недавно я видел эти ворота на картинке. Но стоял он недолго. Едва я прижал к плечу приклад ружья, как он прыгнул с валунов прямо на меня. Боже, каким огромным он выглядел, каким страшным! Высоко в воздухе он описал большую дугу. Я выстрелил в тот момент, когда лев достиг ее высшей точки. Медлить было нельзя, ибо, чтобы преодолеть расстояние между нами и обрушиться прямо на меня, ему достаточно было одного прыжка. Поэтому я выстрелил, почти не целясь, как охотник, который бьет влет бекаса. Пуля попала в цель — я слышал глухой удар о тело льва, со свистом рассекавшее воздух. Еще мгновение — и меня бросило на землю, я упал на низкорослый кустарник, обвитый ползучими растениями, что ослабило силу удара. Лев подмял меня под себя, его огромные белые зубы сомкнулись на моем бедре, я даже услышал, как они заскрежетали о кости. В ужасе я завопил, ибо в отличие от доктора Ливингстона, которого, кстати, хорошо знал, не чувствовал себя ни оцепеневшим, ни спокойным.[139] Я уже считал себя погибшим. Но внезапно — как раз когда я прощался с жизнью — хватка льва ослабла. Он отпустил мое бедро и зашатался из стороны в сторону. Огромная пасть, из которой хлестала кровь, была широко раскрыта. Потом он заревел, и рев его потряс скалы. И вот его огромная голова упала, чуть не придавив меня. Он был мертв. Пуля вошла в грудь и вышла с правой стороны хребта, где-то в середине спины. Моя рана ужасно болела, и я только потому не потерял сознания. Отдышавшись, я кое-как выбрался из-под тела льва. Благодарение Богу, его огромные зубы не раздробили бедренной кости. Но кровь шла ручьем, и, вероятно, я умер бы от потери крови, если б на помощь не прибежал Том. Вдвоем мы развязали носовой платок на моей руке и плотно, с помощью палки, перетянули ногу. Так я заплатил за то, что как безумец решил в одиночку сражаться с целым семейством львов. Поединок был слишком неравным. С тех пор я хромаю и останусь хромым до самой смерти. Каждый год в марте моя рана начинает болеть, а примерно раз в три года открывается. Вряд ли нужно говорить, что я так и не приобрел партию слоновой кости в ставке Секукуни. Она досталась другому — какому-то немцу, который нажил на ней пятьсот фунтов. Я же целый месяц лежал на спине и еще полгода еле ходил. А теперь, когда я рассказал вам свою историю, выпью еще глоток голландской, да и на покой. Спокойной ночи вам, спокойной ночи!»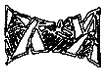
Книга VIII. ЧУДОВИЩЕ ПО ИМЕНИ ХОУ-ХОУ
Аллан Квотермейн и его товарищ Ханс отправляются по поручению зулусского шамана раздобыть листья редкого Древа Видений, необходимых шаману для обрядов, а также узнать тайну Хоу-Хоу, чудовища двенадцати футов ростом, с когтями и красно-рыжей косматой бородой…
От автора
Считаю своим долгом указать, что произведение сие, представляемое мной на суд читателей, было написано еще до обнаружения в Родезии окаменелых, неизмеримо древних останков первобытного человека, каковой вполне мог принадлежать к племени волосатых лесных дикарей хоу-хоуа, о которых в этой книге рассказывается устами Аллана Квотермейна.Генри Райдер Хаггард
Глава 1
БУРЯ
Поскольку я, то бишь издатель этих записок, являюсь одновременно и душеприказчиком покойного Аллана Квотермейна (или иначе Макумазана, то есть Бодрствующего в ночи, как имели обыкновение называть его африканские туземцы, подразумевая под этим человека, который всегда начеку), то считаю своим долгом не просто соблюсти условия завещания моего дорогого друга, но полагаю необходимым также поведать миру множество историй, непосредственно или косвенно связанных с мистером Квотермейном. И прямо сейчас я намерен перейти к самой любопытной и загадочной из всех этих историй. Хочу сразу отметить, что записана она со слов самого Аллана: он поведал мне свои воспоминания много лет назад в йоркширском поместье, именуемом Грэнж, где я тогда гостил, и случилось это незадолго до того, как он, вместе с сэром Генри Куртисом и капитаном Гудом, отправился в свою последнюю экспедицию — в сердце Африки, откуда, увы, уже не возвратился. В ту пору я прилежно зафиксировал все детали этой истории, каковая показалась мне весьма таинственной и одновременно поучительной, однако вышло так, что записи оказались утеряны, а своей собственной памяти я никогда не доверял настолько, чтобы попытаться заново воспроизвести рассказ моего усопшего друга в тех мельчайших и важнейших подробностях, на которых, я уверен, он непременно настаивал бы. Но вот, буквально на днях, разбирая кладовку, я вдруг наткнулся на старый портфель, тот самый, что, вне всякого сомнения, был при мне в те далекие годы, когда я практиковал — точнее, пытался практиковать — ремесло адвоката. Обуреваемый теплыми чувствами, знакомыми всякому, кто по прошествии немалого числа лет находит предметы, имеющие отношение к давним событиям юности, я взял сей портфель в руки, подошел к окну и, приложив некоторое усилие, сумел разомкнуть проржавевшую застежку. Внутри обнаружилась небольшая коллекция всевозможных бумаг, в основном заметок по поводу дел, в которых мне выпало играть роль помощника при моем выдающемся ученом друге, впоследствии ставшем судьей; еще там были синий карандаш с обломанным грифелем и прочие мелочи. Я стал листать бумаги и вчитываться в собственные пометки на полях, посвященные событиям, каковые за ненадобностью начисто выпали из моей памяти (хотя, разумеется, в те годы, когда эти заметки составлялись, они были для меня чрезвычайно важны). Прочитав очередной лист, я со вздохом разрывал его в клочья и кидал обрывки на пол. Затем я вывернул сумку наизнанку, чтобы вытрясти пыль. Когда я проделал это, из внутреннего кармана выскользнула толстая, внушительная на вид записная книжка в блестящем черном переплете; такую в былые времена можно было купить за шесть пенсов. Я раскрыл книжку — и на первой же странице мой взор привлек к себе заголовок следующего содержания: «Отчет о невероятной встрече А. К. с богом-чудовищем, или идолом, Хоу-Хоу, которого они с готтентотом Хансом видели в дебрях Южной Африки». И немедленно нахлынули воспоминания. Словно воочию я увидел себя самого, молодого и старательного, прилежно делающего эти стенографические записи в своей спальне в поместье Грэнж, дабы история, рассказанная стариной Алланом, не стерлась из памяти. Я вспомнил, как на следующий день продолжал делать заметки в утреннем поезде, несущем меня на юг, и как позднее всякий раз, когда выдавалось свободное время, дополнял их в своем скромном жилище на Элм-Корт, что в лондонском Темпле. Также я припомнил собственную растерянность и злость в тот миг, когда стало ясно, что записная книжка бесследно исчезла. Я не мог понять, куда она подевалась, поскольку был уверен, что лично положил ее на хранение в место, казавшееся мне крайне надежным. Опять-таки, словно воочию я увидел, как роюсь в бумагах в крошечном кабинете в своем домике в пригороде Лондона[140] и как, охваченный полнейшим отчаянием, прекращаю наконец поиски. С тех пор минуло немало лет, произошло множество событий, так что и пропавшая записная книжка, и сами события, которым были посвящены мои заметки, оказались прочно забытыми. Теперь же они поистине свалились на меня из пыльной кучи прошлого, оживив множество воспоминаний, и я готов вынести на суд почтенной публики эту главу из полной приключений жизни моего дражайшего друга Аллана Квотермейна, который уже столь давно отошел в мир иной; участь сия, увы, предначертана каждому из нас.Как-то вечером, после охоты, мы — старина Аллан, сэр Генри Куртис, капитан Гуд и ваш покорный слуга — сидели в гостиной Грэнжа, йоркширского поместья Квотермейна, курили и беседовали на самые различные темы. Мне случилось упомянуть о любопытном факте, вычитанном в одной американской газете, — будто бы какие-то охотники видели на болотистых берегах Замбези некую доисторическую рептилию, — и я спросил Аллана, может ли это, по его мнению, быть правдой. Он покачал головой и ответил в своей обычной осторожной манере (каковая, помнится, выдавала его нежелание обсуждать возможность существования в наши дни подобных тварей), что Африка воистину огромна, поэтому не исключено, что в дебрях Черного континента и вправду могут обитать какие-либо доисторические животные, в том числе и пресмыкающиеся. — По крайней мере что касается змей, — добавил он поспешно, словно стремясь избежать более широкого обсуждения этой темы, — то однажды мне самому довелось столкнуться в Африке с анакондой, столь же крупной, как и те, которые, как говорят, водятся в Южной Америке: в длину она была футов шестьдесят, если не более. Мы не просто повстречались с этой тварью, но убили ее — это сделал мой слуга-готтентот Ханс — после того, как она раздавила и проглотила одного из членов нашего отряда. Туземцы поклонялись этой змее, словно божеству; не исключено, что именно отсюда и пошли предания о громадных рептилиях. Не стану утомлять вас историями, о которых сам предпочитаю не вспоминать; скажу лишь, что еще как-то раз видел слона, каковой настолько превосходил прочих своими размерами, будто и впрямь явился из доисторических времен. Молва об этом слоне ходила на протяжении многих столетий, а звали его Джана. — И его вы тоже убили? — справился Гуд с присущей всем нам любознательностью, поглядывая на собеседника сквозь очки. Несмотря на загар и морщины, было видно, что Аллан покраснел от гнева. И ответил резко, что было весьма необычно для этого добродушного человека, не склонного раздражаться: — Неужели вы до сих пор не усвоили, Гуд, что нельзя спрашивать у человека, тем более у того, кто сделал охоту своей профессией, каков был исход того или иного поединка, если только он сам не захочет поделиться с вами этими сведениями? Но, коли настаиваете, не стану скрывать: этого слона я не убивал, его прикончил Ханс, который тем самым спас мне жизнь. Я же дважды промахнулся, хотя и целился с расстояния всего лишь в несколько ярдов. — Да бросьте, Квотермейн! — вскричал Гуд, от которого не так-то легко было отделаться. — Неужто мы должны поверить в то, что вы промахнулись, стреляя с нескольких шагов в этого исключительно крупного слона? Да не могли вы так оконфузиться, разве что перепугались сверх всякой меры! — Гуд, я вам уже сказал, что промахнулся! Что касается остального, вы, возможно, правы: я действительно тогда изрядно испугался. Сами знаете, я никогда не тщился выдать себя за человека, наделенного особым мужеством. Обстоятельства же нашей встречи с этим чудовищем Джаной были таковы, что на моем месте устрашился бы любой — пожалуй, даже вы, Гуд. Кроме того, если вы сочтете уместным проявить снисхождение к человеческим слабостям, найдутся, полагаю, и иные причины столь отвратительного — да, не побоюсь этого слова: отвратительного — исхода, о коем мне неприятно вспоминать и еще тяжелее рассказывать, ибо встреча с Джаной обернулась гибелью старого Ханса, которого я так любил. Гуд собрался было продолжить спор — он обожал подобные препирательства, — однако сэр Генри вытянул свою длинную ногу и ловко пнул капитана в голень, отчего тот моментально умолк. — Так вот, возвращаясь к тому, о чем говорилось ранее, — поспешно добавил Аллан, явно желая уйти от малоприятной темы, — за всю свою жизнь я лишь единожды повстречался, нет, не с доисторическим пресмыкающимся, а с народом, который почитал бога-чудовище, или идола, пережиток, быть может, Древнего мира. Квотермейн замолчал с видом человека, не намеренного распространяться далее, но я тут же спросил: — А кто это был, Аллан? — Ответить на сей вопрос коротко поистине невозможно, друг мой, — произнес он. — Вдобавок, если я все-таки соглашусь рассказать, Гуд наверняка опять усомнится в моих словах. Уже поздно, и длинная история всех утомит. Сдается мне, за сегодняшний вечер я вам ее никак не изложу. — У нас есть виски, содовая и табак! Уж не знаю, как Куртис с Гудом, а лично я, с таким-то подкреплением, буду сидеть между вами и дверью, Аллан, покуда вы не сдадитесь и не поведаете нам свою историю! Вы же знаете, со стороны хозяина невежливо ложиться спать раньше гостей, так что приступайте к рассказу, старина, прошу вас! — Свои слова я сопроводил улыбкой. Квотермейн насупился, пробормотав себе под нос что-то нелестное, сделав вид, будто бы разозлился. Мы же молча сидели и ждали; это выжидательное молчание, похоже, доконало Аллана, и он начал свое повествование.
— Что ж, если вам так угодно, извольте. Однажды, много-много лет назад, еще в молодые годы — а глядя на меня нынешнего, и не скажешь, что я был когда-то молод, — я разбил лагерь на склонах Драконовых гор. Я двигался по дороге в Преторию с грузом товаров на продажу, от которых рассчитывал избавиться среди живших за горами туземцев, а потом, когда мои руки освободятся, провести месяц-другой, охотясь на севере. Но вышло так, что, когда мы остановились на открытой местности между двух гор, нас застигла ужасная буря, едва ли не наихудшая из тех, какие мне вообще довелось пережить. Если память меня не подводит, была середина января, а вам, друг мой[141], известно, сколь суровыми бывают в это время года бури в Натале и его окрестностях. Казалось, она обрушилась на нас сразу с двух четвертей небосвода; на самом деле это была не одна буря, а две одновременно, и они стремились навстречу друг другу. Воздух вдруг сделался густым и плотным, налетел пронизывающий ветер, от завываний которого кровь стыла в жилах, и внезапно стало темным-темно, хотя день был в разгаре. По вершинам окружавших нас гор били молнии, однако грома пока слышно не было, да и дождь начинаться не спешил. Со мной, кроме возницы и погонщика, был тот самый Ханс, о котором я уже упоминал: маленький, весь словно сморщенный готтентот, уже не один год сопровождавший меня в моих скитаниях и приключениях. Именно он составил мне компанию, когда я, совсем еще молодым человеком, отправился вместе с Пьетом Ретифом в роковую поездку к Дингаану, королю зулусов; осмелюсь напомнить, что тогда погибли почти все, кроме нас с Хансом. Мой Ханс был забавным и остроумным существом, возраст которого не поддавался определению; на свой лад он мог считаться одним из умнейших людей в Африке. Я не встречал равных ему в умении выслеживать дичь; но, подобно остальным готтентотам, Ханс вовсе не был образцом добродетели: всякий раз, когда выдавалась возможность, он напивался до полного безобразия и в таком состоянии становился досаднейшей обузой. С другой стороны, надо отдать ему должное: он отличался собачьей верностью и, не стану скрывать, любил меня беззаветно, как пес любит хозяина, который заботился о нем с тех пор, как тот был слепым щенком. Для меня Ханс сделал бы все на свете: не задумываясь пошел бы на ложь, кражу и даже убийство, расценив это не как преступления, но как своего рода священную обязанность. Словом, Ханс был готов в любой момент умереть ради меня — и однажды, увы, именно так и случилось.
Аллан умолк, притворившись, что ему понадобилось выбить трубку, хотя в том не было ни малейшей необходимости, ведь он только-только ее закурил. По-моему, Квотермейн просто воспользовался случаем повернуться к очагу, перед которым стоял, дабы спрятать от нас лицо. Потом он резко развернулся на каблуках, как было у него в обыкновении, и продолжил рассказ:
— Я шагал впереди фургона, высматривая ямы и большие камни на, с позволения сказать, дороге: уж не знаю, по чьей прихоти узенькая тропа, что вилась между гор, звалась дорогой. За мной по пятам, как было у него заведено — он всегда следовал за мной, словно тень, — двигался Ханс. Я услышал, как он глухо кашлянул. Зная, что готтентот поступал так всякий раз, когда хотел привлечь к чему бы то ни было мое внимание, я спросил, не оборачиваясь: — Что такое, Ханс? — Ничего, баас, — ответил он, — вот только надвигается большая буря. Да не одна буря, баас, а сразу две. Когда они встретятся, то начнут сражаться между собою, и сотни копий засверкают в небе, а потом обе тучи прольются дождем, да и град может пойти. — Ты прав, — согласился я, — но я не вижу, где бы нам можно было спрятаться, так что пойдем дальше. Ханс поравнялся со мной и снова кашлянул, вертя в костлявых пальцах жалкое подобие шляпы. Таким образом он намекал, что собирается кое-что предложить. — Много лет назад, баас, — сказал он, указав кивком головы на каменистую осыпь на склоне горы, примерно в миле слева от нас, — вон там была большая пещера. Мальчишкой я укрывался в ней вместе с несколькими бушменами. Это случилось, когда зулусы разграбили Наталь. Помню, есть им тогда было нечего, и те, кто уцелел, питались друг другом. — А твои бушмены, Ханс? Чем они тогда промышляли? — Бушмены ели слизней и кузнечиков, баас, а порой им улыбалась удача и они убивали своими отравленными стрелами антилопу. Жареные кузнечики очень вкусные, баас, и саранча тоже вкусная, когда есть больше нечего. Я помню, что даже растолстел на такой пище, хотя сперва чуть не умер от голода. — Хочешь сказать, Ханс, что нам следует поискать твою пещеру, которая должна быть вон там, если ты ничего не напутал? — Верно, баас, верно. Пещеры ведь не убегают, как дичь. Пускай прошло много лет, но я не забыл место, где прожил в юности целых два месяца. Я окинул взглядом надвигающиеся тучи и призадумался. Тучи выглядели намного темнее обычных грозовых, из чего следовало, что грядущая буря обещает быть поистине жуткой. Наше положение вдобавок усугублялось тем обстоятельством, что мы пересекали полосу бурого железняка; по своему опыту я знал, что молнии часто бьют в этот камень, а фургон с волами будет для электрических вспышек желанной добычей. Пока я так размышлял, нас нагнал отряд кафров, которые улепетывали во все лопатки, несомненно спасаясь от непогоды. В основном это были молодые мужчины и женщины, щеголявшие пестротой одежд, — должно быть, они бежали со свадебного пира. Друг за другом кафры проносились мимо нас, и один, который, похоже, узнал меня — в чем не было ничего удивительного, поскольку в этой части Африки меня знали многие туземцы, — крикнул на бегу: — Поторопись, Макумазан, поторопись! — Он употребил прозвище, которым меня наделили зулусы. — Поспеши прочь, ибо здесь любят плясать молнии! — Он ткнул своим посохом сначала в сторону надвигающихся туч, а затем в землю, из которой торчала глыба железняка. Это наконец-то меня убедило. Я вернулся к фургону, велел вознице править туда, куда пойдет Ханс, а погонщику приказал подстегнуть волов. Сам же забрался внутрь, и мы покатили дальше, свернув налево, где находилась, как уверял готтентот, спасительная пещера. По счастью, земля под колесами была сравнительно ровной и жесткой, существенных препятствий на пути не встречалось, да и память Ханса не подвела, хотя он не был в этих краях много лет. Что ж, он не зря хвастался, что никогда не забывает мест, в которых ему довелось побывать хотя бы единожды. С облучка фургона, на который я перебрался, было видно, как Ханс наставляет возницу. Внезапно он замахал рукой вправо; я никак не мог взять в толк, что взбрело ему в голову: по мне, так вся местность выглядела совершенно одинаково. Но, когда мы подъехали ближе, я понял, что побудило Ханса свернуть: из-под земли бил ключ, и вода широко растекалась вокруг; кабы не предусмотрительность моего готтентота, мы бы наверняка увязли в этом болоте. Точно так же он заблаговременно предупреждал и об иных препятствиях, которые я не стану сейчас подробно описывать. К тому времени воздух уже словно застыл в неподвижности, сделалось неестественно тихо и так темно, что передняя пара волов казалась призрачными тенями; холод пробирал до костей. Молнии продолжали плясать на вершинах окрестных гор, однако гром по-прежнему не гремел. Было что-то пугающе-мистическое в таком поведении природы, и это ощущали даже животные: наши волы рвались из постромок и бежали очень резво, так что не было никакой необходимости понукать их и подбадривать хлыстом. Казалось, волы сообразили, что должны спастись от страшной угрозы. Хотя почему бы и нет? Наверняка они и вправду понимали это, ведь все живое обладает чутьем, которому безоговорочно повинуется. Что касается меня, то я буквально не находил места от беспокойства и молился про себя, чтобы мы поскорее добрались до пещеры. Чуть погодя мои молитвы стали еще более горячими, ибо надвигавшиеся с двух сторон тучи наконец встретились, и в тот миг, когда их кромки соприкоснулись, они вдруг окутались ярчайшим пламенем, — должно быть, это был грозовой разряд; пламя устремилось вниз и сотрясло землю поистине громовым ударом. Почва под ногами содрогнулась, а я всей душой пожелал очутиться где-нибудь подальше отсюда, потому что огненная стрела вонзилась в землю всего в каких-то пятидесяти ярдах от фургона, ровно в том месте, где мы находились лишь минуту назад. Одновременно прогремел чудовищной силы раскат грома, и стало понятно, что жуткие тучи нависают прямо над нашими головами. Но это было, так сказать, еще только начало бала, первые звуки музыки, заставшие танцоров врасплох. Затем представление развернулось во всей красе: яркие вспышки молний выступали в роли тех самых танцоров, а серый небосвод как бы превратился в пол залы, по которой они перемещались. Не скрою, чрезвычайно трудно описывать этакую, поистине дьявольскую, бурю. Друзья мои, поскольку вам и самим доводилось видеть подобное, вы хорошо знаете, что такие бури попросту невозможно описать словами. Молнии сверкали со всех сторон, вспышка следовала за вспышкой, и формы они обретали самые причудливые; мне особенно запомнилась одна, точно огненный венец на челе исполинской тучи. Кроме того, чудилось, что эти молнии не только падают с небес на землю, но и под непрерывные, непрекращающиеся раскаты грома тянутся с земли кнебесам. — Где твоя треклятая пещера?! — крикнул я Хансу, который взобрался на облучок фургона и уселся рядом со мной. Он прокричал в ответ что-то неразборчивое и ткнул пальцем в подножие склона, до которого оставалось не больше двух сотен ярдов. Перепуганные волы припустили со всех ног, фургон швыряло из стороны в сторону с такой силой, что мне стало казаться, будто он вот-вот перевернется; погонщик бросил поводья и бежал теперь рядом с волами, чтобы его не затоптали, направляя животных тычками, — откровенно говоря, это у него получалось плохо. Нам еще повезло, что в целом волы двигались в нужном направлении. Бешеная скачка продолжалась. Возница нещадно лупил животных хлыстом, стараясь привести их в чувство; по шевелению его губ я догадывался, что он бранится последними словами, на голландском и на зулусском, но до моих ушей не долетало ни звука. В конце концов волы вынуждены были остановиться у крутого склона; не в состоянии более нестись вперед, они сбились в кучу, перепутав все постромки. Такое часто случается с напуганными животными, и тогда их уже нипочем не заставишь тянуть поклажу. Мы попрыгали наземь и принялись освобождать волов от упряжи. Смею вас заверить, задачка была непростая: волы ухитрились накрепко сцепиться вместе, да еще вдобавок работать приходилось в буквальном смысле слова под огнем — молнии беспрестанно вонзались в землю вокруг нас. Казалось, что уж в следующий-то миг очередная молния непременно угодит в фургон и покончит с нами навсегда. Признаться, я и сам перепугался настолько, что мне отчаянно хотелось бросить волов на произвол судьбы и опрометью кинуться к пещере; останавливало лишь то, что никакой пещеры поблизости я не видел, сколько ни озирался. Впрочем, на выручку мне пришло уязвленное самолюбие: если я сейчас убегу, то как впредь смогу требовать от своих кафров, чтобы они стойко выдерживали тяготы пути? Сам ты можешь бояться сколько угодно, но никогда, никогда не выказывай свой страх перед туземцами, иначе лишишься всякого на них влияния. Ты перестанешь быть великим белым вождем, существом высшей крови и воспитания, станешь обычным человеком, таким же, как и они сами, если даже не хуже, коли туземцы окажутся не робкого десятка — а в этих краях большинство мужчин наделены немалой отвагой. Потому я притворился, будто не обращаю внимания на молнии, и даже не дернулся, когда одна поразила колючий куст не далее чем в тридцати шагах от меня. Мой взор был устремлен именно в ту сторону, и я увидел, как куст сей моментально воспламенился, как огонь охватил каждую его веточку. В следующее мгновение от растения осталась лишь горстка пыли; о том, что оно совсем недавно высилось над землей, напоминала лишь колючка, вонзившаяся в мою шляпу. Наравне с другими я пинал волов и пытался их растащить, хватался за постромки и тянул, распутывал, снова тянул, покуда в конце концов животные не очутились на свободе и не умчались прочь в направлении каменистого выступа, под которым — или, возможно, в каком-либо другом месте — они, следуя своему чутью, рассчитывали обрести укрытие. Последних двух волов, дышловых, освободить было труднее всего: они рвались на волю вслед за своими собратьями и не давали себя распутать, так что пришлось просто обрезать постромки, ибо снять оные не имелось ни малейшей возможности. Наконец эти двое поскакали вдогонку прочим, но далеко не убежали: на моих глазах оба вола, которых оставалось лишь пожалеть, упали на землю, словно сраженные выстрелом в сердце. Их настигла молния. Один вол замер в неподвижности; второй повалился на спину и недолго дрыгал копытами, но потом и он тоже успокоился и затих, подобно своему товарищу по несчастью.
— Интересно, что вы сказали в тот момент? — с задумчивым видом поинтересовался Гуд. — А что сказали бы на моем месте вы, Гуд? — сердито произнес Аллан. — Вообразите, что вы только что потеряли двух своих лучших волов, а новых купить не на что, ибо в карманах ни гроша. Хотя нет, пожалуй, не трудитесь отвечать, ибо нам всем прекрасно известно ваше пристрастие употреблять к месту и не к месту соленые словечки. — Я бы, наверное, сказал… — начал Гуд, явно обрадованный случаем поделиться с присутствующими сокровищами своего лексикона, однако Аллан прервал его решительным взмахом руки: — Знаю-знаю, вы бы помянули Iupiter Tonans[142]. И он продолжил свой рассказ:
— В общем, что именно я тогда сказал, разобрал, должно быть, лишь мой ангел-хранитель. А вот Ханс, похоже, догадался о моих чувствах, потому что крикнул: — Это могли быть и мы, баас! Когда небо сердится, оно всегда убивает. Уж лучше волы, баас, чем мы! — Где твоя пещера, болван?! — рявкнул я в ответ. — Хватит трепать языком! Веди нас в пещеру! Видишь, уже град начинается! Ханс ухмыльнулся и закивал, но тут большая градина ударила его по голове, и он резво помчался верх по склону горы, маня за собой остальных. Постепенно все добрались до каменной осыпи, по которой предстояло идти дальше, а мрак между тем с началом града сгустился настолько, что в промежутках между вспышками молний темнота была, как говорится, хоть глаз выколи. Ханс первым достиг здоровенного валуна на краю осыпи, нырнул в кусты поблизости и увлек меня за собой в щель между двумя камнями, которые образовывали этакие естественные ворота в неизвестность. — Вот это место, баас, — произнес он, вытирая кровь, что текла из ссадины, оставленной угодившей ему в голову градиной. В этот миг особенно яркая вспышка молнии позволила увидеть, что мы стоим у зева пещеры, размеры которой оценить не представлялось возможным. Впрочем, она была большой и просторной; об этом я догадался по эху, что пошло гулять под ее сводами после очередного раската грома, отражаясь от стен и спускаясь в неизведанные глубины в недрах горы.
Глава 2
РИСУНОК В ПЕЩЕРЕ
До пещеры мы добрались как раз вовремя: едва лишь мои кафры следом за нами проникли внутрь, как град снаружи зарядил всерьез — а вы, друзья мои, знаете или хотя бы слышали, каков бывает град в Африке, в особенности в Драконовых горах. Мне случалось видеть, как он, ничуть не хуже пуль из ружья, пробивает кровельное железо, и я нисколько не погрешу против истины, утверждая, что некоторые градины, падавшие с неба в тот день, пробили бы и два листа, сложенных вместе, поскольку своими размерами и зазубренными очертаниями они напоминали кремни. Окажись кто-либо в разгар той бури на открытой местности, не имея фургона, под который можно заползти, или хотя бы седла, которым можно укрыться, такой бедолага, я уверен, не вышел бы из этой передряги живым. Возница, проливавший горючие слезы по Капитану и Немцу, как звали двух погибших дышловых волов, почти обезумел от расстройства, поскольку думал, что град прикончит и прочих животных, и все рвался наружу, одержимый желанием спасти оставшихся волов и найти им хоть какое-то укрытие. Я велел ему не дурить и сидеть спокойно, ибо всем было понятно, что прямо сейчас мы ничего поделать все равно не можем. Ханс, который имел склонность впадать в чрезвычайную набожность, стоило только засверкать молниям, заметил глубокомысленно, что он, мол, не сомневается, что «Великий Великий» на небесах присмотрит за нашим скотом; ведь мой достопочтенный отец (который, собственно, и обратил Ханса в веру, точнее, в этакое смешение вер, заменявшее готтентоту истинное христианство) говорил, что весь скот, пасущийся на тысяче холмов, принадлежит Богу, а разве здесь, в Драконовых горах, мы не среди тысячи холмов? Возница-зулус, не приобщившийся к христианской вере и остававшийся закоренелым язычником, отвечал, что коли так, то почему, интересно, этот самый «Великий Великий» не уберег Капитана и Немца, хотя спасти их было вполне в Его силах. Затем, точно разъяренная женщина, очевидно стремясь облегчить душу, возница напустился на Ханса, обозвав того «желтокожим шакалом» и прибавив, что хвост распоследнего завалящего вола дороже готтентота со всеми его потрохами и что лучше бы градины пробили никчемную шкуру коротышки вместо шкур столь полезных животных. Эти грубые намеки на его внешность и происхождение немало разозлили Ханса, который оскалил зубы, точно свирепый пес, и ответил зулусу в подобающих выражениях, пройдясь, как говорится, по родословной нашего возницы и прежде всего вспомнив его матушку. Одним словом, если бы я не вмешался, перепалка переросла бы в потасовку, которая могла бы закончиться ударом дубины по голове или ножа в живот. Я быстро погасил страсти, пригрозив, что того, кто скажет еще хоть слово, тут же выкину из пещеры наружу, под град и молнии; мое вмешательство мгновенно успокоило забияк. Буря бушевала долго; в какой-то миг почудилось, что она слабеет, но затем стихия взъярилась заново: тучи бродили по кругу, как это порою случается, а когда град стих, ему на смену пришел проливной дождь. В результате к тому мгновению, когда наконец умолкли последние раскаты грома и эхо перестало гулять по окрестным склонам, уже почти стемнело, и всем стало ясно, что придется заночевать в пещере. Кафры, отважившиеся выбраться наружу на поиски волов, сообщили, что животных нигде не видно. Мысль о ночевке в пещере меня не прельщала, ибо там было очень холодно; однако фургон промок насквозь под ливнем, и спать в нем было попросту невозможно. Ханс снова поразил меня своей памятливостью. Прихватив спички, он скрылся в глубине пещеры, а потом вернулся, волоча за собой вязанку хвороста. Дрова оказались пыльными и изъеденными жучками, но это было сухое дерево, отлично подходившее для костра. — Где ты это взял? — спросил я. — Баас, — отвечал он, — когда я жил в этой пещере вместе с бушменами, еще задолго до того, как их безвестные отцы зачали вон тех черных юнцов, — (это оскорбление предназначалось погонщику и вознице, которых звали, соответственно, Индука и Мавун), — я припрятал в пещере большой запас хвороста на зиму. Он по-прежнему лежит там, где я его сложил, под камнями и в пыли. Так поступают муравьи, которые бегают по земле, баас, чтобы их детям хватило еды, если они сами погибнут. Велите этим кафрам помочь мне принести еще дров, и тогда у нас будет костер, чтобы согреться. Восхитившись тем даром предвидения, которым наделили маленького готтентота сотни поколений его предков, я поручил кафрам сопроводить Ханса за дровами, и они подчинились, пусть и не изъявили при этом особой радости. Очень скоро в пещере запылал костер. Потом мы стали готовить еду — этим утром мне посчастливилось подстрелить антилопу, чье мясо теперь поджарили на углях. В фургоне отыскалась бутылка скверфейса[143], так что вскоре мы наслаждались полноценным обедом. Знаю, многие неодобрительно относятся к угощению туземцев спиртным, но я давно усвоил, что, когда дикари замерзли и устали, глоток спиртного не причиняет им ни малейшего вреда, зато чудесным образом поднимает настроение. Оставалось лишь следить, чтобы Ханс не выпил лишнего, и потому я положил бутылку себе под голову, как подушку. Когда все насытились, я раскурил трубку и стал беседовать с Хансом: готтентот, которому спиртное развязало язык, проявлял любознательность. Он спросил меня, насколько стара пещера, где мы оказались, и я ответил, что она такая же древняя, как и сами Драконовы горы. Он сказал, что так и думал, потому что, если пройти дальше, на каменном полу ее есть следы, тоже окаменевшие, которые были оставлены какими-то неведомыми ему, Хансу, зверями; если интересно, он, дескать, покажет мне эти следы завтра утром. Еще дальше на полу пещеры валяются какие-то диковинные кости, конечно уже обратившиеся в камень, и наверняка, прибавил готтентот, они принадлежат великанам. Он не сомневался, что сумеет отыскать хотя бы часть костей, когда рано поутру солнце заглянет в пещеру. Тогда я пустился объяснять Хансу и кафрам, что давным-давно, тысячи тысяч лет назад, когда на свете еще не было ни единого человека, в нашем мире обитали гигантские существа, громадные слоны и рептилии размером с сотню крокодилов, если сложить их вместе. — А еще, — добавил я, — мне говорили, что в ту пору на свете жили исполинские обезьяны, крупнее любой гориллы. Мои слушатели заметно заинтересовались, а Ханс вдруг сказал, что, мол, насчет обезьян чистая правда, потому как он сам видел рисунок одной такой обезьяны — или великана, похожего на обезьяну. — Где именно? — уточнил я. — В книге? — Нет, баас, прямо тут, в пещере. Это один бушмен нарисовал, десять тысяч лет назад. — Разумеется, под этой цифрой Ханс подразумевал некое невообразимо далекое прошлое, а вовсе не конкретную дату. Мне сразу припомнилось мифическое существо Нголоко, будто бы обитающее в болотах на восточном берегу Африки: говорят, в нем не меньше восьми футов росту, оно покрыто серой шерстью, а вместо пальцев у него когти… Должен сразу предупредить, что лично я в это страшилище нисколько не верю: наверняка это всего лишь вымыслы туземцев. Мне о Нголоко поведал один полубезумный старик, охотник-португалец, с которым я когда-то был знаком и который клялся, будто своими глазами видел в грязи отпечатки лап чудовища; по словам португальца, зверь убил одного человека из его отряда и оторвал тому голову. Я рассказал эту историю Хансу и спросил, слышал ли он когда-нибудь про Нголоко. Готтентот ответил, что слышал, только вот звали его иначе (не Нголоко, а вроде бы Милхой), а потом прибавил, что чудовище, нарисованное на стене пещеры, намного больше. Я было решил, что он, по обыкновению туземцев, кормит меня байками, и заявил, что не поверю, покуда не увижу рисунок собственными глазами. — Надо подождать до утра, баас, чтобы солнце заглянуло в пещеру, — сказал Ханс, — и тогда баас все увидит. А сейчас толком не разглядеть, да к тому же негоже смотреть на чудище посреди ночи. — Покажи мне рисунок, — повторил я сурово. — Нам вполне хватит света от фонарей из фургона. Ханс неохотно подчинился и направился вглубь пещеры, а мы двинулись за ним и прошли шагов пятьдесят или около того. Готтентот нес один фонарь, в моей руке был другой, а зулусы следовали за нами, держа свечи. На стене, вдоль которой мы шли, было множество бушменских рисунков; попалась также пара резных изображений, оставленных этим диковинным народом. Некоторые рисунки выглядели вполне свежими, тогда как другие выцвели: то ли от старости, то ли охра, которой пользовались художники, высохла и отвалилась. Сюжеты картин были весьма распространенными: дикари с луками охотятся на антилоп и прочих животных; слоны идут на водопой; лев бросается на нескольких копейщиков. Один рисунок, сохранившийся удивительно хорошо, пожалуй лучше всех прочих, взволновал меня чрезвычайно. На нем были запечатлены белолицые мужчины, чью одежду составляло некое подобие доспехов; на головах у них были странные шапки со свисающим вперед верхом — колпаки такого рода, если меня не подводит память, принято называть фригийскими. Эти люди нападали на туземный крааль, о чем однозначно свидетельствовали круглые хижины, огороженные забором из тростника. А в левом углу картины несколько белолицых мужчин волокли женщин в сторону, как я понял, моря (его изображала череда волнистых линий). Я смотрел на рисунок вне себя от восторга, ибо предо мной, очевидно, было изображение финикийцев, совершающих очередной грабительский набег; таково уж, если верить древним авторам, было их обыкновение. Коли моя догадка верна, значит картина сия принадлежала кисти бушмена, который жил самое малое две тысячи лет назад, а возможно, и в еще более давние времена. Поистине удивительно! Однако Ханс нисколько не заинтересовался этим рисунком; он упрямо шагал дальше с видом человека, вынужденного выполнять противное его сердцу поручение, и я поспешил за готтентотом, опасаясь заблудиться во мраке этой обширной пещеры. Вот Ханс остановился возле трещины в стене. Пожалуй, я бы прошел мимо этой трещины, ничего не заметив, поскольку она абсолютно не выделялась среди множества прочих. — Мы пришли, баас. Здесь все как было. Теперь ступайте за мной и смотрите под ноги — тут много ям. Я протиснулся в щель, и должен сказать, что, хотя сам я не вышел ни ростом, ни статью, для меня там едва хватило места, чтобы продвинуться вперед. Щель выводила в узкий туннель, то ли прорытый водой, то ли пробитый сотни тысяч лет назад взрывом природного газа. Думаю, верно последнее предположение, поскольку свод туннеля, до которого от пола было от силы футов восемь или девять, пестрел острыми выступами, а вода их наверняка бы сгладила. Впрочем, у меня нет ни малейшего представления о том, каким образом возникли сии громадные африканские пещеры, поэтому научную дискуссию мы сейчас открывать не будем. Пол под ногами, вопреки предостережениям Ханса, оказался гладким, словно его из поколения в поколение истаптывало множество ног; уверен, что так оно и было на самом деле. Мы преодолели с дюжину футов, продвигаясь по этому туннелю, и внезапно Ханс велел мне замереть в неподвижности и не идти дальше ни при каких обстоятельствах. Я послушался, гадая, что это вдруг на него нашло, и разглядел, как готтентот поднимает свой фонарь, который висел на подвязке из шкуры — это очень удобно, когда передвигаешься в фургоне, — и надевает эту подвязку себе на шею таким образом, чтобы светильник оказался сзади. Потом он прижался лицом к стене пещеры, будто не желая видеть, что происходит у него за спиной, и осторожно, мелкими шажками, двинулся вперед, хватаясь то одной, то другой рукой за каменные выступы. Через двадцать или тридцать футов пути Ханс бросил изображать краба, обернулся ко мне и сказал: — Баас должен делать в точности, как я. — Почему? — Поднимите фонарь, баас, и увидите. Я так и поступил — и узрел впереди, всего в шаге или двух от себя, огромный провал в полу туннеля, настоящую пропасть, дна которой при свете фонаря было не различить. Еще я заметил, что каменный уступ вдоль стены пещеры, по которому Ханс прошел, как по мосту, имел в ширину не больше дюжины дюймов, а кое-где, похоже, сужался вполовину. — Там глубоко? — уточнил я. Вместо ответа Ханс подобрал из-под ног камень и кинул его в пропасть. Я прислушался: прошло очень много времени, прежде чем снизу донесся негромкий стук. — Я ведь говорил баасу, — произнес Ханс наставительно, — что лучше обождать до утра, когда хоть какой-то свет проникнет в эту дыру, но баас не захотел меня слушать. Ему, конечно, лучше знать. Но теперь-то баас согласится, что сейчас разумнее всего будет пойти спать и вернуться сюда утром? Не стану лукавить, друзья, сердце убеждало меня последовать этому мудрому совету, ибо место, где мы очутились, внушало настоящий ужас. Но я настолько разозлился на Ханса за его насмешки, что твердо решил: пускай я сломаю себе шею, но не доставлю готтентоту удовольствия наблюдать, как белый человек отступает, убоявшись трудностей. — Нет, — сказал я ровным голосом, — я пойду спать, только когда увижу твою картину, ни мгновением раньше. Ханс мигом посерьезнел и принялся умолять меня ни в коем случае не пытаться перебраться через пропасть; его слова заставили меня вспомнить библейскую притчу об Аврааме и Дивее, причем сам я казался себе Дивеем, разве что меня не мучила жажда, тогда как Ханс никоим образом не походил на Авраама[144]. — Теперь я все понял, — сказал я. — Никакого рисунка нет и в помине, ты просто придумал разыграть меня при помощи своих обезьяньих ужимок. Так или иначе, я иду к тебе. Если выяснится, что ты меня обманывал, не обессудь, приятель, — тебе не поздоровится. — Рисунок был там во времена моей юности, — отвечал Ханс угрюмо, — а что до всего остального, то баасу лучше знать. Если он переломает себе все косточки, свалившись в пропасть, то пусть потом не винит меня. Надеюсь, баас расскажет на небе своему достопочтенному отцу, который препоручил его моим заботам, что Ханс просил бааса не ходить, а он, из-за своего дурного норова, не пожелал меня слушать. Раз уж баас решил идти, пусть разуется, ибо от ног бушменов, чьи призраки так и вьются вокруг нас, уступ сделался очень скользким. Я молча сел и снял башмаки, думая, что с радостью отдал бы все свои накопления в банке Дурбана, только бы избежать предстоящего испытания. Ну что за глупая штука эта гордыня белого человека, в особенности если в нем течет кровь англосаксов! В риске сейчас не было ровным счетом никакой необходимости, однако, стремясь избежать со стороны Ханса и моих кафров насмешек и шепотков за спиной, я, ведомый этой самой гордыней, вознамерился лезть не пойми куда. В глубине души я проклинал все подряд: Ханса, пещеру, пропасть, неведомый рисунок, ту бурю, которая загнала меня сюда, и прочее, что только приходило на ум. Затем, поскольку на моем фонаре, в отличие от фонаря Ханса, подвязки не было, я взял железное кольцо в зубы (ничего другого просто не оставалось, пускай светильник и источал омерзительный смрад), вознес молчаливую прочувствованную молитву — и двинулся вперед с видом человека, которому нравятся этакого рода развлечения. Сказать по правде, я мало что помню из того своего путешествия, кроме ощущения, что оно заняло добрых три часа, хотя в действительности длилось около минуты. Вслед неслись причитания и вопли зулусов, которые сочли своим долгом попрощаться со мной, когда я двинулся в путь; всячески выражая любовь и почтение, они именовали меня отцом, матерью и всеми своими предками до четвертого колена сразу. Каким-то чудом, сам не ведаю как, я разместился на этом треклятом уступе, вжался животом в стену и прильнул к ней, словно приклеился. Руки цеплялись за выступы столь яростно, что я сломал два ногтя. Коротко говоря, я справился, хотя ближе к концу пути одна нога у меня соскользнула; я раскрыл рот, чтобы высказаться и облегчить душу, и — чего и следовало ожидать — фонарь выпал и улетел в пропасть, прихватив с собою мой давно уже шатавшийся передний зуб. Ханс вовремя вытянул свою костлявую руку, намереваясь схватить меня за ворот куртки, однако промахнулся и вместо того вцепился в мое левое ухо. С этой чрезвычайно болезненной поддержкой я добрался до другого края пропасти, где и принялся поносить готтентота на чем свет стоит. Пожалуй, кое-кто счел бы меня невоздержанным на язык, но Ханс ничуть не обиделся, донельзя обрадованный тем, что я благополучно совершил переход. — Да пропади он пропадом, этот зуб, баас! — воскликнул готтентот. — Зато теперь, когда ваш зуб сгинул, вы снова сможете есть сухари и жесткий билтонг, от которых отказывались много месяцев подряд. Вот фонарь, конечно, жалко, но, надеюсь, удастся купить новый — в Претории или там, куда мы отправимся. Я перевел дух и осторожно заглянул в пропасть. На ее дне, далеко-далеко внизу, я разглядел свой масляный фонарь, освещавший нечто белое: емкость разбилась, жидкость разлилась, и пламя плясало на широкой площадке. — Что это там белеет? — спросил я. — Известняк, что ли? — Нет, баас, это переломанные кости людей. Когда я был молодым, бушмены спустили меня вниз на веревке, сплетенной из тростника и шкур животных. Мне было любопытно, баас, я захотел осмотреться. Под этой пещерой есть другая, но в нее я не полез, баас, потому что испугался. — А откуда там взялись все эти кости, Ханс? Похоже, их внизу сотни! — Так и есть, баас, многие сотни костей, и все они попадали туда вот этим путем. Бушмены жили в пещере с начала времен и устроили здесь ловушку: набросали на дыру веток и засыпали сверху пылью, чтобы издали походило на камень. Прямо как ловушка на зверя, баас. Бушмены делали так сотни лет подряд, покуда последний из них не был убит бурами и зулусами, чьих овец и лошадей они воровали. Когда на них нападали враги, что бывало часто, и бушменов убивали, потому что так принято, — так вот, когда нападали враги, они бежали в пещеру и прокрадывались по этому выступу над пропастью, по которому могли пройти даже с завязанными глазами. А глупые кафры или иные недруги бежали следом, чтобы убить бушменов, наступали на ветки и падали вниз. Да, баас, подобное наверняка случалось часто, ведь там внизу множество черепов, среди которых немало таких, что почернели от старости и обратились в камень. — Неужто кафры так и не поумнели за все минувшие годы, Ханс? — Может, в чем-то они и поумнели, баас, но мертвые хранят свою мудрость при себе. А еще, по-моему, когда все враги втискивались в этот проход, другие бушмены, которые прятались в пещере, подбегали сзади, расстреливали неприятелей отравленными стрелами и сталкивали вниз, а уж оттуда никто не возвращался живым. Бушмены говорили мне, что все это придумали отцы их отцов. Если кому из врагов и удавалось сбежать, то за поколение-другое все забывалось и побоище случалось снова. Сами знаете, баас, на свете хватает глупцов, и тот глупец, который приходит потом, ничуть не умнее того, что приходил перед ним. Смерть проливает на песок воду мудрости, баас, а песок жаден до воды и очень быстро опять высыхает. Будь иначе, баас, мужчины давно бы уже перестали влюбляться в женщин, но даже великие люди вроде вас, баас, по-прежнему влюбляются. Одарив меня этим образчиком красноречия, Ханс, дабы не дать собеседнику возможности ответить, стал перекрикиваться с возницей и погонщиком, которые остались на другом краю пропасти. — Поспешите, храбрые зулусы, мы вас заждались! — потешался он. — Ваш вождь устал ждать, и я тоже! Зулусы, державшие свечи в вытянутых вперед руках, боязливо заглянули в пропасть. — Оу! — вскричал один из них. — Разве мы летучие мыши, чтобы перелететь через этакую яму? Или бабуины, чтобы лезть по уступу шириной не толще лезвия копья? Или мухи, чтобы ходить по стенам? Оу! Нет, мы не пойдем туда, мы будем ждать здесь. Этот путь лишь для желтокожих обезьян вроде тебя и для тех, кто обладает великой магией белых, как инкози Макумазан. — Верно, — произнес Ханс рассудительно. — Вы не летучие мыши, не бабуины и не мухи, ибо все эти твари храбры, каждая по-своему. Нет, вы всего лишь двое низкорожденных кафров, просто куски черной кожи, которую надули, чтобы она походила на живых людей. Я, желтокожий шакал, перешел на другую сторону, и баас тоже перебрался через пропасть, а вы, дутые пузыри, не способны даже перелететь через нее, потому что боитесь лопнуть на полпути. Ладно, глупые пузыри, топайте обратно к фургону и принесите моток веревки, который лежит внутри. Она может нам понадобиться. Один из зулусов угрюмо проворчал, что, дескать, им не пристало выполнять распоряжения готтентота, на что я громко произнес: — Ступайте за веревкой и возвращайтесь немедля! Зулусы удалились с видом побитых собак — язвительные насмешки Ханса, очевидно, достигли цели, и им в очередной раз стало понятно, что этот коротышка неизменно побеждает в любом споре. На самом-то деле они не были обделены мужеством, однако никто из зулусов не чувствует себя свободно под землей, особенно в темном месте, населенном, как туземцы полагают, призраками. — А теперь, баас, — сказал Ханс, — мы идем смотреть на рисунок. Но если баас до сих пор сомневается в моих словах и думает, что никакого рисунка нет и в помине, то в этом случае нет нужды куда-либо идти: лучше посидеть здесь и полечить обломанные ногти, покуда Мавун и Индука не вернутся с веревкой. — Хватит уже! Уймись, ты, злобная мартышка! — вскричал я, утомленный его непрестанными насмешками, и подкрепил свои слова увесистым пинком. Это мое действие оказалось ошибочным, поскольку я совсем забыл, что оставил свои башмаки по другую сторону пропасти. Либо Ханс таскал в задней части своих грязных штанов множество твердых предметов, либо седалище его от природы обладало твердостью камня, но только я изрядно отшиб себе пальцы ног, а негодяй-готтентот при этом нисколько не пострадал. — Ах, — проговорил Ханс с умильной улыбкой, — баас должен помнить, чему учил меня достопочтенный отец бааса: всегда надевай башмаки, прежде чем пнуть куст с колючками. В моем заднем кармане, баас, лежат шило и несколько гвоздей, ведь я с утра чинил вашу шкатулку. Едва договорив, он стремглав понесся вперед, чтобы не испытывать судьбу: а вдруг мне вздумается проверить, найдутся ли гвозди у него в волосах. А поскольку наш единственный фонарь был в руках слуги, мне волей-неволей пришлось ковылять — точнее, скакать на одной ноге — следом за ним. Туннель, пол которого, истоптанный тысячами ног давно упокоившихся мертвецов, оставался все таким же гладким, вел прямо на протяжении восьми или десяти футов, а потом свернул вправо. Когда мы добрались до поворота, я различил впереди проблеск света и ломал голову, пытаясь понять, откуда тот может идти, пока не очутился на дне огромной ямы — воронки, что достигала в поперечнике, должно быть, трех десятков футов; она начиналась от того места, где мы стояли, и тянулась вверх, до самого склона горы, футах в восьмидесяти или даже в ста над нами. Не могу сказать, каким образом яма сия образовалась, но по форме она в точности соответствовала той воронке, которую используют, когда переливают пиво в бочонки или портвейн в кувшин. Разумеется, мы с Хансом находились в самом узком ее конце. Свет, который я различил еще в туннеле, лился с неба, каковое, поскольку буря миновала, очистилось и выглядело свежевымытым и прекрасным. Ярко сверкали звезды, правда луну, что едва пошла на убыль, на мгновение заслонила плотная черная туча, этакий обрывок унесшейся бури. На некотором расстоянии — думаю, не более двадцати пяти футов в высоту — стены были почти отвесными, а дальше они устремлялись, расходясь все шире, к горловине, нет, к раструбу гигантской воронки на горном склоне. Мне бросилась в глаза и другая особенность: на западной стороне воронки, к которой, так уж вышло, были обращены наши лица, прямо там, где стены начинали расширяться, выдавался вперед каменный выступ, точно крыша какого-то навеса. И выступ этот пересекал всю западную сторону воронки. — Ну, Ханс, — сказал я, внимательно изучив эту любопытную загадку природы, — и где же твой рисунок? Что-то я его не вижу. — Wacht een beetje. Потерпите чуток, баас. Видите, луна пытается выйти из-за тучи? Когда она выглянет, все будет видно, если только никто не стер рисунок с тех пор, как я был молод. Я вскинул голову, чтобы понаблюдать за движением тучи и насладиться зрелищем, которое никогда не переставало меня восхищать, а именно — за появлением великолепной африканской луны, что вырывается на свободу из тайных чертогов мрака. Серебристые лучи ее уже падали на бескрайнюю небесную твердь, заставляя звезды меркнуть. Внезапно из мрака выступил лунный обод; прямо на глазах он становился все шире и ярче, и наконец чудесный светящийся шар возник из белесой пелены и на мгновение как будто застыл рядом с тучей, восхитительный в своем совершенстве! В тот же миг наша воронка оказалась залитой светом, да таким ярким, что я, пожалуй, без труда смог бы что-нибудь прочитать. На некоторое время я замер, зачарованный этой несказанной красотой, и забыл обо всем на свете. К действительности меня вернул хриплый смешок Ханса. — Теперь обернитесь, баас. Вот тот красивый рисунок, что вы мечтали увидеть. Я обернулся и проследил взглядом направление его вытянутой руки: готтентот указывал на восточную сторону воронки. В следующий миг — клянусь, я нисколько не преувеличиваю! — я пошатнулся и едва устоял на ногах. Скажите, друзья мои, доводилось ли вам когда-нибудь видеть в ночных кошмарах, будто вы попали в преисподнюю и повстречались с самим Сатаною, так сказать, тет-а-тет, ощутив, что он огромен, а вы — крошечные козявки? Лично мне такое однажды приснилось. А в ту ночь передо мной, будто наяву, возник дьявол из сновидений, гораздо более ужасный, чем способна вообразить даже самая буйная, воспламененная безумием фантазия! Представьте себе чудище вдвое выше человеческого роста (футов одиннадцать-двенадцать, никак не меньше), изображенное с редчайшим мастерством теми самыми охряными красками, тайну которых бушмены столь ревностно хранят: белой, красной, черной, желтой… Глаза этого чудища, похоже, были изготовлены из обработанных кусков горного хрусталя. Вообразите себе громаднейшую обезьяну, рядом с которой самая крупная на свете горилла покажется младенцем. И все же это была не обезьяна, а человек — нет, даже не человек, а человекообразное чудище. Оно все было покрыто шерстью, словно обезьяна, длинной серой шерстью, которая росла клочьями. У чудища имелась густая рыжая борода, совсем как у человека; его конечности поражали воображение — руки отличались неимоверной длиной, словно лапы у гориллы, но, прошу это запомнить, пальцев на них не было, только огромные когти на тех местах, где следовало находиться большому пальцу. Остаток кисти представлял собой плотно сросшийся кулак, напоминавший утиную лапу, а кожа там, где полагалось быть пальцам, могла совершать хватательные движения — это я выяснил уже впоследствии. Хотя по рисунку о подобном тоже можно было догадаться; правда, позднее мне пришло на ум, что неведомый художник мог изобразить существо в перчатках без пальцев, какие используют в тех краях, когда стригут изгороди. Ноги чудовища, явно не знакомые с обувью, отличались той же особенностью: никаких пальцев, лишь на месте большого — устрашающего вида коготь. Крепкая фигура производила внушительное впечатление; если это существо рисовали, так сказать, с натуры, то оно должно было весить, по моим прикидкам, не менее тридцати стоунов[145]. Грудь широкая, выдающая немалую силу; живот выпуклый и весь почему-то в складках. А вот чресла твари — и эта черта тоже заставляла заподозрить в чудовище человека — были обернуты набедренной повязкой, точнее, несколькими шкурами, связанными в единое целое, благодаря чему казалось, что страшилище носит одежду. Насчет тела сказано достаточно; перейду теперь к описанию головы и лица. Честно говоря, я затрудняюсь подобрать нужные слова, но все же попробую. Шея чудовища была толстой, как у быка, а венчала ее непропорционально крохотная головка. И что поразительно: несмотря на густую рыжую бороду, о каковой я уже упоминал, большой рот и выступающую вперед верхнюю губу, из-под которой торчали желтоватые клыки, как у бабуинов, головка сия казалась почти женственной, словно на стене воронки пытались изобразить старую дьяволицу с крючковатым носом. Лоб понуждал усомниться в мастерстве художника, ибо разительно отличался от всего прочего: выступающий вперед, массивный — чудовище явно не было обременено интеллектом. Из-подо лба, глубоко посаженные и разнесенные противоестественно широко, взирали страшные светящиеся глаза. Но и это еще было не все. Казалось, что тварь сия злобно хохочет, и рисунок объяснял, чем вызван этот жестокий смех. Одна нога чудища попирала человеческое тело, грозный коготь вонзился глубоко в грудь жертвы. Рука стискивала голову несчастного, по всей видимости только что оторванную от тела. Другой рукой страшилище держало за волосы обнаженную девушку, еще живую; ее фигуру художник-бушмен прорисовал словно наспех, столь небрежно, как если бы это была сущая мелочь. — Ну что, разве не красивый рисунок, а, баас? — ехидно спросил Ханс. — Теперь баас уже не станет говорить, будто я лгу, да? О, он целую неделю не будет так говорить.Глава 3
ОТКРЫВАТЕЛЬ ДОРОГ
Я смотрел и смотрел на картину, не в силах отвести взгляд, а потом ноги мои подкосились и я опустился наземь. Вижу, вы посмеиваетесь, молодой человек[146], поскольку явно вообразили, что рисунок сей был творением рук какого-то бушменского художника, который вдруг лишился рассудка и украсил скалу этим дьявольским порождением воспаленного ума. Что ж, я и сам пришел к такому же заключению на следующее утро, однако в те мгновения, когда я разглядывал изображение, подобные мысли меня не посещали. Место, где мы находились, внушало ужас и тоску: мрачное, жуткое, а уж если вспомнить, что совсем рядом находилась пропасть, полная человеческих костей… Было очень тихо, разве что откуда-то доносился приглушенный расстоянием вой какого-то зверя — не то шакала, не то гиены, — который выл на луну. За минувший день на мою долю выпало немало испытаний: чего стоило хотя бы задача пересечь пропасть по узенькому мосточку, — кстати, пропасть эта напомнила мне темницы старинных норманнских замков, куда, как я читал, узников сбрасывали, точно в бездонные ямы. Кроме того, друзья мои, все вы, полагаю, успели заметить, хоть и прожили на свете меньше моего, что при лунном свете все выглядит совершенно иначе, нежели при солнечном. Не удивительно, что многие люди, которые днем ведут себя мужественно, в ночи подвержены приступам страха. Так или иначе, я сел на землю, ибо ощутил слабость в ногах, и мне почудилось, будто по телу разливается болезненная истома. — Что такое, баас? — не преминул язвительно спросить наблюдательный Ханс. — Если бааса тошнит, пусть не стесняется, я повернусь к нему спиной. Помню, меня тоже затошнило, когда я впервые увидел этого Хоу-Хоу, прямо вот тут. — И готтентот ткнул пальцем в каменный пол. — Почему ты именуешь эту тварь Хоу-Хоу, Ханс? — справился я, стараясь усилием воли обуздать свои бунтующие внутренности. — Потому что это и впрямь его имя, баас. Так звала чудовище его мамочка, когда оно было маленьким. (Меня и вправду едва не стошнило при мысли, что у этого существа могла быть мать; так содержимое желудка начинает рваться на волю, когда во время сильной качки на море видишь перед собой кусок жирного бекона и обоняешь его.) — Откуда это тебе известно, Ханс? — Бушмены рассказали мне, баас. Они говорили, что их предки, еще тысячи лет назад, встречались с этим Хоу-Хоу. Дело было далеко отсюда, и бедняги в ужасе бежали из тех краев, потому что не могли спокойно спать по ночам, как бывает с бурами, баас, когда другие буры приходят и строят себе дом в шести милях от них. По-моему, они даже слыхали, как этот Хоу-Хоу говорил. Помнится, бушмены рассказывали, будто их далекие-далекие предки видели, как чудище разевало пасть и колотило себя по груди. Вот только, баас, сдается мне, что эти люди врали: вряд ли они могли и впрямь что-то знать о Хоу-Хоу и о том, кто нарисовал эту тварь на скале. — Пожалуй, тут я с тобой соглашусь, — ответил я. — Что ж, Ханс, на сегодня с меня достаточно: мы полюбовались на твоего приятеля Хоу-Хоу, а теперь пора отправляться спать. — Конечно, баас, как скажете. Но прошу, взгляните на него еще раз перед уходом. Такие рисунки видишь не каждый день, а баас просто мечтал на него посмотреть. Признаться, я бы охотно пнул Ханса снова, однако память о гвоздях в кармане его штанов была еще свежа. Поэтому я ограничился выразительным взглядом, после чего поднялся и взмахом руки велел готтентоту вести меня обратно. Так мы расстались с Хоу-Хоу — или с Вельзевулом, называйте его как угодно. Поначалу я намеревался вернуться к воронке при свете дня, чтобы тщательно изучить рисунок, однако поутру решил, что не отважусь снова перебираться через пропасть по узкому выступу, так что, пожалуй, с меня вполне достаточно первого впечатления. Ведь недаром говорят, что первое впечатление самое яркое, вроде первого поцелуя (это уже Ханс подсказал, когда я впоследствии поделился с ним своими мыслями). Разумеется, забыть Хоу-Хоу было попросту невозможно; более того, я нисколько не преувеличу, если признаюсь, что с тех пор это дьявольское отродье стало меня преследовать. Сколько я ни старался, однако не мог убедить себя в том, что портрет на скале — лишь плод извращенного воображения дикарей. По сотне признаков, каковые казались мне неоспоримыми (ошибочно, как я ныне убежден), я счел этот портрет произведением бушменского искусства, хотя и был уверен, что ни один бушмен, даже одержимый горячкой — к слову, на помутнение рассудка дикари никогда не жаловались, поскольку общепризнанно, что их сознание к тому не приспособлено, — так вот, ни один бушмен не мог бы извлечь такую омерзительную тварь из недр собственной души (если даже допустить, что у бушменов есть душа). Нет, кем бы ни был сей неизвестный художник, он явно рисовал на скале то, что видел на самом деле — или думал, будто видел. К такому выводу меня подталкивало несколько особенностей портрета. Так, скажем, правый локоть у Хоу-Хоу заметно распух, как если бы чудище сильно ударилось обо что-то. Кроме того, коготь на одной из жутких лап — если не ошибаюсь, на левой — был сломан и расщепился на кончике. На лбу виднелась то ли бородавка, то ли прыщ, а прямо над ней — пучок длинных серо-стальных волос, которые свисали по обе стороны демонического лица, наделенного женственными чертами. Должно быть, неведомый художник запомнил все эти подробности и старательно воспроизвел на портрете то, что видел своими глазами. Вряд ли, думалось мне, он мог нафантазировать такие детали. Но кто, интересно, послужил ему моделью? Я уже упоминал, друзья мои, что мне доводилось слышать о существах, прозываемых Нголоко, и я полагал, что твари сии, если только они не выдуманы, относятся к разряду особо злобных исполинских обезьян невесть какой породы. Коли так, Хоу-Хоу вполне мог оказаться наиболее выдающимся образчиком этих обезьян. Впрочем, подобное представлялось мне самому маловероятным, поскольку в этом чудище было намного больше от человека, нежели от обезьяны, несмотря на то что на руках и ногах у него вместо пальцев имелись огромные когти. Хотя нет, правильнее всего сказать, что в этом существе было больше всего не от человека и не от зверя, а от дьявола. Потом меня посетила другая мысль: возможно, Хоу-Хоу — это божество, которому поклонялись бушмены? Вот только я никогда не слыхал, чтобы они почитали какое-либо божество (за исключением собственных желудков). Позднее я поделился своей догадкой с Хансом, но готтентот ответил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть ее, поскольку бушмены, с которыми он жил в пещере, на сей счет не распространялись. В то место, где находился рисунок, они по доброй воле не ходили, но убегали туда, лишь спасаясь от врагов, а когда им случалось там укрываться, старались не смотреть на портрет и не говорить о нем без крайней необходимости. Быть может, предположил Ханс, в очередной раз продемонстрировав свою смекалку, Хоу-Хоу был богом какого-то иного народа, с которым бушмены не имели ничего общего. Оставалось загадкой и то, когда именно был нарисован сей жуткий портрет. Конечно, в этом уединенном месте, куда крайне редко проникали солнечные лучи икапли дождя, краски могли сохранять первоначальную яркость довольно долго; однако, судя по всему, изображение на скале появилось очень давно. По словам Ханса, бушмены уверяли, что не знают, кто нарисовал чудище и кого на самом деле запечатлели на портрете, но неизменно прибавляли, что он «очень-очень старый», — а это могло означать что угодно (или вообще ничего, ибо людям, не знакомым с письмом, события, случившиеся пять-шесть поколений тому назад, кажутся седой древностью). Так или иначе, не приходилось сомневаться в древности другого рисунка из пещеры, того самого, на котором финикийцы грабили туземный крааль; это изображение вряд ли могло появиться после рождения Христа. В этом я совершенно уверен, поскольку внимательно изучил картину на следующее утро и убедился, что и там тоже краски ничуть не выцвели. Кстати, скала с портретом чудовища слегка осыпалась, прямо над левым коленом Хоу-Хоу, и я сразу отметил, что камень на месте скола выглядит столь же выветренным, как и стены воронки, свободные от изображений. С другой стороны, следовало помнить, что рисунок, сюжетом для которого послужил набег финикийцев, пребывал в укрытии, тогда как портрет Хоу-Хоу был подвержен воздействию воздуха, а потому теоретически ему надлежало стариться быстрее. В ту ночь, друзья мои, меня неотступно преследовал этот треклятый Хоу-Хоу: мне снилось, будто он ожил и требует, дабы я сразился с ним; мне также грезилось, что некая женщина — именно женщина, а не мужчина — зовет на помощь, умоляя освободить ее от власти чудовища. Далее я увидел во сне, что вступаю в схватку с великаном и он, повергнув меня навзничь, готовится оторвать мне голову, как тому человеку на рисунке. А потом произошло нечто ужасное — что конкретно, не могу припомнить, — и я проснулся в холодном поту, весь дрожа от страха.Когда по милости непогоды и Ханса мы очутились в той пещере, я находился неподалеку от границы страны зулусов. Мой фургон был битком набит одеялами, бусами, железными котелками, ножами, мотыгами и прочими предметами, которые столь ценят — во всяком случае, ценили в те дни — простодушные дикари и которыми мы расплачивались с ними за скот. Прежде чем на нас обрушилась буря, я размышлял, не обойти ли мне земли зулусов стороной, подавшись в неизведанные края к северу от Претории, где обитали менее искушенные дикари, которые могли предложить за мои товары более высокую цену. Однако, познакомившись с Хоу-Хоу, я изменил свои намерения, и тому было две причины. Во-первых, молния прикончила пару наших лучших волов, и я рассчитывал, что смогу найти им замену в стране зулусов, причем не тратя лишних денег, поскольку среди местных жителей имелись мои должники. Во-вторых, я хотел избавиться от одержимости этим гнусным, отвратительным Хоу-Хоу. Я знал наверняка, что лишь один-единственный человек на свете способен рассказать мне правду об этом чудовище, если допустить, что вообще найдется о чем рассказывать. Иными словами, я собирался разыскать старого Зикали, колдуна из Черного ущелья, Того, кому не следовало родиться, как именовал его Чака, великий правитель зулусов. Сдается мне, друзья мои, будто бы я уже рассказывал вам об этом Зикали, но если вдруг нет, то скажу, что он считался в стране зулусов величайшим колдуном, самым грозным и могущественным среди всех. Никто не ведал, когда он родился и сколько ему лет, но этот тип был очень стар и на протяжении нескольких поколений славился как Открыватель дорог — такое прозвище дали ему туземцы. Зулусы его боялись, а мы с ним, еще со времен моей юности, можно сказать, дружили, хотя, конечно, я с самого начала подозревал, что Зикали использует меня для достижения собственных целей, что в конечном счете и подтвердилось, еще до того, как он восторжествовал и низверг королевский род зулусов, который ненавидел всем сердцем. Следует отдать Зикали должное: он был мудр и щедро платил тем, кто верно ему служил, звонкой монетой или иными способами, точно так же, как всегда разделывался с теми, на кого была обращена его ненависть. Со мной он расплачивался сведениями, будь то некие исторические подробности или какие-либо тайные знания об Африке; ведь согласитесь, что мы, белые, несмотря на все наше образование, мало что смыслим в том, как устроена жизнь на Черном континенте. Если кто и способен поведать, откуда взялся портрет в пещере и кто там изображен, решил я, то только Зикали, а потому отправился прямиком к старому колдуну. Вы уже неоднократно имели возможность убедиться, друзья мои, что любознательность в подобных вопросах была и остается одним из моих неизбывных грехов.
С немалым трудом нам удалось отыскать четырнадцать уцелевших волов, ибо некоторые животные убежали очень далеко, спасаясь от бури. Но в конце концов мы собрали всех и удостоверились, что волы ничуть не пострадали, не считая ушибов от градин. Позволю себе заметить, что поистине достойно изумления, сколь умело скот, оставленный без присмотра, защищает себя от буйства стихии. Надо сказать, что в Африке, в отличие от Англии, животные редко укрываются в грозу под деревьями; возможно, происходит это потому, что грозы здесь бывают часто и волы унаследовали от своих предков инстинктивное знание о том, что молнии поражают деревья и убивают всех, кто под ними прячется. Во всяком случае, таково мое мнение, почерпнутое из опыта практических наблюдений. Итак, мы запрягли волов и покатили прочь от приснопамятной пещеры. К слову, много лет спустя, когда Ханс давно уже отошел в мир иной, я попытался снова ее найти, но потерпел неудачу. Я думал, что вышел в точности на тот же горный склон, но, по всей видимости, ошибся, ибо в тех местах полным-полно одинаковых склонов; как бы то ни было, я не сумел отыскать пещеру, сколько ни рыскал по округе. Быть может, причина в том, что случился оползень и, учитывая, сколь узкой была горловина воронки, сквозь которую лунный свет падал на портрет Хоу-Хоу, груда камней попросту завалила входное отверстие. Либо же я и вправду перепутал склон, поскольку не позаботился точно определить наше местонахождение, когда мы торопились убежать от бури. Вдобавок в тот день, когда судьба снова привела меня в те края, я спешил по делам и желал достичь промежуточного пункта назначения еще до наступления ночи, поэтому выделил себе на поиски всего лишь один час; когда тот истек, я немедленно двинулся дальше. За все годы странствий, кстати, мне ни разу не встретился другой человек, побывавший в этой пещере, и потому напрашивается вывод, что она была известна только бушменам и Хансу, а они, увы, все мертвы. Остается лишь сожалеть о тех замечательных картинах, которые теперь утрачены навеки. Если помните, я говорил, что перед бурей нас обогнала группа кафров, возвращавшихся с какого-то туземного торжества. Проехав примерно с полмили, мы наткнулись на одного из них, вернее, на его тело, бездыханное и уже остывшее; погиб ли этот юноша — на вид бедняга был совсем молоденький — от удара молнии или от града, определить было невозможно. Его товарищи, по всей видимости, настолько перепугались грозы, что бросили мертвеца посреди дороги, рассчитывая, думаю, потом вернуться и похоронить его. Это обстоятельство лишний раз доказывает, что пещера, как ни крути, сослужила нам хорошую службу.
С вашего позволения, я опущу подробности той поездки в страну зулусов: она отличалась от прочих моих путешествий разве лишь тем, что мы двигались медленнее обычного, ибо четырнадцать волов выбивались из сил, таща вперед тяжело нагруженный фургон. По дороге мы даже застряли на берегу Белого Умфолози, совсем рядом с Нонгельской скалой, что нависает над речной заводью. Никогда не забуду жуткого зрелища, невольным свидетелем которого мне выпало там стать. Пока мы переправлялись через реку вброд, борясь с течением, на вершине Нонгельской скалы, приблизительно в двух с половиной сотнях ярдов от нас, появилась группа мужчин, волочивших за собою двух молодых женщин. Я поднес к глазам подзорную трубу и по тому, как пленницы вращали головой и шарили вокруг себя руками, пришел к заключению, что они слепы, — причем, возможно, их ослепили намеренно. Покуда я размышлял, что все это может означать, мужчины схватили женщин за руки, за ноги — и сбросили с обрыва. С истошными, бередившими сердце воплями несчастные создания упали вниз, прямо в глубокую заводь, где, должно быть, уже поджидали добычу крокодилы; мне почудилось, что я различаю на воде характерную рябь. Впоследствии моя догадка подтвердилась, и выяснилось, что заводь сия — излюбленное место гигантских рептилий, ибо Нонгельская скала по велению зулусских правителей издавна служит местом казни. Покончив со своим омерзительным поручением, отряд убийц — их было, помнится, десятка полтора — устремился к броду с явным намерением перехватить нас. Поначалу я решил, что наклевывается драка, и, не стану скрывать, немало тому обрадовался, поскольку зрелище жестокой расправы наполнило мое сердце гневом и заставило забыть об осторожности. Но едва выяснилось, что фургон принадлежит небезызвестному Макумазану, как зулусы сделались чрезвычайно дружелюбными: они кинулись в воду, навалились на колеса, и с их помощью мы благополучно достигли дальнего берега реки. Я спросил у предводителя отряда, кто были столь безжалостно убитые девушки. Он ответил, что это дочери короля Панды[147]. Я в душе усомнился, что казненные и вправду были дочерями упомянутого властителя, поскольку знал его как человека добросердечного, однако вслух ничего говорить не стал. Вместо этого я спросил, почему молодых женщин ослепили и какое преступление они совершили. Мне ответили, что преступниц ослепили по распоряжению Кечвайо, уже тогда истинного правителя страны зулусов, ибо они «смотрели туда, куда им смотреть не следовало». Дальнейшие расспросы позволили установить, что несчастные сестры имели неосторожность влюбиться в двух молодых людей и бежали вместе с ними, нарушив приказ короля — или Кечвайо, что было равнозначно. Беглецов настигли прежде, чем они добрались до границы Наталя, где очутились бы в безопасности; юношей убили на месте, а девушек привели обратно и предали королевскому суду. Ну а тот вынес суровый приговор, исполнение которого мне и довелось увидеть. Да уж, просто жуткое завершение медового месяца! Кроме того, предводитель зулусов с широкой улыбкой на лице поведал, что король отправил другой отряд, дабы прикончить отцов и матерей дерзких молодых людей, а также всех, кого случится застать в их краалях. Этакой вольнице в любви, прибавил он, нужно положить конец, не то юнцы совсем распустятся; мол, и без того молодежь в последние годы сделалась чрезмерно самостоятельной, вдохновляясь, вне сомнения, примером зулусов из Наталя, где белые позволяют всем вести себя как заблагорассудится, не опасаясь последствий. Посетовав на упадок современных нравов и тяжело повздыхав, этот старый ретроград взял понюшку табаку, сердечно пожелал мне счастливого пути и удалился, распевая песенку, которую, должно быть, сочинял прямо на ходу, поскольку в ней говорилось о том, что дети должны любить и уважать своих родителей. Меня так и подмывало оделить его на прощание порцией дроби в седалище, но пришлось обуздать свой порыв, ибо сие было небезопасно. Помимо всего прочего, этот тип являлся, так сказать, должностным лицом при исполнении, типичным продуктом бюрократической системы страны зулусов, где короли правили железной дланью. Мы поехали дальше, распродавая по пути свои товары и получая оплату коровами и телками, которых я отсылал в Наталь. А вот волов, пригодных для ярма, не попадалось вовсе, не говоря уже о таких, которые были бы приучены ходить в постромках, ибо в те дни в стране зулусов подобные животные являлись редкостью. Впрочем, до меня дошли слухи о волах, которых якобы оставил в одном краале некий белый торговец: его животные то ли заболели, то ли стерли копыта, так что владелец обменял их на молодых бычков. Мне сказали, что сейчас животные уже поправились, но куда именно их отвели, никто не знал. Правда, один дружески настроенный вождь поведал, что об их местонахождении может знать Открыватель дорог, то есть старый Зикали: ведь ему ведомо все на свете, да и волов тот белый торговец оставил в его владениях. Признаться, к тому времени я, по-прежнему одержимый мыслями о Хоу-Хоу, уже почти отказался от намерения навестить Зикали, поскольку вспомнил, что всякий раз, как мы с ним видимся, это оборачивается для меня малоприятными, утомительными и весьма опасными приключениями. Однако я отчаянно нуждался в волах: не считая двух погибших, замена требовалась также и прочим животным, ибо они так полностью и не оправились после пребывания под градом и выказывали признаки болезни. Поэтому мне пришлось вернуться к первоначальному плану. Посоветовавшись с Хансом, который тоже сказал, что так будет лучше, я двинулся в сторону Черного ущелья, до которого можно было добраться за пару дней. Вечером второго дня, остановив фургон на краю этого печально известного и пользовавшегося дурной славой распадка, я велел разбить лагерь возле источника воды, вверил волов попечению Мавуна и Индуки, а сам в сопровождении Ханса стал спускаться по склону. Ущелье, конечно, нисколько не изменилось с моего последнего посещения и все же, как обычно, поразило меня, словно в первый раз. Едва ли во всей Африке найдется распадок более дикий, более мрачный и гнетущий. Обрывистые стены, казалось, грозили обрушиться на неосторожного путника, среди камней росли приземистые, искривленные деревья алоэ, под ними редкими пятнами желтела иссохшая трава; шакалы и гиены разбегались в стороны, заслышав голоса или отзвук шагов; повсюду пролегали густые черные тени, а вдоль дна ущелья, даже если наверху не ощущалось ни дуновения, постоянно гуляли сквозняки, в которых воображение улавливало жалобные стоны безвинно загубленных душ. Древние верили, что каждая местность имеет собственного гения, или духа. Мне всегда было интересно: появлялись ли эти духи в тех или иных местах произвольно или же тщательно выбирали их в соответствии со своим характером? В Черном ущелье — и в некоторых других местах, где мне доводилось бывать, — я часто вспоминал это предание и чувствовал, что почти готов в него поверить. Но какой же дух способен выбрать для своего обитания сей жуткий распадок? Полагаю, что лишь воплощение — нет, это слово противоречит моим ощущениям, — скорее, некая неосязаемая сущность Трагедии, какая-нибудь загубленная душа, чьи голова и крылья поникли под тяжестью неискупленного, неисповедимого преступления. Но к чему вспоминать мифы и воображать себе каких-то незримых духов? Ведь Зикали, или Тот, кому не следовало родиться, уже несчетное количество лет обитал в этой пропасти, сильно напоминающей могилу. Полагаю, он и впрямь был олицетворенной Трагедией, а его седая голова была увенчана короной неисповедимых и неискупленных преступлений. Скольких людей этот отвратительный карлик довел до гибели, а скольким еще было уготовано угодить в сети, которые сей злобный паук плел из года в год? Но все же против этого грешника тоже грешили, а он мстил, воздавая за перенесенные страдания; его жен и детей убивали, его племя было истреблено под жестокой пятой Чаки, род которого колдун ненавидел и вознамерился уничтожить, сделав сие целью своей жизни. Словом, даже для Зикали можно было найти оправдание, он не был абсолютно дурным человеком. Да и существуют ли вообще на земле такие люди? Размышляя подобным образом, я шагал по дну ущелья, сопровождаемый понурым Хансом, которого это место всегда угнетало даже еще сильнее, нежели меня самого. — Баас, — позвал готтентот хриплым шепотом, не осмеливаясь говорить громко, — баас, а вы не думаете, что этот Открыватель дорог сам был когда-то Хоу-Хоу, а нынче просто съежился от старости? Или что в него переселился дух Хоу-Хоу? — Нет, не думаю, — ответил я. — У него есть пальцы на ногах и на руках, как у прочих людей. Зато я уверен, что, если где-то и бродит живой Хоу-Хоу, старик подскажет нам, как его найти. — Баас, я надеюсь, что он забыл или что Хоу-Хоу уже отправился на небеса, где костры горят негасимым пламенем без хвороста. Лично я, баас, не хочу встречаться с Хоу-Хоу. От одной мысли о нем у меня живот стынет. — Ясное дело, ты предпочел бы поехать в Дурбан и свести близкое знакомство с бутылкой джина, чтобы согреть свой живот. Верно, Ханс? А там, глядишь, ты бы провел в хмельном блаженстве добрых семь дней, как в прошлый раз. — Я не лишил себя удовольствия подпустить готтентоту шпильку. Тропа свернула, и мы вышли к краалю Зикали. Как обычно, о моем приближении узнали заранее, и один из молчаливых здоровяков-телохранителей колдуна уже ожидал у ворот. Он поприветствовал меня, воздев зажатое в кулак копье. Должно быть, у Зикали имелся дозорный, который наблюдал за окрестностями ущелья и сообщал колдуну обо всех, кто направляется к нему в гости, либо же старик располагал иными способами получать необходимые сведения. Так или иначе, о моем появлении он всегда знал заблаговременно, а вдобавок частенько угадывал, откуда я пришел и зачем к нему пожаловал, как получилось, кстати, и на этот раз. — Повелитель духов ожидает тебя, вождь Макумазан, — произнес телохранитель. — Он повелевает крошечному желтокожему человеку по имени Светоч во мраке сопровождать тебя и примет вас незамедлительно. Я кивнул, и телохранитель впустил меня в ворота, проделанные в изгороди, окружавшей большой дом Зикали, постучав по ним древком своего копья. Ворота открыли — кто именно, я не разглядел, — и мы ступили во двор, а чья-то призрачная фигура выскользнула из тени, снова заперла ворота за нашими спинами и исчезла. Перед дверью дома на корточках сидел у огня карлик, закутанный в меховую кароссу. Огромная голова — седые пряди волос, как на портрете Хоу-Хоу, разделены пробором и расчесаны на две стороны — была наклонена вперед; пламя костра, в которое он глядел, отражалось в его глубоко посаженных глазах. Мы приблизились, шагая по плотно утоптанной земле, и встали перед колдуном, а он еще добрую минуту, наверное, притворялся, что не замечает нашего присутствия. Но наконец, не поднимая головы, заговорил тем самым глухим и одновременно звучным голосом, который был свойствен лишь ему одному: — Почему, Макумазан, ты, как всегда, приходишь столь поздно? Солнце уже скрылось за хижиной, и в тени стало холодно. Ты ведь знаешь: я ненавижу холод, все старики его терпеть не могут. Так что я не сразу решил, стоит принимать тебя сегодня или нет. — Я пришел поздно, Зикали, потому что не сумел приехать раньше, — ответил я. — Ты мог бы подождать до завтрашнего утра. Или испугался, вдруг я умру среди ночи? Не беспокойся, я не умру. У меня впереди еще много, очень много ночей. Ну да ладно. Итак, стало быть, ты все же пожаловал ко мне, маленький белый бродяга, который вечно скачет с места на место, будто блоха? — Да, я пришел к тебе, Зикали, — подтвердил я, — пришел к тому, кто не скитается по миру, а вечно сидит на одном месте, точно лягушка на камне. — Хо-хо-хо! — рассмеялся он своим характерным удивительным смехом, который эхом отражался от камней и от которого меня всегда холод пробирал до костей. — Хо-хо! Как тебя, оказывается, легко разозлить! Сдержи свой гнев, Макумазан, не то он сбежит от тебя, как сбежали в горах твои волы, испугавшись бури. Что привело тебя ко мне? Ты ведь приходишь, лишь когда тебе что-то нужно от того, кого ты раньше именовал старым мошенником. Значит, по-твоему, я не странствую, а сижу, как лягушка на камне? Откуда тебе это известно? Разве странствовать способно только тело? Разве и дух человеческий не может уйти далеко-далеко, вплоть до горних высей, как говорите вы, белые, или, быть может, спуститься в подземную страну, где, как рассказывают, можно снова повстречать мертвых? Так все-таки, Макумазан, что привело тебя ко мне? Ладно, молчи, я сам отвечу за тебя, ибо ты с трудом выражаешь свои мысли, хоть и думаешь, что научился говорить по-зулусски не хуже туземцев. О нет, на самом деле это не так, поскольку думаешь ты не на зулусском, а на своем глупом языке, в котором нет названия для многих, многих вещей. Эй, несите мои снадобья! Из хижины появился мужчина, поставил рядом с колдуном мешок из леопардовой шкуры и снова исчез. Зикали сунул внутрь свою руку, похожую на птичью лапу, и извлек из мешка несколько костяшек — отполированных до блеска, но пожелтевших от возраста. Эти костяшки он небрежно швырнул на землю перед собой, потом искоса поглядел на них. — Ха! — произнес старик. — Что-то насчет скота. Ага, вижу. Тебе нужны волы, да не простые, а приученные к ярму, и ты думаешь, что я подскажу, где можно купить их подешевле. А между прочим, Макумазан, с каким подарком ты пришел ко мне? Неужто принес фунт табака, который курят белые люди? — На самом деле я принес всего лишь четверть фунта. — Ну что, прав я насчет волов? — Прав, — кивнул я, не скрывая своего изумления. — Вижу, ты удивлен. Разве не замечательно, что бедный старый мошенник знает, что тебе нужно? Изволь, я тебе все растолкую. Ты потерял двух волов, которых убило молнией, правильно? Поэтому тебе нужны новые, тем более что среди уцелевших, — тут он снова мельком покосился на свои кости, — многие пострадали от града, от очень крупного града, и некоторые вот-вот заболеют, думаю лихорадкой. Так почему бы старому мошеннику и не догадаться, что тебе понадобились свежие волы? Только глупый зулус сочтет, будто здесь замешано колдовство. А что до табака, который, как я вижу, ты достал из кармана… Что-то сверток нынче маловат, не находишь? Так вот, по поводу табака — ты уже приходил ко мне с таким подарком. И почему бы мне не подумать, что ты снова решишь задобрить меня табаком? Видишь, никакого колдовства нет и в помине. — Вижу, Зикали. Но скажи, как ты узнал про молнию, убившую моих волов, и про град? — Как я узнал, Макумазан, что молния убила двух твоих дышловых волов, Капитана и Немца? Разве ты не великий человек, за которым все следят? Стоит ли удивляться, что мне докладывают обо всех событиях в сотне миль от моей хижины? Ты повстречал кафров, которые шли на свадьбу, — помнишь? — прямо перед бурей, а потом нашел одного из них мертвым. Могу тебе сказать, что его убили не молния и не град. Молния ударила рядом и оглушила беднягу, а умер он от холода, просто замерз в ночи. Я подумал, что ты захочешь это узнать, Макумазан, ты ведь всегда был любопытным. Разумеется, эти кафры рассказали мне обо всем. И снова никакого колдовства, что бы ты там ни воображал. Вот так мы, бедные колдуны, стяжаем себе славу, поскольку широко раскрываем глаза и держим ухо востро. Когда состаришься, Макумазан, то и сам станешь таким же, ведь говорят, что ты бодрствуешь даже среди ночи. Продолжая потешаться надо мной, колдун между тем подобрал костяшки с земли и внезапно кинул их снова, причем совершил этакий весьма затейливый, с вывертом, взмах, и костяшки упали кучкой, взгромоздившись одна на другую. Поглядев на них, Зикали сказал: — Ты хочешь спросить, зачем же я в таком случае пользуюсь этими глупыми костяшками? Как тебе известно, Макумазан, это часть моего снаряжения, орудия моего ремесла, и таким образом я внушаю трепет всяким глупцам, что приходят к колдунам, дабы те исполнили их дурацкие желания. Они думают, будто делятся с нами тайнами, а я так отвлекаю внимание посетителей, покуда сам читаю в их сердцах. Эти костяшки, Макумазан, напоминают мне груду камней на горном склоне. Гляди! Вон дырка посредине, будто зев пещеры. Ты что, Макумазан, укрывался от бури в пещере? Ну да, конечно. Давай опять растолкую, как я догадался. Никакого колдовства, запомни, всего лишь догадка. Разве не разумно предположить, что ты захотел спрятаться в пещере от столь сильной бури, а фургон оставил снаружи? Глянь-ка вон на ту косточку, что лежит поодаль от прочих. Это она заставила меня подумать о фургоне снаружи. Но вопрос в том, что именно ты узрел в пещере. Наверняка нечто необычное, верно? Этого кости мне не расскажут, откуда им знать? Значит, попробую догадаться сам. Да-да, попробую, чтобы преподать тебе, мудрому белому человеку, очередной урок, дабы показать, как мы, жалкие колдунишки, делаем свою работу и дурачим глупцов. Ты ведь сам ничего не станешь мне рассказывать, Макумазан? — Нет, не стану, — ответил я сердито, сознавая, что старый карлик в открытую насмехается надо мной. — Тогда придется мне потрудиться самому. Вот только как это сделать? Иди-ка сюда, ты, сморщенная желтокожая мартышка, сядь между мной и костром, чтобы свет пламени проходил сквозь тебя. Быть может, хоть так я сумею разобрать мысли в твоей тупой башке, Светоч во мраке, и пролить немного света на темноту, в которой брожу. Ханс неохотно приблизился и присел на корточки в том месте, куда Зикали ткнул своим костлявым пальцем, ступая крайне осторожно, чтобы не задеть даже кончиком пальца ни одну из костяшек на земле, — должно быть, готтентот опасался, что в противном случае окажется во власти колдуна. Свою драную шляпу он положил на живот, будто оберегая нутро от острого, точно шило, испепеляющего взгляда Зикали. — Хо-хо! Ну-ка, покажись, желтокожий! — произнес карлик после недолгого, но пристального осмотра, который заставил Ханса неловко заерзать. Я с изумлением отметил, что морщинистая кожа готтентота покраснела, как если бы он сделался вдруг молодой женщиной, которую изучает потенциальный жених, прикидывая, стоит или нет сделать ее своей пятой женой. — Хо-хо! Сдается мне, что ты уже бывал в этой пещере раньше, задолго до бури. Но это было просто угадать, ведь как бы иначе ты отыскал ее в такой суматохе? А еще эта пещера имеет какое-то отношение к бушменам, как и большинство пещер в здешних краях. Вопрос в том, что она в себе таит. Нет, не говори мне. Я хочу разобраться сам. Странно, что на ум приходят какие-то рисунки. Хотя что же тут странного, ведь бушмены часто рисовали в пещерах. Нет, желтокожий, не нужно кивать, а то отгадывать становится слишком просто. Смотри на меня и ни о чем не думай. Рисунки, много рисунков, но среди них есть один особенный. Что-то такое, что тяжело вообразить. Уж не тебя ли нарисовали бушмены, когда, невесть сколько лет тому назад, ты был с ними, молодой и красивый, а, желтокожая мартышка? Ну что ты снова башкой трясешь! Держи голову прямо, чтобы мысли в ней не бурлили, как вода под ветром! По крайней мере, это рисунок кого-то страшилища, гораздо более ужасного, чем ты сам. Ага! Он растет, растет! Сейчас догадаюсь. Макумазан, иди сюда, встань рядом со мной, а ты, желтокожий, повернись к нам спиной и гляди в огонь. Так! Жжется, верно? А воздух нынче холодный, очень холодный. Нужно разворошить, чтобы горело жарче. Ты тут, Макумазан? Да, тут. Смотри, какой у меня табак, смотри, как ярко он горит! — С этими словами Зикали сунул руку в мешок, извлек щепоть какого-то порошка и метнул этот порошок в огонь. Потом простер свои костлявые пальцы над пламенем, будто желая согреться, и стал медленно поднимать руки. На моих глазах пламя костра потянулось следом за его ладонями, на высоту в три или четыре фута. Зикали уронил руки, и пламя тоже упало. Он снова поднял их, и огненные языки опять взметнулись вверх, на сей раз гораздо выше прежнего. Он в третий раз повторил свое представление, и настоящая стена пламени встала в воздухе, достигая в вышину добрых пятнадцати футов, встала да так и осталась стоять, пылая ровно и устойчиво, словно огонь в лампе. — Смотри в костер, Макумазан! — велел карлик вдруг изменившимся, словно чужим голосом. — И ты тоже смотри, желтокожий. Поведайте мне, если что-либо увидите, сам-то я не вижу ничего, совсем ничего. Я послушно устремил взгляд в огонь. Поначалу ничего не происходило, но в следующее мгновение в языках пламени начала возникать фигура. Изображение дробилось, рассыпалось, менялось, а затем сделалось отчетливым, ясным и узнаваемым. Передо мной, окруженный огнем, предстал Хоу-Хоу — в том самом виде, в каком он был изображен на портрете в пещере, разве только двойник казался живым — его глаза моргали. Этот Хоу-Хоу выглядел сущим дьяволом, вырвавшимся из преисподней. Я чуть не задохнулся от ужаса, но сумел сдержаться и не отшатнуться. Что до Ханса, тот принялся браниться на голландском: — Allemachte! Da is die leeliker auld deil![148] — Это означало: «Всемогущий! Вот он, страшный старый дьявол!» Выкрикнув эти слова, готтентот рухнул навзничь и остался лежать на спине, обездвиженный ужасом. — Хо-хо-хо! — рассмеялся Зикали. — Хо-хо-хо! И стены крааля отозвались эхом, вторя ему на самые разные лады: — Хо-хо-хо!
Глава 4
ПРЕДАНИЕ О ХОУ-ХОУ
Зикали перестал смеяться и уставился на нас немигающим взглядом. — Кто, интересно, первым сказал, что все мужчины глупы? — вопросил он. — Уж не знаю, кто это был, но думаю, что женщина, какая-нибудь красавица, которая завлекала мужчин и поняла, насколько все они глупы. О, сама-то она была мудрой, эта женщина! Все женщины мудры, на свой лад, и недаром они так говорят о нас, мужчинах. Я бы добавил к ее словам, что все мужчины трусы, у каждого из нас есть свое уязвимое место, пускай даже в остальном мы и ведем себя храбро. Мужчины все одинаковы, Макумазан. Вот скажи мне, в чем разница между тобой, мудрым белым человеком, и этой желтокожей обезьяной? — Карлик указал на Ханса, по-прежнему лежавшего на земле: глаза выпучены, зубы стучат, с губ слетают молитвы, обращенные ко всем богам на свете, ведомым и неведомым. — Вы оба боитесь, один ничуть не меньше другого, и единственное отличие между вами в том, что белый вождь старается спрятать свой страх, а у желтокожего все наружу, как заведено у мартышек. А почему вы так испугались? Да потому, что я сыграл с вами злую шутку, явив вашим глазам картину, каковая обитает в ваших умах. Прошу тебя, Макумазан, запомни, что это не колдовство, а обычная уловка, на которую способен даже ребенок, если найдется, кому его научить. Надеюсь, ты поведешь себя иначе, когда встретишься с Хоу-Хоу лицом к лицу. В противном случае ты меня разочаруешь, а в той пещере появятся два новых черепа. Но я верю, что ты будешь храбрым, да, будешь, ибо тебе не захочется умирать, сознавая, как долго и громко я стану смеяться, прослышав о твоей постыдной кончине. Старый колдун продолжал витийствовать, как было у него в обыкновении, когда ему хотелось скрыть за язвительными насмешками желание хорошенько что-либо обдумать. Потом он замолчал, взял понюшку табака из принесенного мной в дар пакета и при этом не сводил с нас пылающего взора, будто пытаясь заглянуть нам в души. Я решил, что нужно как-то ответить, просто для того, чтобы показать, что старик не устрашил меня своими колдовскими штучками, как бы он их там ни проделывал, и потому произнес: — Ты был прав, Зикали, когда сказал, что все мужчины глупы, но вот только первый и величайший глупец среди всех — ты сам. — Признаться, я тоже частенько так думаю, Макумазан, по причинам, о которых умолчу. Но объясни, что кроется за твоими словами. Позволь мне услышать твои доводы, дабы я понял, совпадают ли они с моими собственными. — Изволь. Во-первых, из твоих слов следует, что эта тварь Хоу-Хоу существует на самом деле, хотя тебе отлично известно, что ее нет и никогда не было на свете. Во-вторых, ты уверяешь, будто нам с Хансом суждено встретиться с чудовищем лицом к лицу, однако всем понятно, что такого попросту быть не может. Хватит уже молоть вздор, лучше растолкуй, как создавать живые картины в огне, ведь ты сам сказал, что это под силу даже ребенку. — Я сказал, Макумазан, что ребенок справится, если его научат. Да, именно так. Но если бы я взялся кого-то этому обучить, то и вправду оказался бы величайшим глупцом на свете. Неужто, по-твоему, я готов сотворить двух новых мошенников — видишь, наедине с тобой я не стыжусь именовать себя честно, — которые способны стать мне соперниками в моем ремесле? Ну уж нет, пусть каждый из нас хранит при себе знание, которым владеет, ибо если оно сделается всеобщим достоянием, то кто же тогда будет за него платить? Скажи, почему ты так уверен, что тебе никогда не стоять лицом с Хоу-Хоу, не считая рисунка на скале и картины в пламени? — Да потому, что никакого Хоу-Хоу на самом деле не существует, — ответил я раздраженно. — А если он все-таки живет на белом свете, то его логово, я надеюсь, находится очень далеко отсюда, и без свежих волов мне туда не добраться. — Ага! — воскликнул Зикали. — Благодарю, что напомнил о том, как вы бежали из пещеры, и обо всем остальном. Да, тебе нужны свежие волы. Слушай же, Макумазан! Я знал, что тебе не терпится увидеть Хоу-Хоу, как молодому мужчине не терпится найти себе первую жену. И я хорошенько приготовился, да. История, которую ты слышал, правдива. Белый торговец в самом деле оставил в окрестностях моего крааля своих утомленных волов, и теперь, когда минуло три луны, все животные отдохнули и окрепли. Я велю привести их сюда завтра утром и обещаю заботиться о твоих заморенных волах, покуда ты будешь отсутствовать. — У меня нет денег, чтобы заплатить, — честно предупредил я. — Разве слово Макумазана не дороже любых денег, даже английского золота? Разве не так говорят во всех здешних землях? Кроме того, — прибавил колдун задумчиво, — когда ты вернешься после встречи с Хоу-Хоу, у тебя будет много денег. Правильнее сказать, много бриллиантов, но всем известно, что деньги и бриллианты — это одно и то же. Еще ты привезешь слоновую кость. Хотя нет, я не уверен, совсем не уверен, что в твоем фургоне останется место для слоновьих бивней. Давай договоримся, Макумазан: если вдруг выяснится, что я тебя дурачил, то я не потребую плату за волов. Услышав про бриллианты, я навострил уши, ибо как раз тогда это слово начинало греметь по всей Африке. Даже Ханс наконец поднялся с земли и всем своим видом показывал, что ему снова сделались интересными мирские материи. — Это будет справедливо, — согласился я. — Но, прошу, перестань раздувать пыль, брось нести околесицу и объясни прямо, что к чему, пока солнце не село. Признаться, я очень не люблю находиться в твоем ущелье в темноте. Кто такой этот Хоу-Хоу? И почему, если допустить, что Хоу-Хоу живет на белом свете — или жил когда-то, — почему ты, Зикали, хочешь, чтобы я отыскал его? Я ведь знаю, ты ничего не делаешь просто так, у тебя на все находится своя причина. — Сперва я отвечу на твой последний вопрос, Макумазан. Ты прав, я и впрямь никогда не делаю ничего просто так. Карлик помолчал, затем хлопнул в ладоши, и из-за хижины выступил один из его могучих телохранителей. Зикали негромко отдал распоряжение. Воин скрылся, но быстро вернулся, принеся сшитые из шкуры животных небольшие мешочки, в каких африканские колдуны хранят свои снадобья. Зикали развязал один мешочек и продемонстрировал мне его содержимое — горстку какого-то бурого порошка на самом дне. — Этот порошок, Макумазан, — торжественно произнес он, — ценнейшее среди моих снадобий, даже более чудесное, чем трава под названием тадуки, позволяющая заглянуть в прошлое, — обещаю, однажды ты испытаешь на себе ее воздействие. При помощи сего зелья — я говорю не о траве тадуки, а о порошке — я и проделываю большинство своих уловок. К примеру, именно благодаря этому порошку я сумел показать в языках пламени Хоу-Хоу — тебе и твоему желтокожему коротышке. — То есть это какая-то отрава, правильно? — О да, разумеется! Если добавить этот порошок к другому, то получится яд, убивающий мгновенно, и малой толики его, нанесенной на шип, будет вполне достаточно, чтобы убить самого сильного воина и не оставить при этом никакого следа. Но порошок сей обладает и иными свойствами: он воздействует на разум и на дух. Не ломай понапрасну голову, Макумазан, я не стану ничего объяснять, поскольку ты все равно не поймешь. Так вот, Древо видений, из листьев которого делается этот порошок, растет лишь во владениях Хоу-Хоу; больше нигде в Африке его не найти. В последний раз я пополнял свои запасы много лет назад, задолго до твоего рождения, Макумазан. Не спрашивай, как именно я это проделал, все равно не отвечу. Видишь сам, мне нужны новые листья, иначе пострадают мои магические способности, в которые зулусы верят, но которые мудрые белые вроде тебя считают обманом, и по всей округе разлетится весть, что Открыватель дорог лишился своего могущества, а потому люди начнут обращаться за помощью к другим колдунам. — Так почему бы тебе не послать кого-нибудь за новыми листьями, Зикали? — Кого же мне послать? Кто осмелится войти во владения Хоу-Хоу и проникнуть в его сад? Только ты, Макумазан, один лишь ты. Я заглянул в твои мысли. Ты спрашиваешь себя, почему, если дело и впрямь обстоит так, как я говорю, я не велел доставить мне эти листья из владений Хоу-Хоу. Причина проста, Макумазан. Обитатели тех мест крайне неохотно покидают свои земли, ибо это против тамошних законов. А еще, даже если они вдруг и уходят, то продают малую щепотку этого порошка очень, очень дорого. Однажды, сто лет назад, — полагаю, этим мой собеседник пытался сказать, что дело было давным-давно, — я заплатил требуемую цену и получил заветный порошок, остатки которого ты видишь на дне мешочка. Но это давняя история, и я не намерен докучать тебе воспоминаниями. О, многие пытались пробраться в тот сад, а вернулись всего лишь двое, и оба они обезумели, как бывает с теми, кому случилось узреть Хоу-Хоу воочию и уйти живым. Если встретишь Хоу-Хоу, Макумазан, обязательно прикончи его самого и истреби все его добро, иначе проклятие сего чудища будет преследовать тебя до конца дней. Поверженный, он напрочь лишится сил, а вот если вдруг уцелеет, то его ненависть настигнет тебя где угодно, и то же самое можно и нужно сказать о ненависти его присных. — Ерунда! — бросил я презрительно. — Если Хоу-Хоу и вправду существует, это всего лишь большая обезьяна, а я не боюсь обезьян, ни живых, ни мертвых. — Я рад слышать это, Макумазан, и надеюсь, что ты и впредь будешь мыслить таким образом. Несомненно, тебя пугают лишь рисунок на скале и живая картина в пламени, ибо не зря говорят, что сновидение бывает страшнее любой яви. Однажды ты поведаешь мне, Макумазан, так ли это на самом деле, и расскажешь, который Хоу-Хоу ужаснее — нарисованный или настоящий. Однако ты задавал мне и другие вопросы. Помнится, ты спрашивал, кто он такой, этот Хоу-Хоу? Я согласно кивнул, и старик продолжил: — Что ж, я не знаю точного ответа. Предание гласит, что некогда, еще на заре времен, далеко к северу отсюда обитал народ — белокожий или почти белокожий. Этим народом, как говорится в старых сказках, правил могучий великан, кровожадный и страшный на вид, да еще вдобавок могущественный колдун — хотя ты, пожалуй, обозвал бы его мошенником. Великан сей был настолько жестоким и страшным, что собственный народ поднялся против него и, несмотря на все его могущество, вынудил этого колдуна бежать на юг; а заодно с ним ушли те, кто был ему предан или кому не удалось от него удрать. Да, великан бежал на юг, он шел много дней и ночей и наконец отыскал тайное место, где и решил поселиться. Убежище это находилось в тени горы, каковая, как я слышал, изрыгала пламя, когда мир был еще юным, и до сих пор над ее вершиной порою клубится дым. Здесь его народ, звавшийся валлу, из черного камня, что вытек из недр горы в минувшие века и застыл, выстроил себе город, похожий на тот, в котором все они жили на севере. Ну а их правитель, тот самый колдун-великан, продолжал творить жестокости, заставляя народ трудиться без отдыха в городе и в своем краале, а также в пещере, где ему поклонялись как божеству. И в конце концов люди не стерпели издевательств и под покровом ночи убили монстра. Прежде чем умереть — а умирал он долго, поскольку жизнь его оберегало колдовство, — великан потешался над своими подданными, твердил, что так они от него все равно не избавятся, ибо он вернется обратно, еще более жуткий, чем прежде, и будет править ими дальше, много-много лет. Колдун сулил людям всевозможные беды и несчастья и наложил на них проклятие: дескать, если они решат покинуть землю, которую он избрал для проживания, и отважатся пересечь кольцо гор, окружающее это место, то все умрут. Так и случилось: во всяком случае, как мне говорили, стоило только кому-нибудь из валлу спуститься по реке, которая служит единственным путем из их земель в пустыню, и ступить ногою на песок, как этот человек умирал — когда от внезапной хвори, а когда в пасти льва или другого дикого зверя, что обитают на громадном болоте, там, где река сходится с пустыней. Слоны и прочие животные собираются туда на водопой за сотни миль окрест. — Должно быть, несчастных губила лихорадка, — заметил я. — Возможно. А может, яд или проклятие. Как бы то ни было, все смельчаки умирали, и очень скоро никто уже больше не отваживался покинуть тайное убежище в горах. — А что сталось с валлу после того, как они избавились от своего добросердечного короля? — спросил я. Надо признать, рассказанная Зикали история меня заинтересовала. Конечно, я сознавал, что это всего лишь красивая сказка, однако в таких легендах, к которым туземцы вечно измышляют дополнительные подробности, одна другой страшнее, порою содержится зерно истины. И потом, Африка — огромный континент, здесь и вправду встречаются весьма необычные народы и племена. — О, их участь была плачевна, Макумазан. Едва только правитель скончался, как гора над городом принялась изрыгать пламя и горячий пепел, отчего многие погибли, а уцелевшим пришлось бежать за озеро, на острове посреди которого стоял город, и укрыться в лесу на дальнем берегу. Там они живут и по сей день, на берегах реки, которая протекает через лес, той же самой, что сквозь горные ущелья достигает огромного болота, а затем теряется в песках пустыни. Так мне рассказывали сотню лет назад те люди, которых я посылал за порошком из листьев Древа видений, что растет в саду Хоу-Хоу. — Полагаю, валлу просто побоялись вернуться в город, когда извержение закончилось, — проговорил я, размышляя вслух. — Верно, Макумазан, они боялись, и ты поймешь их страх, когда увидишь все своими глазами. Гора не просто убила множество их сородичей; нет, погибшие обратились в камень. Да, представь себе, Макумазан, они и до сих пор там, окаменевшие и неподвижные, а вместе с ними окаменели их собаки и домашний скот. Тут я не выдержал и рассмеялся. Даже Ханс, услышав столь откровенную ложь, оскалил зубы в ухмылке. — Сдается мне, Макумазан, — строго произнес Зикали, — что у нас с тобой всегда получается одинаково: сперва ты потешаешься надо мной, но последнимнепременно смеюсь я сам. Думаю, на сей раз будет так же. Говорю тебе, эти люди заживо обратились в камень! Вот что, если выяснишь, что я соврал, тебе не придется платить за волов, которых я выкупил у белого торговца, даже если ты вернешься с карманами, полными бриллиантов. Мне вдруг припомнилась судьба Помпей, и я подавил неуместный смех. Как ни крути, а на свете случается всякое. — Это первая причина, по которой люди не вернулись в город, хотя гора снова погрузилась в спячку. Но была и другая причина, Макумазан, куда более серьезная. Очень быстро стало понятно, что в городе водятся призраки! — Да неужели? И чьи же именно? Окаменевших жертв? — Нет, те вели себя мирно, хотя мне и неведомо, каков норов их духов. В городе свирепствовал призрак правителя, которого эти люди убили. Он обратился в исполинскую обезьяну — в того самого Хоу-Хоу. Над этим заявлением я смеяться уже не стал, хотя на первый взгляд оно выглядело еще более нелепым, чем уверения в том, будто бы несчастные мертвецы окаменели. Причина моей сдержанности была такова: я хорошо знал, что подобные предрассудки широко распространены среди туземцев, в особенности среди дикарей Центральной Африки. Они верят, что покойные вожди, прежде всего те, что при жизни славились замашками тиранов, после смерти превращаются в свирепых животных и продолжают измываться над бывшими подданными и их потомками. Причем вожди эти могут принять абсолютно любое обличье: слона, льва-людоеда или какой-нибудь необычайно ядовитой змеи, — но в любом случае считается, что оборотень сей не может снова умереть и его нельзя убить; во всяком случае, это не под силу тем, кого он преследует. За время своих скитаний по Африке я многократно сталкивался с подобными легендами. Посему мне отнюдь не показалось странным, что народ, о котором рассказывает Зикали, думал, будто их земли прокляты и одержимы призраком кровожадного тирана, превратившегося в чудовище. Вот только в существование самого чудовища мне ни чуточки не верилось. Небось на острове посреди озера поселилась какая-нибудь огромная обезьяна, возможно горилла, которая не имеет к жестокому вождю ни малейшего отношения. — И что же творит этот злой дух? — уточнил я недоверчиво. — Швыряется камнями и плодами пальм? — Нет, Макумазан. Как мне говорили, он творит куда большее зло. Порой Хоу-Хоу перебирается с острова на берег: то ли на бревне переплывает, то ли перелетает воду, как и положено духам. И если встречает кого-нибудь на берегу, то сразу отрывает несчастному голову. — Тут мне немедленно вспомнился рисунок в пещере. — Ни один человек не в силах ему сопротивляться. Женщин он тоже не щадит. Со старыми и уродливыми расправляется прямо на месте, а молодых и красивых утаскивает в свое логово. Болтают, будто на острове полным-полно похищенных женщин, которые ухаживают за садом Хоу-Хоу. Вдобавок поговаривают, что они рожают ему детей, которые, когда подрастут, переплывают озеро и селятся в лесу. Это жуткие косматые твари, наполовину люди, они умеют разводить костры, пользоваться дубинками и стрелять из луков. Этих диких существ называют хоу-хоуа. Они живут в лесу, и между ними и остатками народа валлу идет непрерывная война. — Это все, что тебе известно? — спросил я. — Нет, есть и еще одна подробность. Раз в году, в назначенный день, обязательно в полнолуние, народ валлу выбирает самую красивую невинную девушку благородного происхождения и привязывает ее к скале на берегу острова. Да, они привязывают бедняжку и уплывают; девушка остается одна, мужчины же возвращаются лишь на рассвете. — Зачем? Что они рассчитывают там найти? — Одно из двух, Макумазан. Если девушки нет, валлу радуются, все, кроме тех, с кем она состояла в родстве. А бывает, что ее находят разорванной на кусочки, и это означает, что Хоу-Хоу отверг приношение. Тогда люди плачут и рвут на себе волосы, но оплакивают они не девушку, а себя самих. — Объясни мне, Зикали, чему они радуются и из-за чего плачут. — Все просто, Макумазан. Если девушку забрали, значит Хоу-Хоу и его слуги, хоу-хоуа, пощадят народ валлу, урожай будет богатым, а хвори в тот год обойдут их стороной. Если же девушка погибла, значит сам Хоу-Хоу или его слуги станут донимать валлу и похищать их женщин, урожай окажется скудным, а на поселения обрушатся лихорадка и другие болезни. Поэтому приношение девственницы считается главнейшим торжеством валлу, вслед за которым, если девушку забирают, неизменно следует праздник радости, а если отвергли или убили — поминки, на которых все дружно рыдают, а также принесение в жертву отца и матери девушки и других ее родичей. — Какая гуманная религия, Зикали! Интересно, она и вправду нравится этим валлу? — Подумай сам, Макумазан, нравится ли хоть какая-нибудь религия хоть одному человеку в мире? Разве слезы, нужда, болезни, лишения и смерть доставляют удовольствие тем, кто рождается на свет, чтобы их испытать? Подобно всем прочим, вы, белые люди, как я слышал, тоже подвержены этим испытаниям, а еще у вас есть свой Хоу-Хоу, которого вы зовете дьяволом и который обрекает вас на муки и мстит вам жестоко и беспощадно. Разве он вам нравится? Но все же вы продолжаете приносить ему жертвы: развязывая войны, устраивая кровопролития и совершая иные злодейские поступки. А дьявол взамен помогает вам, и вы всякий раз связываете себя с ним заново, чем укрепляете его власть над вами. Точно так же поступают и другие люди, другие народы. Зато, если вы и все остальные наберутся мужества восстать против него, он, быть может, лишится своего могущества и даже будет принужден оставить людей в покое. Так почему же, ответь, мы до сих пор приносим ему в жертву наших дев — добродетель, истину и непорочность мыслей? Чем мы лучше тех, кто поклоняется Хоу-Хоу ради спасения собственной жизни? Я поразмыслил над доводами Зикали, чересчур логичными для дикаря, пускай устаревшими и проистекавшими, очевидно, из его ограниченных способностей к наблюдению за мирозданием, и ответил, почти смиренно: — Полагаю, мы ничем не лучше, Зикали. — Затем, желая перевести беседу на иные, более житейские темы, спросил: — Так что там насчет бриллиантов? — А, бриллианты! Сдается мне, эти камни — одно из приношений, которые вы, белые, делаете своему Хоу-Хоу. Что ж, у народа валлу, по слухам, бриллиантов имеется в изобилии. Им самим бриллианты совершенно без надобности, поскольку валлу ни с кем не торгуют. Правда, местные женщины находят эти камни красивыми: они полируют бриллианты, пока те не заблестят ярко-ярко, и вплетают их в сетки для волос. Валлу не знают, как сверлить в них дырки, ибо камни эти очень твердые, и не умеют оправлять их в металл. Еще эти люди засовывают бриллианты в глину, из которой лепят посуду, пока та не успела высохнуть, и выкладывают затейливые узоры. Как говорят, валлу проделывают это также и с другими камнями, красного цвета; их приносит река — из пустыни, по которой она течет, и сквозь подземный проход в горах. Так или иначе, валлу в изобилии находят все это на берегах. Детей там посылают просеивать речную гальку сквозь мелкое сито, сплетенное, если не ошибаюсь, из человеческих волос. Смотри, я покажу тебе, что это за камни. Мои люди принесли мне пару пригоршней много лет назад. Зикали снова хлопнул в ладоши. Немедля появился телохранитель, которому карлик отдал соответствующие распоряжения. Здоровяк удалился и вскоре вернулся, держа в руках крошечный, сморщенный от старости мешочек из шкуры животного, похожий на ветхую перчатку. Он развязал веревку и протянул мешочек мне. Внутри оказалась кучка камней, по виду и на ощупь весьма схожих с бриллиантами, причем самой чистейшей воды, насколько я мог судить по их цвету; однако сколько-нибудь крупных экземпляров среди них не было. Также там попадались отливавшие красным самоцветы, которые вполне могли быть рубинами, хотя природная осторожность заставила меня в этом усомниться. На взгляд я оценил общую стоимость увиденного фунтов в двести или даже в триста. Изучив камни, я хотел было вернуть мешочек Зикали, но старый колдун отмахнулся: — Возьми их себе, Макумазан, возьми себе. Мне от них нет никакого проку. Когда доберешься до владений Хоу-Хоу, сравни эти камни с теми, которые отыщешь там, чтобы лишний раз убедиться: я тебя не обманываю. — Когда доберусь до владений Хоу-Хоу? — повторил я, не скрывая своего недовольства. — Ну и где же расположены эти владения и как мне их найти? — Это я намерен рассказать тебе завтра, Макумазан. Нет-нет, не сегодня, потому что бессмысленно тратить время и силы на объяснения, покуда я не узнаю наверняка, согласен ли ты отправиться туда и примут ли тебя валлу. — Когда я услышу ответ на твой второй вопрос, Зикали, тогда мы с тобой и обсудим первый. Но уж не собираешься ли ты меня одурачить? Эти валлу и дикие хоу-хоуа, с которыми они враждуют, обитают, как я понял из твоих слов, очень далеко. Интересно, каким образом ты рассчитываешь получить ответ уже к завтрашнему утру? — О, тому есть разные способы, — отозвался колдун с загадочным видом, а затем словно впал в оцепенение, свесив могучую голову на грудь. Я некоторое время смотрел на него, а затем, устав от бесполезного ожидания, огляделся по сторонам и увидел, что, оказывается, уже начало смеркаться. Внезапно послышался тонкий, пронзительный писк, какой издают крысы. — Смотрите, баас! — прошептал Ханс, весь дрожа от страха. — Духи пришли! — Готтентот указал вверх. Я задрал голову. Высоко над нами, будто явившись из горних пределов, парили, широко раскинув крылья, три большие птицы. Они быстро снижались, спускаясь кругами, и в следующее мгновение я сообразил, что никакие это не птицы, а летучие мыши, огромные и грозные. Вот они опустились настолько, что дважды кончиками крыльев задели меня по лицу, испуская вопли, от которых кровь стыла в жилах; да еще в придачу всякий раз, пролетая мимо, мерзкие твари истошно вопили, и от этих криков у меня начало ломить зубы. Ханс попытался отогнать одну мышь, замахав руками, но добился лишь того, что животное укусило его за палец, — так я заключил по крику, который вырвался у него из горла. После этого готтентот поглубже натянул свою драную шляпу и сунул руки в карманы штанов. Между тем летучие мыши сосредоточили свое внимание на Зикали. Они стремительно кружили над колдуном, подлетая все ближе к нему, и наконец две твари уселись ему на плечи и принялись, как мне показалось, что-то возбужденно верещать старику в уши, а третья вцепилась в подбородок и приникла своей жуткой мордой прямо к его губам. Тут Зикали как будто очнулся: его глаза раскрылись, взгляд сделался ясным, а костлявые пальцы начали гладить мышей, сидевших на плечах, словно те были домашними птицами. Более того, мне почудилось, что он заговорил с третьей тварью на языке, которого я не понимал, а летучая мышь, такое у меня сложилось впечатление, ему отвечала. Внезапно он взмахнул руками, и все три мыши снова взмыли в воздух и стали кругами подниматься все выше, покуда в конце концов не скрылись в темнеющих небесах. — Я приручил летучих мышей, и они привязались ко мне, — деловито пояснил карлик. — Возвращайся завтра утром, Макумазан, и, быть может, я скажу, готовы ли валлу тебя принять. Если да, то я покажу тебе дорогу в их земли. Мы поспешили уйти и сделали это с радостью, ибо Открыватель дорог, с его причудливой манерой изъясняться и с этими его манифестациями (если не ошибаюсь, именно так принято выражаться среди спиритуалистов), принадлежал к числу людей, от которых быстро устаешь, особенно под вечер. Пока мы, спотыкаясь, брели по дну треклятого ущелья, Ханс спросил: — Баас, а что это были за твари, которые сидели у него на плечах и на голове? — Летучие мыши, просто очень крупные. Кто же еще? — А по мне, так это были не обычные мыши, баас. Думаю, это посланники Зикали, которых он отправил к валлу, как и грозился. — Неужели ты веришь в легенду о валлу, Ханс, и в существование диких хоу-хоуа? Но это же полная чушь. — Да, баас, верю. И еще я верю, что мы должны побывать у них, потому что так говорит Зикали. Да будет вам известно, баас, ни один человек в здравом уме не станет возражать против слов Открывателя дорог.Глава 5
АЛЛАН ДАЕТ ОБЕЩАНИЕ
Я никогда не мог нормально уснуть вблизи от Черного ущелья. Мне почему-то постоянно казалось, что оттуда исходят некие зловещие, бередящие душу миазмы, и не было ни единой ночи, которая прошла бы спокойно. Час за часом, вспоминая диковинное повествование старого колдуна о народе валлу и их правителе Хоу-Хоу, я лежал, не смыкая глаз и вслушиваясь в звенящую тишину этого уединенного места, которую нарушали разве что редкие вскрики (то ли ночных стервятников, то ли жертв, угодивших им в когти) и гулкий лай бабуинов среди камней. История, которую я услышал, казалась полной нелепицей. И все же нельзя отрицать, что на обширных пространствах Африки проживает великое множество разнообразных народов и племен, причем некоторые из них могут похвастаться престраннейшими обычаями и предрассудками. Словом, я постепенно стал свыкаться с мыслью, что названные суеверия, бытующие на протяжении веков, вполне способны породить нечто материальное — во всяком случае, в сознании тех, кто им подвержен. Кроме того, имелись особые обстоятельства, связанные с этой историей — или выдумкой, называйте ее как угодно, — и при желании их можно было счесть достаточно убедительными (пусть и косвенными) доказательствами. Взять хотя бы изображение Хоу-Хоу в пещере, тот самый рисунок, который Зикали при помощи своих дьявольских штучек как-то сумел воспроизвести в языках пламени. Или бриллианты с рубинами, лежавшие сейчас в кармане моей охотничьей куртки. Разумеется, вполне возможно, что на самом деле это всего лишь горный хрусталь со шпинелями, но если допустить, что драгоценные камни подлинные, то, получается, они попали сюда из какого-то отдаленного и тайного места, поскольку я за все время своих скитаний никогда не слыхал о подобных находках. Нельзя отрицать, что полученные от Зикали камни разительно отличались от тех, что в ту пору, к которой относится мое повествование, как раз начинали добывать в Кимберли; тамошние, положа руку на сердце, были куда сильнее изъедены водой. Впрочем, наличие бриллиантов в той или иной области еще никоим образом не подтверждает и не отрицает существование Хоу-Хоу. Сколько ни старайся убедить себя в обратном, камни ровным счетом ничего не доказывают. Ладно, допустим, Хоу-Хоу и вправду существует. Действительно ли мне хочется повстречаться с ним лицом к лицу? С одной стороны, перспектива не из приятных; но с другой… Моя любознательность никогда не ведала границ, и будет просто великолепно узреть то, на что прежде не падал взор белого человека, а еще замечательнее выглядела сама возможность сразиться с этаким чудищем и прикончить его. Воображение мигом нарисовало мне выставленное в Британском музее чучело Хоу-Хоу, с большой разноцветной табличкой внизу: «Застрелено в Центральной Африке Алланом Квотермейном, эсквайром». Тогда я, человек весьма скромный и прозябающий в безвестности, в одночасье сделаюсь знаменитым, а мои портреты появятся в «Грэфик» и, возможно, в «Иллюстрейтед Лондон ньюс», причем меня изобразят, надеюсь, попирающим ногой тушу поверженного Хоу-Хоу. Вот она, истинная слава! Правда, жуткий Хоу-Хоу заранее представлялся непростой добычей, и не исключено, что эта история могла получить совершенно противоположное завершение: его волосатая лапа будет попирать мое тело, а голову он мне попросту оторвет, как тому несчастному на рисунке в пещере. Что ж, рассудил я, при таком развитии событий иллюстрированные газеты обойдут этот случай молчанием, только и всего. Что касается города, полного окаменевших людей и животных, эта часть рассказа Зикали могла оказаться либо правдой, либо чистым вымыслом. Уж здесь-то никакими призраками и духами даже не пахло. До сих пор мне не доводилось слышать ни о чем подобном, однако, подумал я, в принципе такое место может существовать в действительности, и тогда очень неплохо будет оказаться его первооткрывателем. Тут я одернул себя. Хватит уже пустых мечтаний! Наверняка слова Зикали не более чем вздорный вымысел, пустая болтовня! Но все же мне пришла на ум одна история, которую я услышал еще в далекой юности и давно позабыл, а теперь вдруг вспомнил, будто по мановению волшебной палочки. У моего покойного отца, человека образованного и начитанного, имелся сборник древнегреческих мифов. В одном из них рассказывалось о некоей девице по имени Андромеда, дочери местного царя, который, поддавшись требованиям народа и желая спасти свою страну от несчастий, привязал бедняжку к скале, принеся ее в жертву чудовищу, что вышло из моря. Однако в последний миг явился Персей, герой, располагавший чудесными предметами, и убил чудовище, а впоследствии женился на спасенной красавице. В некотором смысле история про Хоу-Хоу подозрительно напоминала античный миф: здесь тоже имелись девственница, привязанная к скале, и страшное чудовище, выходящее из моря (точнее, из озера); чудище забирало деву, и тем самым народ отвращал от себя беды. Эти сюжеты были настолько похожи друг на друга, что я невольно задался вопросом: не мог ли античный миф каким-то образом проникнуть в сердце Африки? Правда, в земле хоу-хоуа, похоже, до сих пор не нашлось своего Персея. Должно быть, его роль была уготована мне. Интересно, как в таком случае следует поступить со спасенной девой? Наверное, лучше всего вернуть ее благодарным родственникам, ибо у меня не было ни малейшего желания связывать себя узами брака. В общем, друзья, мысли мои перескакивали с одного на другое, фантазии становились все безумнее, и в конце концов я заснул.А минуту или две спустя, как мне почудилось, вновь проснулся, думая вовсе не об Андромеде, а о пророке Самуиле. Некоторое время я пребывал в полной растерянности, гадая, с какой стати мне вдруг пригрезился этот суровый библейский патриарх. Но затем, будучи прилежным чтецом Ветхого Завета, я припомнил, с каким недовольством сей благородный старец воспринял блеяние овец и мычание волов, коих Саул избавил от гибели (от съедения, как сказали бы зулусы), истребляя по велению Божества злокозненных амаликитян[149]. К слову, сам я никогда не понимал, зачем нужно резать глотки здоровому домашнему скоту. Вот и сейчас я отчетливо слышал мычание волов, отсюда и пришедший на ум Самуил. Интересно, спросил я себя, что это за волы, ведь наши мирно пасутся поблизости. Высунув нос из-за полога фургона, я увидел поистине чудесную вереницу упряжных животных, ровным счетом восемнадцать голов, включая парочку запасных, которых пригнали в наш лагерь двое незнакомых кафров. Лишь тогда я вспомнил о волах, которых Зикали согласился мне уступить по сравнительной разумной цене (или даже отдать бесплатно, при определенных условиях). Ладно, хотя бы в этом отношении старый мошенник оказался человеком слова. Поспешно натянув штаны, я вылез из фургона и принялся осматривать животных. Результаты осмотра меня полностью удовлетворили. Волы вполне оправились от утомления, а копыта их зажили (именно эти две причины, если помните, и побудили прежнего владельца оставить их на попечение Зикали); они выглядели откормленными, упитанными и способными тянуть груз любой тяжести. Даже скептически настроенный Ханс безоговорочно одобрил этих животных, которые, как он не преминул удостовериться, были приучены к здешней жаре, а некоторые даже привиты, о чем свидетельствовали обрезанные кончики хвостов. Поручив кафрам отвести волов на выпас — я не хотел, чтобы они паслись рядом с моими собственными, которые явно начинали заболевать, — я уселся завтракать в превосходном расположении духа, поскольку теперь вполне мог отправиться в путь, и стал раздумывать, не пора ли снова навестить Зикали. Ханс попытался уклониться от обязанности сопровождать меня, сказав, что лучше присмотрит за новыми волами, которых эти чужаки-зулусы могут угнать, и приводя тому подобные аргументы; было очевидно, что он просто-напросто боится старого колдуна и не желает приближаться к его жилищу. Впрочем, я все равно заставил готтентота пойти со мной, ибо он отличался отменной памятью, а четыре уха лучше двух, когда имеешь дело с Зикали. Коротко говоря, мы спустились в ущелье и без промедления, как и в прошлый раз, были впущены за ограду, возведенную вокруг жилища колдуна. Открыватель дорог, как и вчера, сидел перед хижиной и глядел в костер. Какая бы жара ни стояла, он всегда, сколько я помнил, сидел у огня. — Что ты скажешь о волах, Макумазан? — спросил колдун, не поднимая головы. Я осторожно высказался в том духе, что смогу ответить, когда испытаю их в деле. — Хитришь, как всегда, — укоризненно заметил Зикали. — Что ж, Макумазан, они в полном твоем распоряжении, а расплатишься ты со мной, как я уже сказал, когда вернешься. — Вернусь откуда? — уточнил я. — Оттуда, куда направишься, пусть даже пока сие тебе и неведомо. — Это точно, — подтвердил я и замолчал. Зикали тоже хранил молчание и, похоже, не собирался его нарушать. В конце концов терпение мое истощилось, и я ехидно справился, получил ли он по нетопыриной почте весточку от своего приятеля Хоу-Хоу. — Представь себе, Макумазан, получил, так мне думается, хоть и не от летучих мышей, а в своих снах, в видениях. Ага, Макумазан, я снова тебя подловил! Почему ты всякий раз так легко попадаешься в мои ловушки? Ты видел летучих мышей, я честно сказал тебе, что приручил их, прикармливая много лет подряд. А ты, увидев, как они вьются вокруг меня и улетают, наполовину убедил себя в том, что я отослал их за тысячу миль с посланием и велел доставить ответ, хотя такое невозможно. Эх, Макумазан, Макумазан! Вовсе не так я общаюсь с теми, кто находится далеко. Нет, я отправляю в полет свою мысль, и она достигает пределов мироздания, летая повсюду, ибо ей открыт весь белый свет. Порой мысли этой удается отыскать среди многих миллионов единственное прибежище и проникнуть в сознание человека, способного ее уловить и правильно истолковать. Вот как это происходит на самом деле. Однако для людей невежественных — а, судя по тебе, даже мудрые белые зачастую ничего не понимают — все сводится к летучим мышам. Скажи, Макумазан, почему ты всегда ищешь магические объяснения для естественных проявлений, а? Тут я подумал, что наши с Зикали представления о естественном, мягко говоря, различаются, но, понимая, что колдун, по своему обычаю, насмехается надо мной, и не желая вступать в пустое препирательство, как если бы был выше этого, сказал вслух: — Все настолько просто, что я спрашиваю себя: зачем ты разомкнул губы, чтобы поставить меня в известность об этом? Я лишь хотел узнать, получил ли ты ответ на свое послание, каким бы образом оно ни было отправлено, а если получил, то что именно тебе ответили. — Да, Макумазан, я получил ответ, как раз когда пробудился этим утром. И вот что я узнал: вождь народа валлу, с которым беседовало мое сердце, равно как и большая часть его племени, будут рады принять тебя на своей земле, хотя — это слова вождя — «жрецы Хоу-Хоу, которые почитают его как бога и поклялись ему в верности, узнав, что ты собираешься их навестить, нисколько не обрадовались». Если решишь поехать туда, вождь отдаст тебе все принесенные рекой бриллианты, на которые упадет твой взор, или что угодно из того, чем он владеет, а заодно ты также заберешь для меня листья чудесного дерева. Кроме того, вождь станет оберегать тебя от опасностей, насколько это будет в его силах. Однако взамен он потребует плату. — И что же это за плата, Зикали? — Вождь валлу хочет, чтобы ты низверг Хоу-Хоу. — А если я не смогу победить Хоу-Хоу, что тогда? — Если ты потерпишь поражение, то и сделка, разумеется, будет расторгнута. — Значит, вот как? Скажи, Зикали, а если я поеду туда, меня убьют? — Кто я такой, Макумазан, чтобы распоряжаться жизнью и смертью? Но все-таки, — прибавил колдун, намеренно разделяя слова понюшками табака, — все-таки я не думаю, что ты погибнешь. В противном случае я бы не согласился принять от тебя оплату за волов лишь по возвращении. И я уверен, что тебе предстоит еще многое сделать в этом мире, Макумазан, причем часть этой работы, которую никто другой выполнить не сумеет, пойдет мне на пользу. А посему мне не с руки посылать тебя на верную смерть. Я подумал, что это, пожалуй, правда, поскольку старый колдун уже давно намекал на некое великое дело, которое нам с ним якобы суждено совершить вместе; вдобавок я знал, что он относится ко мне с уважением — на свой лад, конечно, — и потому не желает зла. А еще меня вдруг охватило страстное желание ввязаться в эту рискованную затею, благодаря чему я наверняка увижу немало нового и интересного, — признаться, старые, исхоженные места меня порядком утомили. Но все же я постарался скрыть свое возбуждение от Зикали (если от него вообще можно было что-то утаить) и деловым тоном поинтересовался: — Так куда именно ты хочешь меня отослать, насколько это далеко и, если я соглашусь, как мне туда попасть? — Ага, Макумазан, наконец-то мы взялись за ассегаи! — Под этим старик подразумевал, что мы перешли к обсуждению практических вопросов. — Слушай внимательно, и я все тебе объясню. Его рассказ затянулся на добрый час, но я не стану утомлять вас, друзья мои, подробным изложением услышанного, ибо географические подробности ничего вам не скажут, да и до кона истории еще далеко. Достаточно будет сказать, что мне предстояло проехать около трехсот миль на север, переправиться через Замбези и проехать еще триста миль на запад. После этого следовало двигаться на северо-запад, невесть сколько, пока не достигну распадка в неких холмах. Там мне надлежало оставить фургон — если к тому времени он еще будет на ходу — и два дня идти пешком по безводной пустыне, в направлении болотистого оазиса. Там река, о которой упоминал Зикали, терялась в песках пустыни, и оттуда в ясный день я мог различить дым над вулканом, о коем также говорил старый колдун. Перейдя болото — или обойдя его стороной, — я должен был двигаться на эту гору, покуда не окажусь возле ущелья, сквозь которое бежит река, вытекавшая из владений Хоу-Хоу. Там, если верить Зикали, меня будет ожидать отряд валлу с лодками, и на лодках этих мы доплывем до их города, а далее все будет так, как предначертано небесами.
Тут Квотермейн обернулся ко мне и произнес: — Прежде чем мы расстанемся, друг мой, я отдам вам карту своего пути[150], которую начертил позднее, на случай, если вдруг вы или кто-то другой решит собрать компанию единомышленников и отправиться на поиски бриллиантов и окаменелых людей, — при условии, что меня вы к своему предприятию привлекать не станете.
— Итак, маршрут ясен, — кивнул я, когда Зикали завершил свои наставления. — Однако вот что я тебе скажу: я не намерен двигаться в одиночку по неведомым краям, ибо не смогу отыскать верную дорогу без проводника. Так что я, пожалуй, лучше отправлюсь в Преторию, с твоими волами или без них. — Неужели, Макумазан? Я начинаю думать, что и впрямь наделен даром предвидения. Я догадывался, что ты можешь повести такие разговоры, и позаботился отыскать человека, который приведет тебя прямиком к краалю Хоу-Хоу. Он уже здесь, и сейчас я пошлю за ним. — Карлик призвал слугу и отдал соответствующее распоряжение. — Откуда взялся этот человек, кто он такой и как давно находится здесь? — спросил я. — Я и сам толком не знаю, Макумазан, ибо он неохотно говорит о себе, но сдается мне, что проводник наш родом то ли из окрестностей земли Хоу-Хоу, то ли из нее самой. В любом случае у меня он прожил достаточно долго для того, чтобы я успел обучить его языку зулусов. Это, впрочем, не важно. Ты ведь говоришь по-арабски, верно? — Верно, Зикали, и Ханс тоже знает кое-какие слова. — Арабский его родной язык, Макумазан, как мне кажется, и, думаю, вы с ним поладите. Хочу сразу предупредить, что он человек особенный и совсем не похож на тех, кого обычно встречаешь в здешних местах; ну а в остальном ты и сам разберешься. Я промолчал, но Ханс тут же зашептал мне на ухо: мол, этот наш проводник — наверняка один из детей Хоу-Хоу, то есть большая обезьяна. Хотя готтентот говорил очень тихо, Зикали, сидевший довольно далеко, услышал его и язвительно бросил: — Значит, ты найдешь себе брата, а, Светоч во мраке? По-моему, я уже упоминал, но повторю: это прозвище Ханс заслужил благодаря участию в одном достопамятном деле. Готтентот насупился; вне сомнения, он чувствовал себя уязвленным сравнением с обезьяной, но не осмеливался возмущаться перед Открывателем дорог. Я по-прежнему хранил молчание, погрузившись в размышления, ибо мне вдруг с полной ясностью, словно при вспышке молнии, открылась вся суть этих загадочных, якобы колдовских ловушек, умело расставленных старым карликом. Выходит, к Зикали явился посланец из далеких таинственных земель и попросил помощи, а колдун согласился ему помочь — по причинам, о которых я ничего не знал. Эту миссию он решил возложить на мои плечи, явно считая, что я подхожу для выполнения поставленной задачи. Отсюда и взятка в виде волов, о которых он потрудился известить меня заблаговременно, каким-то хитрым способом разузнав о моем затруднительном положении. Все выглядело так, будто каждый мой шаг являлся частью тщательно продуманного плана, хотя такое, разумеется, вряд ли было возможно, ибо Зикали никак не мог подстроить нашу ночевку в той пещере, куда нас загнала буря. В результате мне придется послужить его целям, а кто знает, что именно задумал карлик. Он сказал, что желает получить толченые листья какого-то дерева, и это, возможно, правда, но я не сомневался, что список желаний Зикали куда длиннее. Не исключено, что стариком двигало любопытство и он хотел побольше разузнать о загадочном народе, поскольку был воистину одержим жаждою знаний. Или же, кто там разберет этих колдунов, загадочный Хоу-Хоу, если тот на самом деле существовал, виделся Зикали опасным противником, способным помешать исполнению его собственных планов, и этого противника следовало устранить. Если даже допустить, что девяносто процентов колдовского могущества Зикали были, по сути, откровенным мошенничеством, то оставшиеся десять процентов, как ни крути, нельзя было сбрасывать со счетов. Карлик сей действительно пребывал на ином уровне бытия, если сравнивать его с прочими смертными, и был связан с такими силами, о которых мы, простые люди, и не подозревали. Еще — у меня есть основания так полагать, но я не стану, друзья мои, докучать вам своими догадками — Зикали поддерживал связи с другими колдунами по всей Африке, пускай они жили в тысяче миль друг от друга; многие являлись его друзьями, а некоторые — врагами, но никому из них нельзя было отказать в обладании некими особого рода способностями. Покуда я все это обдумывал, Зикали, должно быть, читал мои мысли; я уверен в этом, поскольку он улыбался своей зловещей улыбкой и кивал массивной головой, как бы одобряя выводы, к которым я пришел. Тут возвратился слуга, а следом появился высокий мужчина в меховой кароссе, прикрывавшей не только торс, но и голову. Встав перед нами, мужчина скинул кароссу наземь и поклонился: сперва Зикали, а потом мне. Его уважительность простерлась настолько далеко, что он поприветствовал также и Ханса, разве что поклон на сей раз оказался не столь глубоким. Я изумленно разглядывал незнакомца. В жизни не видел такого красавца. Высокий, на глазок чуть выше шести футов, и широкоплечий, он был великолепно сложен и необычайно строен, а его руки и ноги сделали бы честь греческой статуе. Лицо мужчины тоже сразу привлекало внимание совершенными точеными чертами, пусть на белой коже его и застыло несколько угрюмое выражение; во взгляде больших темных глаз и в гордой посадке головы ощущалась благородная и древняя кровь. Казалось, этот человек явился к нам прямиком из глубины минувших столетий. Таким мог бы быть обитатель затонувшего континента Атлантида или опаленный знойным солнцем древний грек. Его темно-русые волосы слегка вились, ниспадая волной на плечи, но ни на подбородке, ни над четко очерченными губами растительности не было. Вполне вероятно, что незнакомец побрился, прежде чем прийти к нам. Одним словом, это был замечательный образчик мужественной красоты, выгодно отличавшийся от всех прочих представителей сильной половины человечества, каких мне доводилось встречать. Наряд его также поражал воображение, хотя и был изрядно поношенным. Чудилось, что он снял это платье с тела египетского фараона. Стройный стан обвивал холст, обшитый по кромке полинявшим пурпуром, а высокий, видавший виды холщовый головной убор имел форму опрокинутого и заостренного сифона для содовой. К коленям спускался расширявшийся книзу кожаный фартук, с непременной вышивкой по краям, а на ногах у незнакомца были сандалии все из того же холста. Я таращился на него в полном изумлении, гадая, принадлежит ли он к некоему неведомому мне племени, или же это очередной морок, сотворенный Зикали. Ну а Ханс и подавно выпучил глаза так, что те грозили выпасть из орбит, и шепотом спросил меня: — Баас, это человек или дух? Шею мужчины украшал торквес[151], или шейный браслет, по всей видимости, из чистого золота, а на поясе висел в красных ножнах меч с крестообразной костяной рукоятью. Некоторое время это немыслимое видение молча стояло перед нами, сложив на груди руки и смиренно склонив голову, хотя, пожалуй, это мне следовало бы кланяться незнакомцу, учитывая, каким совершенством он был. Похоже, мужчина сей не считал подобающим заговаривать первым, а Зикали, сидевший на корточках у костра, отнюдь не торопился прийти мне на выручку. Наконец, осознав, что нужно что-то предпринять, я встал с табурета, на котором сидел, и протянул руку. Мгновение помедлив, красавец из прошлого сделал ответное движение, однако не стал пожимать мне руку, а почтительно склонил голову и коснулся моих пальцев своими губами, словно вообразил себя французским придворным, а меня — знатной молодой дамой. Я поклонился ему со всем изяществом, на которое был способен, а затем сунул руку в карман и спросил по-английски: — Как поживаете? — И, поскольку он явно меня не понял, поздоровался по-зулусски: — Sakubona! Это тоже не сработало, и тогда я, на самом лучшем своем арабском, поприветствовал незнакомца именем пророка. Здесь я попал в скважину, как выражается один мой приятель, американец по прозвищу Брат Джон, ибо мужчина ответил мне на том же языке — или на наречии, очень на него похожем, хотя и не взывая к пророку, как полагалось. Голос его был мягким и приятным. Он обратился ко мне как к «великому вождю Макумазану, чьи слава и доблесть известны повсеместно под луной», и прибавил еще целую кучу подобных красивостей, по которым я заключил, что старый Зикали умело его науськал, но которые сейчас вполне можно опустить. — Спасибо, — перебил я, — большое спасибо, господин… — Я сделал паузу. — Меня зовут Иссикор, — представился он. — Чудесное имя, хотя, клянусь чем угодно, я никогда прежде его не слышал. Что ж, Иссикор, чем я могу вам служить? Признаю, это было невежливо с моей стороны, но мне не терпелось перейти к делу. — Спасите ее! — горячо воскликнул он, прижимая обе ладони к груди. — Спасите от смерти прекраснейшую на свете женщину, которая в благодарность за это непременно вас полюбит! — Неужели? — Я немного опешил. — Если честно, тогда я пас, потому что где любовь, там всегда сплошные неприятности. Тут в наш разговор вмешался Зикали, наконец-то соизволивший отвести взгляд от пламени. Колдун заговорил с Иссикором на зулусском языке, которому, как я помнил, он учил этого человека, и, старательно выговаривая каждое слово, произнес: — С вождя Макумазана уже вполне достаточно женской любви, больше ему не нужно. Не говори с ним о любви, Иссикор, иначе ты прогневаешь призрак той, что обитала прежде в этом месте, некоей госпожи Мамины, которую Макумазан когда-то знал очень близко. Я повернулся к Зикали, желая всем сердцем, чтобы он и в самом деле прочел мои мысли. А Иссикор, улыбнувшись, поправился: — Она полюбит вас как брата. — Так-то лучше, — проворчал я. — Хотя не уверен, что мне нужна сестра, в моем-то возрасте. Насколько понимаю, вы хотите сказать, что эта дама будет весьма мне обязана? — Именно, господин. — Он вдруг перешел на «ты». — И богато тебя вознаградит. — Вот как? — Тут я заинтересовался по-настоящему и, тоже отбросив церемонии, попросил: — Будь добр, разъясни толком, что именно от меня требуется.
Не стану утомлять вас подробностями, друзья мои: в целом Иссикор повторил историю, рассказанную Зикали. Мне следовало отправиться в далекие края, низвергнуть там то ли мифическое чудовище, то ли идола, то ли некую религию — и в награду получить столько бриллиантов, сколько я смогу унести. — Но почему вы сами не избавитесь от своего дьявола? — уточнил я. — Вот ты, Иссикор, выглядишь как воин. Ты явно силен, думаю, и твои сородичи тоже тебе не уступают. — Господин, — ответил он, разводя руки в стороны, как бы в знак извинения, — да, я силен и, верно, могу считаться храбрецом, но то, о чем ты говоришь, исключено. Никто из моего народа не в состоянии одолеть нашего бога, если можно так его назвать. Даже возмущение против него обернется для нас проклятием, а его жрецы начнут убивать недовольных… — У него есть жрецы? — перебил я. — Да, господин, у божества есть жрецы, поклявшиеся ему служить, злые люди на службе злого бога. Умоляю, господин, приди к нам и спаси прекрасную Сабилу! — Кто эта дама и чем она тебе столь дорога? — спросил я. — Господин, она любит меня, и вовсе не как брата, а я люблю ее. Она — великая госпожа, моя троюродная сестра и нареченная. А если злое божество не будет повержено, ее, красивейшую среди наших женщин, принесут ему в жертву! Тут чувства взяли над Иссикором верх — подлинные чувства, которым я не мог не сострадать. Он, правда, склонил голову, но я успел заметить слезу, что сбежала вниз по его щеке. — Знай, о господин, — продолжал он, совладав с собою, — в моей стране верят, что это божество, под чьим ужасным обликом прячется дух давно умершего повелителя, способен победить лишь человек другой расы, способный видеть в ночи, отважный и мужественный, рожденный в определенное время года. Таково древнее пророчество. Наши сновидцы позволили мне установить мысленную связь с Повелителем духов, которого иначе зовут Зикали, и это подарило надежду моему сердцу, пребывавшему в пучине отчаяния. От Зикали я узнал, что на юге проживает тот самый человек, о котором говорится в пророчестве, и что его прозвище означает Бодрствующий в ночи. Тогда я осмелился двинуться в путь, презрев проклятие, и решил отыскать тебя. И вот мы встретились! — Что ж, ты и вправду нашел меня, и мое прозвище на туземном языке действительно означает человека, который всегда начеку. Однако смею тебя уверить, что в темноте я вижу ничуть не лучше остальных, а уж до героя мне и вовсе далеко: я не слишком храбр, и мое ремесло — торговля и охота на диких животных. Так что прости, Иссикор, но у меня нет ни малейшего желания сражаться с вашими богами и их жрецами и вмешиваться в дела чужого племени. Я не хочу сходиться в поединке с какой-то здоровенной обезьяной, если она и в самом деле существует, рисковать жизнью ради пригоршни драгоценных камней или порошка из листьев, о котором грезит вот этот колдун. Так что лучше поищи какого-нибудь другого белого, обладающего зрением как у кошки и намного более сильного и храброго, чем я сам. — Зачем мне искать другого, о господин, коли ты по всем признакам именно тот, кто предназначен нам судьбой?! — воскликнул Иссикор. — Если ты не пойдешь со мной, тогда я вернусь домой один и умру вместе с Сабилой. — Он помолчал, переводя дыхание, а затем прибавил: — Господин, взамен я могу предложить тебе немногое, но разве доброе дело само по себе уже не награда? Разве память об этом свершении не будет согревать тебя при жизни и за порогом смерти? Ты благородный человек, и я молю тебя пойти со мной не ради добычи, но именно потому, что ты благороден и можешь спасти других от жестокости и поругания! Я все сказал. Решать тебе. — А почему ты не принес Зикали эти треклятые листья? — сердито спросил я. — Господин, я не бывал в том месте, в садах Хоу-Хоу, где растет нужное дерево. Кроме того, я не знал, что Повелителю духов необходимо это снадобье. Молю, господин, прояви свое благородство, о котором известно повсеместно.
Не стану скрывать, друзья мои, последние слова изрядно мне польстили. Каждому приятно считать себя благородным человеком, но мало кто говорит подобное нам в глаза, и потому было чрезвычайно приятно слышать сие от этого привлекательного, царственного обликом и весьма образованного, на свой манер конечно, отпрыска Хама[152] — если можно причислить его к таковым. Мне Иссикор казался скорее этаким переодетым принцем, человеком неведомого, но исключительно высокого происхождения, словно бы сошедшим со страниц некоей книги сказок. Впрочем, если подумать, он и был таким принцем — и, вне сомнения, принадлежал к числу тех, чье обаяние несокрушимо и кто обладает даром читать в чужих сердцах. (В тот миг мне не пришло в голову, что Зикали тоже был наделен заразительным обаянием и даром читать в сердцах и что этот дар побудил карлика свести нас с Иссикором ради достижения своих собственных загадочных целей. Вдобавок, как я уже сообразил позднее, колдун должен был поведать Иссикору, что знает белого человека, способного видеть во тьме, о котором будто бы говорилось в пророчестве.) К чему лукавить, предприятие, мне предложенное, было столь необычным и захватывающим, что неудержимо манило меня и влекло к себе как магнит.
«Допустим, — размышлял я, — ты, Аллан Квотермейн, доживешь до глубокой старости. Каково тебе будет вспоминать, что ты отверг этакое приключение, и сознавать, что ты сойдешь в могилу, так и не узнав, есть или нет на свете Хоу-Хоу, похищающий прекрасных Андромед — или Сабил, коли уж на то пошло, — и сочетающий в своем ужасном обличье черты божества или идола, дьявола и исполинской гориллы?» Смогу ли я вот так заглушить пламя своей любознательности и отказаться от выпавшей возможности поохотиться на редкую дичь? Вряд ли,ибо, если сейчас я все же обуздаю порывы собственной души, то как мне избавиться на склоне лет от угрызений совести? Хотя, не стану отрицать, меня по-прежнему терзали сомнения. Но не буду вдаваться подробно в обстоятельства своего выбора, скажу только, что в конце концов, будучи не в силах принять твердое решение, я проявил постыдную слабость и предпочел положиться на судьбу. Да, друзья мои, я решил, так сказать, бросить монетку, причем в роли последней предстояло выступить моему готтентоту. — Ханс, — произнес я по-голландски (этого языка не понимали ни Зикали, ни чужеземец Иссикор), — как ты думаешь, должны ли мы пойти с этим человеком в его земли или нам лучше остаться тут? Ты слышал его слова. Говори, я приму любой твой выбор. Тебе понятен мой вопрос? — Да, баас, — отвечал Ханс, по своему обыкновению ломая в руках шляпу. — Мне понятно, что баас оказался в глубокой яме и, чтобы выбраться оттуда, как обычно, ищет мудрости Ханса. Того самого Ханса, что состоит при нем сызмальства и научил его многому, того самого Ханса, на которого его достопочтенный отец-проповедник опирался как на посох, убедившись, что этот Ханс стал добрым христианином. Но дело крайне важное; я вынесу свое суждение, и мы с баасом поступим так или иначе, однако прежде мне надо задать несколько вопросов. Тут готтентот повернулся и, обратившись к терпеливо ожидавшему Иссикору на чудовищно скверном арабском, спросил: — Высокий баас с кривым носом, скажи, ведом ли тебе обратный путь в твою страну? Если да, то какую часть его можно проделать на колесах, в фургоне? — Я знаю дорогу, — сказал Иссикор. — Фургон проедет по ней вплоть до первой гряды холмов. По пути нам встретятся источники воды, и дичи будет в изобилии, безжизненна лишь пустыня, о которой упоминал Повелитель духов. Дорога займет не более трех лун, а в одиночку я преодолел это расстояние за две луны. — Отлично. Если мой баас Макумазан придет в твою страну, как его там встретят? — Большинство моих сородичей обрадуются, разозлятся только жрецы Хоу-Хоу, если подумают, что он явился чинить зло их божеству. И конечно, будет зол волосатый народ, обитающий в лесу, те, кого называют детьми Хоу-Хоу. С ними господину Макумазану предстоит сразиться, однако пророчество гласит, что в конце концов он всех победит. — В достатке ли еды в ваших краях, растет ли там табак и найдется ли питье покрепче воды, о высокий баас? — Всего этого у нас в изобилии. Мы располагаем немалыми сокровищами, о мудрый советник белого господина, и все они к вашим услугам, хотя, — здесь Иссикор многозначительно усмехнулся, — тем, кому предстоит иметь дело со жрецами Хоу-Хоу и с волосатым народом, лучше пить воду, иначе они крепко заснут и их застанут врасплох. — А такое оружие у вас есть? — Ханс ткнул пальцем в мое ружье. — Нет, мы воюем мечами и копьями. А волосатый народ стреляет из луков с деревьев. Ханс завершил свои расспросы и зевнул, как если бы утомился и захотел спать. Потом посмотрел на небо, где кружили в вышине стервятники. — Баас видит птиц? — спросил он. — Сколько их там, семь или восемь? Сам я не считал, но сдается мне, что семь. — Нет, Ханс, их восемь. Одна птица, самая крупная, скрылась в облаке. — Ты уверен, что стервятников восемь, баас? — Разумеется, уверен, — раздраженно ответил я. — Зачем ты задаешь эти глупые вопросы? Не веришь, так посчитай сам. Ханс снова зевнул и произнес: — Тогда мы отправимся с этим длинноносым баасом в земли Хоу-Хоу. Выбор сделан! — Что за вздор ты несешь, Ханс? Какое отношение имеет число стервятников к нашему путешествию? — Самое прямое. Бремя, которое баас на меня возложил, оказалось слишком тяжелым для моих плеч, так что я возвел глаза к небу и помолился достопочтенному отцу бааса, попросив его помочь мне, — и увидел этих птиц. И тогда я словно бы услышал голос предиканта, вещавший с небес: «Если стервятников будет четное число, Ханс, тогда отправляйся в путь, а если нечетное — оставайтесь там, где есть. Но не вздумай сам их считать, Ханс. Пусть это сделает твой баас Аллан. Иначе мой сын примется ворчать на тебя, когда дела примут скверный оборот — неважно, пойдете вы или останетесь, — и будет говорить, что ты, верно, ошибся в подсчетах». Ладно, баас, с меня достаточно! Пойду-ка я в лагерь, проверю наших новых волов. Я воззрился на Ханса, лишившись от негодования дара речи. Дав слабину, я оставил окончательное решение за готтентотом, положившись на его житейскую хитрость и опыт, подбросив, так сказать, монетку. И что же учинил этот маленький негодяй? Состряпал очередную байку, умудрившись приплести сюда моего покойного отца, и тоже сделал выбор наугад, по числу стервятников в небе, да еще предварительно заставил меня самого их сосчитать! Я настолько разозлился, что даже приподнял ногу, примеряясь, как бы половчее дать ему пинка, но Ханс, явно ожидавший от меня чего-то подобного, шустро отпрыгнул в сторону и убежал. Больше я его не видел до тех самых пор, пока не вернулся в лагерь. — Хо-хо! — рассмеялся Зикали. — Хо-хо-хо! Утонченный Иссикор наблюдал за происходящим с легким удивлением. Я повернулся к колдуну и сказал: — Мошенником я звал тебя раньше и назову так снова, за твои выходки с летучими мышами, за рассказы о чудесном исполнении пророчества, которыми ты потчевал этого бедолагу, и за все остальное. На самом деле был посланец, который доставил тебе весточку — или видение, или сон, назови, как угодно, — и все это время он стоял прямо передо мной! — Я гневно указал на Иссикора. — А теперь меня обманом вынудили согласиться на дурацкое приключение, и я, будучи человеком слова, не могу отказаться, не уронив своей чести! — Да неужели, Макумазан? — с невинным видом осведомился Зикали. — Ты говорил со Светочем во мраке по-голландски, а ни я, ни Иссикор этого языка не понимаем. Потому нам неведомо, о чем вы беседовали. Но ты сам, будучи честен душой, сообщил нам суть разговора, а мы знаем, как и все окрест: слово Макумазана, когда оно произнесено, крепче и надежнее любых записей белых, так что теперь лишь смерть или тяжелая болезнь способны помешать тебе сопроводить Иссикора обратно в его земли. Хо-хо! Все вышло так, как я и рассчитывал, по причинам, излагать которые я сейчас не стану, Макумазан, чтобы не злить тебя еще сильнее. Тут я понял, что меня одурачили, причем не единожды, а дважды: из одного ствола, образно выражаясь, пальнул Ханс, а из другого — старый карлик Зикали. Сказать по правде, я совершенно запамятовал, что старик не понимает по-голландски, и вспомнил об этом, лишь когда заговорил с Хансом; следовательно, мою беседу с готтентотом он подслушать не мог. Но пускай колдун и не был сведущ в голландском — насчет чего, к слову, у меня имелись сомнения, — зато он хорошо знал человеческую природу и умел, как я уже говорил, читать в сердцах. — Успокойся, Макумазан, — продолжал Зикали. — Что ты бурлишь, словно котел, накрытый крышкой? Эка невидаль, что твоя ловкая нога соскользнула и ты невольно выдал на одном языке то, о чем тайно рассуждал на другом, и тем самым дал обещание нам обоим! Знай, Макумазан, главное то, что клятва дана, и твое благородное белое сердце не позволит тебе отказаться от нее, пусть даже мы с Иссикором и не разобрали ни слова на чужом языке. Ведь если ты попробуешь отступиться, то твое большое белое сердце встанет комом у тебя в горле и лишит тебя возможности говорить. А посему выброси горящие сучья из-под котла своего гнева, пусть вода уже перестанет кипеть. Лучше исполни свое обещание, дабы узреть неведомое, совершить великие подвиги и спасти невинных от происков злых людей или злых богов. — Ну да, и заодно обжечь себе пальцы, загребая для тебя жар, Зикали, — прибавил я язвительно. — Может быть, Макумазан, может быть, ибо разве стал бы я все это затевать бескорыстно? Но какое дело до моих скромных интересов тебе, могучему белому вождю, что стремится к истине, как брошенное копье стремится поразить сердце врага? Ты отыщешь истины в избытке, Макумазан, ты познаешь новую истину. И разве столь уж важно, что острие копья будет смочено в крови, когда его извлекут из сердца сущего? Копье всегда можно отмыть, Макумазан, его можно очистить, и эту услугу среди множества прочих ты окажешь своему старинному другу, мошеннику Зикали.
Тут Аллан бросил взгляд на часы и оборвал рассказ. — Друзья мои, а вы заметили, который час? — спросил он. — Клянусь головою Чаки, уже двадцать минут второго! Если хотите, можете сами домыслить окончание этой истории, как вам больше понравится. Я же иду спать, не то на завтрашней охоте не смогу попасть даже в стог сена.
Глава 6
ЧЕРНАЯ РЕКА
На следующий вечер, ощущая приятную усталость после целого дня охоты и плотного обеда, мы четверо — Куртис, Гуд, ваш покорный слуга и старина Аллан — вновь собрались у очага в уютном логове Квотермейна под названием Грэнж. — Что же, Аллан, — сказал я, — прошу вас продолжить свой рассказ. — Какой такой рассказ? — спросил он, притворяясь, будто все позабыл. Каждый раз, когда дело касалось воспоминаний, ему бывало затруднительно подыскать первую фразу. — Насчет человека-обезьяны и того парня, что выглядел как Аполлон, — ответил Гуд. — Они мне снились всю ночь напролет, и во сне я спасал прекрасную даму, темнокожую и в синем платье. А в тот момент, когда меня ждал заслуженный поцелуй, красавица вдруг передумала и обратилась в камень. — Что было весьма благоразумно с ее стороны, уж не обессудьте, Гуд, — произнес Аллан сердито. — Не удивительно, что после таких снов вы сегодня стреляли по фазанам намного хуже обычного. Я насчитал восемь промахов подряд, это уж чересчур. — Зато я видел, как вы подстрелили восемнадцать птиц подряд, — весело отозвался Гуд, — так что в целом баланс соблюден. Но прошу вас, продолжайте свое повествование. Мне нравится слушать романтические истории, тем более надо же хоть как-то утешиться после неудачной охоты. — Романтические истории?! — вознегодовал Квотермейн. — По-вашему, я похож на романтика? Не судите о людях по себе, Гуд! Я поспешил вмешаться, заверив хозяина, что, дескать, не стоит тратить время на споры с Гудом, который, при всем моем к нему уважении, недостоин подобного внимания. Аллан в конце концов смилостивился и приступил к рассказу.— Итак, друзья мои, прошу не перебивать, я хочу поскорее со всем этим покончить, ибо от долгой говорильни у меня пересыхает в горле — сами понимаете, прожив столько лет в одиночестве, я вовсе не привык болтать без умолку, точно какой политик, — а жажду я обычно утоляю виски с водой и в результате пью больше, чем следует. Вам, я знаю, тоже не терпится дослушать мою повесть, в особенности Гуду, который ждет не дождется ее окончания, чтобы поспорить со мной и заявить, что сам он всяко справился бы лучше. Ну а вы, мой друг, завтра утром нас покидаете, и вам еще нужно упаковать вещи перед тем, как лечь в постель[153]. Посему я буду пропускать многое: скажем, не стану описывать в подробностях, как мы добрались до гор, хотя, признаться, это было одно из интереснейших путешествий в моей жизни, и по большей части дорога пролегала по местности для меня новой и вполне достойной, чтобы написать о ней отдельную книгу. Скажу просто, что в должный срок, после некоторой задержки — она была необходима, дабы освободить фургон и оставить все вещи, которые были ни к чему в этой вылазке, под присмотром Зикали, — мы выехали из Черного ущелья. Волы, коих я выкупил — точнее, одолжил — у колдуна, бодро шагали в упряжи, а следом за фургоном бежали четыре лучших вола из моей прежней упряжки и еще парочка запасных. Помимо наших собственных возницы и погонщика, Мавуна и Индуки, я также взял с собой двух других зулусов, слуг Зикали, не сомневаясь, что они будут служить верно, поскольку боятся своего грозного хозяина. При этом я сознавал, разумеется, что они станут шпионить за мной и, если мы благополучно возвратимся, подробно доложат обо всем увиденном и услышанном старому мошеннику. Что ж, опустив подробности этого замечательного путешествия, в ходе которого нам, слава богу, не пришлось сражаться, неприятности, крупные и мелкие, обошли нас стороной, а еды всегда было вдоволь, поскольку дичи по дороге встречалось в изобилии, я продолжу свой рассказ с того мгновения, когда мы, здоровые и невредимые, подошли к первой гряде холмов, обозначенной на карте; по словам Зикали, за ними начиналась пустыня. Здесь мы были вынуждены оставить фургон, потому что переправить его через холмы и через пустыню не имелось ни малейшей возможности. По счастью, нам попалась деревушка, населенная мирным племенем, что обитало в спокойном окружении и, благодаря избытку воды и отсутствию близких соседей, возделывало свои поля без каких-либо помех и угроз. Я оставил присматривать за животными Мавуна с Индукой, которым вполне доверял, зная, что они не сбегут; что касается волов, то по дороге к деревне мы потеряли всего троих. Слуг Зикали я также оставил там, ибо Иссикор настаивал, что дальше мы должны идти только втроем. Я рассудил, что это даже к лучшему: слуги колдуна будут приглядывать за моими зулусами, а те приглядят за ними, и все будет в порядке. Вождю местного племени я пообещал дорогой подарок, если по возвращении найду свое имущество в целости и сохранности. Он ответил, что приложит все усилия, но прибавил с грустью — как мне показалось, этот чернокожий вообще был склонен к меланхолии, — что, поскольку мы направляемся во владения Хоу-Хоу, то обратно, скорее всего, не вернемся, ведь в тех краях свирепствуют демоны. Потому он захотел узнать, как ему поступить с фургоном и со снаряжением, если мы не объявимся в назначенный срок. Я объяснил, что уже отдал необходимые распоряжения: если я не вернусь через год, то фургон отправится туда, откуда приехал, а нас следует объявить пропавшими без вести. Но, прибавил я, не стоит за нас опасаться, ибо, будучи великим чародеем, я знаю наверняка, что мы обязательно возвратимся, причем гораздо раньше означенного срока. Туземец в ответ лишь пожал плечами, с сомнением покосился на Иссикора, и на том разговор завершился. Я убедил вождя племени выделить нам троих проводников, знающих дорогу через холмы; еще им предстояло нести наши запасы воды. Мы условились, что эти трое должны отправиться в обратный путь, как только впереди покажется болото. Ничто на свете не могло вынудить местных жителей подойти хоть на шаг ближе к владениям Хоу-Хоу.
Покончив со сборами, мы вышли из деревни, оставив Мавуна с Индукой едва ли не в слезах: они словно заразились унынием вождя туземцев и тоже думали, что больше уже никогда нас не увидят. Конечно, по Хансу никто из них слез бы проливать не стал, поскольку оба ненавидели его столь же сильно, как он сам ненавидел их, но вот со мной все обстояло иначе — эти зулусы, смею сказать, любили меня, насколько они вообще способны были кого-то любить. Мы постарались взять с собою лишь самое необходимое: оружие (я прихватил свою двустволку «экспресс» и пару револьверов), патроны, сколько смогли унести, кое-какие лекарства, одеяла и прочее, смену одежды и запасные башмаки для меня, — а также множество емкостей для воды, в том числе две облитые парафином жестянки, что свисали с палки, словно ведра на коромысле. Еще мы прихватили табак, изрядный запас спичек и свечей и мешок вяленого мяса — билтонга — на случай, если не будет возможности разжиться свежей дичью. Звучит, согласен, не слишком внушительно, но, забегая вперед, скажу, что, прежде чем мы преодолели пустыню, у меня возникло стойкое желание выкинуть половину этого добра. Да и через холмы, оказавшиеся весьма коварными, мы вряд ли перевалили бы с таким грузом, не будь при нас троих местных проводников-носильщиков. Понадобилось двенадцать часов, чтобы достичь вершины гряды, под которой мы встали лагерем, и еще шесть часов на то, чтобы спуститься с нее на следующий день. У подножия гряды с другой стороны стелилась под ногами редкая клочковатая трава, кое-где попадались колючие кустарники, но в целом взгляду открывался почти голый вельд, постепенно сливавшийся с пустыней. На вторую ночевку мы остановились у последней, по словам проводников, речушки, утром наполнили водой все наши емкости — и двинулись вперед через бесплодное песчаное море. Вам известно, друзья мои, каковы африканские пустыни, ибо мы с вами преодолели по-настоящему жуткую пустыню, когда отправились на поиски копей царя Соломона. Это место, куда меня занесла нелегкая, тоже не отличалось дружелюбием. Начать с того, что было чудовищно жарко. Кроме того, песок порою вздыбливался этакими покатыми склонами, или волнами, на которые приходилось взбираться, а затем спускаться, и это было чрезвычайно утомительно. Иногда встречались чахлые деревца с толстыми листьями и колючими стволами, и неосторожное прикосновение к ним сулило продолжительную острую боль; из-за этих треклятых деревьев нельзя было двигаться в темноте и даже в сумерках, потому что издалека их различить не представлялось возможным: ты поневоле натыкался на очередной ствол, и последствия оказывались весьма печальными. На преодоление этой омерзительной пустыни мы потратили три дня. Прибавлю, кстати, что она имела еще одну отличительную особенность. Тут и там из песка торчали каменные колонны, отполированные ветром до блеска; они высились этаким подобием обелисков — когда поодиночке, а когда сразу несколько, громоздясь друг на друга. Полагаю, это были остатки горной породы, самые твердые ее остатки, упорно сопротивлявшиеся воздействию ветра и воды, которые за тысячи или даже миллионы лет сумели сточить более мягкие камни и обратить их в пыль. Эти похожие на египетские обелиски колонны производили странное впечатление, вынуждая заподозрить в них рукотворные памятники. К слову, от них был и практический толк: по этим колоннам наши проводники, привычные к здешним местам, где они охотились на страусов и воровали их яйца, прокладывали путь и определяли направление. Что касается самих страусов, этих птиц мы видели часто, из чего следовало, что пустыня не слишком широка, иначе птицы, обреченные питаться исключительно колючим кустарником, попросту бы в ней не выжили. Кроме страусов, никакой другой живности на глаза не попадалось. Вознесу хвалу нашей силе воли, благодаря которой мы разумно расходовали взятую с собою воду. Наконец, на третьи сутки пути, тяжело переставляя под палящим солнцем натруженные ноги, мы с гребня очередной песчаной волны увидели вдали нечто зеленое, обозначавшее конец пустыни и начало болота. Проводники сразу же напомнили о моей договоренности с вождем местного племени и заявили, что им, мол, пора возвращаться; ради этого, кстати, мы тоже берегли остатки воды, чтобы наши провожатые не умерли от жажды на пути домой. Впрочем, после недолгих переговоров туземцы решили идти с нами дальше; когда я спросил почему, все трое дружно обернулись и показали на темные тучи, что клубились в небе у нас за спиной. Как объяснили проводники, эти тучи предвещали песчаную бурю, губительную для всего живого. Посему нам велели ускорить шаг, и мы, уже валясь с ног от усталости, бегом преодолели последние три мили, отделявшие нас от кромки болота. Когда мы достигли тростника, буря разразилась во всей своей грозной красе, но мы продолжали идти, покуда не добрели до места, где тростник рос особенно густо. Там, выкопав руками ямки в иле, мы смогли раздобыть воды, которую тут же выпили, пускай она была грязной и невкусной. В этом месте мы провели несколько часов, пережидая бурю. Зрелище было поистине пугающим: пустыня скрылась за пеленой взметенного в воздух песка, который грозил засыпать нас даже среди тростника; время от времени приходилось вставать и отряхиваться. Застигни эта буря нас посреди пустыни, мы наверняка оказались бы заживо погребенными. А так вышло, что мы спаслись, хотя и наглотались песка, а наша кожа была вся в царапинах и ссадинах от гонимых яростным ветром песчинок. Мы просидели в тростнике всю ночь, но перед рассветом буря стихла, так что солнце взошло на совершенно ясный небосклон. Снова утолив жажду, мы вернулись к кромке болота, поднялись на песчаный гребень и огляделись. Иссикор вытянул одну руку к северу, а другой тронул меня за плечо. Я посмотрел в ту сторону и различил, где-то далеко-далеко в белесой голубизне небес, темное пятно, по форме напоминавшее гриб. — Туча! — воскликнул я. — Идем обратно в тростники, буря возвращается! — Нет, господин, — возразил Иссикор. — Это не буря, а дым над Огненной горой. Там лежит моя страна. Я присмотрелся повнимательнее. Выходит, что, по крайней мере в этом отношении, старый мошенник Зикали меня не обманывал. Быть может, он и насчет всего прочего тоже говорил правду? Если существует вулкан, о котором не известно ни одному европейцу-путешественнику, то, возможно, есть и погибший город, заполненный окаменевшими людьми, равно как и обитает на свете живой Хоу-Хоу. Нет, в Хоу-Хоу я отказывался верить наотрез. Теперь, наполнив животы и пустые сосуды водой, трое туземцев из деревни распрощались с нами, сказав, что дальше ни за что не пойдут. Они не сомневались, что благополучно доберутся до дома, поскольку теперь песчаная буря повторится не ранее чем через несколько недель. Наше колдовство, по их словам, было и впрямь могучим, ибо, промедли мы час-другой, никто бы из нас не уцелел в пустыне. Они ушли, а мы разбили лагерь в тростнике, рассчитывая немного передохнуть после столь утомительного перехода. Увы, наши надежды не оправдались: едва солнце село, стало понятно, что это обширное болото привлекает к себе зверей, которые, полагаю, стекались к нему со всех сторон, чтобы вдоволь напиться и полакомиться здешней обильной растительностью. При свете луны я видел, как из мрака возникают большие стада слонов и как эти животные величественно движутся к воде. Также появлялись многочисленные буйволы (причем некоторые из них буквально выламывались из тростников, где прятались днем) и едва ли не все, какие только есть в Африке, разновидности антилоп, а из самой трясины доносились фырканье и мычание ламантинов и громкий плеск, с каким, должно быть, ныряли в воду крокодилы, напуганные топотом могучих слоновьих ног. И это было еще далеко не все, ибо подобное обилие дичи, на которую можно поохотиться, вполне ожидаемо привлекло львов, что порыкивали где-то поблизости и время от времени выскальзывали на свет. Когда лев накидывался на выбранную жертву, все прочие животные по соседству поднимали страшный переполох. Шум, с каким они ломились сквозь тростник, оглушал, и спать при таком гомоне и треске было попросту нельзя. Вдобавок следовало иметь в виду, что львы могут поддаться соблазну и напасть на нас, учитывая, что вокруг не было даже кустов. Поэтому мы развели костер из сухого прошлогоднего тростника — к счастью, высохших стеблей поблизости нашлось предостаточно — и стали нести дозор. Пару раз я различил силуэт промелькнувшего неподалеку льва, но стрелять не торопился, опасаясь, что всего лишь раню зверя и тем самым заставлю его напасть на нас. Само это место выглядело сущим раем для любителя животных, но было совершенно бесполезным для охотника, поскольку у нас не имелось никакой возможности перенести, скажем, слоновую кость через пустыню, а только юнцы убивают добычу и оставляют ее гнить. На рассвете, впрочем, я подстрелил антилопу на мясо, и это был единственный выстрел, который я себе позволил. Посреди ночной суматохи, напрочь отгонявшей всякие мысли о сне, я воспользовался случаем подробнее расспросить Иссикора о его стране и о том, какой прием нас там ожидает. В предыдущие дни я почти не обращался к своему спутнику, а сам он хранил молчание и выглядел весьма сосредоточенным, как если бы думал только о том, чтобы поскорее вернуться домой; кроме того, в расспросах не было необходимости, пока мы находились далеко от владений Хоу-Хоу. Но теперь я счел, что настало время потолковать по душам. В ответ на мои вопросы Иссикор сказал, что если идти не останавливаясь вдоль узкого западного края болота, то через три дня мы достигнем горловины ущелья; сквозь него бежит река, которая далее течет через горы, что окружают его родину. Эти горы, добавлю от себя, встали черной линией вдалеке почти сразу, как только мы вошли в пустыню, из чего следовало, что они довольно высоки. Так вот, Иссикор надеялся, если мы доберемся до гор без приключений, отыскать там лодку и доплыть на ней до поселения; признаться, я не совсем понял, с какой стати кому-то нас там ожидать, да еще и с лодкой. Решив, однако, не вдаваться в подробности, я стал выяснять, что представляет собою поселение и каковы его обитатели. Иссикор ответил, что поселение большое, народу в нем проживает много, хотя и меньше, чем в былые времена. Как я понял, его сородичи вымирали вследствие браков между собою, а также из-за того, что жили в вечном страхе, понуждавшем женщин отказываться от рождения детей, чтобы тех не похитили хоу-хоуа (волосатые дикари, обитавшие в окрестных лесах) и дабы этих детей не принесли в жертву божеству. Я уточнил, верит ли сам Иссикор в существование этого божества, и он ответил, со всей искренностью, что верит, поскольку однажды узрел Хоу-Хоу собственными глазами, пусть издалека, и бог сей оказался столь ужасен, что всякое описание его бессмысленно. Мол, я сам все пойму, когда встречусь с Хоу-Хоу. Признаться, я стал подумывать, что этой встречи лучше бы избежать. На все мои многочисленные настойчивые вопросы о божестве, как прямые, так и косвенные, молодой человек отвечал одинаково сдержанно, и чувствовалось, что эта тема ему неприятна. Я выяснил, что Иссикор плыл в лодке, когда узрел на рассвете Хоу-Хоу, окруженного женщинами по случаю какого-то жертвоприношения, и что мой спутник видел божество лишь краем глаза, ибо страшился прямо взглянуть на него. Ему запомнилось, что чудовище было выше человеческого роста и ходило на задних лапах. Из его слов вытекало, что сам Хоу-Хоу никогда не появляется в поселении, а вот его жрецы часто приплывают туда. Затем, отказавшись далее обсуждать Хоу-Хоу, Иссикор стал рассказывать о системе управления, принятой среди народа валлу; насколько я понял, это было нечто вроде наследственной монархии, причем вождем могли стать как мужчина, так и женщина. Нынешнего правителя, человека преклонных лет, звали Валлу, как и сам их народ, и все вожди до него тоже носили это имя, поскольку слово «валлу» — это титул, принесенный в незапамятные времена из тех земель, которые соплеменники Иссикора когда-то населяли. У нынешнего вождя был единственный оставшийся в живых ребенок — дочь, та самая прекрасная Сабила, которую Иссикор столь горячо умолял меня спасти, поскольку ее должны принести в жертву богу. Иссикор приходился Сабиле троюродным братом и тоже принадлежал к очень знатному семейству. — Если эта дама погибнет, то, получается, вождем должен стать ты, Иссикор? — уточнил я. — Да, господин, по праву крови. Однако не все зависит от происхождения. В нашей стране есть иная сила, куда более могущественная, чем власть королей или вождей; это жрецы Хоу-Хоу. Они, господин, намерены присвоить себе власть над нами, если Сабила погибнет. Верховным жрецом сейчас является некий Дака, также принадлежащий к знатному роду, отец многих сыновей. — Значит, смерть Сабилы в интересах этого Даки? — Более того, господин, Даке нужно, чтобы мы с Сабилой умерли оба, и лучше всего вместе, ведь тогда дорога к власти для него расчистится. — А что насчет отца девушки, вашего вождя? Неужто он готов согласиться на смерть единственной дочери? — Нет, господин, он горячо любит свою дочь и хочет, чтобы она вышла за меня замуж. Однако, как я сказал, он стар и всего страшится. Валлу боится бога, который уже отнял у него старшую дочь; боится жрецов, которые выступают глашатаями Хоу-Хоу и, как поговаривают, сперва убили сына вождя, а затем пытались убить меня. Потому обессилевший от страха отец Сабилы лишился всякого влияния, а без него никто не будет действовать, ибо все должно совершаться во имя Валлу и его власти. Однако не кто иной, как он, отослал меня искать помощи у великого колдуна с юга, с которым сам вождь и его предки мысленно общались в минувшие годы. Да, именно из-за древнего пророчества, гласящего, что свергнуть Хоу-Хоу и покончить с тиранией жрецов способен лишь белый человек с юга, вождь послал на его поиски меня, нареченного своей дочери, сделав сие тайно и без ведома Даки. Ради Сабилы я посмел обречь себя на проклятие и отправиться на чужбину, за что наверняка заплачу дорогую цену. Это он, вождь, ждет нас с лодкой наготове. — Если ваш бог и в самом деле существует, в чем ты меня до сих пор не убедил, Иссикор, то как же мне его убить? Просто застрелить? — Не знаю, господин. Говорят, оружие его не берет, над Хоу-Хоу властны лишь огонь и вода, ведь предание гласит, будто бы он вышел из огня и живет, окруженный водою. В пророчестве, увы, не сказано, как именно ему суждено погибнуть, там говорится только, что его убьет пришелец с юга. Слушая в дикой местности, где в изобилии водились всевозможные животные, эти слова, слетавшие с уст человека, который выглядел измученным путешествием и перепуганным до глубины души, я и сам, признаться, ощутил страх и пожалел всем сердцем, что проявил несвойственную мне глупость и позволил заманить себя в ловушку. Быть может, ужасный бог, о котором я, сколько ни старался, до сих пор не сумел раздобыть никаких достоверных сведений, был выдумкой жрецов — или в него переодевался, когда возникала надобность, кто-то из жреческой братии. Но, так или иначе, думал я в тот момент, я направляюсь в земли, где распространены предрассудки, где верят в колдовство и убивают почем зря, то есть, коротко говоря, в края, где владычествует Сатана. Между тем мне, Аллану Квотермейну, предназначили роль современного Геракла, от меня ждут, что я расчищу эти авгиевы конюшни, положив конец кровопролитию и суевериям, а также сражусь со львом в обличье Хоу-Хоу, если допустить, что Хоу-Хоу, которого Иссикор якобы однажды видел с немалого расстояния, действительно существует и что это некая тварь выше человеческого роста, ходящая на задних лапах. Как бы то ни было, я согласился пойти с Иссикором. А поскольку выказывать свой страх бесполезно и недостойно, я не видел иного выхода, кроме как продолжать путь, — разве что развернуться и бежать обратно через пустыню, но этого мне, я знал твердо, не позволит собственная гордость. Как говорится, уж коли взялся за плуг, то надо закончить борозду. Потому я сидел и молча размышлял, никак не откликаясь на рассуждения Иссикора. Лишь немного погодя я встрепенулся и спросил его, когда должно состояться жертвоприношение Сабилы. Он ответил с горячностью, выдававшей душевное смятение: — В ночь полной луны, через четырнадцать дней, считая от сегодняшнего. Мы должны поспешить, потому что в самом лучшем случае до поселения валлу еще пять дней пути — три дня вокруг болота и два по реке. Молю тебя, о господин, не медли, иначе мы опоздаем и прекрасная Сабила погибнет. — Не беспокойся, — откликнулся я, — медлить мы не станем, и могу заверить тебя, дружище Иссикор, что чем скорее я разберусь с этим делом, уж не знаю, каким образом, тем больше радости и удовлетворения сие мне доставит. Ну да ладно, животные в болоте, похоже, слегка утихомирились, и я, с твоего разрешения, попытаюсь заснуть. По счастью, меня и вправду сморил сон, и я получил несколько часов отдыха, в которых отчаянно нуждался. Ханс разбудил меня, когда взошло солнце. Я поднялся, взял ружье и, высмотрев в стаде, что паслось неподалеку, тучную антилопу, подстрелил ее. Мы славно позавтракали — как вам известно, друзья мои, свежее мясо антилопы, если приготовить его, пока оно не успело остыть, такое нежное, как если бы вялилось добрую неделю. Как ни удивительно, грохот выстрела совершенно не напугал остальных зверей; из этого следовало, что они прежде не слышали ничего подобного и абсолютно не насторожились, когда их сородич был сражен пулей. Час спустя мы двинулись вдоль края болота — долгим обходным путем. Раньше я выходить отказался, опасаясь, что мы можем столкнуться со слонами и прочими животными, которые с появлением солнца начали расходиться от болота; они явно отправлялись искать себе пропитание, но вот куда именно, этого я сказать не могу. За всю свою жизнь мне не доводилось видеть этакого обилия зверья в одном месте; по всей видимости, болото служило единственным источником воды на много-много миль окрест. Как я уже говорил, от дичи рябило в глазах, но, поскольку охотиться мы не собирались, следовало держаться от животных как можно дальше, чтобы нас не затоптали. Но все равно мы ухитрились наткнуться на дремавшего в грязи белого носорога, у которого оказался самый длинный рог из всех, что мне случалось наблюдать. В длину он достигал едва ли не шести футов и мог бы считаться весьма достойным охотничьим трофеем. К счастью, ветер дул в нашу сторону, поэтому носорог нас не учуял и, затрубив спросонья, помчался в противоположном направлении — вы ведь знаете, друзья, что носороги почти слепы. Я не собираюсь докучать вам подробностями нашего утомительного трехдневного перехода по песку — да, мы шли по песку, поскольку двигаться по поверхности болота не было ни малейшей возможности. Днем нас нещадно жгло солнце, а по ночам изводили москиты; кроме того, спать мешали шум, издаваемый животными на водопое, и рычание львов. Хвала небесам, эти бестии, которым хватало прокорма, не обращали на нас никакого внимания. На третий вечер, все время забирая вправо, мы подошли совсем близко к горному кряжу, который казался не слишком высоким, однако выглядел почти неприступным: обрывистые утесы тянулись вверх на высоту приблизительно от пятисот до восьмисот футов. Каким чудесам и выкрутасам природы обязан своим появлением на свет этот черный кряж посреди пустыни, я не знаю и знать не могу, но горы были перед нами, и их предстояло преодолеть. Прежде чем солнце село, мы, по настоянию Иссикора, сложили на макушке песчаного гребня большую кучу из сухого тростника и с наступлением темноты подожгли ее; около четверти часа тростник ярко пылал, и пламя поднималось столбом. Иссикор не стал ничего объяснять, но, как справедливо заметил Ханс, это явно был сигнал его приятелям. На следующее утро, по просьбе нашего проводника, мы двинулись дальше еще до рассвета, пренебрегая опасностью столкнуться со слонами или буйволами, и к восходу очутились под самыми утесами. Приблизительно через час, следуя вдоль невысокой возвышенности под каменной стеной, мы резко свернули — и увидели перед собой высокого, облаченного в белое старца, который стоял на скале с копьем в руке, явно кого-то высматривая. Завидев нас, старец чрезвычайно ловко спрыгнул со скалы и с не менее поразительной резвостью устремился нам навстречу. Бросив на меня любопытствующий взгляд, он приблизился к Иссикору, пал на колени и, взяв нашего спутника за руку, прижал его ладонь к своему лбу, что лишний раз доказывало: наш спутник — весьма важная особа. Эти двое негромко заговорили между собой, а потом Иссикор повернулся ко мне и сказал, что пока все идет хорошо: наш костер заметили, и большая лодка уже ждет. Мы двинулись дальше, ведомые старцем в белом, и вскоре вышли к довольно широкой реке, русло которой пряталось в зарослях тростника. Слева от нас неторопливо катила свои воды река, справа же, буквально в сотне ярдов, начиналась трясина; тут и там посреди нее виднелись лужицы, окруженные высокими, очень красивыми стеблями папируса. Повсюду, куда ни посмотри, в воде плескались птицы, которые то и дело взлетали в воздух и непрестанно кричали, создавая оглушительный гомон. По обоим берегам этой реки, которую валлу называли Черной, высились отвесные скалы, и сквозь них, полагаю, вода пробивала себе дорогу на протяжении тысячелетий. Скалы были так высоки, а проход между ними столь узок, что они, казалось, встречаются наверху, а вода в реке и вправду выглядела черной. Мне сразу вспомнился легендарный Стикс из древнегреческих мифов, и я бы, пожалуй, не сильно удивился, увидев старого Харона, подплывающего на лодке, груженной душами умерших. Более того, на ум пришли слова поэта (правда, за точность цитаты я не ручаюсь): Бежит сквозь землю Кубла-хана Поток, сквозь мглу пещер гигантских Он достигает океана[154]. Не стану лукавить, друзья, это место наполнило мое сердце страхом; оно внушало ужас, мнилось поистине нечестивым, и я гадал, какой мрачный, лишенный солнечного света океан ожидает нас за этими вратами в преисподнюю. Будь я тут один или хотя бы только вдвоем с Хансом, я бы, пожалуй, немедленно развернулся и отправился в обратный путь вдоль болота, над которым, по крайней мере, светило солнце, а затем постарался бы пересечь пустыню и вернуться туда, где оставил свой фургон. Но в присутствии величавого Иссикора и его мирмидонянина[155] я не мог так поступить, не уронив достоинства белого человека. Нет, следовало идти до конца, каков бы тот ни был. Если уж даже я испугался, то что говорить о Хансе. Бедный готтентот был положительно вне себя от страха, и его зубы беспрерывно стучали. — О баас, — жалобно проговорил он, — если это дверь, то на что же будет похож дом за нею? — Мы узнаем это в свое время, — ответил я. — Нечего забивать себе голову вздорными мыслями. — Следуй за мной, господин, — обратился ко мне Иссикор, потолковав со своим приближенным. Я подчинился, а Ханс двинулся за мной, едва не наступая мне на пятки. Мы обогнули ближайшую скалу и обнаружили небольшой выступ; там ждала на берегу большая лодка, вырубленная, похоже, из цельного ствола дерева; ее нос лежал на прибрежном песке. В лодке находилось шестнадцать гребцов — я запомнил это точно, поскольку Ханс проворчал, что их, дескать, столько же, сколько было волов в нашей упряжке, а потом упорно именовал этих гребцов «водяными волами». Когда мы приблизились, гребцы подняли весла в воздух в знак приветствия, причем салютовали они, по-видимому, Иссикору, поскольку я и мой готтентот удостоились лишь беглых косых взглядов. Молча и без лишней суеты Иссикор жестом дал понять, что наше снаряжение, состоявшее в основном из ящиков с патронами, нужно загрузить в нос лодки (он был выточен таким образом, что там имелось небольшое полое пространство, укрытое под деревянным навесом), а затем показал, где нам с Хансом следует сесть. Потом наш провожатый сам забрался в лодку, а старец в белом встал на корме и взялся за рулевое весло. По команде все шестнадцать гребцов дружно навалились на весла, лодка соскользнула с песка и очутилась на воде. Река казалась полноводной, готовой разлиться, как только вырвется из каменных стен. Должно быть, здесь несколько месяцев подряд шли дожди, а низкое небо в облаках свидетельствовало о том, что вскоре следует ожидать новых ливней.
Глава 7
ВАЛЛУ
В полной тишине, если не считать плеска весел, мы быстро продвигались по спокойным, гладким речным водам. Думаю, ничто в этом диковинном путешествии — во всяком случае, в первой его части — не поразило меня сильнее, нежели эти тишина и покой. С той же размеренностью, с какой жизнь всякого доброго человека движется к кончине, вода мирно и неспешно текла между каменных стен в направлении пустыни, где река терялась в песках. Обрывистые утесы по обеим сторонам русла замерли в неподвижности; они были столь крутыми, что на этих отвесах не смогло бы найти себе пристанище ничто живое, не считая, быть может, летучих мышей, но те, как известно, твари ночные и днем спят. Полоска серого неба высоко над нашими головами тоже казалась неподвижной, хотя порой между скалами ощущалось дуновение ветерка и раздавался полувздох-полустон, который можно было приписать колебанию воздуха, порожденному крылами пролетевшего мимо сверхъестественного существа. Но тише всего выглядели эти шестнадцать гребцов, которые час за часом монотонно, в полном молчании выполняли свою работу, лишь изредка, при крайней необходимости, о чем-то перешептываясь друг с другом. Постепенно мне начало чудиться, будто я угодил в ночной кошмар: заснул и во сне стал участником некоего драматического действа. Возможно, так оно и было на самом деле, поскольку я изрядно утомился, отдыхая лишь урывками на протяжении нескольких ночей подряд и целые дни напролет бредя по песку с тяжелым ружьем в руках и грузом патронов за плечами. Сдается мне, я и вправду тогда задремал, ведь общеизвестно, что плеск воды способен погрузить в сон любого человека. Надо сказать, сновидение было не из приятных: исполинское ущелье, по которому плыла лодка, и ужасные перспективы, которые сулило наше предприятие, угнетали мой дух, создавая ощущение расставания с привычным, знакомым миром и погружения в нечто неизведанное и, повторюсь, нечестивое. Вскоре утесы по бокам сделались такими высокими, а дневной свет стал настолько тусклым, что я едва различал суровые лица гребцов, выступавшие из сумрака, когда все они в едином порыве подавались вперед, и исчезавшие, как только они дружно откидывались назад. Это слаженное движение — вперед-назад, вперед-назад — само по себе убаюкивало и одновременно пугало. Лица гребцов походили на личины призраков, которые выглядывали в щели между занавесями вокруг кровати, а затем пропадали, чтобы появиться вновь. Полагаю, в конце концов я все же заснул по-настоящему. Но и в этом сне призраки продолжали меня донимать: мне снилось, что я вступил в мрачное царство Аида, где от всего материального остались одни только тени, лишенные естества и силы, но оттого не менее жуткие. Наконец меня разбудил голос Иссикора, который сообщил, что мы добрались до места, где остановимся на ночевку, ибо в темноте дальше плыть опасно, а гребцы нуждаются в отдыхе. Я огляделся и увидел, что утесы слегка раздались, оставив полоску берега по обеим сторонам от воды. При последних лучах дневного света мы перекусили тем провиантом, что был при нас, дополнив его своего рода печеньем, которое нашлось в лодке; костер разжигать не стали. Прежде чем мы закончили ужинать, пала кромешная тьма, ибо свет луны не мог проникнуть настолько глубоко в толщу скал; нам не оставалось ничего другого, кроме как лечь на берегу и смежить веки, вслушиваясь в стоны ветра между каменных стен вместо колыбельной. Ночь все длилась и длилась. Она казалась мне такой долгой, что я даже начал думать — или грезить наяву, — будтоумер и дожидаюсь теперь своего следующего воплощения; когда же усилием воли я вырывался из этого забытья, то слышал бормотание Ханса, во сне возносившего молитвы моему покойному отцу; суть этих молитв сводилась к тому, что он просил своего благодетеля ниспослать ему с небес бутылочку джина. В конце концов звезда, тускло сверкавшая в щели между краями утесов, исчезла, и небо в этой щели сделалось серым, что означало приближение рассвета. Мы все поднялись, на ощупь расположились в лодке, поскольку ничего по-прежнему не было видно, и тронулись в путь. В нескольких сотнях ярдов от места нашего ночлега каменные стены вдруг широко разошлись, и стало заметно, что до каждой из них больше мили, а берега реки представляют собой местность ровную и плоскую. Повсюду виднелись высокие и раскидистые деревья с темной листвой, их ветви простирались далеко над водой и отсекали дневной свет ничуть не хуже утесов ниже по течению. Постепенно глаза привыкли к этому сумраку, и мне вдруг почудилось, что я вижу среди деревьев какие-то темные фигуры, перебегающие от ствола к стволу. Они то замирали, то вставали на задние конечности, а порой шустро перемещались на четвереньках. — Смотри, Ханс, — прошептал я (в этом месте все говорили шепотом). — Там бабуины! — Какие еще бабуины, баас?! — отозвался готтентот. — Где баас видел бабуинов такого роста? Нет, это дьяволы! Иссикор прошептал откуда-то из-за моей спины: — Это волосатый народ, обитающий в лесу, господин. Молю вас, молчите, не то они услышат и нападут на нас. Он негромко заговорил с гребцами, обсуждая, должно быть, как лучше поступить: плыть дальше или повернуть обратно. Судя по тому, что гребцы заработали веслами вдвое усерднее, было решено продолжить путь. Мгновение спустя в лесу раздался звук — до невозможности странный, какой-то потусторонний, наполовину крик животного, наполовину человеческий вопль. Слух уверял меня, что этот звук складывается в знакомое слово — «Хоу-Хоу»! Вмиг клич сей был подхвачен по обоим берегам реки, и раскаты этого «Хоу-Хоу!» загремели над головой. Слышать это было столь жутко, что мои волосы, и без того непослушные, встали дыбом. Прислушиваясь, я начал догадываться, откуда взялось имя божества, в гости к которому меня завела жажда приключений. Следом послышались другие звуки — увесистые шлепки по воде, какие издают плюхающиеся в воду крокодилы. Я присмотрелся и увидел, что темные фигуры прыгают в реку с раскидистых деревьев и плывут к нам. — Волосатые нас учуяли! — прошептал Иссикор, и в его голосе, насколько я мог судить, прозвучало беспокойство. — Прошу вас, сидите смирно и не хватайтесь за ружья. Лесные демоны очень любопытны. Быть может, они просто поглядят на нас и уплывут. — А если нет? — не преминул спросить я, но Иссикор промолчал. Лодку направили к левому берегу, и теперь она почти летела над водой благодаря усилиям гребцов. На открытой воде, при дневном свете, который становился все ярче, я рассмотрел чудовищную голову, принадлежавшую, несомненно, некоему человекообразному существу: борода, желтые глаза-плошки, толстые губы и крупные оскаленные зубы. Тварь приближалась к нам с прытью опытного пловца, ибо вошла в воду дальше нас и плыла по течению. Вот она поравнялась с лодкой, выпростала из воды могучую лапу, целиком покрытую бурой шерстью, точно у обезьяны, ухватилась за борт лодки прямо напротив того места, где сидел я, и наполовину высунулась из воды, тем самым дав мне возможность убедиться, что и тело у нее тоже покрыто длинной шерстью. Другая лапа также вцепилась в борт, и существо как бы встало на воду, опираясь на передние лапы; страшная морда очутилась так близко от меня, что вонючее дыхание обожгло мне кожу. Да, эта мерзкая тварь глядела на меня и злобно скалилась. Признаюсь, я перепугался, как никогда в жизни, однако продолжал, как мне и было велено, сидеть неподвижно. Потом я внезапно понял, что далее сдерживаться не в силах, ибо тварь сия была явно намерена то ли забраться в нашу лодку, то ли вытащить меня из нее. Словом, я позволил чувствам взять верх, схватил свой увесистый охотничий нож — вон он, друзья, на стене — и ударил по ближайшей ко мне лапе. Удар пришелся твари по пальцам, и один из них упал на дно лодки, отсеченный начисто. Тварь испустила пронзительный вопль и скрылась под водой, а затем я увидел, как она сует кровоточащую лапу себе в пасть. Обеспокоенный Иссикор начал было что-то мне говорить, но тут Ханс воскликнул: — Allemachte! Вон еще один! И в следующий миг из воды вынырнула другая башка, уже со стороны готтентота, совсем рядом от него. — Ничего не делай! — услышал я строгий голос Иссикора. Но Ханс, видимо решив, что это уже чересчур, выхватил револьвер и дважды выстрелил в тело чудища. Тварь опрокинулась в воду и принялась скулить, как и первая, разве что голос ее был тоньше. Я справедливо предположил, что это самка. Прежде чем эхо выстрелов успело стихнуть, по воздуху снова раскатился клич «Хоу-Хоу!», перемежавшийся другими криками, причем все они были грозными и яростными. С обоих берегов реки лесные существа прыгали в воду — по счастью, не для того, чтобы напасть на нас; нет, они были заняты спасением своих товарищей. На моих глазах твари окружили раненую самку и потянули ту к берегу. Вынесли ее тело на сушу — по безвольно обвисшим лапам можно было догадаться, что самка мертва, — и этот их поступок давал понять, что, пускай наружностью они мало отличаются от зверей, в них есть нечто человеческое.— Слоны поступают схожим образом, — вставил сэр Генри Куртис. — Верно, — согласился Аллан. — Мне и самому доводилось видеть подобное, причем дважды. Но в поведении этих волосатых все, буквально все было человеческим. К примеру, они оплакивали умершую, и их плач заставил меня вспомнить легенды о банши[156]. Да и совсем рядом, прямо возле моих ног, валялось несомненное доказательство. Отрубленный палец первой твари был явно человеческим, разве что очень толстым и покрытым шерстью, а ноготь на нем совсем стерся, должно быть, оттого, что существо сие лазало по деревьям и копалось в земле в поисках съедобных кореньев.
Уже в тот миг я с ужасом сообразил, что наткнулся на недостающее звено — или на нечто, поразительно с ним схожее[157]. Здесь, в неведомых дебрях Африки, отыскались существа, выглядевшие именно так, как выглядели наши предки сотни тысяч или даже миллионы лет назад. Еще я, помнится, подумал тогда, что мне следует возгордиться, ведь я сделал великое открытие, хотя, по совести говоря, мне очень хотелось уступить эту честь кому-нибудь другому. Затем появились иные темы для размышления, поскольку всего в дюйме от моей головы просвистел громадный зазубренный камень, а следом прилетела и вонзилась в борт лодки грубо сделанная стрела с рыбьей костью вместо наконечника. Под дождем этих снарядов, которые, по счастью, не причинили нам серьезного ущерба, не считая парочки синяков, мы выплыли на середину реки, куда ни камни, ни стрелы не долетали. Поскольку больше никто из волосатых не пытался приближаться к лодке, очень скоро мы оставили этих тварей позади. В тот раз я впервые за все время знакомства увидел обычно невозмутимого Иссикора взволнованным. Он приблизился, сел рядом и произнес: — Свершилось дурное дело, господин. Вы объявили войну волосатому народу. Они никогда этого не забудут. Это будет война до полной победы. — Не смог удержаться, — ответил я дрожащим голосом, ибо был изрядно напуган внешностью и криками этих косматых тварей. — Скажи, а много ли их здесь? Они что же, водятся по всей вашей стране? — Волосатых довольно много, господин, с тысячу или больше, но обитают они только в лесу. Не ходи в лес, господин, во всяком случае в одиночку; и не вздумай появляться на том острове, где живет Хоу-Хоу. Он их повелитель и держит часть лесных демонов подле себя. — Пока у меня нет намерения там высаживаться, — отозвался я мрачно. Между тем утесы отступали все дальше от воды и наконец словно бы растворились за лесами. Мы миновали внутренний выступ горного кряжа, если можно так выразиться, и очутились посреди девственного леса, настоящего моря громадных деревьев; деревья эти, благодаря плодородной почве, достигали тут просто невообразимой вышины. А впереди показался узнаваемый конус вулкана, широкий, но не слишком высоко расположенный над землей, и над ним висело то самое грибообразное облако дыма. Весь день потом мы плыли по спокойной реке, наслаждаясь солнечным светом и прозрачностью воды посредине, тогда как у берегов, под раскидистыми деревьями, вода виделась все такой же черной. Ближе к вечеру поворот русла вынес нас на бескрайнее пространство, откуда, как мне показалось, и вытекала река (впрочем, позднее я узнал, что она впадала в это озеро, а вот где находился ее исток, мне так и не сказали). Озеро, имевшее много миль в поперечнике, окружало остров немалых размеров, в центре которого возвышался вулкан, теперь, вблизи, казавшийся обыкновенной сероватой горой, хотя над ним по-прежнему виднелось то зловещее облако дыма, причем — вот странность — чудилось, будто оно просто висит над горой, а не исходит из жерла. Полагаю, причина в том, что горячий воздух из жерла вырывался в виде пара и лишь выше, остывая и смешиваясь с пеплом, превращался в подобие дыма. У подножия горы, на равнине между вулканом и озером, я разглядел в подзорную трубу нечто вроде зданий довольно солидного размера, построенных из черного камня или из застывшей лавы. — Это развалины, — пояснил Иссикор, заметивший, куда я смотрю. — Некогда там стоял великолепный город наших предков, но его уничтожил огонь, сошедший с горы. — Значит, теперь на острове никто не живет? — спросил я. — Там живут жрецы Хоу-Хоу, господин. И сам Хоу-Хоу, конечно, в большой пещере на дальнем склоне горы. Во всяком случае, так уверяет молва, хотя никто из нас не бывал в этой пещере. Вместе с ним там живут волосатые, которые ему прислуживают. Мой дед однажды отважился высадиться на остров и узрел божество своими глазами. Я уже говорил, что тоже видел бога, но не спрашивай, господин, как он выглядит, потому что этого я не помню. — Иссикор сделал паузу, а затем продолжил: — Перед пещерой разбит сад, и там растет то чудесное дерево, листья которого нужны для изготовления снадобий Повелителю духов с юга. Это дерево навевает сны и дарит долгую жизнь. — Хоу-Хоу питается плодами этого дерева? — уточнил я. — Насчет плодов я не знаю, господин, но мне известно, что он поедает плоть зверей, которых полагается приносить ему в жертву, а также, как говорят, и людей. Возле сада горят негаснущие костры, а между ними находится та самая скала, на которой совершаются жертвоприношения. Мне подумалось, что, пожалуй, было бы неплохо увидеть собственными глазами это место, о котором Иссикор, судя по всему, мало что знает, узреть пещеру, где обитает печально знаменитый демон, окруженный своими рабами и жрецами, отыскать дерево, которое считается чудесным, и посмотреть, что это за негаснущие костры такие. Наверное, они имеют какое-то отношение к вулкану, это было бы логично. Пока я прикидывал, как бы получше расспросить Иссикора, чтобы добиться от юноши более внятных ответов, мы проплыли мимо лесистого мыса; тут река образовывала нечто вроде устья, и на берегу бухты за мысом лежало поселение валлу — вернее, даже целый город довольно внушительных размеров, покрывавший несколько сотен акров суши. Дома этого города, преимущественно окруженные садами (правда, те, что поменьше, образовывали некое подобие улиц), выглядели, как бы правильнее выразиться, по-восточному, что ли, поскольку были приземистыми и имели плоские крыши. Имелось, правда, одно существенное отличие: на Востоке такие дома обычно выбелены, а эти сплошь были черными, ибо возводили их, как я узнал впоследствии, из застывшей лавы. Вдоль всего города, кроме той стороны, что была обращена к озеру, тянулась высокая стена, тоже из черного камня. Мне стало любопытно, зачем ее построили, и я задал этот вопрос своему спутнику. — Она защищает нас от набегов волосатых, которые нападают по ночам, — объяснил Иссикор. — Днем они не приходят никогда, поэтому наши поля расположены за стеной. — Он указал на обширный участок возделанной земли, тянувшийся на несколько миль и примыкавший к лесу. Думаю, чтобы его расчистить, валлу пришлось вырубить и выкорчевать немало деревьев. Далее Иссикор поведал, что горожане трудятся в светлое время суток, а к вечеру все возвращаются за стену, не считая тех, кто остается ночевать в укрепленных домах наподобие наших блокгаузов, чтобы сторожить поля и загоны для скота. Оглядывая город, я размышлял о том, что никогда прежде не видывал места более мрачного, особенно под вечер и под этим серым, готовым пролиться дождем небом. Черные дома, высокая черная стена, напоминавшая о тюрьме, черные воды озера, серо-черные склоны вулкана, черный лес за ним — все это внушало уныние и наводило тоску. — Ох, баас, только не бросайте меня одного, здесь можно сойти с ума! — воскликнул Ханс. В кои-то веки я был абсолютно солидарен с готтентотом. Мы приблизились к берегу и поплыли вдоль маленького причала, составленного из наваленных друг на друга камней, а затем высадились на сушу. Наверняка о нашем прибытии горожан оповестили заранее, поскольку небольшая группа местных, человек сорок или пятьдесят, ожидала нас у дальнего конца пристани. Мимолетно осмотрев толпу, я убедился в том, что все эти люди, независимо от пола и возраста, очень похожи на нашего проводника Иссикора. А именно все они были высокими, хорошо сложенными, светлокожими и с исключительно привлекательными лицами, того самого египетского типа, который я уже описывал ранее. На головах женщин были плотно сидевшие холщовые шапочки со свисающими по бокам длинными «отвесами»: подобный головной убор как нельзя лучше соответствовал строгой местной красоте. «Интересно, — подумалось мне, — к какой расе принадлежат эти люди?» Угадать не представлялось возможным; мне самому они виделись, так сказать, последышами некоей великой цивилизации. Ведомые Иссикором, мы двинулись вперед, неся свои скромные пожитки и после столь утомительной дороги представляя собой, должно быть, не слишком приглядное зрелище. Когда мы приблизились, встречающие разделились на две группы: мужчины встали справа, а женщины слева, точно паства в какой-нибудь церкви, славящейся своим строжайшим уставом. Все они молча и пристально разглядывали нас своими большими и грустными глазами. Валлу не проронили ни слова, пока мы проходили между ними, лишь наблюдали, и я, признаться, слегка встревожился. Эти люди не удосужились поприветствовать даже Иссикора, хотя лично мне казалось, что он достоин похвалы, поскольку сумел вернуться из долгого и опасного путешествия. Бросилось в глаза — впрочем, в то время я не придал этому значения, а потом и вовсе забыл и вспомнил, лишь когда Ханс заговорил об этом, — что какой-то смуглый мужчина со строгим лицом, одетый иначе, нежели остальные, шагнул навстречу Иссикору, заговорил с ним и вложил нечто ему в руки. Иссикор мельком взглянул на полученный дар, и я заметил, что наш спутник вдруг побледнел и содрогнулся. Он поспешил спрятать подарок и ничего не сказал в ответ. Повернув направо, мы двинулись вдоль озера по дороге, сложенной из камней; эти камни возвышались над уровнем воды на добрую дюжину футов и служили, по-видимому, защитой от наводнений. Дорога уперлась в стену, в которой была дверь, изготовленная из плотно пригнанных толстых досок. Дверь открылась при нашем приближении, и мы, пройдя сквозь нее, очутились в большом саду, где сразу чувствовалась заботливая хозяйская рука: повсюду радовали глаз цветочные клумбы — единственные яркие пятна, которые я увидел в этом городе, носившем, как выяснилось впоследствии, имя Валлу (уж не знаю, в честь ли самого народа или его правителя). В дальнем конце сада обнаружился длинный массивный дом с плоской крышей, все из того же черного камня. Войдя внутрь, мы попали в просторное помещение, которое, поскольку уже опускались сумерки, освещалось сделанными в форме полумесяцев фонарями на подставках из огромных слоновьих бивней. Посреди помещения стояли два больших стула, изготовленных из черного дерева и слоновой кости, с высокими спинками и уступами для ног. На этих стульях восседали мужчина и женщина, на которых, друзья мои, скажу честно, стоило посмотреть. Мужчина был стар, седые волосы ниспадали ему на плечи, а печальное лицо бороздили бесчисленные морщины. С первого взгляда я сообразил, что он должен быть королем или вождем: уж очень величественный вид был у этого старца. Более того, его платье с пурпурной каймой тоже выглядело по-королевски, а с шеи свисала тяжелая цепь, похоже, из чистого золота; в руке он держал черный посох, увенчанный золотым набалдашником, это явно был скипетр. Что же до всего остального, то взгляд у мужчины был затравленный и в целом от него исходило ощущение слабости и нерешительности. Молодая женщина на другом стуле сидела так, что на нее падал свет одного из фонарей-полумесяцев, и я сразу догадался, что это наверняка и есть прекрасная Сабила, нареченная Иссикора. Не удивительно, что он так любил ее, ибо она и вправду была восхитительно красива — высокая, статная, прямая, как тростинка, невероятно женственная, с большими глазами, точеными чертами лица и неожиданно маленькими, изящными ладонями и ступнями. На даме также было платье с пурпурной каймою, перехваченное поясом, который был обильно украшен красными камнями (я решил, что это рубины); на очаровательной головке, удерживая роскошные, отливающие золотом волосы, что стекали вниз длинными волнистыми прядями, лежал простой золотой обруч. Не считая алого цветка на груди, иных украшений молодая женщина не надела, сознавая, похоже, что они будут ни к чему. Оставив нас стоять у двери, Иссикор шагнул вперед и опустился на колени перед стариком, который сперва дотронулся до него посохом, а затем возложил руку на его голову. Потом Иссикор встал, шагнул к даме и преклонил перед нею колени, а она протянула ему руку для поцелуя; на ее лице — это было заметно даже издалека — промелькнули радость и нежданно вспыхнувшая надежда на чудо. Иссикор о чем-то пошептался с юной красавицей, а затем повернулся и заговорил с ее отцом. После чего пересек помещение, подошел ко мне и поманил за собой, а Ханс последовал за мной по пятам. — О вождь Макумазан, — начал Иссикор, — пред тобой Валлу, правитель моего народа, и его дочь, госпожа Сабила. О вождь Валлу, вот это тот самый благородный белый человек, прославленный своими умениями и отвагой, с которым свел меня Повелитель духов и который внял моим мольбам и, следуя велению своего сердца, поспешил сюда, чтобы избавить нас от страшных бед. — Я благодарю его, — ответил Валлу на том же арабском наречии, на котором изъяснялся Иссикор. — Благодарю от своего имени, от имени моей дочери, которая ныне в одиночестве восседает слева от меня, и от имени моего народа. Вождь поднялся со стула и поклонился мне с непривычным, каким-то чужеземным изяществом, подобного которому я не встречал нигде в Африке. Его дочь тоже встала и присела передо мной в реверансе. Снова заняв свое место, вождь продолжил: — Разумеется, ты устал, путник, и желаешь отдохнуть и поесть. Отдыхай же, а потом мы с тобой побеседуем. Нас вывели через дверь в дальнем конце просторного помещения в соседнюю комнату, очевидно приготовленную для меня. Нашлось там местечко и для Ханса, что-то вроде ниши в стене. Две молчаливые женщины средних лет принесли нам воду, причем подогретую — неслыханная вещь для Африки! — в большом глиняном сосуде, а еще на мою постель положили нижнюю рубаху из чудесного тонкого полотна. Сама постель, что-то наподобие дивана с подушками, размещалась на полу и была накрыта меховым покрывалом. Я умылся, налив теплую воду в каменную чашу на подставке, надел рубаху и свежую одежду, которую предусмотрительно прихватил с собой. Затем Ханс взялся за карманные ножницы и подровнял мне бороду и волосы. Едва мы покончили с этим, как женщины появились снова; на сей раз они принесли еду на деревянных тарелках — по-моему, то было жаркое из ягненка — и питье в глиняных кувшинах изысканной формы, усыпанных сверху донизу теми самыми мелкими бриллиантами, образчиками которых меня одарил Зикали; судя по всему, эти бриллианты сложили в узоры, прежде чем глина успела высохнуть. Напиток в кувшинах оказался разновидностью туземного пива, сладковатым на вкус, но приятным и довольно крепким, поэтому пришлось следить за тем, чтобы Ханс не очень-то налегал на питье. После угощения, которое пришлось весьма кстати, поскольку мы не вкушали должным образом приготовленной пищи с тех самых пор, как бросили свой фургон в деревеньке за горами, появился Иссикор. Он отвел нас обратно в просторное помещение, где Валлу и его дочь по-прежнему восседали на стульях, а вокруг расположились на корточках несколько пожилых мужчин. Мне тоже принесли стул, и беседа началась. Не буду вдаваться в подробности, ибо суть сказанного в целом сводилась к тому, что я уже слышал от Иссикора: на острове посреди озера обитает некто — или нечто, — ежегодно требующий себе в жертву прекрасную невинную деву. Свое требование этот некто озвучивает через верховного жреца, главу жреческого собрания, признающего, что существо на острове, подлинное или вымышленное, является божеством. Кроме того, это существо считается повелителем волосатого народа, что населяет лес. (Я заодно выяснил, что «волосатые» — это прозвище, равно как и «лесные демоны», тогда как на самом деле племя, обитающее в лесу, правильно называется хоу-хоуа.) Наконец, в предании говорится, что существо сие — воплощение какого-то древнего правителя племени валлу, погибшего неведомо когда от рук восставших подданных. От этой истории я сразу отмахнулся, поскольку ничуть не сомневался, что передо мной очередной вариант широко распространенной африканской легенды. Не подлежало сомнению, что Хоу-Хоу — если он и впрямь существует — правил дикими косматыми первонасельниками этого места, которых когда-то покорили вторгшиеся валлу, пришедшие сюда с севера или с запада, а сами валлу — остатки цивилизованного, но практически вымершего народа. Должен прибавить, что у меня не возникло оснований усомниться в своих выводах. Африка — чрезвычайно древний континент, на котором обитали народы и племена, давным-давно канувшие в небытие или дожившие до наших дней, но пребывающие в прискорбном состоянии (вырождаясь и мельчая из поколения в поколение, они неминуемо движутся навстречу концу). Позволю себе вкратце перечислить основные свои выводы об этом народе. Итак… Почти наверняка валлу принадлежали к числу вымирающих народов, а происходили, судя по именам, откуда-то из Западной Африки, где их предки жили в условиях цивилизованного общества. Пускай они разучились писать, однако некогда у них бытовала традиция письменности, и остались древние надписи на камнях, начертанные знаками, которых я не знал, но которые показались мне весьма похожими на египетские иероглифы. Также валлу до сих пор хранили память о некоторых культурных достижениях, ремеслах и искусствах, например об изготовлении тонкой ткани, о резьбе по дереву и мрамору, о гончарном деле и о плавлении металлов, коими изобиловала их земля, включая золото (его здесь добывали в виде самородков, просеивая речную гальку). Впрочем, большинство упомянутых ремесел со временем оказалось утрачено, за исключением тех, что были необходимы для выживания: скажем, работы с глиной, строительства жилых домов и возведения стен. Однако валлу в основном занимались земледелием и скотоводством, причем в сельском хозяйстве явно преуспевали. Насколько я убедился, все изящные искусства и ремесла у них практиковались только ветхими старцами. Поскольку эти люди никогда не заключали браков с народами другой крови, потомственная красота, поистине восхитительная, оставалась при них, но в силу причин, о коих я уже упоминал, валлу вымирали, и нынешнее население по численности составляло не более половины того, что проживало здесь еще пару поколений тому назад. Печаль, которая, похоже, с годами сделалась отличительной особенностью этого народа, проистекала как из мрачного окружения, так и из осознания того, что они обречены исчезнуть, пасть под натиском диких туземцев, некогда бывших их рабами. И последнее: хотя валлу и сохранили определенные воспоминания о возвышенной религии, продолжая возносить молитвы Великому Духу, эти люди сделались язычниками, одержимыми предрассудками, и верили, что способны выживать дальше, лишь принося жертвы демону, который, если они пренебрегут своими обязанностями, обрушит на их головы град несчастий и предаст поруганию и гибели от рук жутких обитателей леса. Именно поэтому валлу — точнее, некоторые из них — подались в жрецы этого демона, звавшегося Хоу-Хоу, и поддерживали мир между своими соплеменниками и волосатым народом. Но хуже всего, как объяснил Иссикор, было то, что их жрецы, по обыкновению жрецов всего мира, ныне добивались единовластного правления народом и ради этой цели замышляли истребить законного вождя и все его потомство. Вот, так сказать, краткое содержание истории, которую той ночью излагали мне злосчастные валлу. А под конец отец Сабилы сказал: — Теперь ты понимаешь, о вождь Макумазан, почему, изнывая от бед и горестей и внемля древнему пророчеству, что досталось нам от наших предков, обратились мы к великому Повелителю духов с юга, с которым мысленно говорили многие годы, и молили его прислать нам человека, способного исполнить это пророчество. И вот он прислал тебя, а теперь я взываю к тебе с мольбой спасти мою дочь от горькой участи. Мне ведомо, что ты потребуешь плату белыми и красными камнями, а также золотом и слоновой костью. Забирай столько, сколько унесешь. Камни хранятся в кувшинах, что спрятаны глубоко под землей, а изгороди позади моего дома сделаны из слоновьих бивней; правда, они почернели от возраста, и я не знаю, поднимешь ли ты хоть один, ибо они велики и тяжелы. Золото мы переплавляем в слитки, и еще мой дед постановил, что слитки сии следует хранить, пусть нам самим золото и ни к чему, разве что сгодится женщинам на украшения. Опять-таки, не знаю, как ты справишься, сможешь ли перейти с золотом пустыню. Но повторяю: все будет твоим. Забирай наши богатства. Забирай что угодно, только спаси мою дочь. — О награде мы поговорим потом, — ответил я, чувствуя, что неподдельное горе этого старца разбередило мне душу. — А сейчас скажи, о вождь, что мне надлежит сделать. — Не знаю, господин, — ответил он, заламывая руки. — На третью ночь, считая от сегодняшней, будет полная луна, восход которой ознаменует начало сбора урожая. В ту ночь нам придется отвезти Сабилу, на которую нынче пал жребий, на остров посреди озера, где стоит дымящая гора, и привязать ее к Скале приношений, что расположена между двух негаснущих костров. Там мы должны будем оставить ее, и на рассвете, как гласит предание, Хоу-Хоу явится за невестой и унесет в свою пещеру, где бедняжка сгинет навсегда. Или, если не придет он сам, пожалуют его жрецы, которые и утащат жертву к своему божеству. — Но зачем вам отвозить дочь на остров? Не проще ли созвать народ, поднять восстание и убить этого бога и его жрецов? — Господин, среди нас нет никого, ни единого человека, быть может, кроме Иссикора, кто бы отважился хотя бы взяться за оружие и заступиться за Сабилу. Люди верят, что если они восстанут, то гора взорвется пламенем, как случилось в незапамятные времена, и все, на кого попадет пепел, обратятся в камень, а воды озера поднимутся и уничтожат урожай, так что уцелевшие умрут от голода, а каждый, кому посчастливится избежать огня и воды, будет растерзан кровожадными лесными демонами. Словом, если я попрошу валлу спасти невинную деву от Хоу-Хоу, они убьют меня и все равно отдадут Сабилу божеству, как то полагается по обычаю. Я молча кивнул: все было понятно. — Господин, — не отступался старый вождь, — здесь, со мной, ты в безопасности, и никто из моих людей не причинит вреда ни тебе, ни твоему слуге. Но от Иссикора я узнал, что ты ударил одного из волосатых ножом, а твой слуга убил их женщину из диковинного оружия, с которым ты ходишь. От лесных демонов я тебя уберечь не смогу, и они, если доберутся до вас, мигом прикончат обоих и устроят пиршество из вашей плоти. Разумеется, заявление сие нимало меня не обрадовало, но вслух я ничего говорить не стал, поскольку не знал, что тут вообще можно сказать. Старый вождь встал со стула и объявил, что должен помолиться духам предков и попросить у них наставлений, а продолжить нашу беседу мы сможем завтра утром. После чего он пожелал нам доброй ночи и удалился, сопровождаемый прочими старцами, которые все это время хранили полнейшее молчание, лишь кивали иногда, точно фарфоровые изображения китайских мандаринов.
Глава 8
СВЯЩЕННЫЙ ОСТРОВ
Когда дверь за вождем закрылась, я повернулся к Иссикору и прямо спросил, есть ли у него хоть какой-то план. Он величаво покачал головой и ответил: — Нет, господин. Судя по всему, он находил невозможным противостоять одновременно воле народа и законам жрецов. — Тогда зачем вообще было тащить меня в этакую даль? — раздраженно осведомился я. — Что, неужели вообще нет никаких соображений, как спасти Сабилу? Например, ты мог бы, прихватив свою прекрасную даму, сбежать вместе с нами, спуститься вниз по реке и скрыться там, где демонов нет и в помине. Как тебе такой план? — Не получится, господин, — ответил он с грустью. — Далеко нам не уйти, ибо за нами наблюдают денно и нощно и мигом схватят. Кроме того, Сабила не бросит своего отца, а я не допущу, чтобы всех моих родных поубивали в наказание за мое отступничество. — Ну так придумай что-нибудь еще! — не унимался я. — Неужели нет никаких способов спасти Сабилу? — Поверь мне, о Макумазан, единственный способ — это убить Хоу-Хоу и его жрецов. На тебя, благородный господин, мы возлагаем упования, ибо пророчество гласит, что нашим спасителем и освободителем будет белый человек с юга. — Да пропади оно пропадом, ваше пророчество! Сколько я их в своей жизни слышал, и ни одно не сбылось! — воскликнул я по-английски, разглядывая эту красивую, но совершенно беспомощную пару. Потом прибавил, перейдя на арабский: — Я устал и иду спать. Надеюсь, сон подскажет мне выход, раз уж от тебя, Иссикор, ничего толком не добиться. Мне почудилось, что в облике моего собеседника нечто неуловимо изменилось, как если бы в его чертах вдруг проявились обреченность и даже отчаяние. Сабила, заметившая мое раздражение, сочла нужным вмешаться: — О господин, молю, не гневайся, мы лишь мошки, угодившие в паутину. Нити этой паутины — злобные жрецы Хоу-Хоу, а ее опора — верования нашего народа. Сам Хоу-Хоу — паук, и его когти готовы вонзиться в мою грудь. Слушая эти рассуждения, я думал о том, что, на мой взгляд, правильнее было бы сравнить чудовище со змеей, а Сабилу — с птицей, ибо, подобно всем прочим валлу, бедная девушка казалась словно зачарованной страхом и явно намеревалась покорно дожидаться, пока в нее вонзятся ядовитые клыки. — Господин, — продолжала она между тем, — мы уже сделали все, что могли. Разве Иссикор не совершил долгое и полное опасностей путешествие, чтобы отыскать тебя? Он не испугался проклятия, которое неизбежно падет на голову того, кто отважится покинуть здешние края, и отправился на юг, к Повелителю духов. Этот достойный человек однажды присылал к нам за листьями дерева, растущего в саду Хоу-Хоу, дерева, что опьяняет людей и вызывает у них видения. — Верно, — согласился я, — Иссикор сделал это, госпожа, и смею заметить, что он, насколько я могу судить, несмотря на путешествие, пребывает в добром здравии. Это ваше проклятие, похоже, не причинило ему вреда. — Да, оно почему-то не погубило его, — проговорила Сабила задумчиво, словно бы озадаченная этим обстоятельством. — Что ж, госпожа, коли так, может, и все эти разговоры насчет могущества Хоу-Хоу — тоже чепуха и вздор? Скажи, сама ты хоть раз говорила с вашим богом или видела его? — Нет, господин. Но если ты меня не спасешь, то я увижу его очень скоро. — А кто-нибудь другой с ним общался? — Нет, господин, с богом никто из нас не говорил, не считая, конечно, его жрецов. Мой дальний родич Дака ныне сделался верховным жрецом, но я знала его еще до того, как он стал избранником Хоу-Хоу. — Значит, никто чудовище не видел? Что же это за бог такой таинственный, что он никак не проявляет себя, а живет в пещере со жрецами? — Я не говорила, что никто и никогда не видел Хоу-Хоу, господин. Многие уверяют, что узрели его, подобно Иссикору, когда бог выходил из пещеры в Ночь приношения, но рассказать об увиденном они не могут, ибо за это полагается смерть. Прошу, господин, не спрашивай больше нас с Иссикором о Хоу-Хоу, иначе проклятие сбудется. Закон запрещает нам говорить о боге с чужаками, а тайны божества неведомы даже его жрецам. Судя по горячности Сабилы, она и вправду верила в эту чушь. Мысленно выбранившись, я спросил, сколько на острове жрецов. — По-моему, около двух десятков, господин. — Теперь Сабила отвечала прямо, не прибегая к уверткам. — У каждого из них есть жены и прислужницы, и поговаривают, что живут они вовсе не в пещере, а в домах снаружи. — А чем эти люди занимаются, госпожа, когда не поклоняются Хоу-Хоу? — О, они возделывают землю и правят лесными демонами, диким народом, детьми Хоу-Хоу, если верить молве. А еще приходят сюда и следят за нами. — Вот как? А верно ли, что они замышляют править не только волосатыми, но и вами тоже? — Думаю, да, господин. Дака вроде бы намеревается объявить войну племени валлу и стать вождем, если отец мой умрет, а я погибну. Правда, тогда ему придется также убить и Иссикора, моего троюродного брата и жениха, но это его не остановит: Дака всегда и во всем стремился быть первым. — Ты хорошо знаешь этого Даку, госпожа? — Да, господин, мы были близко знакомы в юности, до того, как он стал жрецом. — Сабила вдруг покраснела. — А еще мы виделись с ним и потом… — Что же он говорил тебе? — Заявил, что мне следует выйти за него замуж и тогда я, возможно, избегну участи быть принесенной в жертву Хоу-Хоу. — И что ты ответила ему, госпожа? — Господин, я сказала, что предпочту отправиться к Хоу-Хоу. — Но почему? — Да потому, что у Даки, как говорят, и без того немало жен. И я его ненавижу. А от Хоу-Хоу, если уж на то пошло, всегда можно сбежать. — Интересно, каким же образом? И куда? — Убежать в смерть, господин. У нас есть быстро убивающий яд, и я уже давно, — прибавила она со значением, — ношу в волосах ядовитый корешок. — Понятно. Что ж, госпожа Сабила, ты оказала мне честь, попросив моего совета, и вот что я хочу тебе посоветовать. Прошу, не принимай эту отраву без крайней нужды. Пока мы живы, надежда остается, и все, что мнится потерянным, можно вернуть. Однако мертвые, госпожа, не воскресают на этом свете. — Слушаю и повинуюсь, о господин, — ответила Сабила и залилась слезами. — Но ведь вечный сон куда лучше, чем жизнь с Дакой или в плену у Хоу-Хоу. — А по-моему, жизнь вообще лучше, чем смерть, — отозвался я, — в особенности жизнь, наполненная любовью. Затем я откланялся и ушел, сопровождаемый Хансом, который тоже не преминул поклониться, точно дрессированная обезьянка шарманщика, которая клянчит у зевак монетку. У двери я обернулся и увидел, что двое несчастных валлу крепко обнялись, полагая, должно быть, что никто их не видит. Головка Сабилы лежала на плече Иссикора, и по тому, как вздрагивали ее плечи, было ясно, что девушка рыдает; он же пытался утешить возлюбленную стародавним, повсеместно известным способом. Оставалось лишь надеяться, что хоть в этом от парня будет какой-то толк. В моем представлении Иссикор был на удивление бесполезным и беспомощным образчиком вымирающего народа, но не стану отрицать, что отваги ему было не занимать, раз уж он предпринял путешествие в страну зулусов. И снова мне бросилось в глаза, что в его облике произошли неуловимые изменения, свидетельствовавшие об упадке физических сил и духа. Когда мы очутились в своей комнате и заперли дверь (окон здесь не было, свет и воздух проникали внутрь сквозь отверстия в крыше), я поделился с Хансом табаком и пригласил готтентота сесть напротив меня. Он уселся на корточки и сделался похожим на большую жабу. — Ну, Ханс, поведай мне свои мудрые мысли и растолкуй, как помочь этой прелестной даме и ее отцу, старому вождю. Ханс посмотрел на крышу, перевел взгляд на стену, а потом сплюнул на пол, за что я не преминул его выбранить. — Сдается мне, баас, — произнес он наконец, — что лучше всего для нас будет узнать, где хранятся те яркие камешки, наполнить ими карманы и бежать из этой земли, где полным-полно глупцов и демонов. По-моему, Красивой госпоже будет лучше с тем жрецом Дакой или даже с самим Хоу-Хоу, чем с этим Иссикором, который превратился в крашеную деревяшку, вырезанную наподобие человека. — Вполне возможно, Ханс, что ты прав, однако у женщин причудливый вкус, и она воспринимает эту деревяшку как храбреца, а призраков и духов эти двое боятся одинаково. Не будь Иссикор храбрым, он не отправился бы на чужбину за помощью для Сабилы. Что же касается нас, то мы заключили сделку и дали слово. Что мы скажем Открывателю дорог, если вернемся, не сдержав обещания, и не принесем ему желанные листья? Нет, Ханс, мы должны добыть эту дичь. — Конечно, баас, я так и знал, что ты произнесешь эти неразумные слова. Будь я один, я бы сейчас уже сидел в лодке и плыл вниз по течению. Но раз баас решил, что нам непременно надо спасти Красивую госпожу и отдать ее в жены Деревяшке, то я, пожалуй, лягу спать, а завтра или через день баас пойдет спасать, кого сможет. Здешнее пиво мне не по нраву, баас, оно слишком сладкое, а все эти глупцы с красивыми лицами, болтающие о демонах и жрецах, меня утомляют. Еще тут слишком темно и сыро. Скоро снова пойдет дождь, помяни мое слово, баас. Не имея под рукой ничего другого, я кинул в Ханса своей трубкой, метя ему в голову. Он ловко поймал пущенный снаряд и тут же сунул трубку себе в карман, якобы по рассеянности. — Если баасу и вправду интересно знать, о чем я думаю, — сказал готтентот, зевая, — то думаю я о том, что колдун по имени Дака хочет жениться на Красивой госпоже и править в одиночестве всеми этими глупыми людьми. Насчет Хоу-Хоу я ничего не знаю, но, быть может, это один из тех волосатых, что пришли сюда в начале времен. По-моему, баас, нам нужно завтра утром взять лодку и сплавать на тот остров посреди озера, чтобы самим все увидеть и хорошенько разобраться на месте. Надеюсь, Деревяшка и его люди согласятся нас отвезти. Больше мне сказать нечего, так что, если баас не против, я лягу спать. Держите свое оружие наготове, баас, на случай, если волосатым вздумается нас навестить, дабы поболтать о той твари, которую я подстрелил. Он забился в свой уголок, свернулся калачиком на подстилке из шкур и быстро захрапел, однако я знал наверняка, что сон у готтентота весьма чуткий. Ни волосатые, ни какие-либо другие недруги не смогут подобраться близко без того, чтобы Ханс не услышал, поскольку мой слуга всегда спал сном собаки, охраняющей хозяина. Готовясь последовать примеру готтентота, я размышлял о том, что хотя его слова и напоминали обычную болтовню туземцев, однако, если вдуматься, были исполнены мудрости. Народ валлу действительно выглядел скопищем одержимых суевериями беспомощных глупцов; не удивлюсь, если те немногие среди них, кто обладал мозгами, подавались в жрецы. Вот только волосатые и впрямь обитали в лесу — против этого малоприятного факта, как говорится, не попрешь, а жрецы явно обладали даром повелевать этими существами. Что же до всего остального, то Ханс был прав: надо нам самим побывать на священном острове и увидеть все собственными глазами. Разумеется, затея опасная, но зато какое может выйти приключение! На следующее утро я проснулся отменно отдохнувшим и вышел в сад, где долго изучал кустарники и цветы, среди которых попалось несколько мне неведомых. Также я поглядывал на небо — серое, низкое, набухшее тучами и предвещавшее дождь. Иных занятий не нашлось; высокая стена перекрывала вид со всех сторон, над нею виднелась разве что макушка вулкана, вздымавшаяся над озером в нескольких милях от берега. Но вот дверь дома отворилась, и появился Иссикор; вид у молодого человека был усталый и слегка растерянный. Мне подумалось, что вчера вечером он, наверное, засиделся с Сабилой допоздна. Поскольку этим двоим вскоре предстояло расстаться, было вполне естественно, что они стремились подольше побыть друг с другом. Или же, пришло мне в голову, Иссикор мог всю ночь напролет молиться духам предков и обдумывать, как лучше поступить, что, учитывая сложившиеся обстоятельства, было задачей не из простых. Я не стал тратить время на любезности и прямо поинтересовался: — Иссикор, готов ли ты сразу после завтрака переправить нас с Хансом на остров посреди озера? — На остров, господин? — переспросил он изумленно. — Но зачем вам туда? Он же священный! — Не стану спорить. Я тоже священная особа, так что после меня остров станет еще святее. Иссикор попытался возражать, но, не преуспев в этом, привел вождя Валлу и убеленных сединами старейшин, чтобы те его поддержали. Ханс и Сабила тоже к нам присоединились, причем девушка, я заметил это с первого взгляда, при свете дня выглядела еще более прекрасной, чем вечером при фонарях. Она оказалась моей единственной союзницей и, дождавшись, покуда остальные охрипнут от возражений, кротко сказала: — Белого вождя пригласили сюда затем, чтобы мы, люди глупые и непросвещенные, могли испить из кубка его мудрости. Если мудрость велит Белому вождю отправиться на священный остров, то не препятствуй ему, отец. Но и ее слова, похоже, никого не убедили. Я молчал, не зная, как уговорить валлу. Тут вмешался Ханс. Нещадно коверкая арабские слова, которые усвоил за время наших скитаний по побережью, готтентот произнес: — Баас, Иссикор на вид такой большой и сильный, однако он и все прочие боятся Хоу-Хоу и его жрецов. Но мы с тобой добрые христиане и не страшимся демонов, потому что нам ведомо, как с ними справляться. Мы и сами можем грести, а большая лодка нам безнадобности. Пусть вождь выделит нам маленькую лодку и покажет, куда плыть. Мы доберемся до острова и без помощи этих трусов. Как принято говорить среди охотников, выстрел угодил в яблочко. Иссикор, который, как я уже не раз упоминал, был все-таки храбрецом, вспыхнул до корней волос. — Не пристало мне выслушивать обвинения в трусости от твоего слуги, о вождь Макумазан! Я найду гребцов, и мы отвезем тебя на остров, хотя сами на сушу высаживаться не будем, поскольку нам это строго возбраняется. Но прошу, господин, если ты не вернешься оттуда, не вини в этом меня. — Договорились, — заключил я. — А теперь, если вы не против, давайте позавтракаем. Я успел проголодаться.Приблизительно два часа спустя мы отплыли от причала, прихватив с собою все свои скромные пожитки, в том числе фляжки с порохом для перезарядки использованных гильз; Ханс наотрез отказался оставлять что-либо в городе без присмотра. Лодка, что нам выделили, оказалась намного меньше той, на которой мы двигались по реке, но, как и та, была выдолблена из цельного ствола дерева. Команда состояла из Иссикора, взявшего на себя обязанности кормчего, и четверых гребцов-валлу, крепких и суровых на вид мужчин. Расстояние до острова составляло около пяти миль, но мы сделали широкий круг, забирая к югу, чтобы, как я понял, нас не заметили с суши, и потому понадобилось почти два часа, чтобы добраться до южной оконечности священного острова. Пока лодка подходила к берегу, я тщательно изучал остров в подзорную трубу и убедился, что он намного больше, чем мне казалось, — несколько миль в окружности; помимо могучего вулкана, на нем имелась также обширная равнина, поднимавшаяся над уровнем воды от силы на пару футов. За исключением прибрежных участков, почва была каменистой и бесплодной, ее усеивали куски и комки застывшей лавы, выброшенной из жерла вулкана при последнем извержении. Иссикор поведал, что северную часть острова, где, собственно, и проживали жрецы, извержение практически не затронуло и что эта территория весьма плодородна. Добавлю, что само жерло вулкана подтверждало его слова: судя по разлому в южной половине гребня, лава вытекала именно оттуда, а северная половина виделась снизу несокрушимой каменной преградой. Погода благоприятствовала нашему начинанию: день выдался туманным, а небо, как я уже говорил, сулившее скорый дождь, словно бы норовило слиться с вершиной вулкана. Все это помешало нам заметить, пока мы не подплыли совсем близко, что поток раскаленной лавы, не слишком широкий, но грозный, изливается по склону горы. Увидев этот поток, гребцы-валлу явно встревожились, а Иссикор объяснил, что ничего подобного не наблюдалось вот уже добрую сотню лет. По его мнению, это предвещало нечто необычное, поскольку до сих пор считалось, что вулкан спит. — Ну, раз он дымит, значит проснулся, — ответил я и продолжил свои наблюдения. Я различил среди камней — кое-где наполовину погребенные под ними — развалины, остатки сооружений древнего города. Иссикор пояснил, что в этих развалинах, как ему говорили, можно натолкнуться на предков валлу, обратившихся в камень. Если помните, друзья мои, именно об этом предупреждал меня старый мошенник Зикали. Невозможно вообразить себе что-либо более тоскливое и гнетущее, нежели это место под низким и мрачным небом в тот серый, туманный и дождливый день. Но мне, немало взволнованному историей об окаменевших людях, все равно не терпелось высадиться на сушу: мне всегда были интересны следы древности и диковинные зрелища. Позабыв на время о Хоу-Хоу и его жрецах, я велел валлу грести к берегу; после короткого приступа неповиновения они подчинились, и лодка вошла в крохотную бухту. Мы с Хансом тут же спрыгнули через борт на камни, забрали мешки со снаряжением и ружья и двинулись на разведку, предварительно договорившись с Иссикором, что он дождется нашего возвращения и провезет нас на обратном пути вокруг острова, дабы мы смогли увидеть поселение жрецов. С тяжким вздохом он пообещал все сделать, и лодка незамедлительно отошла ярдов на сто от берега, где и бросила якорь (валлу для этих целей использовали камни с дырками, сквозь которые пропускали веревку). Мы с Хансом направились к развалинам, и, когда до них оставалось всего ничего, готтентот воскликнул: — Гляди, баас! Там собака! Я посмотрел туда, куда он указывал, и действительно увидел большого серого пса с острой мордой, казалось крепко спящего. Мы еще приблизились, но собака не шевелилась, и Ханс кинул в нее камнем. Тот попал псу по спине, но животное сохраняло неподвижность. Мы смело подошли вплотную. — Каменная, — сказал я. — Люди, которые тут когда-то жили, видимо, ваяли статуи. — Мне до сих пор не верилось во все эти истории насчет окаменевших заживо людей и животных. — Скорее уж, баас, они вырезали из кости. Смотри! — Готтентот прикоснулся к передней лапе каменного пса. Та была обломана, и из скола торчала кость. Тут я наконец все понял. Бедное животное, пытаясь спастись, бежало к берегу, когда его настигли ядовитые испарения, сопровождавшие извержение вулкана. Затем, полагаю, собаку окатило некоей жидкостью, отчего она и обратилась в камень. Зрелище было удивительным, но я не находил ни малейших причин не верить собственным глазам. Значит, история правдива и я совершил выдающееся открытие. Мы поспешили к домам, у которых, естественно, теперь не было крыш, и обнаружили, что внутри многих зданий полным-полно лавы, но зато наружные стены, сложенные из твердого камня, устояли и хорошо сохранились. Кое-где нам попадались выцветшие рисунки или фрески; один рисунок изображал пирующих людей, другой — сцену на охоте и так далее. Мы двинулись к следующей группе домов, стоявшей поодаль от первой, выше по склону, и более или менее защищенной благодаря нависавшему над ней каменному выступу. Похоже, здесь располагался храм или дворец; здания были просторные, с колоннами, которые подпирали крыши. Миновав большую залу, мы проникли в помещения за нею; в самом дальнем, что находилось прямо под выступом и служило, скорее всего, кладовой, нас ожидала невероятная находка. Сбившись в кучку, там сидели и стояли люди — человек двадцать или тридцать: мужчины, женщины и дети; кое-кто держался за руки, другие обнимались — и все они были каменными! Думаю, раствор, который заставил их окаменеть, смог проникнуть внутрь помещения сквозь трещины в скале. Эти люди, все до единого, были обнажены, из чего следовало, что их одежда либо сгорела, либо сгнила еще прежде, чем процесс окаменения завершился. Пожалуй, первое предположение было верным, поскольку на головах у несчастных не осталось и следа волос. Лица их разглядеть было трудновато, однако по телосложению все явно походили на знакомых мне валлу. Лишившись от изумления дара речи, мы с Хансом выбрались из этого склепа и принялись обследовать прочие помещения. Тут и там мы находили тела жертв давнишней катастрофы, а один раз наткнулись на руку, торчавшую из лавы; должно быть, под камнем лежало еще больше погибших. Также мы отыскали в загоне для скота стадо окаменевших коз. Вот уж где раздолье археологам! Если взять лопаты, кирки и порох для подрыва завалов, то сколько интересного можно тут обнаружить! Все свидетельства древней цивилизации: надписи, украшения, изваяния богов, домашняя мебель и прочее — были, по-видимому, погребены под толстым слоем лавы и пыли, хотя мебель, возможно, попросту сгнила. Одним словом, перед нами лежали новые Помпеи, а под ними, вполне вероятно, скрывался новый Геркуланум. Пока я размышлял об утраченных сокровищах прошлого и гадал, что с ними сталось, Ханс, озиравшийся по сторонам, вдруг ткнул меня под ребра и произнес на своем отвратительном голландском, усвоенном от буров, одно-единственное слово: «Kek!» (что означало: «Смотри!»), а затем кивнул в сторону озера. Я повернулся и увидел, что наша лодка поспешно уплывает прочь, причем гребцы налегают на весла так, будто за ними, как говаривал мой покойный отец, гонятся все бесы преисподней. — Что это на них нашло? — недоуменно проговорил я. — Наверное, их кто-то преследует, баас, — рассудительно заметил готтентот. Потом он присел на камень, достал трубку, набил ее табаком и закурил. Как обычно, Ханс оказался прав: из-за поворота появились две другие лодки, намного больше нашей, и устремились в погоню. Не приходилось сомневаться, что намерения у тех, кто сидел там, усердно работая веслами, были самые недобрые. — Видно, это жрецы заметили нашу лодку и решили ее изловить, — сказал Ханс, сплевывая на землю. — Правда, у Иссикора хороший запас времени, думаю, его не догонят. Что будем делать, баас? Мы ведь не станем жить тут с мертвецами, да и каменные козы на пропитание не годятся. Я поразмыслил, и сердце у меня, что называется, ушло в пятки, ибо положение выглядело отчаянным. Всего миг назад меня переполняли восторг и рвение первооткрывателя, который обнаружил древний город и его окаменевших жителей. Теперь же сама мысль о находках сделалась ненавистной, и я всей душой пожелал, чтобы эти окаменелости очутились на дне озера. Таковы причуды обстоятельств, такова изменчивость человеческого настроения. Потом меня словно бы осенило, и я смело воскликнул: — Ба! Да чего тут думать?! Мы с тобой навестим Хоу-Хоу и его жрецов! — Верно, баас. Но ведь баас не забыл тот рисунок в пещере в Драконовых горах, нет? Если тот рисунок не врет, то Хоу-Хоу знает, как отрывать людям головы. — Вот что, Ханс, я не верю в существование Хоу-Хоу, — заявил я решительно. — Ты наверняка заметил, что местные кормили нас самыми разными историями, но никто из них не видел чудище достаточно близко, для того чтобы точно описать, как оно выглядит и чем промышляет. Даже Зикали ничего толком про этого Хоу-Хоу не знает. Колдун, конечно, показал нам в пламени ожившую картину, но она мало чем отличалась от рисунка в пещере, и сдается мне, что он извлек изображение из наших воспоминаний. Так или иначе, какая разница, как погибать: быстро, с оторванной головою, или медленно, с пустым животом? Я уверен, что эти трусливые валлу и не подумают вернуться за нами. — Я тоже так считаю, баас. Иссикор был когда-то храбрым, однако он изменился, словно бы с ним что-то случилось после возвращения на родину. Если баас готов, то нам пора идти. Или баас хочет посмотреть на других каменных людей? Начинается дождь, баас, и мы задержались тут намного дольше, чем собирались поначалу, покуда лазали по всем этим старым домам. Так что, если хотим добраться до дальнего края острова засветло, нужно идти прямо сейчас. Мы тронулись в путь, держась западного склона вулкана, ибо тот, как нам показалось, выдавался не слишком далеко на равнину. Некоторое время спустя мы остановились и повернулись к озеру. Вдалеке маячило черное пятнышко нашей лодки, а два других черных пятна быстро его настигали. Но на наших глазах из мглы, что скрывала побережье, вынырнули новые пятна — должно быть, лодки валлу, спешившие на выручку своим сородичам. Жрецы не стали ввязываться в бой и отказались от погони. — Иссикору будет о чем рассказать госпоже Сабиле, — заметил Ханс. — Но вряд ли она одарит его поцелуем, когда выслушает. — Иссикор поступил мудро. Кому бы пошло на пользу, если бы он остался? — ответил я, возобновляя движение. — Но ты прав, Ханс: после возвращения домой Иссикор странным образом изменился. Передвигаться по пересеченной местности было непросто, но, когда мы обогнули каменный язык вулкана, перед нами раскинулись возделанные поля, между которыми пролегали канавы с водой. — Должно быть, мы спустились в низину, баас, — сказал Ханс. — Как иначе они могли подвести сюда воду с озера? — Не знаю, — отозвался я раздраженно. Мои мысли занимала вода, льющаяся с неба: мелкий дождик мало-помалу перерастал в ливень. Но замечание Ханса засело в моей памяти, и, забегая вперед, скажу, что впоследствии это нам пригодилось. Мы продолжали идти, покуда не достигли пальмовых деревьев, вдоль которых бежала дорога. По этой дороге мы дошли до деревни, состоявшей из крепко сложенных каменных домов. В самом центре ее высилось большое здание, едва ли не упиравшееся задней стеной в подножие вулкана. Поскольку ничего иного нам все равно не оставалось, мы вошли в эту деревню. Сперва нас не заметили, потому что все люди попрятались от дождя под крыши. Но вот залаяли собаки, а какая-то женщина, которая выглянула из дверного проема, когда мы проходили мимо, громко завизжала. Мгновение спустя появились мужчины с бритыми головами, облаченные в жреческие, насколько я мог судить, одеяния. Они размахивали копьями. — Ханс, держи ружье наготове, — велел я, — но стреляй лишь в самом крайнем случае. Здесь слова могут послужить нам лучше пуль. — Хорошо, баас, вот только я не верю, что слова и пули нас спасут. Готтентот присел на ствол поваленного дерева, лежавший у дороги, и стал ждать, а я последовал его примеру и вдобавок принялся раскуривать трубку.
Глава 9
ПИРШЕСТВО
В нескольких шагах от нас мужчины замерли, потрясенные, по всей видимости, нашим обликом, каковой, разумеется, не шел ни в какое сравнение с их собственным, поскольку все они принадлежали к той же великолепной породе, что и береговые, скажем так, валлу. А еще больше их поразили спичка, которую я зажег, раскуривая трубку, и сама трубка; эти люди выращивали табак, но у них было принято нюхать его, а не курить. Спичка догорела, и я зажег вторую. При внезапном появлении огня жрецы испуганно попятились. Наконец один из них указал на горящую спичку и спросил на том же языке, на каком говорили береговые валлу: — Что это, о чужестранец? — Чудесный огонь, — ответил я и прибавил, по какому-то наитию: — Я принес его в дар великому богу Хоу-Хоу. Мой ответ, похоже, им понравился: жрецы опустили копья и разом обернулись к человеку, который только что подошел к нам. Этот мужчина внушительной наружности, крепкий и статный, выделялся крючковатым носом и блестящими черными глазами. На голове у него была жреческая шапка, а белое одеяние украшала вышивка. — Видать, это большой баас, — прошептал Ханс. Я кивнул, заметив, что прочие жрецы низко кланяются новоприбывшему. «Вот и верховный жрец Дака», — подумал я и оказался прав. Дака приблизился и, оглядев вощеную спичку, спросил: — Где обитает тот чудесный огонь, о котором ты говоришь, чужестранец? — В этой коробке с нанесенными на нее тайными письменами. — Я предъявил ему спичечный коробок, на котором значилось: «Вощеные спички. Сделано в Англии». И добавил, подпустив в голос торжественности: — Горе тому, кто прикоснется к ним, и тому, кто возьмет коробку в руки, не ведая, что в ней заключено, ибо пламя выпрыгнет наружу и пожрет нечестивца, о Дака! Верховный жрец поспешно отступил назад, как и его соратники минутой ранее, и справился: — Откуда тебе известно мое имя и кто шлет этот чудесный огонь в дар Хоу-Хоу? — Разве имя Даки не гремит до самого края земли? — спросил я в ответ и заметил, что этим несказанно ему польстил. — О, имя сие известно повсюду, куда проникают его чары, от земли и до неба. А тот, кто прислал чудесный огонь, — великий колдун, пусть и не такой великий, как Дака. И зовут его Зикали, то есть Открыватель дорог, а также Тот, кому не следовало родиться. — Мы слышали о нем, — подтвердил Дака. — Его посланцы приходили сюда еще в дни наших предков. И что же надобно от нас Зикали, о чужестранец? — Ему нужны листья того дерева, что растет в саду Хоу-Хоу и зовется Древом видений. Он желает смешать их порошок со своими снадобьями. Дака кивнул, и другие жрецы повторили его движение. Должно быть, они хорошо знали, что это за Древо видений, о котором мне было известно лишь со слов Зикали. — Но почему он не пришел к нам сам? — Потому что Открыватель дорог стар и слаб телом. Потому что великий колдун занят важными делами. Потому что ему было проще прислать меня, того, кто ценит все священное, кто стремится совершить приношение Хоу-Хоу и свести личное знакомство с великим Дакой. — Понятно. — По лицу верховного жреца было видно, что он чрезвычайно польщен. — Скажи, как ты прозываешься, о посланник Зикали? — Я зовусь Вольным ветром, потому что хожу, где мне вздумается, потому что никто не замечает, как я появляюсь и исчезаю, и потому что резвее меня посланца не найти. А вон тот коротышка, невеликий росточком, но отважный и могучий, — я указал на ухмылявшегося Ханса, который как будто вполне оценил комичность положения и те преимущества, какие она нам сулила, — зовется Владыкой огня и Светочем во мраке, — (Ханса и вправду знали под этими прозвищами), — ибо это он сторожит чудесный огонь. — (И опять я не солгал: в карманах у готтентота легко сыскалось бы с полдюжины спичечных коробков, которые он наворовал за время наших скитаний.) — Если его оскорбить, он призовет пламя, которое спалит этот остров и всех, кто на нем живет. Наше пламя страшнее того, что обитает в чреве этой горы! — Неужели? Воистину чудеса, клянусь именем Хоу-Хоу! — Дака воззрился на Ханса с нескрываемым почтением. — Именно так. Я тоже могуч, но мне приходится следить за тем, чтобы не разозлить его и не сгореть заживо дотла. В этот миг Даку посетило сомнение, и он спросил: — Поведайте мне, о Вольный ветер и Владыка огня, как вы попали на наш остров? Мы заметили лодку с гребцами из числа наших мятежных подданных, что служат старому бунтовщику Валлу. Мои люди погнались за ними, дабы убить, ибо они посмели приблизиться к священному месту. Не на той ли лодке вы приплыли? — Так и есть, о Дака, — отвечал я. — Когда мы прибыли в город на берегу, я повстречал девушку, очень красивую девушку по имени Сабила, и захотел узнать у нее, где проживает великий Дака. Она сказала, что ты живешь на острове, и прибавила, что знает тебя, что ты красивейший и благороднейший среди всех мужчин, а также наимудрейший. Сабила предложила, чтобы ее слуги, в том числе и глупец по имени Иссикор, от которого она никак не может избавиться, сколько ни старается, доставили нас к острову, и сама тоже пожелала плыть с нами, чтобы вновь полюбоваться твоими благородными чертами хотя бы издалека. — (Сами понимаете, друзья, моя ложь была необходимой и никому не вредила, поскольку я твердо знал, что Иссикор и гребцы-валлу благополучно добрались до берега.) — Прекрасная Сабила привезла нас сюда и высадила на сушу, дабы мы взглянули на разрушенный город, прежде чем направиться к тебе. Но твои люди пустились за нею в погоню, и нам с Владыкой огня пришлось идти пешком. Вот как было дело. Дака заметно встревожился: — Взываю к Хоу-Хоу, чтобы болваны, которых я послал в погоню, не убили заодно с остальными также и Сабилу. — Присоединяюсь к твоей молитве, ибо эта девушка слишком хороша, чтобы умирать, — сказал я. — Из нее выйдет отличная жена. Но позволь мне узнать, как обстоят дела. Владыка огня, призови пламя! Ханс достал спичку и зажег ее, чиркнув о заднюю поверхность своих штанов (это было единственное место, которое не намокло от дождя). Он взял горящую спичку в сплетенные пальцы рук и держал ее, а я смотрел в огонь и негромко бормотал себе под нос. — Скорее, баас, — прошептал готтентот, — не то я обожгу себе пальцы! — Все хорошо, — объявил я во всеуслышание. — Лодка с прекрасной Сабилой ускользнула от твоих людей, потому что другие лодки, числом семь… нет, восемь, — поправился я, изучив огарок спички и ожог на кончике пальца Ханса. — Да, другие лодки вышли из города и прогнали твоих воинов, когда те собирались потопить Сабилу. Все вышло как нельзя лучше, поскольку как раз в этот миг прибежал вестник и с многочисленными поклонами изложил Даке ровно то же самое. — Великолепно! — произнес жрец. — Просто великолепно! К нам прибыли великие колдуны! Какое-то время он почтительно взирал на нас, но потом его вновь обуяли сомнения. — Господин, — сказал он, — Хоу-Хоу повелевает диким волосатым народом, что живет в лесу и зовется хоу-хоуа, в его честь. Нашего слуха достигла весть о том, что одного из волосатых убили громом какие-то чужаки. Скажи, господин, не причастен ли ты к этой смерти? — Да, причастен, — признал я. — Самка волосатых разгневала Владыку огня своими приставаниями, и он убил ее, что было правильно и справедливо. Я отрубил палец другому хоу-хоуа, который хотел пожать мне руку, хотя я велел ему убираться прочь. — Но как же он убил ту самку, господин? Здесь следует пояснить, что среди обитателей этого поселения нашелся и такой, кто встретил нас весьма недружелюбно. То был огромный и исключительно свирепый пес: он продолжал рычать на нас и в конце концов завладел курткой Ханса, которую немедля принялся трепать. — Scheet, Hans, scheet seen dood! — прошептал я по-голландски. — Стреляй, Ханс, пристрели его! Готтентот, всегда понимавший меня с полуслова, сунул руку в карман, где лежал револьвер, и, приставив ствол к голове пса, выстрелил прямо через ткань. Пес рухнул замертво, отправившись туда, куда попадают все дурные собаки. Поднялась суматоха. Один из жрецов попросту повалился лицом вниз, прочие кинулись врассыпную. Остался один только Дака. — Вот вам немного чудесного огня! — воскликнул я. — У нас его полным-полно. — Будто невзначай шевельнув рукой, я хлопнул Ханса по дымившемуся после выстрела карману. — А теперь, благородный Дака, избавь нас от сырости и голода, соблаговоли дать нам кров и пищу. — Разумеется, господин, разумеется! — вскричал он восторженно и повел нас вперед, предусмотрительно стараясь идти так, чтобы я оказывался между ним и Хансом. Остальные жрецы, которые уже вернулись, шли следом, волоча мертвого пса. Немного оправившись от испуга, Дака пожелал узнать, что еще говорила о нем прекрасная Сабила. — Она сказала лишь одно, — ответил я. — Мол, жалко, что невинным девам суждено сочетаться браком с богом, когда на свете есть такие мужчины, как ты. Краем глаза я следил, достиг ли цели мой словесный выстрел. На жестоком, но красивом лице Даки промелькнуло загадочное выражение, и жрец облизал губы. — О, господин, как это верно! Но кто знает, что может случиться? Порой все на самом деле оказывается совершенно не таким, каким выглядит, и мне доводилось видеть, как верный слуга удостаивается дара из приношений его господину. «Ага! Попался! — мысленно воскликнул я. — Ты-то, дружок, похоже, и есть Хоу-Хоу! Ну а если нет, то наверняка каким-то образом замешан в этом деле». Но вслух, поглядев на невозмутимо вышагивавшего рядом Ханса, я сказал лишь, что великий Дака весьма проницателен и что порою видимость и вправду оказывается обманчивой, достаточно посмотреть на Владыку огня. Мы пересекли каменистую площадку, справа от которой, за садом, я заметил зев пещеры, чернеющий в склоне горы. В дальнем конце этой площадки нашим взорам предстало удивительное зрелище: у самой кромки воды, на расстоянии приблизительно двадцати шагов друг от друга, поднимались из земли два столба пламени, которые до той поры прятались за деревьями и за складками местности. Между этими огненными столбами находился еще один, но уже каменный. «Негаснущие костры», — подумалось мне, и я решил уточнить, справедлива ли моя догадка. — Эти огни горят здесь с начала времен, испокон веку, и никто не ведает почему, — бесстрастно пояснил Дака. — Никакой дождь не в силах их затушить. «Ну ясно, вулканические газы, как в Канаде», — перевел я для себя, ибо прежде мне доводилось слыхать про такое. Далее мы свернули направо, двинулись вдоль наружной стены сада и подошли к группе красивых зданий, которые напомнили мне монастырские постройки; все они были одноэтажными и жались к склону горы. Я не ошибся в предположениях: именно здесь проживали жрецы Хоу-Хоу вместе с их многочисленными женщинами. Должен сказать, что жрецы эти вовсю наслаждались своим высоким положением: на суше мужчины по большей части имели всего лишь одну супругу, зато у жрецов, судя по всему, было принято многоженство. Как они добывали себе красоток? Ну, либо запугивали несчастных валлу, забивая им головы всякой мистической чушью, либо не брезговали извечной и порочной практикой похищения. Когда несчастные оказывались на острове, они становились, так сказать, служительницами Хоу-Хоу и, считай, были навеки потеряны для соплеменников, поскольку пленницам строжайше возбранялось не только переплывать озеро, но даже передавать весточки безутешным родственникам. Коротко говоря, те дамы, что продолжали жить во славу Хоу-Хоу, умирали для мирской суеты. Нас с Хансом подвели к самому большому зданию, примыкавшему к стене сада. Видимо, жильцов заранее уведомили о нашем прибытии, ибо мы застали в доме суматоху приготовлений. Я заметил красивых женщин в белых одеяниях, которые сновали по комнатам, и услышал, как мужчины отдают многочисленные распоряжения. Нас отвели в помещение, где заблаговременно позаботились растопить очаг, ибо вечер выдался сырым и холодным. Мы согрелись у огня и высушили одежду, а затем умылись, и некоторое время спустя один из жрецов заглянул к нам, пригласив к столу, а сам остался стоять за дверью, дожидаясь, пока мы выйдем. — Ханс, — сказал я, — пока все идет хорошо, нас приняли как друзей Хоу-Хоу, а не как его врагов. — Верно, баас, это благодаря твоей выдумке со спичками и со всем прочим. Но что у бааса опять на уме? — Сейчас объясню, Ханс. Помни, что наш долг заключается в спасении госпожи Сабилы, если только это будет возможно, и мы поклялись сдержать свое слово. Следует держать ухо востро и вообще быть начеку. За ужином нам наверняка поднесут местные наливки, чтобы развязать языки. Имей в виду: мы не будем пить ничего крепче воды, пока находимся на острове. Ты меня понял, Ханс? — Да, баас, я все понял. — Ты не подведешь меня, Ханс? Готтентот задумчиво почесал живот и ответил: — Мой живот замерз, баас, и в этой сырости, да еще после тех каменных людей, мне очень хотелось бы выпить чего-нибудь потеплее воды. Но я клянусь, баас, клянусь памятью вашего достопочтенного отца, что буду пить одну только воду — или кофе, если здесь умеют его варить, что, конечно, вряд ли… — Все, Ханс, уймись. Ты ведь понимаешь, что, если нарушишь клятву, мой достопочтенный отец с тобой посчитается, и я тоже — на этом свете или на том, это уж как придется! — Да, баас. Но пусть и баас помнит, что бутылка джина — не единственный крючок, на который дьявол ловит заблудшие души. Нет числа искушениям. Если какая-нибудь красотка вдруг придет к баасу и скажет, что он лучше всех и она его любит, просто без ума от него, ну прямо как та самая Мамина, о которой старый Зикали всегда говорит как о твоей подруге… Так вот, готов ли баас поклясться именем своего достопочтенного отца… — Хватит уже нести вздор, умолкни! — перебил я, величественно взмахнув рукой. — Сейчас не время и не место болтать о красивых женщинах! Впрочем, про себя я решил, что напоминание готтентота прозвучало весьма своевременно, тем более что как-то раз меня уже пытались охмурить подобным образом. Но не будем отвлекаться, друзья, иначе я никогда не доберусь до конца своей истории. Итак, заключив между собою соглашение, мы вышли за дверь, и ожидавший снаружи жрец отвел нас по коридору в красивую залу, ярко освещенную фонарями. Там было накрыто несколько столов; нас подвели к тому, что стоял в центре. За ним восседал Дака, облачившийся в роскошное одеяние, а с ним другие жрецы. Еще там были женщины, все как одна красавицы и пышно разодетые, должно быть супруги местных правителей. Одна очень сильно походила на прекрасную Сабилу, хотя и явно была на несколько лет постарше. Мы опустились на резные стулья причудливой формы. Выяснилось, что меня посадили между Дакой и той самой дамой, похожей на Сабилу; ее звали Драманой. Трапеза началась, и, скажу вам прямо, друзья мои, это было поистине королевское пиршество, ибо, как нам поведали, мы высадились на остров в день местного праздника. Давненько я не пробовал столь вкусных кушаний. Разумеется, во многом это пиршество было варварским. Еду подавали уже нарезанной на больших глиняных блюдах; ножей и вилок не было в помине, вместо них полагалось брать куски пальцами, а тарелками служили широкие и плотные листья какой-то разновидности водяной лилии, что росла в озере: с каждой переменой блюд использованные листья забирали и стелили свежие. Но еда, повторюсь, была отменной: нам подали рыбу, козленка с пряностями, жареную дичь и нечто вроде пудинга, приготовленного из молотого зерна и подслащенного медом. Крепкое местное пиво лилось рекой, его разносили по кругу в украшенных затейливыми узорами глиняных чашах, выложенных снаружи, к моему удивлению, не бриллиантами или рубинами, а жемчугом; мне объяснили, что его изымают из раковин пресноводных моллюсков и лепят на глину, пока та не успела застыть. Жемчужины различались формой и в основном были небольшими, однако, сверкая и переливаясь в свете фонарей, они радовали глаз. Насколько я мог судить, в озере можно было отыскать также и крупный жемчуг, поскольку Драмана и другие дамы носили внушительные жемчужные ожерелья, бусинки которых были просверлены посередине и нанизаны на нити из древесных волокон. Не вдаваясь в подробности, скажу, что этот пир, еда и наряды окончательно убедили меня в том, что валлу некогда принадлежали к неведомому, давно забытому, но весьма цивилизованному народу, а ныне были обречены на вымирание и, живя в уединении, постепенно скатывались в варварство. Соблюдая наше соглашение, Ханс, пристроившийся на корточках за моим стулом — за стол он сесть не пожелал, — исправно пил воду, поскольку я громко объявил, что мы дали обет не притрагиваться к иным напиткам, но я слышал, как бедняга жалобно стонал всякий раз, когда очередную круговую чашу проносили мимо. Должен прибавить, что подливали гостям постоянно, и вообще спиртного за ужином было столько, что многие из сидевших за столом, как говорится, перебрали. Сие привело к соответствующим печальным последствиям, о коих, полагаю, нет нужды распространяться. Мужчины сделались любвеобильными и принялись обнимать своих женщин и целовать их, да так, что я счел это зрелище неподобающим. Однако мне бросилось в глаза, что красавица Драмана почти не пьет. А поскольку Драмана сидела между мной и совершенно глухим жрецом, который мгновенно задремал над своим кубком, она была избавлена от недостойного мужского внимания. Все перечисленное, а также то обстоятельство, что Дака не сводил глаз с красотки слева от себя, позволило нам с Драманой завязать беседу, для нее, думаю, весьма желанную. Для начала мы обменялись банальностями, а затем моя соседка сказала, понизив голос: — Я слыхала, господин, что ты виделся с Сабилой, дочерью Валлу, вождя нашего народа. Расскажи мне о ней, ведь она моя сестра, которую я не видела уже очень давно, ибо нам запрещено покидать остров, а те, кто живет на суше, никогда не навещают нас, если только их не привозят сюда силой. — Последние слова она произнесла почти шепотом. — Твоя сестра здорова, но ее терзает страх, потому что ей, жаждущей выйти замуж за простого смертного мужчину, выпало стать женою бога, — ответил я. — Ее страх оправдан, мой господин, а наш бог сидит возле тебя. — По телу Драманы пробежала дрожь отвращения. Чуть заметным кивком она указала на Даку, который совсем потерял голову от выпитого и теперь жадно обнимался с соседкой слева, а уж та и подавно пребывала под воздействием паров спиртного — проще говоря, была мертвецки пьяна. — Нет, — возразил я, — бога, о котором я веду речь, зовут не Дака, а Хоу-Хоу. — Хоу-Хоу? Господин, ты узнаешь о Хоу-Хоу все, прежде чем закончится эта ночь! А моя сестра станет женою Даки. — Но как это возможно, госпожа? Ведь Дака — твой муж. — Он муж многим женщинам, господин. — Драмана многозначительно оглядела сидевших за столом красавиц. — Бог милостив к своему верховному жрецу. С той поры, как меня саму привязали к камню между негаснущими кострами, Дака сыграл уже восемь свадеб, хотя некоторых его невест впоследствии передали другим жрецам или казнили за преступления против божества, ибо кое-кто попробовал сбежать. — Драмана понизила голос настолько, что я едва различал слова, хотя на слух никогда не жаловался. — Уж не знаю, господин, может, ты и твой товарищ и вправду боги, еще более могущественные, чем Хоу-Хоу, но позволь тебя предостеречь. Послушайся моего совета: что бы ты ни увидел и что бы ни услышал, не спорь и не хватайся за оружие. Иначе тебя разорвут в клочья и ты никому не поможешь, более того, обречешь на гибель многих людей, в том числе и меня. Тсс! Давай поговорим о чем-нибудь другом. Дака следит за нами. Молю тебя, господин, помоги мне, спаси меня и мою сестру. Я огляделся. Дака, перестав обниматься с соседкой, смотрел на нас с подозрением, как если бы ему удалось подслушать обрывок нашего разговора. Видимо, Ханс сообразил, что следует немедленно отвлечь его внимание, — и устроил переполох, то ли повалив стул, то ли уронив на пол кубок. Грохот в любом случае вышел знатный, Дака отвернулся от нас, а потом его лицо исказилось в пьяной ухмылке. — Сдается мне, господин Вольный ветер, ты нашел себе приятную собеседницу. — Дака скабрезно усмехнулся. — Что ж, я не ревнив и готов поделиться с гостями лучшим, что у меня есть, в особенности раз бог столь щедр ко мне. Вдобавок госпожа Драмана не из тех, кто будет выбалтывать секреты и выдавать тайны. Так что говори с нею, сколько тебе заблагорассудится, Вольный ветер, покуда тебя не унесло прочь. От его ухмылки и пристального пьяного взгляда мне стало не по себе. — Я расспрашивал госпожу Драману о том священном дереве, листья которого просил меня добыть великий колдун Зикали, — сказал я, притворяясь, будто не понимаю намеков верховного жреца. — Ах вот оно что! — В мгновение ока манеры Даки столь разительно изменились, что стало понятно: его подозрения наполовину рассеялись. — Дерево, значит? А я думал, ты расспрашиваешь ее о другом. Что ж, тут нет никакого секрета, и Драмана, коли пожелаешь, отведет тебя к этому дереву завтра утром. Если тебе понадобится что-то еще, тоже обращайся к ней, потому что мы с братьями будем заняты. А вот несут Кубок видений: этот напиток сварен из плодов того самого дерева. Ты непременно должен отведать его, хоть и пьешь одну только воду. И твой желтокожий карлик, Владыка огня, тоже пусть глотнет. Вкушая сей напиток, мы клянемся в верности нашему богу, к которому отправимся очень, очень скоро. Я поспешил ответить, что устал и в этаком состоянии не стану досаждать божеству своими косноязычными славословиями. — Все, кто прибывает сюда, должны предстать перед богом, господин Вольный ветер, — наставительно произнес Дака и вперил в меня суровый взор. — Они могут пойти к богу живыми или, если захотят, их отнесут к нему мертвыми. Разве Зикали не объяснил тебе этого, а, Вольный ветер? Выбирай: встретишься ты с богом живой или мертвый? Я решил, что настала пора напомнить о своем могуществе, и, глядя этому пьяному мерзавцу прямо в глаза, проговорил негромко: — Кто это тут угрожает мне, не ведая, что я повелеваю жизнью и смертью? Неужто этот человек ищет для себя той же участи, что постигла пса во дворе? Знай, о жрец великого Хоу-Хоу, что опасно стращать меня или Владыку огня злонамеренными словами, ибо на эти слова мы отвечаем молниями. Полагаю, моя отповедь, которую я произнес самым суровым тоном, произвела на верховного жреца впечатление. Во всяком случае, Дака мгновенно сделался смиренным, даже подобострастным, в особенности когда Ханс поднялся с корточек и встал рядом со мной, держа в вытянутой руке коробок спичек, на который все уставились с подозрением и испугом. Что ж, они могли таращиться на спички сколько угодно, поскольку ведать не ведали, что другая рука готтентота скользнула в карман штанов и стискивает рукоять великолепного револьвера системы Кольта. Тут, видимо, надо пояснить, друзья, что ружья нам на пиршество взять не разрешили, поэтому мы оставили их в комнате, припрятав под одеялами, заряженные и с взведенными курками — с тем расчетом, что любое ружье тут же выстрелит, если к нему притронутся чьи-либо шаловливые пальчики. — Прости, о господин, прости! — заюлил Дака. — Разве посмел бы я оскорбить столь могущественного колдуна? Если я случайно произнес нечто обидное, вини в том не меня, а это крепкое пиво. Я благосклонно кивнул, принимая извинения. Однако вспомнил старинное латинское присловье насчет того, что вино выдает истинные чувства. Дака же, торопясь сменить тему, указал в дальний конец помещения. Там появились две красотки в исключительно легких одеяниях и с венками на голове; они несли большую, полную до краев чашу, в которой плавали красные лепестки цветов. (К слову, вся эта сцена сильно походила на какую-нибудь картину или фреску, изображавшую пир в Древнем Риме или — что будет, пожалуй, точнее — в Древнем Египте.) Женщины приблизились к Даке и одновременным взмахом изящных рук подняли чашу вверх, а все, кто еще не упился до положения риз, вскочили, склонились перед нею и дважды воскликнули дружным хором: — Кубок видений! Кубок видений! — Пей, — велел мне Дака. — Пей во славу Хоу-Хоу! — И прибавил, заметив, что я медлю: — Ладно, я выпью первым и докажу, что в напитке нет отравы. Пробормотав: «О дух Хоу-Хоу, снизойди на твоего жреца!» — он приложился к сосуду и сделал внушительный глоток. Женщины с чашей, которая напоминала мне чашу любви на обедах у лорд-мэра[158], подошли ко мне и поднесли сосуд к моему лицу. Я лишь слегка пригубил, но сделал несколько глотательных движений, притворяясь, будто выпил не меньше Даки. Затем чашу поднесли Хансу, которому я через плечо бросил одно-единственное слово на голландском — «beetje», то есть «чуть-чуть». Повернув голову и наблюдая, как готтентот пьет, я убедился, что он внял моему совету. После нас с Хансом чаша с напитком — он был зеленоватого оттенка, а на вкус слегка напоминал шартрез — пошла по кругу, и все, кто находился в помещении, отхлебнули из нее. Юные красавицы, которые обносили гостей, последними допили то немногое, что оставалось на дне. Это я помню, а вот что было потом, начисто выпало из памяти: хотя я сделал лишь крохотный глоток, эта дрянь мигом ударила мне в голову и совершенно затуманила мозг. Мало того, в сознании вихрем закружились всевозможные видения, и далеко не все из них были приятными, а следом явилось ощущение бескрайнего простора, населенного наиразличнейшими формами и фигурами — прекрасными и уродливыми, знакомыми (как ныне здравствующими, так и давно покойными) и теми, кого я никогда не встречал; все эти лица объединяла одна особенность — они глядели на меня с непреклонной настойчивостью. Затем призрачные фигуры сошлись вместе и начали разыгрывать драматические представления о войне, любви и смерти — все они были яркими и зримыми, словно ночные кошмары. Но эти видения быстро рассеялись, оставив после себя восхитительное спокойствие и ощущение полного благополучия, а моя наблюдательность внезапно обострилась до предела. Глядя по сторонам, я заметил, что все, кто пил из чаши, как будто переживают схожий опыт. Поначалу люди выказывали признаки возбуждения, затем затихали и замирали в неподвижности, точно изваяния, глядя в пустоту, не издавая ни звука и не шевеля даже пальцем. Подобное оцепенение длилось довольно долго, но наконец те, кто выпил из чаши первыми, стали приходить в себя, негромко заговаривая друг с другом. Я отметил, что любые следы опьянения исчезли: все жрецы и их спутницы выглядели совершенно трезвыми, будто судейские на своей скамье. Лица окружающих сделались строгими и торжественными, а во взглядах их читалась холодная целеустремленность.Глава 10
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
Выдержав торжественную паузу, Дака поднялся и произнес тоном, от которого пробирало до костей: — Я слышу глас бога! Он зовет нас! Предстанем же перед ним и совершим положенные приношения! Жрецы и женщины выстроились друг за дружкой; первыми встали Дака с Драманой, следом мы с Хансом, а за нами все прочие, кто был на пиру, в общей сложности человек около пятидесяти. — Баас, — прошептал Ханс, — после того как я пригубил этот напиток, ваш достопочтенный отец явился мне и говорил со мной. Зря вы запретили мне сделать больше одного глотка, баас: содержимое чаши было очень вкусным и согрело меня. — И что же мой отец сказал тебе, Ханс? — Он сказал, баас, что мы с вами угодили в прелюбопытную компанию и нам стоит смотреть в оба. А еще — что не нужно вмешиваться в дела, которые нас не касаются. Тут я вспомнил, что меньше часа назад получил точно такой же совет из сугубо земного источника. Довольно странное совпадение, если только Ханс не подслушал мою беседу или не прочел каким-то образом мои мысли. Вслух я заметил, что подобным наставлениям, конечно же, следует подчиниться, и потому велел готтентоту, что бы ни происходило, сидеть тихо, держа револьвер наготове. Однако я предупредил Ханса, что оружие следует использовать лишь в самом крайнем случае — если нам будет грозить смерть. Процессия вышла из залы через заднюю дверь, которая находилась как раз за тем столом, где мне выпало пировать, и вступила в своего рода коридор, освещенный фонарями; я не разглядел, был ли этот ход прорыт под землей или сложен из больших камней на поверхности. Приблизительно шагов через пятьдесят мы внезапно очутились в просторной пещере, где тоже тускло светили фонари, редкие точки света во всепоглощающей тьме. Тут все жрецы во главе с Дакой покинули нас; во всяком случае, я, озираясь по сторонам, больше не видел никого из них. Женщины остались, разделились и опустились на колени, каждая сама по себе, как молельщицы в скудно освещенном соборе, пришедшие в храм после богослужения. Драмана, заботам которой нас, похоже, препоручили, подвела меня и Ханса к каменной скамье и сама села рядом. Я отметил, что она, в отличие от других женщин, на колени не вставала и не молилась. Какое-то время мы сидели в тишине, пялясь в темноту перед собой, где не было ни единого фонаря. Окружение навевало уныние и страх, и, не стану скрывать, на сердце у меня сделалось неспокойно. В конце концов я понял, что не могу больше терпеть, и шепотом поинтересовался у Драманы, что будет дальше. — Должно состояться жертвоприношение, — прошептала она в ответ. — Молчи, господин, у нашего бога уши повсюду. Я внялэтому голосу разума, и следующие минут десять миновали в нестерпимой тишине. — Когда начнется спектакль, баас? — приглушенно спросил Ханс. (Однажды, еще в Дурбане, я взял его с собою в театр, чтобы он приобщился к искусству, и теперь готтентот решил, что в пещере нас ждет очередное представление, — впрочем, в каком-то смысле так оно и было.) Я пнул Ханса в голень, чтобы он умолк, и тут издалека донеслось пение. Голоса звучали таинственно и жутко; чудилось, что напев мечется между двумя группами певцов, одна из которых выпевала строфу, а другая ей отвечала — если вы понимаете, о чем я толкую, друзья мои. Завершилось все то ли стоном, то ли возгласом отчаяния, от которого кровь буквально застыла в жилах. Чуть погодя мне показалось, что я различаю во мраке впереди какие-то движущиеся фигуры. Ханс тоже их заметил и шепнул: — Здесь волосатые, баас. — Ты хорошо их видишь? — спросил я. — Да, баас. А еще лучше чую. — Держи револьвер под рукой, — велел я. В следующий миг во мраке перед нами вспыхнул факел, но того, кто его нес, было не разглядеть. Вот факел нырнул вниз, и послышался такой звук, будто им водили по дереву. Язычок пламени выхватил из мрака очертания груды хвороста, а затем из темноты проступили очертания высокой человеческой фигуры. Дака, в диковинном головном уборе и в белых жреческих одеждах, не в тех, в которых он был на пиру, держал на вытянутых вперед руках человеческий череп, перевернутый вверх тормашками, то есть обращенный теменной частью к полу. — Гори, прах видений, гори! — возгласил верховный жрец. — Яви нам наши тайные желания! — С этими словами он высыпал из черепа на груду хвороста толику какого-то порошка. Мгновенно по пещере поплыл густой и плотный дым, который, казалось, заволок все вокруг. Когда дым наконец-то рассеялся, последовала яркая вспышка, и мощное пламя осветило пространство под каменными сводами, открыв взорам жуткое зрелище. За костром, шагах в десяти позади него, обнаружилось невероятное страшилище, омерзительная черная фигура высотой по меньшей мере в дюжину футов: это был Хоу-Хоу, такой, каким мы видели его на рисунке в пещере в Драконовых горах. Смею сказать, что неведомый художник-бушмен сильно польстил чудовищу. Великан, которого мы увидели, выглядел сущим дьяволом, какого способно породить разве что воображение умалишенного монаха, а из глазниц его струился алый свет. Как я уже говорил, фигурой Хоу-Хоу напоминал помесь огромной гориллы, человека и некоего неизвестного науке чудища. Длинная серая шерсть росла клочьями по всему его телу. Огненно-рыжая кустистая борода свисала до пояса. Передние конечности доставали до каменного пола, на руках вместо больших пальцев были когти, а между прочими пальцами виднелись перепонки. Могучую бычью шею венчала крохотная головка, напоминавшая голову старухи; под крючковатым носом разверстые в яростном оскале толстые губы обнажали клыки, как у бабуинов; из-под внушительного, массивного надбровья свирепо смотрели глубоко посаженные глаза, полыхавшие алым. В реальности чудовище выглядело гораздо страшнее, нежели на рисунке. Под ногами его распростерлось бездыханное тело, в грудь которого вонзился коготь, а в левой руке — или лапе — Хоу-Хоу болталась голова, оторванная у того несчастного, что лежал внизу. По всей видимости, художником, написавшим портрет Хоу-Хоу на стене пещеры в Драконовых горах, был не бушмен, как мне думалось раньше, а жрец этого бога, которого случай или судьба завели в те края, и он нарисовал Хоу-Хоу, чтобы поклоняться своему божеству даже вдали от него. Из моей груди вырвался сдавленный вопль, и мне почудилось, что я вот-вот упаду наземь, лишившись чувств от страха перед этим дьявольским отродьем. Однако Ханс стиснул мою руку и сказал: — Баас, не пугайся, оно не живое. Его сотворили из камня и дерева, а внутри разожгли огонь. Я заставил себя присмотреться повнимательнее и понял, что готтентот прав. Хоу-Хоу оказался всего-навсего истуканом! Оживал этот бог разве что в сердцах и видениях своих приверженцев! Интересно, чье поистине сатанинское воображение могло породить сие кошмарное создание? Я вздохнул с несказанным облегчением, велел себе успокоиться и принялся подмечать подробности, которых тут имелось в изобилии. К примеру, по обе стороны от изваяния выстроились отвратительные дикари: самцы справа, самки слева, причем чресла всех облегали белые передники. Впереди волосатых, за спиною своего вожака Даки, стояли остальные жрецы, так сказать, духовенство Хоу-Хоу, а на помосте за ними, прямо у ног изваяния, каковое высилось, как я смог разглядеть, на чем-то наподобие постамента, чтобы всем было видно, лежало мертвое тело — труп той самой самки, которая погибла от пули Ханса. — Баас, — снова подал голос готтентот, — сдается мне, это та женщина-обезьяна, которую я застрелил на реке. Я запомнил ее милое личико. — Коли так, давай надеяться, что нас не заставят лечь рядом с нею на помосте, — ответил я. Что произошло дальше? А дальше я словно обезумел. И все вокруг тоже. Должно быть, ядовитый дым треклятого порошка овладел умами собравшихся в пещере. Помнится, Дака что-то говорил о прахе видений, и видений, друзья, было великое множество, в большинстве своем дурных, зловещих, подобных кошмарным снам. Правда, прежде чем они полностью овладели мной, я сумел сообразить, что, собственно, происходит; вцепился в Ханса, который также словно лишился ума, и велел тому сидеть тихо. Затем нахлынули галлюцинации, каковые я описывать не стану, увольте. Вы наверняка читали о воздействии на разум китайского опия; все было приблизительно так, разве что намного хуже. Мне грезилось, что Хоу-Хоу сошел со своего постамента и танцующей походкой двинулся через пещеру; что он наклонился надо мной и поцеловал меня в лоб. Думаю, на самом деле меня поцеловала Драмана, ибо и она будто спятила. Все дурное, что мне довелось совершить в своей жизни, проплывало перед мысленным взором, и я сознавал, что беспредельно и бессовестно грешен, поскольку ни единого доброго поступка почему-то не вспоминалось. Волосатые затеяли сатанинскую пляску возле изваяния, женщины вокруг рычали и вопили, их лица были искажены так, что невозможно описать, а жрецы размахивали руками и издавали восторженные крики, подобно тем несчастным, что преклонялись пред Ваалом, как рассказывается в Ветхом Завете[159]. Если коротко, это было настоящее приношение дьяволу. Но все же это исступление неким странным образом оказалось весьма приятным, и я даже как будто наслаждался им. Из этого, друзья мои, следует, насколько злы и порочны мы, люди. Лицезрение преисподней, когда ты крепко стоишь обеими ногами на тверди сего мира, не лишено для нас удовольствия, пускай даже тебя на какое-то время и околдовывают адские испарения. Но затем наваждение исчезло, сгинув столь же внезапно, как и пришло, и я очнулся. Моя голова лежала на плече Драманы, — а может, это ее голова лежала на моем плече, я уже, признаться подзабыл; Ханс истово лобызал мой башмак, в полной уверенности, что это чело некоей туземной красотки, с которой он водил знакомство лет тридцать тому назад. Я ткнул готтентота в курносый нос. Он встрепенулся и принялся извиняться, а потом прибавил, что это была самая крепчайшая дакка — так зовется растение, которое туземцы курят, одурманивая себя, — из всех, какие ему когда-либо доводилось пробовать. — Да уж, — согласился я. — Теперь мне ясно, откуда берется колдовское могущество Зикали. Не удивительно, что ему хочется пополнить запас листьев этого дерева, и понятно, почему он не поленился послать нас за ними в такую даль. Тут я умолк, поскольку нечто привлекло и полностью поглотило мое внимание. В пещере вдруг словно бы резко похолодало, а участники церемонии внезапно, в полную противоположность своему недавнему разнузданному поведению, сделались чинными и чопорными, будто ими всеми овладел дух миссис Гранди[160]. Они застыли, буквально источая благочестие, и благоговейно воззрились на жуткое изваяние своего свирепого божества. Правда, мне в этом напускном благочестии виделись лицемерие и жестокость. Чудилось, что все в пещере ожидают развязки какой-то кровавой драмы, причем ожидают с жестокой радостью, каковая, безусловно, могла быть следствием миновавшего нечестивого помутнения умов. Мнилось, будто пиршество повторяется на новый лад. Если сперва жрецы и их женщины опьянели от спиртного и протрезвели благодаря напитку, которым закончили трапезу, то сейчас присутствующих одурманили пары, а в чувство привело нечто, мне неведомое. Хотя вполне возможно, что правильнее было бы сказать не «нечто», а «некто», и не исключено, что этим кем-то был Сатана, которому они служили! Костер по-прежнему горел ярко, хотя и перестал извергать ядовитый дым (теперь огонь лизал чистый, ничем не посыпанный хворост). В свете костра я разглядел, как Дака простирает руки к жуткому истукану. Что верховный жрец говорил при этом, я не знаю, ибо в ушах у меня до сих пор звенело и я ничего не слышал. Но затем Дака обернулся, указал на нас и поманил к себе. — Что он хочет от нас? — спросил я Драману, которая сидела рядом, являя собою великолепный образчик благопристойности. — Он говорит, что вы должны приблизиться и принести богу жертву. — Какую именно? — уточнил я, сразу предположив, что нас могут принудить к кровопролитию. — Жертву священного пламени, которое Владыка огня, — тут Драмана показала на Ханса, — носит при себе. Я недоуменно покачал головой, но тут вмешался Ханс: — Баас, наверное, она говорит о спичках. Ну конечно! Я попросил готтентота достать из кармана новый коробок спичек и поднять его над головой. Вооружившись этим коробком, мы обогнули костер и склонились, подобно библейскому военачальнику, который, исцеленный пророком, клялся поклониться в доме Риммона[161], перед звероподобным изваянием Хоу-Хоу. Затем, следуя негромким наставлениям Даки, Ханс торжественно водрузил спичечный коробок на каменный помост, и нам позволили вернуться на прежнее место. Невозможно вообразить себе ничего более нелепого и смехотворного, нежели эта сцена. На мой вкус, ее несомненная нелепость была вызвана — или, по крайней мере, подчеркнута — свойственными тамошней обстановке противоречиями, разительными и поистине пугающими. Над нами возвышался дьяволоподобный истукан, окруженный верными жрецами, чьи лица озарял пыл религиозного рвения, а рядом с изваянием стояли длинными рядами волосатые, лишь отчасти похожие на людей; свет костра достигал самых отдаленных уголков пещеры и выхватывал из мрака распростертые фигуры молящихся. В общую картину совершенно не вписывались ни я, загорелый и в потрепанной в скитаниях одежде, ни чумазый, не испытывавший ни малейшего благоговения Ханс с коробком спичек в руке. Этот дурацкий коробок он в конце концов положил в точности посредине каменного помоста, в шести дюймах от раздувшегося тела косматой самки, застреленной им на реке. В этих масштабных, скажем так, декорациях коробок выглядел крошечным и настолько неуместным, что я с трудом сдержал рвущийся наружу истерический смех. Внутренне содрогаясь от хохота, который мне все-таки удалось подавить, я поспешно вернулся к каменной скамье, волоча за собою Ханса. На наше счастье, готтентоты не склонны открыто предаваться веселью, иначе, пожалуй, беды было бы не миновать. — Зачем этому Хоу-Хоу понадобились наши спички, баас? — спросил Ханс. — Ведь огня у него и без того в избытке. — Верно, — согласился я, — вот только здешний огонь, думаю, совсем иного рода. Тут я заметил, что Дака тычет рукою вправо и что взгляды всех присутствующих устремлены в том направлении. — Жертвоприношение начинается! — пробормотала Драмана. Из темноты появилась высокая женщина, облаченная в тонкое белое покрывало; ее вели двое стражников из числа волосатого народа. Эту женщину поставили перед помостом, на котором лежали тело самки и коробок спичек, и она замерла, глядя прямо перед собой. — Кто это? — спросил я. — Прошлогодняя невеста бога. Жрецы вволю с нею натешились, а теперь передают в вечное владение божеству, — ответила Драмана с ледяной улыбкой. — Хочешь сказать, госпожа, что они собираются убить бедняжку? — ужаснулся я. — Бог примет ее в свои владения, — отозвалась Драмана загадочно. В этот миг один из дикарей сорвал с жертвы покрывало, и нашим глазам предстала очень красивая женщина в белом платье с глубоким вырезом; наряд был таким коротким, что едва прикрывал колени. Высокая и статная, с черными волосами, что струились по плечам, красавица стояла совершенно неподвижно. Вдруг все прочие женщины в пещере вскочили и закричали: — Поженим ее с богом! Поженим ее с богом! Выпьем же из чаши, которая через нее соединит нас с богом! Двое волосатых приблизились к жертве. Каждый из них сжимал что-то в кулаке, но я не видел, что именно. Они встали рядом, словно в ожидании сигнала. Воцарилась тишина; я вглядывался в женщин вокруг и читал на их лицах порочную страсть, побуждавшую простирать руки и указывать на жертву. Эти лица повергали в ужас, и я возненавидел всех присутствующих женщин, за исключением Драманы, которая, как я с облегчением отметил про себя, ничего не кричала и рук не протягивала. Что мне предстояло увидеть? Неужели некий чудовищный обряд, наподобие тех, которые, по слухам, негры отправляли на Гаити и на западном побережье Африки? Если так, то я не потерплю подобного издевательства. Какая бы опасность ни грозила мне самому, я знал, что не смогу допустить расправу над невинной женщиной, и мои пальцы, чисто автоматически, сомкнулись на рукояти револьвера. У Даки был такой вид, словно он собирается что-то сказать, произнести, наверное, роковое слово. Я на глазок прикинул расстояние между нами, выбирая, куда лучше целиться, чтобы всадить пулю в его большую голову и принести здешнему богу жертву, которую тот явно не ждет. Пожалуй, изреки верховный жрец то самое слово, я бы и вправду прикончил негодяя на месте, ибо вам известно, друзья мои, что я ловко обращаюсь с револьвером. И, полагаю, сложись все таким образом, сейчас некому было бы поведать вам эту историю. Но в то роковое мгновение жертва всплеснула руками и произнесла звонким, громким голосом: — Я требую древнего права вознести молитву богу, прежде чем меня ему отдадут! — Говори, — откликнулся Дака, — но поторопись. Женщина повернулась к изваянию, сделала реверанс, а затем обернулась вокруг своей оси и заговорила, обращаясь к божеству, но глядя при этом на собравшихся в пещере валлу и дикарей. — О чудовище Хоу-Хоу, — воскликнула она, и ее голос был исполнен презрения и горечи, — которое мой народ почитает себе на горе! Та, кого украли из семьи, пришла к тебе, потому что не пожелала ублажать никого из вон тех жрецов и теперь должна заплатить за это своей кровью! Пусть будет так, но прежде, чем погибнуть, я хочу кое-что сказать этим жрецам, заплывшим жиром и погрязшим в пороках. Внемлите же! Мной овладел дух, ниспославший видение! В нем это место было покрыто водой, и я видела языки пламени, что вырывались из воды! Сие чудовищное изваяние обрушилось, превратившись в пыль, а твои греховные служители, Хоу-Хоу, сгорели дотла, и от них не осталось даже косточек. Пророчество! Пророчество! Пусть всякий, кто слышит меня, вспомнит о древнем пророчестве, ибо близок срок, когда оно сбудется! Тут женщина пристально поглядела на нас с Хансом, снова взмахнула руками, и я уж было подумал, что далее она собирается обратиться лично к нам. Однако, даже если таково и было ее первоначальное намерение, бедняжка передумала и умолкла. Жрецы и прочие внимали ей в потрясенном молчании, если не в страхе. Но затем они испустили дружный вой негодования, а когда тот стих, над толпой разнесся гневный голос Даки: — Убейте эту богопротивную ведьму! Да свершится жертвоприношение! Двое волосатых подступили к жертве, и вот тут-то я разглядел, что они сжимали в лапах мотки веревки, которой, по всей видимости, собирались связать женщину. Однако та оказалась чрезмерно ловкой и шустрой для них, одним прыжком очутившись на помосте, где лежали труп самки волосатых и коробок спичек. В следующий миг в руке ее сверкнул нож. Должно быть, она прятала оружие в складках платья. Женщина занесла руку — и вонзила нож себе в грудь, вскричав: — Моя кровь да падет на вас, жрецы Хоу-Хоу! После чего рухнула на помост и больше уже не шевелилась. В гомоне, который последовал за ее гибелью, я разобрал слова Ханса: — Какая храбрая женщина, баас! Я уверен: все, что она говорила, сбудется. Можно мне застрелить этого жреца, баас? Или баас сам справится? — Нельзя, — произнес я, но больше ничего сказать не успел, потому что меня оглушил поднявшийся гвалт. — Бога лишили положенной жертвы! — вопили жрецы. — Бог голоден! Накормим его чужестранцами! Дака, прекрасно слышавший эти крики, покосился на нас, и я понял, что пора действовать. — Знай, о Дака, — воскликнул я, вставая со скамьи, — что едва лишь кто-нибудь прикоснется к нам, мой товарищ, Владыка огня, поступит с тобой так, как обошелся с псом у дверей твоего дома! По всей видимости, Дака поверил, ибо немедля сделался угодливым. — Вам нечего бояться, о чужестранцы, — сказал он. — Вы пришли к нам как гости, как посланцы Повелителя духов. Ступайте же с миром. По его сигналу другие жрецы разбросали костер, и пещера почти мгновенно погрузилась во мрак, тем более что заодно затушили и несколько фонарей. — За мной! Скорее, скорее! — прошептала Драмана, беря меня за руку, и повлекла нас в непроглядную тьму. Мы очутились в каком-то коридоре — в том же самом или нет, не знаю, однако он вывел нас в залу, в которой мы недавно пировали. Там было пусто, но фонари продолжали гореть. Драмана пересекла залу и привела нас в дом. Мы кинулись к своим постелям и обнаружили, что к нашим ружьям никто, похоже, не прикасался. Убедившись, что мы абсолютно одни, ибо все ушли на церемонию жертвоприношения, я обратился к нашей спутнице: — Госпожа Драмана, верно ли подсказывает мне сердце? Или я ошибаюсь, полагая, что ты рвешься сбежать из тени Хоу-Хоу? Драмана настороженно огляделась, а затем ответила, понизив голос: — Господин, таково мое сокровенное желание. Если же мне спастись не суждено, — прибавила она со вздохом, — то уж лучше смерть, чем такая жизнь. Знайте, что семь лет назад меня привязали к той Скале приношений, к которой завтра привяжут и мою сестру, ибо наш бог выбрал меня, а слепой ужас сородичей отдал меня в его власть. Хотя на самом деле, господин, это Дака положил на меня глаз и отдали меня не богу, а именно Даке. — Почему же ты до сих пор жива? — спросил я. — Ведь мы видели, что прошлогоднюю невесту собирались принести в жертву. — Господин, разве я не дочь старого Валлу, правителя тех, кто живет на суше, и разве через меня нельзя добиться власти над ними? Пускай власть эта и не слишком велика, ибо я рождена младшей женою своего отца, старого Валлу, тогда как моя сестра Сабила — дочь его старшей жены. Но не зря говорят, что пташка клюет по зернышку. Потому-то я до сих пор и жива. — Каковы же намерения Даки, госпожа Драмана? — Думаю, они таковы, мой господин. С того времени, когда, как гласит молва, великий огонь обрушился на остров и уничтожил древний город, в наших краях было две власти: жрецы Хоу-Хоу повелевали разумами людей и дикого лесного народа, а вожди Валлу правили повседневной жизнью и считались наследными владыками. Ныне же Дака, который, когда не пьян и не предается иным порокам, весьма предусмотрителен и честолюбив, желает повелевать всем и вся, привнести свежую кровь в наши земли и, быть может, возродить тот великий народ, каким, если верить преданиям, мы были в незапамятные времена, когда пришли сюда то ли с севера, то ли с запада. Он выжидает, надеясь взять в жены мою сестру, законную наследницу старого Валлу, который сильно одряхлел. Тогда Дака нанесет удар и, прикрываясь ее именем, захватит всю полноту власти. Жрецы, как ты видел сам, немногочисленны и не способны устроить такой переворот своими силами, зато им повинуется Дикий народ, который известен под прозвищем детей Хоу-Хоу. Эти дикари разгневаны, потому что на днях одна из их самок была убита на реке и ее тело сегодня положили к ногам божества. Волосатые думают, что виноваты валлу, им невдомек, что самку убил твой слуга, вон тот желтокожий коротышка. Или же они знают истинного виновника смерти, но полагают, будто он убил ее по приказанию Иссикора, нареченного, как мы слыхали, моей сестры Сабилы. Потому дикари хотят пойти на валлу войной, ведомые жрецами Хоу-Хоу, а последнего они зовут своим отцом, ибо, сам видишь, его изваяние почти на одно лицо с ними. Волосатые потихоньку собираются на острове, приплывают туда на бревнах и на вязанках тростника, и к завтрашнему вечеру все будет готово. После обряда, что известен как Священное бракосочетание, когда мою сестру Сабилу привяжут к Скале приношений между негаснущими кострами, дикари во главе с Дакой нападут на город на берегу — без жрецов они на такое сроду не отважатся. Город, конечно, сдастся, и Дака убьет моего престарелого отца, благородного Иссикора и всех прочих носителей древней крови и потребует, чтобы его признали новым Валлу. После того он намеревается отравить лесных демонов, ибо хорошо разбирается в ядах, а затем, как я говорила, приведет свежую кровь в эти земли, богатые и плодородные, и станет правителем нового могучего королевства. — Какой дерзкий план! — Признаться, друзья мои, я не мог не восхититься, поскольку, слушая рассказ Драманы, начал даже испытывать некоторое уважение к этому злодею Даке, который, несомненно, обладал известной смелостью воображения и являл собою разительную противоположность беспомощным, одержимым суевериями жителям прибрежного города. — Но скажи, госпожа Драмана, что будет тогда со мной и с моим товарищем, которого кличут Владыкой огня? — Не знаю, господин, я мало говорила с Дакой после твоего прибытия, да и те, с кем он делится своими тайными замыслами, со мной тоже не беседовали. Думаю, он опасается вас, считая колдунами почти столь же могущественными, что и обитающий на юге Зикали, величайший из пророков. Вполне возможно, Дака надеется, что вы поможете ему основать новое государство. В этом случае он постарается удержать вас при себе и убьет, только если вы попытаетесь сбежать. С другой стороны, вдруг волосатые сообразят, что это именно вы убили их самку, и потребуют у Даки ваши жизни? Тогда он, рассудив, что разумнее будет уступить желанию дикарей, может отдать распоряжение, и на пиру, которым завершается Священное бракосочетание, вас обоих свяжут и положат на помост, и кровь будет вытекать из ваших тел, а жрецы станут ее пить, якобы устами Хоу-Хоу. Не знаю, господин, но думаю, что все решится на совете жрецов, который состоится завтра. — Спасибо, — поблагодарил я ее. — Спасибо за откровенность, сколь бы ни омерзительны были эти подробности. — Пока же, — продолжала Драмана, — вам ничто не грозит. Более того, мне велено всячески вас ублажать, а завтра, когда жрецы будут готовиться к Священному бракосочетанию, показать все, что вы пожелаете увидеть, и оделить вас ветвями Древа видений, листья которого столь хочет получить пророк Зикали. — Спасибо, — повторил я. — Мы будем рады прогуляться с тобой, госпожа, даже если опять хлынет дождь, который, судя по всему, до сих пор продолжается — вон как барабанит по крыше. Насколько я понимаю, ты мечтаешь сбежать сама отсюда и спасти свою сестру. Что ж, госпожа Драмана, позволь открыть тебе правду: мы — мой товарищ, избравший личину желтокожего карлика, и я сам, такой, каков я есть, — великие колдуны и обладаем силой куда более грозной и могущественной, чем это может показаться с первого взгляда. Потому не исключено, что мы сумеем помочь тебе и твоей сестре, а также совершить иные подвиги, намного более примечательные. Однако нам может понадобиться твоя помощь, ибо всем ведомо, что великое нередко свершается посредством малого. Поведай же, о Драмана, можем ли мы полагаться на тебя? — Я с вами до самой смерти, господин, — отвечала она. — Да будет так, Драмана, ибо не сомневайся: если ты нас подведешь, то умрешь немедля.Глава 11
ВОДЯНЫЕ ЗАТВОРЫ
Дождь лил всю ночь напролет, и это был не обычный тропический ливень, а самый настоящий вселенский потоп. Даже и не припомню, чтобы мне еще когда-либо в жизни доводилось попадать под такие потоки воды, какие лились тогда на крышу нашего дома — построенного, надо отдать валлу должное, со всей потребной надежностью, иначе бы его попросту смыло. Когда мы встали поутру и выглянули за дверь, то выяснилось, что повсюду плещется вода, а между небом и землей словно бы возвышается гигантская водяная стена. — Озеро наверняка разольется, баас, — сказал Ханс. — Думаю, ты прав, — согласился я. — Не будь тут нас самих, я бы пожелал, чтобы все мерзавцы-жрецы и все дикари на этом острове утонули. — Не получится, баас. В крайнем случае они заберутся на гору. Правда, вода может залить пещеру Хоу-Хоу, но его уже давно пора помыть. — Если вода проникнет в пещеру, значит она затечет в гору, и… — Я умолк, поскольку меня посетила неожиданная мысль. Мне запомнилось, что пол пещеры довольно круто шел под уклон, в направлении основания горы. Возможно, в далекие времена, когда вулкан бурно извергался, эта пещера была всего-навсего узким ходом, проточенным испарениями или лавой в толщине скал. С годами этот ход становился все шире, покуда не достиг своего нынешнего состояния. Допустим, потоки воды зальют пещеру и доберутся до недр вулкана; логично предположить, что тогда произойдет нечто малоприятное. Вулкан ведь до сих пор являлся действующим — об этом свидетельствовали клубы дыма над жерлом и струя раскаленной лавы, которую мы видели на южном склоне. А вода и огонь, как всем хорошо известно, не очень-то сочетаются друг с дружкой. Они производят пар, а благодаря пару все вокруг расширяется. Эта мысль завладела мной настолько, что я даже начал гадать, не была ли она своего рода откровением, ниспосланным мне небесами. Хансу я ничего говорить не стал: будучи туземцем, готтентот совершенно не разбирался в подобных вопросах. Немного погодя один из жрецов принес еду. Вместе с завтраком мы получили сообщение от Даки: мол, он сожалеет, но никак не сумеет сегодня уделить гостям время, поскольку у него множество забот, зато госпожа Драмана вскоре прибудет сюда и, если закончится дождь, покажет нам местные достопримечательности. Драмана не замедлила прийти — я надеялся, что так и будет, — и сразу же заговорила о ночном ливне, подобного которому, по ее словам, в этих краях еще не бывало. Она прибавила, что нынче все жрецы поднялись рано и побежали закрывать огромные каменные затворы, преграждающие путь озерной воде, дабы та не затопила возделанные земли и не погубила урожай. Я сказал, что весьма интересуюсь такими устройствами, и начал расспрашивать о затворах, но Драмана честно призналась, что не разбирается в том, как они устроены и работают. Она предложила отвести меня на место, чтобы я смог увидеть затворы своими глазами. Я поблагодарил ее и спросил, сильно ли поднялась вода в озере. Драмана ответила, что пока не сильно, однако все может измениться на протяжении дня и следующей ночи, когда в озеро вольются воды реки, которая впадает в него с севера и наверняка сейчас разлилась. Жрецы опасались наводнения, а потому решили закрыть затворы, что, учитывая тяжесть каменных створок, было непростой задачей. Одну женщину, из любопытства пришедшую поглазеть, ударило рычагом — во всяком случае, так я понял со слов Драманы, — и бедняжка погибла. Ее тело осталось лежать подле затворов, поскольку закон возбранял жрецам Хоу-Хоу и их слугам прикасаться к мертвой плоти в промежутке между пиром видений, что состоялся прошлым вечером, и свадебным пиром, который был запланирован на завтра. — На последнем торжестве, — многозначительно добавила Драмана, — мертвечины бывает в избытке. — Значит, это кровавый пир? — уточнил я. — Верно, господин, и я молюсь о том, чтобы на нем не пролилась ваша кровь. — Не беспокойся за нас, госпожа, — отмахнулся я с деланой беспечностью, за которой таилась одолевавшая меня самого тревога. А потом попросил рассказать, какова суть обряда, когда богу посвящают его невесту. — Вот как все обстоит, господин, — отвечала Драмана. — Незадолго до полуночи, когда взойдет полная луна, на остров приплывет лодка из города валлу. Жрецы встретят невесту и привяжут ее к скале, что торчит из земли между негаснущими кострами. Затем лодка отойдет от берега и будет ждать в отдалении. Жрецы тоже уйдут, и невеста останется одна. Я знаю все это, господин, потому что сама была невестой бога. В одиночестве бедняжка пробудет до той поры, покуда ее не коснется первый луч солнца. Тогда из пещеры выйдет верховный жрец, облаченный в шкуры, чтобы походить на бога, а за ним будут следовать женщины и волосатые, издавая радостные возгласы. Жрец освободит невесту, ее уведут в пещеру, и там, господин, она сгинет навеки. — Скажи, Драмана, а ты уверена, что твою сестру и впрямь привезут сюда? — Конечно, господин, ведь если мой отец Валлу, Иссикор или кто-нибудь еще откажутся отдавать Сабилу богу, их убьют сородичи, которые верят, что в этом случае на валлу обрушатся всевозможные бедствия. Если ты не спасешь мою сестру Сабилу своими колдовскими умениями, о господин, то она станет супругой Хоу-Хоу, то есть женой Даки. — Мне нужно все обдумать, — ответил я. — Но если я решу помочь, скажи, правильно ли я понимаю, что ты тоже желаешь сбежать с этого острова? — Господин, я ведь уже говорила тебе об этом. Прибавлю только, что Дака ненавидит меня. Едва у него в руках окажется Сабила, истинная наследница древней крови моего народа, с которой мне в этом не соперничать, то участь моя будет решена: меня поставят там, где стояла вчера та несчастная женщина, выбравшая смерть, чтобы не допустить худшего жребия. Спаси меня, господин, спаси, если можешь! — Сделаю все, что только в моих силах, — пообещал я, нисколько не покривив душой; я и вправду намеревался спасти Драману, а заодно и самого себя. Далее я взял с нее клятву беспрекословно мне во всем повиноваться, и Драмана охотно поклялась. Потом я попросил ее раздобыть для нас лодку. — Это невозможно, господин. Дака умен, он позаботился о том, чтобы вы не смогли уплыть отсюда. Все наши лодки оттащили на другую сторону острова, и там за ними присматривают лесные демоны. Вот почему Дака позволил вам свободно ходить где вздумается: он знает, что вы не покинете остров, если только не отрастите крылья. Озеро слишком широкое, чтобы пускаться вплавь, а у берега, населенного валлу, водятся крокодилы. Как легко догадаться, друзья мои, это был серьезный удар по моим планам. Впрочем, я сумел сохранить спокойствие и сказал, что коли так, то нужно будет придумать что-то еще, а затем справился, обитают ли крокодилы в прибрежных водах острова. Драмана ответила, что их тут никогда не видели; должно быть, хищников отпугивало пламя негаснущих костров или смрад, исходящий от клубов дыма над горою. Поскольку ливень прекратился, хотя бы на некоторое время, я предложил отправиться на прогулку, и мы вышли наружу. Мы не слишком боялись непогоды, ибо, чтобы защитить нас от воды с небес, Драмана принесла три самых диковинных костюма, какие мне только доводилось видеть. Каждый состоял из двух громадных листьев водяной лилии, которая росла в озере; эти листья были сшиты вместе, а наверху, там, где раньше крепились стебли, имелась дыра, куда полагалось просовывать голову. По бокам тоже проделали отверстия для рук. Этот костюм отталкивал влагу получше любого макинтоша, и единственным его недостатком было то, что листья, как мне объяснили, через три дня приходилось выбрасывать. Облачившись в сии причудливые одеяния, мы вышли наружу, под дождь, который в Англии бы сочли проливным, однако по сравнению с тем, что обрушился на остров ночью, это была легкая морось. Следует пояснить, что непогода была нам на руку, ибо даже самая любопытная кумушка из числа местных не отважилась бы высунуть свой носик на улицу. Поэтому мы смогли без малейших помех, нисколько не опасаясь вызвать подозрения, обследовать поселение, где проживали служители культа Хоу-Хоу. Поселение сие было небольшим, поскольку жрецов никогда не насчитывалось более пяти десятков; даже если прибавить к этой коллегии, как звалось собрание жрецов у древних римлян, их жен и прислужниц, которых у каждого было по три или четыре, все равно население деревни оставалось незначительным. Мне показалось весьма странным, что на острове нет ни детей, ни стариков. Быть может, дети здесь попросту не рождались, а жители острова умирали молодыми; либо же старых и малых тут приносили в жертву Хоу-Хоу. Не исключено, впрочем, что тех и других переправляли через озеро на сушу и селили где-то в уединенном месте. Со стыдом признаю, что, захваченный своими приключениями и выпавшими на нашу долю опасностями, я не потрудился изучить этот вопрос; возможно даже, что я спрашивал, но ответа не получил. Лишь впоследствии у меня нашлось время поразмышлять над этим странным обстоятельством. Хочу также добавить, что, не считая Драманы и немногих отвергнутых жен, обреченных, полагаю, на принесение в жертву богу, все прочие представительницы слабого пола на острове были отъявленными лицемерками и даже еще более ревностными поклонницами Хоу-Хоу, чем мужчины. Это я понял, когда сидел среди них на пиру видений в пещере. Итак, дома в поселении жрецов выглядели точно такими же, как и тот, в котором поселили нас с Хансом, а прибирались в них слуги — вернее, рабы — из племени хоу-хоуа. Эти последние были совершенно дикими и отвратительными на вид, совсем как наши южноафриканские бушмены, однако отличались умом и, если их приручить, могли выполнять самую различную работу. Еще они исправно слушались повелений своего божества Хоу-Хоу, точнее, приказаний его жрецов и истово ненавидели валлу, с которыми вели непрестанную войну, хотя сами жрецы происходили из того же народа. Вскоре дома остались у нас за спиною, и мы очутились среди возделанных полей, за которыми, как объяснила Драмана, также ухаживали рабы из числа хоу-хоуа. Дикари трудились на полях на протяжении года, а затем возвращались в леса к своим самкам, потому что их допускали на остров исключительно в качестве рабочей силы, не более того. Земля тут была чрезвычайно плодородной, о чем можно было судить по обильному урожаю, пускай и изрядно прибитому проливным дождем. Эти поля окружало некое подобие волнолома, сложенного из глыб застывшей лавы; должно быть, прежде вместо полей тут были отмели, покрытые озерной водой, чем и объяснялось плодородие почвы. Повсюду пролегали оросительные каналы, которыми, по словам Драманы, пользовались в жаркое время года при засухах; вода поступала на поля через пресловутые затворы, о которых я уже упоминал. Пожалуй, этим описанием я и ограничусь; прибавлю лишь, что система искусственного орошения была очередным доказательством того, что валлу происходили от какого-то цивилизованного народа. Поля простирались до самого мыса, обращенного к берегу валлу, а в противоположном направлении они тянулись, насколько хватало глаз, — как далеко, точно не знаю, ибо в ту сторону мы не ходили. С мыса мы различили в отдалении несколько подвижных черных пятен на воде. Я спросил Драману, не бегемоты ли это, и женщина ответила: — Нет, господин, это лесные демоны, которые, повинуясь зову божества, плывут на остров на бревнах и вязанках тростника, чтобы сразиться в грядущей войне против валлу. С дальней стороны горы их собралось уже несколько сотен, а к ночи приплывут все самцы, на берегу останутся только самки, престарелые и детеныши, которых они прячут в глубине леса. На третий день, считая от сегодняшнего, волосатые поплывут обратно через озеро, ведомые жрецами во главе с Дакой, и нападут на город валлу. — За три дня может случиться всякое, — заметил я, но развивать свою мысль не стал. Мы вернулись к поселению, дошли до зева пещеры, а оттуда по тропе, что бежала вдоль волнолома, достигли Скалы приношений, по бокам которой пылали те таинственные столбы пламени, каковые, по моему мнению, питались природным газом из чрева вулкана. Они были не слишком высокими — во всяком случае, в тот момент, — и пламя поднималось вверх футов на восемь-десять, никак не более. Но огонь горел не угасая, и так было, если верить Драмане, с начала времен. Между столбами пламени, на небольшом расстоянии от обоих, располагалась каменная колонна с каменными же кольцами, — несомненно, к ним-то и привязывали невест бога. Я отметил про себя, что с колец свисали свежие веревки, предназначенные для несчастной Сабилы. Осмотрев на Скале приношений все, что только можно было осмотреть, в том числе ступени, по которым выводили жертву, мы прошли к длинному сараю с остроконечной крышей из тростника; там располагалась машинерия, если позволительно будет так выразиться, то есть механизм, управлявший водяными затворами. Драмана отперла тяжелую деревянную дверь каменным ключом странной формы, который достала из кошеля. Она поведала нам, что получила этот ключ от Даки, обязавшись возвратить его, когда мы побываем в сарае. Как выяснилось, внутри было много интересного. У стены сарая пролегал основной оросительный канал, шириною приблизительно в дюжину футов. Таким образом, под серединой крыши имелся ров, целиком заполненный водой, которая не позволяла увидеть его дно. С обеих сторон рва в камне были пробиты, под прямым углом, глубокие желоба, сейчас перекрытые увесистыми каменными плитами толщиною дюймов в шесть или семь. Когда эти плиты опускались в особые ниши внизу, как бы сливаясь с дном желобов, вода из озера устремлялась в каналы; если коротко, этих плит было вполне достаточно, чтобы надежно преградить путь озерной воде и помешать наводнению. Возможно, вам станет более понятно, если я приведу такой пример. Когда мы с Гудом в последний раз вместе ездили в Лондон, то отправились в заведение мадам Тюссо и видели там знаменитую гильотину, печально прославившуюся в дни Французской революции. Лезвие этой гильотины, если помните, поднималось на двух столбах, а затем ему позволяли упасть, отделяя тем самым голову казнимого от тела. Теперь вообразите, что эти опоры — каменные стены ямы, а вместо узкого лезвия имеется массивная железная плита. Нет, не железная, а каменная. Если поднять ее по опорам до самого верха, она полностью заполнит собою промежуток до верхней перекладины, и воде, которая обычно течет между опорами, некуда будет деваться. Плита преградит ей путь. Теперь понятно?Поскольку Гуд, плохо разбиравшийся в таких вопросах, озадаченно смотрел на друга, Аллан продолжил свое объяснение: — Наверное, лучше будет попросить вас вообразить решетку на воротах замка. Даже вы, Гуд, наверняка видели такую решетку, которая представляет собой этакую дверь и движется в пазах. Да, водяной затвор жрецов Хоу-Хоу в точности и был такой вот подземной, точнее, подводной решеткой, которую, желая выдвинуть, поднимают по пазам, вместо того чтобы опускать. Не будь уже так поздно, я бы нарисовал. — Не надо, я понял, — ответил Гуд. — Полагаю, в движение она приводилась воротом? — Ну, Гуд, вы еще скажите, осликом, что ходил по кругу! Да валлу знать не знали никаких воротов и лебедок! Нет, они пользовались рычагом — устройством более простым и древним. В верхней части этого водяного затвора была просверлена дыра, и в нее вставили каменный болт, который другим концом утыкался в зарубку у основания рычага, образуя своего рода передаточный механизм. Что касается рычага, то это был толстый каменный брус — дерево явно сочли непригодным для такой цели — около двадцати футов в длину. Когда затвор полностью опускался в нишу на дне желоба, торец рычага, естественно, поднимался высоко в воздух, почти доставая до крыши сарая. Если требовалось поднять затвор, чтобы отмерить количество воды, выливавшейся в оросительные каналы, или чтобы отрезать приток воды при наводнении, мужчины тянули рычаг за веревки, привязанные к торцу. В результате этот торец двигался вдоль полудюжины каменных скоб на стене, и его закрепляли на нужной высоте. В таком положении он оставался до тех пор, пока его не высвобождали, снова прилагая значительные физические усилия, и он взлетал к крыше, позволяя каменной плите погрузиться на дно канала и открыть проход для озерной воды.
Так вот, поскольку ожидалось сильное наводнение, рычаг, как мы увидели, был поднят до самого верха. Я отметил, что его торец располагается футов на пять-шесть выше уровня воды, а нижняя часть закреплена у последней скобы, находившейся едва ли в футе над полом. Мы с Хансом тщательно изучили это примитивное, но весьма действенное устройство для предотвращения переливов и наводнений. Предположим, подумалось мне, кто-то захочет освободить рычаг, чтобы затвор опустился и вода потекла дальше. Как это можно сделать? Судя по всему, тут потребуются объединенные усилия многих мужчин, которые станут давить на рычаг, пока тот не выскользнет из скобы и пока затвор не опустится. Или же можно попытаться расколоть камень рычага, и тогда произойдет то же самое. Двоим мужчинам, то есть нам с Хансом, высвободить рычаг из скобы явно не по зубам; сомневаюсь, что здесь хватило бы усилий даже десятка крепких рук. И сломать вдвоем этот каменный брус тоже невозможно: на взгляд и на ощупь казалось, что рычаг сделан из камня, твердого, как сталь. Конечно, будь у нас особые пилы, какими пользуются камнерезы, мы могли бы справиться с такой задачей, в особенности располагай мы избытком времени. Но, увы, пилы у нас не имелось, а потому следовало признать, что одолеть эту каменюку нам не по плечу. Однако, друзья мои, даже из самого затруднительного положения можно найти выход, если знать, где и что искать. Признаюсь, мне самому на ум не приходило ничего путного, но почему бы не спросить у Ханса? А вдруг готтентот сумеет что-нибудь подсказать? Мой Ханс вообще отличался остротой ума и нередко, основываясь на своем первобытном чутье туземца, довольно успешно справлялся с трудностями; иной раз все мои потуги цивилизованного человека выглядели на его фоне довольно жалкими. Заговорив с ним на голландском и стараясь сохранять спокойствие, чтобы Драмана не догадалась об охватившем меня возбуждении, я обратился к готтентоту с такими словами: — Допустим, Ханс, мы с тобой вдвоем и некому нам помочь, кроме, быть может, этой вот женщины. Нам нужно сломать вон тот каменный брус и заставить водяной затвор опуститься, чтобы вода из озера потекла дальше. Как, по-твоему, это можно сделать и какие подручные средства нам пригодятся? Ханс осмотрелся, по обыкновению дергая себя за поля драной шляпы, и покачал головой: — Не знаю, баас. — Так подумай, — строго велел я. — Хочу проверить, совпадут ли твои догадки с моими собственными. — Если они совпадут с догадками бааса, значит это полная чушь, — ответил Ханс, угодив своим ехидным ответом в самое яблочко. Однако при этом он сохранял на лице выражение покорной тупости, за что мне немедленно захотелось его пнуть. Затем Ханс молча отодвинулся от меня и принялся с небрежным видом разглядывать рычаг, уделяя особое внимание каменной скобе над полом. Потом пояснил по-арабски, чтобы Драмана могла понять, в чем дело, что он хочет узнать, насколько глубок ров, — с уровня пола сделать это не представлялось возможным. Готтентот стремительно, с проворством обезьяны, вскарабкался по рычагу и уселся наверху, скрестив ноги, прямо под каменной петлей, которую я описывал ранее. Так он просидел какое-то время, вглядываясь то ли в глубину рва, то ли в дно желоба за плитой, которое, разумеется, оставалось почти сухим, поскольку затвор перекрывал приток воды. — Тут слишком темно, — наконец пожаловался Ханс и соскользнул вниз по рычагу. Затем он указал мне на мертвое тело женщины, погибшей, по словам Драманы, когда поднимали рычаг. Труп бедолаги лежал в тени у стены сарая. Мы подошли ближе. Погибшая оказалась высокой, красивой, как все ее соплеменники, и совсем молодой. На первый взгляд я не заметил никаких увечий, светлая одежда не была запачкана кровью. Наверное, женщину зажало между рычагом и скобой — или ударило по голове, когда торец рычага пошел вверх. Пока мы осматривали тело этой несчастной, Ханс сказал мне по-голландски: — Баас не забыл, что у нас есть при себе две жестянки лучшего ружейного пороха? А ведь он бранил меня, что я не оставил их на берегу среди валлу, — дескать, зачем тащить с собою лишний груз, ведь на острове они точно не понадобятся! Я ответил, что действительно припоминаю нечто подобное и что жестянки эти оказались довольно тяжелыми, как я и предполагал. Готтентот, в своей привычной манере, порою доводившей меня до белого каления, осведомился: — Как баас думает, кто лучше знает о том, чему суждено случиться: он сам или же его достопочтенный отец, пребывающий ныне на небесах? — Полагаю, мой отец, Ханс, — признал я. — Баас прав. Отцу бааса на небесах ведомо куда больше, но иногда я думаю, что Ханс здесь, на земле, знает кое-что получше вас обоих. Я гневно воззрился на этого негодяя, лишившись дара речи от столь беспримерной наглости, а он продолжал как ни в чем не бывало: — Я не забыл выложить тот порох, баас. Я взял его с собою, подумав, что он может пригодиться, поскольку порохом можно взрывать врагов и все остальное. Кроме того, я не хотел оставлять порох там, где его могли украсть. — И к чему тебе этот порох? — процедил я сквозь зубы. — Сам посуди, баас. Глупые валлу не слишком умело обращаются с камнями. Они сверлят слишком большие отверстия, слишком широкие. Дырка в затворе настолько большая, что в нее легко поместятся два фунта пороха, да и еще место останется. — Но какой смысл высыпать туда порох? — спросил я, думая вовсе не об этом, а о погибшей женщине, чье тело лежало у стены. — Никакого, баас, никакого. Вот только мне послышалось, будто баас спрашивает меня, как нам освободить эту каменную руку. — Он кивнул на брус. — Если засыпать в дыру два фунта пороха, замазать сверху грязью и поджечь, то взрывом, сдается мне, вырвет кусок затвора или расколет камень — а то и все вместе. Поскольку ничто не будет держать затвор, он упадет и вода из озера затопит поля жрецов Хоу-Хоу. Баасу виднее, надобно ли им такое в пору урожая, да еще после сильного дождя. — Ах ты, маленький негодник! — воскликнул я. — Ты сущий дьявол в человеческом обличье! Пусть меня повесят, если ты на сей раз не схватился за палку с нужного конца! Однако нам надо все хорошенько обдумать и как следует подготовиться. — Верно, баас, и лучше заняться этим в доме. Баасу ведь известно, что до него рукой подать, всего лишь какая-то сотня шагов. Пойдем отсюда, баас, пока госпожа не почуяла неладное. Как будешь проходить мимо, приглядись к дырке в каменной двери и к тому обломку, что в ней торчит. Затем готтентот, который все это время смотрел на тело мертвой женщины и говорил, как могло показаться со стороны, только о ней, поклонился погибшей и произнес по-арабски: — На все воля Аллаха… О Хоу-Хоу, прими ее в свое лоно. — И медленно отошел. Я двинулся следом, задержавшись на мгновение-другое, чтобы хорошенько разглядеть отверстие и каменный болт. Ханс был совершенно прав: там имелось вполне достаточно места для двух фунтов пороха. Вдобавок толщина стенок отверстия составляла не более трех дюймов. Нашего запаса пороха точно должно было хватить на то, чтобы разрушить верхнюю часть плиты и расколоть каменный болт.
Глава 12
ЗАГОВОР
Мы покинули сарай, Драмана старательно заперла дверь и положила каменный ключ обратно в кошель, а затем повела нас к знаменитому Древу видений, чей сок и листья, если последние истолочь и прокалить, способны навевать наипричудливейшие видения и одурманивать разум. Дерево сие росло в просторном, обнесенном стеною месте, известном как сад Хоу-Хоу, хотя никаких других растений там не оказалось. Наша провожатая поведала, что это дерево испускает ядовитые пары, которые губят все живое вокруг. Пройдя в калитку — для нее в кошеле Драманы тоже нашелся ключ, — мы очутились прямо перед растением, о котором столько слышали и которое вряд ли заслуживало чести зваться деревом, ибо больше напоминало куст: самые высокие его ветви простирались над землею футах в двадцати, не выше. С другой стороны, этот кустарник раскинулся на обширной площади, а ствол его составлял в толщину два или три фута; от ствола ответвлялись бесчисленные сучья, причем самые нижние стелились по земле и, думаю, пускали корни, точно дикая смоковница. Впрочем, этого я наверняка не знаю. И сотворит же такое мать-природа! Только представьте, у этого растения даже настоящих листьев не было, одни лишь темно-зеленые мясистые стручки; сдается мне, это пресловутое Древо видений на самом деле было некоей разновидностью молочая. На кончиках его темно-зеленых стручков лиловели цветки, источавшие смрад, который напоминал трупную вонь. Растение сие, подобно апельсиновым деревьям, цвело и плодоносило одновременно, и, кроме цветков, тут всюду виднелись желтые семенные коробочки, как у нашего южноафриканского кактуса[162]. Ствол покрывала дряблая и сморщенная серая кора, а листья-стручки сочились белесой молочной смолой; больше, пожалуй, добавить нечего. Разве что, как сообщила Драмана, других таких деревьев нигде поблизости было не сыскать — ни на острове, ни на суше за озером; а воровать его семена считалось тягчайшим преступлением. Словом, Древо видений находилось в единоличном владении жрецов. Ханс, не тратя времени даром, срезал несколько мясистых стручков и перевязал их бечевкой, которую достал из кармана штанов; эти стручки надлежало доставить Зикали, пусть сейчас нам и казалось, что вряд ли мы когда-нибудь снова увидимся со старым мошенником. Не сказать, чтобы процедура сия доставила готтентоту удовольствие: брызги белой смолы, попадая на кожу, обжигали похлеще огня. На обратном пути нам пришлось обойти валун застывшей лавы и пересечь по маленькому мостику бежавший вдоль него оросительный канал; рядом обнаружились ступеньки, выбитые, должно быть, рыбаками. Я осмотрел этот канал, который тек под волноломом и тут, за затворами, имел в ширину около двадцати футов. В боковую стенку была вделана каменная плашка с отметками, которые процарапали, по всей видимости, для того, чтобы судить об уровне воды и скорости, с которой он повышается. Верхняя отметка, пока я стоял там и разглядывал ее, полностью ушла под воду, из чего следовало, что уровень последней стремительно растет. Заметив мой интерес, Драмана сказала, что, по уверениям жрецов, прежде никогда ничего подобного не случалось, даже при самых сильных дождях. — Наверное, — прибавила она, — в этом году виною всему необыкновенно дождливое лето и бури, что бушевали выше по течению реки, питавшей озеро. — Хорошо, что у вас есть надежная преграда, — обронил я вскользь. — Да, господин, — согласилась Драмана, — не будь ее, вся эта часть острова оказалась бы под водой. Посмотри сам и увидишь, что вода в озере уже поднялась выше возделанных земель и даже выше устья пещеры Хоу-Хоу. Предание гласит, что, когда эти земли впервые, сотни лет тому назад, были отвоеваны у озера и люди возвели волнолом, жрецы Хоу-Хоу полагались на дождь для полива посевов. Но потом случилась многолетняя засуха, и тогда они прокопали канал и стали орошать посевы водой из озера, а заодно построили затворы, которые ты видел, чтобы удержать воду, если та поднимется слишком высоко. Некий живший в те времена старый жрец говорил, что это безумие однажды обернется полным разрушением, но остальные лишь смеялись над ним и продолжали пользоваться затворами. Время показало, что тот старик ошибался, ибо урожай с тех пор удвоился, а ворота сии столь надежны, что вода ни разу не перехлестнула через них и не просочилась сквозь преграду. Когда затвор поднимается полностью, он на рост ребенка превышает уровень волнолома, что отделяет озеро от наших полей. — Но ведь озерная вода может перелиться через затворы, — заметил я. — Нет, господин, — возразила Драмана. — Посмотри сам, стена намного выше кромки воды, и на такую высоту ей не взобраться. — Выходит, вы целиком полагаетесь на затворы, Драмана? — Да, господин. Если вдруг случится страшное наводнение, чего, впрочем, никогда еще не бывало на людской памяти, судьба поселения и пещеры Хоу-Хоу будет зависеть от надежности водяных ворот. Прежде чем гора взорвалась пламенем и уничтожила город наших предков, они прорубили новый выход из пещеры, а старый, как говорят, располагался выше по склону. И потом, опасность невелика: ведь даже если вода прорвется и нас затопит, люди смогут убежать на гору. Правда, поля придут в негодность на неведомый срок и нам придется голодать, потому что зерно нужно будет выращивать на суше за озером или доставать из ям в склоне горы, куда мы прячем излишки на случай войны или осады. Я поблагодарил Драману за подробное объяснение этих, так сказать, технических вопросов, кинул еще один взгляд на плашку с отметками, которая полностью скрылась под водой, и мы поспешили к дому, дабы перекусить и отдохнуть. Там Драмана покинула нас, пообещав вернуться на закате. Я настоятельно просил сестру Сабилы прийти, но не стал уточнять, что моя просьба вызвана стремлением спасти ее жизнь. Для осуществления моего плана было, в общем-то, все равно, вернется эта женщина или нет, ибо я уже узнал от нее все, что хотел, однако, замышляя устроить катастрофу, я желал предоставить Драмане возможность уцелеть. В конце концов, она была добра к нам и ненавидела Даку с Хоу-Хоу, а вот свою сестру Сабилу, напротив, нежно любила. Ханс проводил Драману до двери и, в своей неуклюжей манере, устроил изрядный переполох, помогая даме облачиться в костюм из листьев, который она успела снять и держала в руках. Между тем дождь, который за время нашей прогулки вроде бы прекратился, внезапно полил с новой силой. Мы с Хансом поели и, убедившись, что остались одни за плотно закрытыми дверями, стали совещаться. — Как, по-твоему, нам лучше поступить, Ханс? — спросил я. Мне и вправду было любопытно, что скажет готтентот. — А вот как, баас, — ответил он. — Ближе к полуночи мы должны спрятаться поближе к ступеням, у самой Скалы приношений, а не у тех маленьких, что находятся возле сарая с затворами. Когда лодка приплывет и госпожа Сабила ступит на остров, мы дождемся, пока ее свяжут и положат к ногам чудовища, а потом поплывем к лодке, заберемся в нее и вернемся в город валлу. — Но ведь в этом случае мы не спасем госпожу Сабилу, Ханс. Ты что, про нее не подумал? — Верно, баас, я не стал думать про госпожу Сабилу, которая, надеюсь, будет счастлива с Хоу-Хоу. Я думал про нас, прикидывал, как спастись. Пожалуй, придется бросить часть вещей, баас. Если Иссикора и прочих заботит судьба Сабилы, то пускай они наберутся мужества выступить против каменного изваяния и кучки жрецов и сами ее спасают. — Послушай Ханс, — строго произнес я. — Мы прибыли сюда, чтобы добыть вонючие листья для Зикали и спасти госпожу Сабилу, жертву людской злобы и суеверий. С первым заданием мы справились, а вот выполнение второго еще впереди. Мы должны спасти эту несчастную женщину — или погибнуть, пытаясь ее освободить. — Конечно, баас. Я так и знал, что баас это скажет, ибо все люди глупы, хоть и каждый по-своему, и кто способен вырвать из сердца ту прихоть, которую мать заронила туда еще до его рождения? Раз баас хочет быть глупым — или влюбился в госпожу Сабилу, она ведь красавица, — то мы, чтобы не погибнуть, должны придумать что-нибудь другое. — Что именно? — уточнил я, решив не обращать внимания на его ядовитую насмешку. — Не знаю, баас, — ответил он, уставившись в потолок. — Будь у меня чем промочить горло, глядишь, я бы что-нибудь и скумекал, но от всей этой сырости у меня в голове туман, а в животе одна вода. Я правильно понимаю, что баас хочет взорвать затворы и затопить все это поселение вместе с пещерой Хоу-Хоу, где соберутся на поклонение своему богу жрецы и их женщины? — Верно, Ханс, я думаю как раз об этом. Когда вода ворвется внутрь, она мгновенно снесет стену по обе стороны от затворов и разольется могучим потоком. Особенно теперь, когда дождь припустил снова. — Тогда, баас, нам нужно уронить тот камень. Сами мы с ним не справимся, но нам поможет вот это. — Готтентот достал из своего мешка два фунта пороха в крепких жестяных банках, прочно запаянных на заводе в Англии. — Полагаю, жрецы Хоу-Хоу ничуть не удивятся, недаром ведь я ношу прозвище Владыки огня. — И Ханс ехидно усмехнулся. — Да уж, — проговорил я, утвердительно кивая. — Другой вопрос, как это сделать. — Думаю, вот как, баас. Мы должны заложить эти штуковины в отверстие в каменной дыре, забить их туда мелкими камнями, а сверху погуще намазать грязью, чтобы порох успел сделать свое дело, прежде чем жестянки разлетятся на кусочки. Но сперва нужно просверлить в них дырки, приготовить такие спички, которые будут гореть долго, и вставить их в дырки. Из чего бы нам сделать эти спички, баас? Я огляделся. На полке у стены стояли глиняные фонари, горевшие всю ночь напролет, а рядом лежал длинный моток фитиля, который местные изготавливали из высушенного тростника. — То, что надо! — воскликнул я. Мы взяли фитиль, смочили его в местном масле, смешанном с порохом из патрона, — и через полчаса у нас имелись две отличные спички длительного горения, которые, как мы установили, проведя проверку, должны были тлеть пять минут, прежде чем огонь доберется до пороха в отверстии. Ничего другого мы пока сделать не могли. — Хорошо, баас, — сказал Ханс, когда мы завершили приготовления и припрятали спички, давая тем просохнуть, — просто замечательно, баас. Но допустим, что каменная дверь упала, вода разлилась и все остальное у нас тоже получилось. Как мы уплывем с острова? Если даже мы сумеем утопить жрецов Хоу-Хоу — во что я не верю, потому что они наверняка кинутся вверх по склону горы, точно горные зайцы[163], — то и сами утонем и отправимся вместе с ними в то огненное место, о котором так любил рассказывать твой достопочтенный отец. Да и нельзя же бросить госпожу Сабилу, которая будет привязана к той скале. — Мы ее и не бросим, Ханс. Если все пройдет так, как я рассчитываю, то место Сабилы займет кое-кто другой. Ханс призадумался, потом его лицо озарилось улыбкой. — Я все понял! Баас привяжет к камню госпожу Драману, она постарше и не такая красивая, как госпожа Сабила. Вот почему баас велел ей быть с нами и никуда не отходить! Отлично придумано, баас, а заодно мы избавимся и от всяких хлопот с нею потом. Вот только, баас, надо будет слегка стукнуть ее по голове, чтобы женщина не подняла шум и не выдала нас жрецам. — Ханс, ты бессердечное чудовище! Неужто, по-твоему, я способен на такое? — возмутился я. — Конечно, баас, я чудовище, раз думаю сперва о тебе и о себе, а уж потом обо всех остальных. Но тогда кого же баас хочет привязать к скале? Или ему вздумалось переодеть женщиной меня? — Готтентот заметно встревожился. — Ханс, ты не только чудовище, но вдобавок еще и глупец. Мне ведь без тебя не справиться, болван ты этакий! Я не собираюсь привязывать никого живого, а хочу положить туда мертвую женщину из сарая с затворами. Ханс воззрился на меня в немом изумлении, а потом оправился и произнес: — Баас сделался невероятно хитрым! Он измыслил такое, что мне и в голову не пришло! Хорошо придумано, баас, если, конечно, мы сможем перетащить мертвую туда так, чтобы нас никто не увидел, и если госпожа Сабила не сорвет нашу затею. А то вдруг ей вздумается кричать и смеяться одновременно, как это бывает у глупых женщин? Хорошо, допустим, все получилось, мы четверо спаслись. А как мы доберемся до лодки, баас, если, конечно, эти трусливые валлу нас дождутся? — А вот как, Ханс. Если Драмана сказала правду, то после того, как лодка высадит госпожу Сабилу и жертву привяжут к каменному столбу, валлу будут дожидаться рассвета на некотором удалении от острова. Ты доплывешь до лодки, прихватив револьвер, который будешь держать над головою, чтобы порох не намок, а все остальное оставишь на суше. Заберешься в лодку, растолкуешь Иссикору или тому, кто там будет сидеть, суть дела, а затем, когда суматоха уляжется, мы с госпожой Драманой тайком вынесем мертвую женщину из сарая и привяжем ее к столбу вместо Сабилы. Ты подведешь лодку к причалу, к тем малым ступеням, которые мы с тобой видели за сараем, — помнишь, Драмана говорила, что они предназначены для рыбаков, которым запрещено ступать на Скалу приношений? — Помню, баас. Они находятся в конце того маленького причала, который, как рассказывала госпожа Драмана, построили еще и для того, чтобы ил из озера не попадал в затворы. Но что же дальше? — Увидев лодку, Ханс, я подожгу наши запалы, и мы с Драманой побежим к берегу и запрыгнем в лодку. Надеюсь, все жрецы и их женщины будут в пещере, которая находится в отдалении от сарая, а потому не услышат взрыва пороха в затворе. Когда же они выйдут из пещеры, то увидят, что вода прибывает и заливает все вокруг. Так что им будет чем заняться, вместо того чтобы преследовать нас, а иначе они наверняка бросятся в погоню. Я уверен, свои лодки они припрятали где-то поблизости, пускай Драмане о том и неизвестно. Ты все понял? — Да, баас, понял. Как я уже говорил, баас вдруг сделался очень хитрым. Наверное, это вино грез, которого он отведал прошлой ночью, пробудило его ум. Но баас кое-что упустил. Допустим, я благополучно доплыву до лодки. Как мне убедить людей в ней подплыть к ступеням и забрать вас? Они ведь испугаются, сам знаешь, баас, или скажут, что это против их законов: дескать, Хоу-Хоу изловит их, если они меня послушаются. — Сперва объяснишь им все вежливо, Ханс, а если станут упрямиться, пригрозишь револьвером. Коли понадобится, можешь пристрелить одного или двоих, и тогда, думаю, остальные подчинятся. Но надеюсь, что до этого не дойдет, поскольку, если в лодке будет Иссикор, ему наверняка захочется вырвать Сабилу из лап Хоу-Хоу. Ладно, вроде мы все обсудили, а теперь я намерен немного вздремнуть, прямо на запалах, чтобы те быстрее сохли, да и ты тоже отдохни. Прошлой ночью мы почти не спали, а сегодня и подавно не придется, поэтому нужно пользоваться случаем. Но сперва принеси вон ту циновку и спрячь в мешок листья треклятого дерева для Зикали, чтоб этому старому мошеннику пусто было, — ох, и втравил же он нас в историю! Укладываясь на циновку и закрывая глаза, я все повторял про себя те доводы, которые недавно столь складно изложил Хансу, и старался убедить себя в том, что наш план сработает. Но внутренний голос твердил, что мы собираемся действовать наобум, что успех нашей безумной затеи целиком и полностью зависит от цепочки допущений, настолько длинной, что она дотянется отсюда до Кейптауна. Наша история была блестящим подтверждением старинного присловья: «Если бы да кабы, да во рту росли бобы, то был бы не рот, а целый огород». Если лодка приплывет; если она останется ждать; если Ханс доберется до нее незамеченным; если он сумеет убедить одержимых суевериями валлу; если мы сможем провернуть свою задумку с порохом в затворе; если порох загорится и разнесет затвор; если получится освободить Сабилу; если она не вздумает творить глупости, как то заведено у женщин; если местные охранники-дикари не перегрызут нам глотки, прежде чем мы успеем ускользнуть… Было также множество прочих «если». При условии, что все они сбудутся, наш план вполне мог осуществиться, а вот жрецам Хоу-Хоу в этом случае предстояло сполна познать страх или же вовсе утонуть. Но почему-то я склонялся к мысли, что после очередной бессонной ночи нас ждет крепкий сон — долгий и, увы, беспробудный, вечный сон. Впрочем, что суждено, того не миновать, и потому я, по своему обыкновению, положился на судьбу, помолился и заснул, благо, хвала небесам, умел засыпать в любое время и почти при любых обстоятельствах. Без этого умения я бы, пожалуй, давным-давно уже был покойником. Когда я проснулся, было темно, а надо мной стояла Драмана. Должно быть, меня разбудило именно ее появление. Я посмотрел на часы и, к своему удивлению, понял, что уже начало одиннадцатого. — Почему ты не поднял меня раньше? — упрекнул я Ханса. — Чего ради, баас, коли делать все равно нечего, а бездельничать без глотка спиртного совсем скучно? Я догадался, что готтентот, подобно мне, крепко спал, но не желает в том признаваться. Что ж, мы хотя бы выспались — и избавили себя от долгих часов утомительного бодрствования. Внезапно мне захотелось поделиться нашим планом с Драманой. Было в этой женщине что-то такое, что побуждало ей доверять; кроме того, не подлежало сомнению, что она всей душою жаждала сбежать от Даки, которого ненавидела и который ненавидел ее — и намеревался расправиться с женой, когда получит в свое распоряжение Сабилу. Драмана слушала, и глаза ее от удивления становились все шире, настолько поразила женщину дерзость моего плана. — Возможно, дело и сладится, — сказала она, когда я замолчал, — но опасайся колдовства жрецов, господин. Оно способно показывать им то, что скрыто от глаз. — Думаю, мы все же рискнем, — отозвался я. — И еще одно, — продолжала Драмана. — Мы не сможем проникнуть туда, где находятся затворы, которые ты думаешь разрушить. Как мне было велено, по возвращении в пещеру я отдала кошель с ключами от сарая и от калитки в сад Хоу-Хоу обратно Даке, а он куда-то его спрятал. Дверь сарая очень крепкая, господин, ее не сломать, а если я снова попрошу у Даки ключ, он обо всем догадается, ведь вода сейчас прибывает быстрее, чем случалось когда-либо на людской памяти, а жрецы проверяют, надежно ли заперты затворы, и вяжут узлы на веревках, которые удерживают рукоять. Я замер в растерянности, коря себя за то, что совершенно позабыл о ключе. И тут услышал глупое хихиканье готтентота. — Над чем это ты смеешься, желтокожая мартышка?! — напустился я на него. — Все наши планы пошли коту под хвост, а тебе весело? — Нет, то есть да, баас. Я сразу понял, баас, что может случиться что-нибудь этакое, а потому на всякий случай вытащил ключ из кошеля госпожи Драманы и подложил вместо него камешек того же веса. Вот, глядите. — И Ханс достал из кармана штанов увесистый, старинного вида инструмент. — Очень умно с твоей стороны. Вот только Драмана говорит, что жрецы постоянно ходят в сарай. Как же они попадают туда без ключа? — Господин, ключей два. У того жреца, что зовется смотрителем врат, есть свой собственный. Он принес клятву не расставаться с ним ни днем ни ночью: днем носит ключ на поясе, а ночью спит, сжимая его в руке. Тот ключ, что был у меня, принадлежит верховному жрецу; у Даки есть ключи от всех дверей, дабы он мог заглядывать, куда ему вздумается, но он редко так делает. — Что ж, Драмана, это хорошо. Ты все нам рассказала или хочешь еще о чем-то предупредить? — Хочу, господин. Вам следует сегодня же ночью покинуть остров, ибо днем на совете жрецов объявили о прорицании Хоу-Хоу: тебя и твоего товарища хотят принести в жертву на завтрашнем свадебном пиру. Таким способом жрецы надеются утихомирить волосатых: те уже узнали, что это вы убили их самку, и теперь говорят, что, если вас оставят в живых, они не пойдут воевать с валлу. Быть может, и меня тоже принесут в жертву вместе с вами. — Вот, значит, как? — проговорил я задумчиво. Что ж, после подобного заявления любые сомнения относительно того, стоит или нет топить этих безумных жрецов, напрочь исчезли и моя совесть успокоилась. Я не собирался никому позволять принести меня в жертву, ни сейчас, ни когда-нибудь потом. Я рассудил, что, пожалуй, самым надежным способом избежать подобной участи будет накормить злоумышленников их же собственным угощением. Словом, с того мгновения я сделался столь же безжалостным, как и Ханс. Теперь я понял, почему с нами обращались столь учтиво и позволили увидеть все, что нам хотелось. Таким образом жрецы усыпляли наши подозрения. Какое значение имели все их тайны, если через несколько часов нам предстояло отправиться туда, откуда мы уже никогда не вернемся, а стало быть, никому ничего не расскажем? Я попытался уточнить у Драманы подробности этого, как она выразилась, прорицания Хоу-Хоу, но ее ответы меня нисколько не удовлетворили. Насколько я смог понять, «прорицание» сие было откликом на мольбы лесных демонов, которые требовали мести за гибель на реке их самки и угрожали бунтом, если таковая не воспоследует. Это объясняло все, а подробности были, пожалуй, излишними. Разобравшись с этим делом, мы сели ужинать, и за едой Драмана невзначай обронила, что наше оружие, о котором жрецы говорили, будто бы оно «плюется огнем», должны выкрасть у нас перед рассветом, пока мы будем спать. Выходит, нас хотели сделать беззащитными. По всему выходило, что начинать действовать надо прямо сейчас. Я как следует подкрепился, ибо пища прибавляет сил, и Ханс поступил точно так же. Более того, я не сомневаюсь, что готтентот не преминул бы насладиться доброй едой даже под виселицей, если бы его собрались на ней вздернуть. «Ешь и пей, потому что завтра мы умрем» — такой девиз, я уверен, избрал бы себе Ханс, если бы туземцы вообще знали, что такое девизы. За ужином мы пили туземную настойку, которую принесла Драмана, поскольку я подумал, что толика спиртного пойдет нам обоим на пользу; в особенности это касалось Ханса, которому предстояло окунуться в студеные воды озера. Правда, сделав глоток настойки, я тут же пожалел об этом, ибо мне пришло в голову, что в нее могли что-то подмешать. Но мои опасения оказались напрасными — Драмана сказала, что сама наливала напиток в бутыль. Покончив с ужином, мы сложили наши скромные пожитки. Поскольку Ханс, приготовившийся плыть, не взял с собою ничего, кроме револьвера и мешочка с ветками и листьями Древа видений (мы подумали, что эти ветки помогут ему держаться на воде), то половину вещей я доверил нести Драмане, которая была женщиной сильной. Около одиннадцати мы вышли из дома, накинув на головы покрывала из козьих шкур, которые лежали на наших постелях. Так мы рассчитывали остаться незамеченными.Глава 13
СТРАШНАЯ НОЧЬ
Проливной дождь сменился густой моросью, которая висела в воздухе плотной пеленою, а над поверхностью озера и над возделанными полями в низине поднялся туман. Погода нам благоприятствовала: даже если поблизости находились наблюдатели, приставленные следить за чужаками, они ничего не смогли бы разглядеть, разве только мы сами бы случайно на них не наткнулись. Сказать по правде, я не думал, что кто-либо остался приглядывать за нами, когда все население деревни отправилось в пещеру на обряд жертвоприношения. Мы никого не видели и не слышали, даже собаки не лаяли — эти животные, которых в поселении было несколько, крепко спали в домах, куда их впустили с улицы, оберегая от сырости и холода. Над полосой тумана висела в чистом небе огромная полная луна, из чего следовало, что дождь заканчивается; впоследствии мы узнали, что прибыли на остров под самый конец затяжной бури, которая бушевала в тамошних местах, с редкими перерывами, на протяжении нескольких месяцев. Мы добрались до сарая; к нашему изумлению, дверь оказалась открыта. Возможно, жрецы, приходившие проверять затворы, забыли ее запереть. Мы осторожно проникли внутрь и плотно прикрыли дверь. Затем я зажег свечу — у меня была привычка всегда держать при себе некоторый запас свечей — и поднял ее повыше, чтобы оглядеться. А в следующий миг попятился, охваченный ужасом, потому что у рва с водою сидел мужчина с длинным копьем в руке. Пока я ломал голову, как поступить, и таращился на жреца, который спросонья выглядел еще более напуганным, чем я сам, Ханс начал действовать с проворством и решительностью туземца. Он одним прыжком подскочил к охраннику и, думаю, обнажил нож, хотя в последнем я не уверен. Послышался глухой удар, а затем в свете свечи мелькнули пятки валлу, тело которого головой вперед нырнуло в воду. Что с ним было дальше, я не ведаю; но нам он больше не мешал. — Что это значит? Ты же говорила, что здесь никого не будет! — набросился я на Драману, заподозрив ловушку. Женщина упала на колени, решив, должно быть, что я собираюсь убить ее копьем охранника, которое подобрал с пола, и взмолилась: — Пощади, о господин! Я правда ничего не знаю! Быть может, жрецы посадили сюда этого человека на всякий случай. Сам видишь, вода все прибывает, и он, наверное, следил за затворами. Поверив словам Драманы, я велел ей встать, и мы принялись за работу. Закрыв изнутри дверь на засов, Ханс взобрался на рычаг и при свете моей свечи — в сарае не было окон, так что это нас выдать не могло — заложил обе жестянки с порохом в отверстие наверху затвора, прямо под каменным болтом, что крепился к рычагу. Потом, как мы и договаривались, он заклинил их камнями, которые мы принесли с собой. Затем я наскреб глины, которой были покрыты стены сарая, и обильно ее смочил. Этой глиной мы замазали жестянки и камни, и у нас получился слой толщиною в несколько футов. Лишь непосредственно под болтом осталось отверстие, чтобы сила взрыва пришлась именно на него и на верхний край дырки, просверленной в затворе. Запалы, которые к тому времени полностью высохли, мы вставили в дырочки в жестянках, выведя их наружу, дабы предохранить от сырости, в двух длинных полых тростниках, каковые заблаговременно сняли с крыши того дома, где ночевали. Концы запала висели футах в шести от пола, и поджечь их было легко, даже второпях. Времени было уже четверть двенадцатого, и теперь надлежало выполнить самую страшную и неприятную часть нашего плана. Подняв труп женщины, погибшей нынче утром от удара рычага, мы с Хансом — Драмана наотрез отказалась прикасаться к покойнице — вытащили ее из сарая. Драмана несла наши пожитки, поскольку мы не осмелились оставить их внутри, предвидя, что путь к отступлению может быть отрезан. Ноша оказалась довольно тяжелой, ибо мертвая женщина весила немало; однако мы кое-как преодолели пятьдесят ярдов до места, которое я отметил для себя, когда мы накануне осматривали Скалу приношений. Там земля приподнималась на полдюжины футов (или чуть поменьше) над окружающей местностью, и в скале имелась неглубокая щель, промытая водой, достаточно просторная для того, чтобы укрыть нас троих вместе с трупом. Мы спрятались в этой щели, куда, по счастью, не падал свет от горевших поблизости негаснущих костров; к слову, те в пелене дождя будто бы потускнели и распространяли вокруг себя густой дым. От ближайшего костра нас отделяла от силы дюжина шагов. Каменный столб, к которому должны были привязать жертву, находился на расстоянии ширины крикетной площадки. Я прикинул, что нас вряд ли обнаружат, если только кто-нибудь не сверзится прямо нам на головы или не подойдет со спины. Мы прилегли и стали ждать. Некоторое время спустя, незадолго до полуночи, в наступившей мертвой тишине мы расслышали плеск весел о воду. Лодка! Через мгновение донеслись голоса, причем разговор велся совсем близко от нашей щели. Я приподнял голову и осторожно выглянул из-за каменной кромки. Большая лодка медленно приближалась к тому месту, где мы видели ступени для рыбаков, теперь скрывшиеся под водою. На берегу стояли четверо жрецов в белых одеждах; их лица были скрыты платками с прорезями для глаз, из-за чего они выглядели, точно монахи на старых картинах, изображавших суды испанской инквизиции. Лодка причалила, и жрецы сделали шаг вперед. С носа лодки им передали высокую женщину, целиком, с головы до ног, закутанную в белую накидку; судя по росту, это была Сабила. Жрецы молча — все это жуткое действо разворачивалось в полнейшем безмолвии — приняли «подношение» и наполовину повели, наполовину поволокли несчастную к каменному столбу между огнями, а затем, как я разглядел сквозь туман (той ночью я благословлял этот туман, ровно так, как поется в одном из псалмов, — или это туман хвалит Господа?[164]), привязали ее к столбу. Потом, по-прежнему храня молчание, они повернулись и направились к черневшему поодаль зеву пещеры, где и скрылись. Лодка отплыла от берега — недалеко, судя по количеству ударов весел о воду, которые я считал, — и остановилась. Пока все шло именно так, как рассказывала Драмана. Шепотом я спросил у нашей спутницы, могут ли жрецы вернуться. Она ответила, что нет, никто не появится на Скале приношений до рассвета, когда Хоу-Хоу, сопровождаемый женщинами, выйдет из пещеры забрать свою невесту. Драмана клятвенно уверяла, что говорит правду, ибо смотреть на невесту бога в промежутке между тем, как ее привяжут к столбу, и восходом солнца над озером считалось у валлу тягчайшим преступлением. — Тогда чем скорее мы приступим к делу, тем лучше, — ответил я, решив пока не уточнять, что Драмана имела в виду, когда сказала, что Хоу-Хоу утром выйдет из пещеры, ведь все мы знали: этот бог — выдумка жрецов. — Пошли, Ханс, пока туман не рассеялся. Он может исчезнуть в любой миг. Быстро и ловко, подгоняемые страхом, мы выбрались из щели и выволокли наружу тело мертвой женщины. Обойдя со своей жуткой ношей ближайший огонь, мы приблизились к каменному столбу. Казалось, этот короткий путь занял целое столетие. По воле Провидения столб был окутан густым дымом, исходившим, как я говорил, от негаснущих костров, и в этом дыме и тумане нас совершенно не было видно. Пленница, привязанная к столбу, уронила голову на грудь, словно пребывая без сознания. Ханс уверял, что это именно Сабила: дескать, он опознал ее по запаху, что было вполне в его духе. Однако я не обладал чутьем готтентота, а потому мне требовалось удостовериться. Я отважился заговорить с женщиной, изрядно смущенный ее безвольным видом. Помнится, я опасался, как бы бедняжка, решив, что настал ее последний час, не приняла тот яд, который, как сама нам призналась, всегда носила при себе. — Сабила, не бойся, — обратился я к ней, — не кричи и не плачь! Сабила, это мы: тот, кого называют Бодрствующим в ночи, и его товарищ по прозвищу Светоч во мраке. Мы пришли, чтобы спасти тебя. Я нетерпеливо ждал ответа, гадая, услышу ли хоть что-нибудь. Потом из моей груди вырвался вздох облегчения, ибо Сабила шевельнула головой и пробормотала: — Я, должно быть, сплю! — Нет, ты не спишь, — сказал я, — а если и спишь, то просыпайся поскорее, иначе мы все тут можем уснуть вечным сном. Потом я обогнул столб и попросил пленницу объяснить, где расположен узел, которым завязана удерживавшая ее веревка. Она кивком головы указала вниз; руки ее, перехваченные путами, оставались в неподвижности. — Возле ног, господин, — проговорила Сабила. Я опустился на колени и нащупал узел. Сами понимаете, друзья мои, просто разрезать веревку мы не могли, потому что тогда нам нечем было бы привязать к столбу мертвое тело. К счастью, узел оказался затянут не слишком туго — жрецы не прилагали особых усилий, ибо до сих пор ни одна невеста бога не пыталась сбежать. Потому, хотя мои руки замерзли, я довольно быстро сумел распутать узел. Минуту спустя Сабила освободилась, и я разрезал веревки на ее руках. Дальше было труднее: мы с Хансом избавили пленницу от белой накидки, облачили в нее мертвую женщину и кое-как пристроили неподатливое, закоченевшее тело возле каменного столба. — Вот Хоу-Хоу порадуется! — прошептал Ханс, когда мы привязали погибшую и замерли, рассматривая творение рук своих. Потом мы двинулись обратно, пригибаясь как можно ниже, чтобы наши фигуры скрывались в тумане, который постепенно истончался и висел теперь всего лишь в трех футах над землею, как осенняя дымка над английскими болотами. Когда мы добрались до щели, Ханс бесцеремонно перекинул Сабилу через край, и полубесчувственная девушка повалилась сверху на свою сестру, которая в испуге скрючилась в этом ненадежном укрытии. Никогда прежде, подумалось мне, не бывало еще столь странной встречи насильно разлученных родичей. Я шел последним и, перед тем как заползти в щель, решил осмотреться. И вот что я увидел. Из пещеры вышли два жреца. Они быстро взбежали по склону горы и остановились у негаснущих костров, которые питались то ли природным газом, то ли нефтью. Каждый жрец замер у своего огня, а потом они дружно обернулись и уставились сквозь прорези в лицевых платках на привязанную к столбу жертву. Судя по всему, увиденное их удовлетворило, поскольку в следующий миг оба кинулись обратно к пещере, но в их стремительных движениях не было ни изумления, ни паники. — Что это значит, Драмана? — сурово спросил я. — Ты же уверяла, что ваш закон запрещает глядеть на невесту бога до восхода солнца. — Не могу сказать, господин, — отвечала она. — Это и вправду против закона. Быть может, жрецы почувствовали неладное и послали этих двоих проверить, все ли в порядке. Я ведь говорила, господин, что жрецы Хоу-Хоу сведущи в колдовстве. — Ну, положим, не так уж они и сведущи, коли ничего не обнаружили, — возразил я. Моя бравада была напускной: в душе я очень гордился тем, что настоял на своем и мы привязали труп к каменному столбу. Пока мы вытаскивали мертвую женщину из сарая и несли к Скале приношений, Ханс все твердил, что привязывать беднягу нет никакой нужды, раз уж Драмана клянется, что все равно ни один человек не взглянет на невесту бога до рассвета. «Чего зря стараться, баас? — ныл он. — Давай просто освободим Сабилу и убежим». Но Божий промысел уберег меня от того, чтобы согласиться с готтентотом. Поддайся я на его уговоры, наша затея провалилась бы и все мы были бы обречены. Нет, ну какой же я молодец, что сообразил вернуться и подобрать куски веревки, которой были связаны руки Сабилы и которую я разрезал! Ведь иначе жрецы могли бы их заметить и заподозрить неладное. Хвала небесам, все обошлось. — Ханс, пора уж тебе плыть за лодкой. Пожалуйста, поторопись, потому что туман тает на глазах и тебя могут заметить. — Нет, баас, никто меня не заметит, ибо я привяжу на голову ветки того дерева снов и издалека меня примут за кочку с тростником. А сами не хотите окунуться, баас? Ведь баас плавает лучше моего и не боится холода, а еще он хитрый, и те глупые валлу в лодке послушают его скорее, чем меня. Да и стреляет баас тоже лучше. Давай-ка я пригляжу за госпожой Сабилой, баас, и за другой госпожой тоже, а спичку поджечь много ума не надо. — Слишком поздно менять план, — сказал я. — Хотя я не отказался бы очутиться сейчас в той лодке вместо тебя, ибо там явно будет безопаснее. — Как скажете, баас. Вам лучше знать. Не обращая никакого внимания на дам, Ханс разделся, сложил свою грязную одежду в циновку, в которой лежали ветки Древа видений, и сказал, что с удовольствием облачится в сухое, когда доберется до лодки — или угодит на тот свет. Покончив с приготовлениями и закрепив на голове узелок при помощи тех самых веревок, что я срезал с рук Сабилы (я крепко затянул их ему под мышками), Ханс вошел в воду, дрожа всем телом, весь какой-то сморщенный, жалкий и некрасивый. Но прежде он поцеловал мне руку и спросил, не нужно ли чего передать моему достопочтенному отцу на небесах, где уж всяко будет теплее, чем здесь. Потом прибавил, что, как ему кажется, госпожа Сабила не стоит всех наших стараний, в особенности потому, что собирается замуж за другого мужчину. И на прощание поведал, что, если мы благополучно выберемся из этих мест, он намерен беспробудно пить два дня подряд в первом же городе на пути, где продают джин; подобные обещания, скажу честно, мой готтентот выполнял всегда. В общем, Ханс соскользнул с камня в воду и, держа револьвер и кожух с патронами над головой, поплыл, ловко и бесшумно, словно водяная крыса. К тому времени, как я уже сказал, туман почти рассеялся; остатки его разгонял ветерок, задувший с востока, как часто бывает в этих областях Африки между полуночью и рассветом, даже в безветренные вроде бы ночи. Но над поверхностью озера туман по-прежнему висел, и я различал только смутные очертания корпуса лодки ярдах в ста от берега. Сердце мое забилось чаще, когда я разглядел какое-то шевеление на воде. Лодка как будто развернулась, и мне почудилось, что я слышу изумленные возгласы. Да, люди в лодке вскочили, потом раздался громкий всплеск — и все снова стихло. Похоже, Ханс благополучно доплыл до лодки, но вот сумел ли он в нее забраться? Мне оставалось лишь гадать. Гадать и надеяться. Поскольку таиться дальше в неглубокой щели было не только совершенно бессмысленно, но и опасно, я решил вернуться обратно к сараю с затворами, со всеми пожитками, как и раньше, но зато,хвала небесам, без тяжелого трупа. Сабила до сих пор пребывала в полузабытьи, так что я ни о чем ее не спрашивал. Драмана взяла сестру за левую руку, я схватился за правую, и, поддерживая несчастную таким образом, мы побежали, пригибаясь к земле, в направлении сарая — и добрались до него без помех. Оставив обеих женщин внутри, я отправился на причал и присел у того места, где начинались ступеньки. Я вглядывался в темноту и ждал прибытия Ханса на лодке; как вы помните, друзья мои, по плану мне не следовало поджигать запалы, пока она не приплывет. Но лодки не было. Я долго — по моим ощущениям, целую вечность — ждал и всматривался во мрак, время от времени отбегая к сараю, дабы убедиться, что Сабила и Драмана в безопасности, и возвращаясь на причал. Коротко переговорив с женщинами, я узнал, что девушку сопровождали сам старый вождь Валлу и Иссикор, отчего отсутствие лодки делалось и вовсе необъяснимым — если предположить, конечно, что Ханс до нее доплыл. А вот если он утонул или с ним случилась беда, когда он пытался перебраться через борт, тогда все становилось понятным: люди в лодке попросту не догадывались о нашем отчаянном положении, о том, что мы ждем спасения. Не исключено, правда, что они отказались нас спасать по своим религиозным убеждениям. Я не знал, как быть. Очень скоро наступит рассвет, нас обнаружат и убьют, быть может сперва подвергнув мучительным пыткам. С другой стороны, если поджечь запалы, взрыв наверняка услышат — и нас опять-таки найдут и казнят. Но все же, как мне думалось, стоило рискнуть: вода зальет окрестности и отвлечет внимание жрецов; тем будет чем заняться, и времени на погоню за нами просто не останется. А лодки все не было. Может, она прячется в тумане или уже уплыла? Правда, если бы валлу решили уплыть и будь Ханс жив, он выстрелил бы из револьвера, давая знать, что план пошел насмарку. Нет, готтентот ни за что бы меня не бросил, скорее он снова пустился бы вплавь через озеро, чтобы мы вдвоем смогли обсудить, как быть дальше. Я перебирал в уме все бесчисленные возможности, при этом все больше запутываясь и все сильнее отчаиваясь. На лодке явно что-то случилось, но вот что именно? Вода между тем продолжала прибывать: ступеньки скрылись полностью, а до кромки причала, на котором я сидел на корточках, оставалась от силы пара дюймов. Наводнение выглядело действительно сильным, и вода грозила перелиться через волнолом; в этом случае сарай с затворами непременно пострадает и прятаться там станет невозможно. Кажется, я уже упоминал, друзья мои, что в нескольких ярдах правее, вздымаясь над волноломом на семь-восемь футов, торчал огромный валун, должно быть выброшенный когда-то из жерла вулкана. Залезть на него, как я прикинул, было довольно просто, и мы трое без труда поместились бы на его вершине. Никакое наводнение не достигнет такой высоты, так что опасаться нечего. Обдумав эту возможность и снова перебрав в уме прочие варианты, я принял решение — столь бесповоротно и столь неожиданно для самого себя, словно бы на меня внезапно снизошло озарение. Я приведу женщин сюда и уложу их на вершине валуна. Темная накидка Драманы спрячет обеих от посторонних глаз даже при ярком свете луны. А сам я вернусь в сарай и подожгу запалы, после чего присоединюсь к красавицам-сестрам; со своего возвышения мы будем наблюдать за происходящим и дожидаться лодки (хотя, признаться, в то, что она все-таки приплывет, я уже почти не верил). Отбросив все сомнения и колебания, я принялся исполнять свой план; мной двигало холодное отчаяние обреченного. Я вывел из сарая сестер, которые вообразили, что спасение рядом, и вышли довольно бодро, заставил их взобраться на валун и лечь лицом вниз, а затем накрыл женщин и наши пожитки просторной темной накидкой Драманы. После чего вернулся в сарай, зажег спичку, поднес ее к запалам и некоторое время смотрел, как те уверенно тлеют. Затем я выскочил из сарая, запер тяжелую дверь и резво забрался на валун. Минуло пять минут, и как раз когда я уже начал думать, что запалы, по всей видимости, потухли, раздался глухой взрыв. Звук был не то чтобы громким; даже с расстояния пятидесяти ярдов казалось сомнительным, что кто-то обратит на него внимание, если только специально не прислушиваться. Толстые стены и надежная крыша сарая заглушали все звуки. Кроме того, этот взрыв ничуть не напоминал резкий треск ружейного выстрела. Скорее он походил на стук, с каким падает на землю что-то тяжелое. Некоторое время затем ничего не происходило, но вот, приподняв в очередной раз голову, я увидел, что вода, которую ранее удерживали каменные затворы в сарае, стремительно мчится по оросительному каналу, точно по желобу водяной мельницы. Меня обуял восторг — получилось! Затвор рухнул, и теперь вода из озера растекалась по равнине! Внимательно наблюдая, я заметил, как из каменной кладки канала выпал сперва один булыжник, потом другой, третий, а затем все сооружение под напором воды будто бы начало таять на глазах. Там, где прежде пролегал под волноломом канал, теперь ширилась изрядная прореха, в которую неумолимо вливались воды вздувшегося озера. В следующее мгновение сарай сложился, словно карточный домик, его основание смыло, и на месте сарая разлилась настоящая полноводная река, которая несла прочь обломки тростниковой крыши и быстро заливала лежавшие в низине поля, огибая защитную стену. Я поглядел на восток. Понемногу светало, и мрак в том месте, где серое небо сливалось с таким же серым озером, мало-помалу рассеивался. Близился рассвет. С неумолчным ревом сквозь дыру в волноломе, которая становилась все шире, воды озера безжалостно и беспощадно прорывались на равнину, и грозной ярости воды, казалось, не было предела. Наш валун превратился в крохотный островок, окруженный водою со всех сторон, а на восточном небосклоне первый луч невидимого солнца пронзил омытые дождями небеса подобно гигантскому копью. Зрелище было поистине восхитительным, и, полагая, что это последний рассвет, который мне довелось наблюдать на этом свете, я следил за ним с неослабевающим вниманием. К тому времени женщины подле меня уже рыдали в голос от ужаса, будучи полностью уверенными, что им предстоит утонуть. Я придерживался того же мнения, поскольку ощущал, как дрожит под нами валун, будто собираясь перевернуться или попросту упасть набок, погрузившись в неведомую бездонную пучину. Помочь сестрам я ничем не мог, а потому притворился, что не замечаю их страданий, и продолжал глядеть на восток.Именно тогда, вынырнув из тумана всего в нескольких ярдах от нас, показалась большая лодка. Из-за грохота воды расслышать плеск весел не было возможности. На корме, с револьвером, приставленным к голове рулевого, стоял Ханс. Я вскочил, и готтентот заметил меня. Я принялся махать руками, показывая, с какой стороны лучше подплыть, и лодка двинулась по-над затопленным волноломом, где было мельче. Ее швыряло из стороны в сторону, и я все ждал, что она сейчас перевернется или окажется затянутой в губительный водоворот, но эти валлу, надо отдать им должное, умело обращались с рулем и веслами, а револьвер в руке Ханса заставлял гребцов пошевеливаться. Вот нос лодки чиркнул о валун, и Ханс, успевший перебраться вперед, кинул мне веревку. Я поймал ее одной рукою, а другой начал спихивать вниз рыдающих женщин. Готтентот подхватил их и переправил на лодку, точно мешки с зерном. Затем я сбросил ему наш скарб, а следом прыгнул сам, почувствовав, что валун приходит в движение. Я плюхнулся в озеро, однако Ханс и кто-то еще выдернули меня из воды. В следующий миг спасительный валун рухнул и скрылся под желтоватым вспененным потоком. Лодка заплясала на волнах, завертелась, но, по счастью, она хорошо держалась на воде и, выточенная из цельного ствола дерева, вмещала два десятка гребцов. Ханс выкрикнул приказ, и гребцы изо всех сил налегли на весла. Добрую минуту наша участь выглядела неопределенной, ибо водоворот убыстрял движение, а мы словно застыли на месте. Но наконец мы чуть продвинулись вперед, в направлении Скалы приношений, а каких-то шестьдесят секунд спустя уже очутились вне досягаемости коварного потока. — Почему ты не приплыл раньше, Ханс? — спросил я. — Баас, эти болваны отказывались куда-либо плыть до рассвета, а когда Валлу с Иссикором попытались их образумить, закричали, что скорее убьют своего вождя. Дескать, это не по закону, баас. — Чтоб им всем икалось на десять поколений вперед! — воскликнул я, но быстро успокоился. Сами понимаете, друзья мои, какой толк спорить с теми, кто настолько одержим суевериями и предрассудками? К слову, суеверия до сих пор во многом правят миром, пускай частью они и рядятся в одежды религии. Те же самые валлу, между прочим, мнили себя глубоко религиозными людьми.
Так закончилась та страшная ночь.
Глава 14
КОНЕЦ ХОУ-ХОУ
Напротив Скалы приношений лодка остановилась, почти вплотную к каменному выступу. Я справился, чем вызвана остановка, и старый Валлу, сидевший в середине и облаченный в роскошный наряд и не менее роскошный головной убор (который за время ночных испытаний сбился набок и придавал ему вид запойного пьянчуги), ответил дрожащим голосом: — Так велит закон, господин. Мы должны оставаться тут, покуда солнце не взойдет и бог Хоу-Хоу не явит себя во всей славе своей невесте. — Что ж, — сказал я, — раз уж вышло так, что невеста бога сидит в этой лодке, а ее головка лежит на моем колене, — (я ничуть не преувеличивал: Сабила настояла на том, чтобы оставаться рядом с тем единственным человеком, кому она могла доверять; равно как и Драмана, чья головка покоилась на другом моем колене), — то я настоятельно советую Хоу-Хоу, какова бы ни была его слава, не являться сюда и не требовать свою невесту обратно. Если, конечно, ему не хочется получить дырку в голове размером с мой кулак. — И я многозначительно похлопал по своему двуствольному «экспрессу», надежно укрытому в водонепроницаемом чехле. — Мы должны подождать, господин, — смиренно отозвался Валлу. — Я вижу, что невеста бога по-прежнему привязана к столбу. Пока ее не освободят, закон запрещает нам уплывать. — Ха! — вскричал я. — Вот уж действительно святая невеста! Ведь она мертва, мертвее не бывает, а все мертвые святы. Ладно, давайте подождем, мне и самому любопытно, как все будет дальше. Здесь, думаю, нас никто не достанет. Гребцы подняли весла, и мы стали ждать. Алый обод солнца показался из-за горизонта и осветил наиудивительнейшую сцену. Воды озера, вздувшегося от многомесячных дождей и недавней бури, неумолимо затапливали остров; прилив сей напоминал наступление бесчисленного войска, и прореха в волноломе становилась все шире под его напором, ибо в мире нет ничего свирепее и беспощаднее воды. Поля почти целиком скрылись из вида, и глубина кое-где, по моим прикидкам, достигала нескольких футов. Впрочем, вода пока не добралась до домов, выстроенных у подножия горы, в одном из которых мы провели часть прошлой ночи. Также она пока не залила Скалу приношений, каковая, позвольте напомнить, друзья мои, поднималась над равниной приблизительно на высоту человеческого роста, представляя собой громадную плиту застывшей лавы, что некогда стекла из вулканического кратера в озеро подобием языка, какие, говорят, выбрасывают ледники. То обстоятельство, что скала загибалась книзу, в сторону входа в пещеру, будто бы противоречит этому описанию, но я объясняю данное несоответствие позднейшими смещениями почвы, какие свойственны вулканической местности, где тайные силы природы незримо трудятся под поверхностью земли. Повторяю, скалу пока не затопило, и потому в назначенный срок, соблюдая обычай, что существовал, должно быть, сотни лет, Хоу-Хоу вышел из пещеры, чтобы завладеть своею святой невестой.— Ну и как такое может быть?! — воскликнул Гуд. Он торжествовал, полагая, по-видимому, что подловил Аллана на обмане. — Вы же сами сказали, что Хоу-Хоу был просто изваянием! Как он сумел покинуть пещеру? — А вам не приходило в голову, Гуд, — осведомился Аллан, — что изваяния порою носят? Впрочем, в этом случае все обстояло иначе, поскольку Хоу-Хоу самолично вышел из пещеры, а за ним следовали толпа женщин и несколько особей волосатого народа. Глядя, как он вышагивает, жуткий и огромный, я понял две вещи. Во-первых, почему Сабила уверяла, что многие валлу видели Хоу-Хоу (мне вспомнились слова Иссикора о том, что чудовище передвигалось своеобразной походкой, как если бы его ноги не гнулись). Во-вторых, я понял, почему закон требовал, дабы лодка, доставившая на остров невесту бога, непременно дожидалась рассвета: жрецы хотели, чтобы те, кто сидит в лодке, узрели Хоу-Хоу и вернулись домой с рассказами о величии божества, пускай валлу возбранялось описывать его облик и они верили, что нарушение этого запрета навлечет на них проклятие. — Но ведь никакого Хоу-Хоу на самом деле не было! — упрямо возразил Гуд. — Знаете, Гуд, — ответил Аллан, — вы, конечно, человек умный и, как Ханс говорил про меня, очень хитрый. С какою беспримерной проницательностью вы докопались до истины! Разумеется, никакого Хоу-Хоу в действительности не существовало. Но если вы доживете до моих лет, Гуд, — язвительность в тоне Аллана показывала, что он сердится, — да, если доживете до моих лет, то усвоите, что на этом свете полным-полно обманщиков, а Древо видений растет — точнее, росло — не только на священном острове. Как вы сами сказали, настоящего Хоу-Хоу не было, зато имелось его великолепное подобие, сотворенное с великим тщанием и искусством, достойными лучших мастеров пантомимы. И подобие сие выглядело столь совершенным, что и с пяти десятков ярдов невозможно было отличить эту фигуру от того изваяния, которое пряталось в пещере.
Итак, по склону вышагивал на негнущихся ногах косматый и грозно скалившийся Хоу-Хоу ростом в добрую дюжину футов. Или, раз уж мы решили придерживаться истины, шагал на ходулях Дака, искусно закутанный в звериные шкуры и напяливший на голову что-то вроде корзины с клыками, а также изготовленную из холста маску, разрисованную таким образом, чтобы она походила на личину его обожаемого божества. Благочестивые гребцы на нашей лодке мгновенно склонились в поклоне, выказывая должное почтение живому богу. Даже Иссикор поклонился, и я заметил, что при этом движении Драмана и влюбленная в молодого красавца Сабила вознаградили его взглядами, в которых негодование смешивалось с толикой презрения. Во всяком случае, оба этих чувства ясно читались во взгляде старшей сестры, которая долго прожила на острове и знала местные тайны, а вот Сабилой, возможно, двигали иные соображения. Быть может, она верила, что Хоу-Хоу и вправду существует, но полагала, что Иссикору надлежит поменьше предаваться религиозному пылу и не слишком почитать того самого бога, жертвой коего она чуть-чуть не стала. Наверняка все вы тоже замечали, друзья мои, что рано или поздно наступает миг, когда любая женщина, сколь бы благочестивой она ни была, становится особой сугубо практичной. Между тем Хоу-Хоу продолжал идти вперед, перемещаясь ходульной (в прямом смысле этого слова) поступью, а облаченные в белое женщины, что следовали за ним, распевали, должно быть, свадебную песню; далее же ковыляли, переваливаясь с лапы на лапу, «пажи» из числа лесных демонов. В подзорную трубу я рассмотрел, что на самом деле эти женщины нисколько не радуются предстоящему развлечению — в отличие от Даки, скрывавшегося под шкурами и маской. Они испуганно глядели на поднявшуюся воду; одна было повернулась, норовя сбежать, но ее схватили и вернули обратно. Полагаю, бегство с подобной церемонии считалось серьезным преступлением. Словом, они все вместе достигли столба, к которому мы привязали мертвую женщину, и далее, по обычаю, «подружки» принялись освобождать невесту, а волосатые встали сзади. В следующий миг одна из «подружек» внезапно застыла как вкопанная. А затем испустила столь пронзительный вопль, что он раскатился над озером подобно паровозному гудку. Другие женщины тоже начали истошно вопить. Хоу-Хоу приблизился и вгляделся в свою невесту — вгляделся хорошенько, ибо кто-то сорвал платок, которым я укрыл лицо погибшей. Много времени, чтобы узреть подмену, Даке не потребовалось, и он устремился обратно к пещере, широко вышагивая на своих ходулях. Это было уже слишком. Подле меня лежала верная двустволка, заряженная разрывными пулями. Я достал ружье из чехла, поднял и прицелился в голову Хоу-Хоу, выше того места, где, по моим прикидкам, должна была находиться человеческая голова; я не собирался убивать его, хотел только напугать. К тому времени уже совсем рассвело, видно было хорошо, и разрывная пуля угодила точно в цель, напрочь снеся маску и верхнюю часть корзины с клыками. Никогда прежде не бывало в истории столь внезапного разоблачения духовного лица во всем великолепии его одеяний! Все словно замерло, как замер и сам Дака, слетевший со своих ходуль и совершивший достойный запечатления художником прыжок, результатом которого стал расплющенный о лаву нос. Какое-то время Дака лежал в неподвижности, потом отбросил ходули и побежал, следом за вопящими женщинами и волосатыми обезьянами, обратно в пещеру. — Вот, — произнес я назидательно, обращаясь к старому Валлу и прочим в лодке, напуганным грохотом моего ружья, — теперь вы и сами видели, из чего слеплен ваш бог! Валлу не нашелся с ответом; по-видимому, он пребывал в полнейшем изумлении — сами знаете, сколь больно разочаровываться в вере. Однако тут один из сопровождающих, игравший, похоже, роль придворного блюстителя времени, сказал, что солнце взошло, Священная свадьба состоялась, хоть и прошла необычно, и теперь закон позволяет вернуться домой. — Ну уж нет! — возразил я твердо. — Я долго вас ждал, а теперь вы подождете меня. Я хочу видеть, что будет дальше. Блюститель времени, явный приверженец порядка, напрочь лишенный любопытства, окунул свое весло в воду, как бы подавая сигнал другим гребцам, но Ханс стукнул его по пальцам рукоятью револьвера, а затем приставил ствол к его голове. Этот довод убедил блюстителя, что благоразумнее будет подчиниться. Он отпустил весло и вежливо извинился перед Хансом, а остальные гребцы последовали его примеру. Лодка осталась там, где была, и мы продолжили наблюдение. А посмотреть было на что, ибо вода начала наконец заливать Скалу приношений. Она достигла негаснущих костров, и те мгновенно утратили право называться таковыми, окутавшись клубами дыма и пара. Три минуты спустя поток хлынул со склона в пещеру. Прежде чем я успел досчитать до сотни, из пещеры принялись выбегать люди, причем мчались они сломя голову, огромной толпой: так вылетают осы, если расшевелить их гнездо палкой. Среди бегущих я узнал Даку, у которого была неплохая возможность спастись. Верховный жрец и тот, кто мчался следом за ним по колено в воде, оторвались от остальных и устремились вверх по склону. Зато прочим повезло гораздо меньше, потому что поток уже имел в глубину несколько футов и им оказалось не под силу ему противостоять. На мгновение их головы мелькнули среди пены и обломков, а потом этих людей унесло обратно в пещеру, где они в последний раз удостоились милости узреть своего Хоу-Хоу. Далее, словно по команде, все дома поселения, включая и тот, где мы накануне ночевали, разом обрушились — просто сложились и исчезли, словно их никогда и не было. Казалось, все кончено. Я прикидывал, не всадить ли мне пулю в голову Даки, который стоял на краю обрыва и, заламывая руки, наблюдал за гибелью храма, бога, поселения, женщин и слуг. В конце концов я решил, что стрелять не буду, ибо что-то подсказывало мне: этого мерзавца следует предоставить его собственной судьбе. Я хотел было отдать приказ грести к берегу, когда Ханс окликнул меня и указал на вершину горы. Я посмотрел и увидел, что из жерла вулкана поднимается огромный клуб дыма, наподобие того, что выплывает из трубы паровоза, котел которого раскалился, только многократно увеличенный. Паровой двигатель в таких обстоятельствах начинает свистеть, и гора тоже издавала звук, громовой рокот, жуткий для человеческого уха. — Что там еще стряслось, Ханс? — крикнул я. — Не знаю, баас. Наверное, вода с огнем говорят между собой внутри горы, баас, твердят, как они ненавидят друг друга, будто сварливые муж с женою в маленькой хижине, откуда им не выбраться. Жена шипит и плюется, баас, а муж топает и кричит… — Ханс сделал паузу, уставился на вершину горы, а потом закончил свое весьма образное объяснение: — Ну да, топает и кричит. Вы только поглядите туда, баас! В этот миг с оглушительным грохотом, который походил на несказанно усиленный раскат грома, вулкан будто бы раскололся надвое, и вершина его унеслась куда-то в поднебесье. — Баас, меня зовут Владыкой огня, верно? Так вот, этим огнем я не повелеваю, и сдается мне, что чем дальше мы от него окажемся, тем лучше для нас будет. Allemachte! Смотрите! Ханс указал на широкий поток пламенеющей лавы, что вырвался из клубов дыма и пара и помчался к озеру. Лава вонзилась в воду всего в паре сотен ярдов от нас, подняв в воздух фонтан пара и пены, как торпеда при взрыве. — Гребите скорее, если вам дорога жизнь! — крикнул я валлу, и те торопливо схватились за весла. Когда лодка развернулась — на это ушла, казалось, целая вечность, — моим глазам предстало поистине поразительное и пугающее зрелище. Дака уже не стоял на краю обрыва; нет, он стремглав несся к озеру, а за ним тек поток раскаленной лавы. Верховный жрец приплясывал на бегу, словно его конечности обжигал горячий пар. Вот он с головою нырнул в воду, и в тот же миг над озером вздыбилась громадная волна, порожденная, должно быть, каким-то подводным взрывом. Волна двинулась на нас, и Дака был на ее гребне. — Этот жрец напрашивается на то, чтобы его проучили, баас! — сказал Ханс. — Он вдосталь порезвился на своем острове, а теперь желает пожить на берегу. — Неужели? — отозвался я. — В лодке места для него не найдется. И достал револьвер. Волна приволокла Даку почти вплотную к нам. Жрец сумел выпрямиться, верно подкинутый давлением воды, и чудилось, будто он стоит на гребне волны. Вот он, увидев нас, принялся выкрикивать проклятия и потрясать кулаками, грозя, похоже, Сабиле и Иссикору. Жуткая была картина, друзья мои. Однако Ханс нисколько не устрашился. В ответ он показал Даке сперва на меня, потом на Сабилу и, наконец, на себя, после чего, поддавшись свойственной туземцам неистребимой вульгарности, приставил палец к носу и, что называется, состроил верховному жрецу козью морду. Волна обрушилась, и Дака исчез — «пошел искать Хоу-Хоу», как выразился Ханс. Таков был конец этого незаурядного злодея. — Знаете, баас, — произнес готтентот, — я рад, что жрец Дака успел узнать, кто именно отослал его к его богу, с которым он точно свел близкое знакомство, иначе не был бы таким злым. Скажите, баас, ну разве мы не молодцы? Ведь все наши придумки оказались удачными! А я уж было решил, баас, что нам конец. Это когда я влез на лодку, а вон те болваны отказались плыть за вами и за женщинами, потому что это якобы против закона. Баас, когда я надевал одежду — она ничуть не промокла, я ведь хитрый, баас, а потому попросил их помочь вам, еще когда был совсем голый, — так вот, я все думал, что, может, мне стоит пристрелить одного из них и тогда остальные образумятся. Но я сказал себе, баас, что надо подождать и посмотреть, как будет дальше; если я пристрелю одного, другие могут стать только упрямее: возьмут да сдуру и убьют меня, а потом уплывут прочь. Я ждал, и баас должен согласиться, что это было правильно, ибо все получилось как надо. Это достопочтенный отец бааса постарался, глядя на нас с небес. — Верно, Ханс, но если бы тебе пришлось сделать выбор, скажи, кого бы ты застрелил? — спросил я. — Вождя Валлу? — Нет, баас, он старый и глупый, как дохлая сова. Я бы застрелил Иссикора, потому что он мне изрядно надоел. И между прочим, я бы заодно спас госпожу Сабилу от необходимости терпеть его много-много лет. Какой толк от мужчины, баас, если он знает, что его женщину отдали демону, но все равно сидит в лодке, причитает и твердит, будто древние законы нельзя нарушать, иначе всех проклянут? Именно так все и было, баас, когда я попросил его приказать грести к берегу. — Не знаю, Ханс, не знаю. Пусть Иссикор с Сабилой сами решают между собою, а ты лучше помалкивай, договорились? — Конечно, баас, но потом госпожа Сабила непременно одумается, и настанет час расплаты, как всегда бывает, когда есть за что расплачиваться. Мне жалко Иссикора, баас, он уже не будет таким красивым, когда госпожа с ним поквитается. Только представьте, он станет просить, чтобы Сабила его поцеловала, а та его в ответ — хрясь! хрясь! — по щекам. Смотрите, баас, она уже повернулась к жениху спиной. Ну да мне-то все равно, баас, и вам тоже, вы бы лучше с госпожой Драманой разобрались. Она-то не отворачивается, баас, а, наоборот, так и пожирает вас глазами и наверняка думает, что наконец-то отыскала себе достойного Хоу-Хоу, пускай он мал ростом, потрепан жизнью и довольно уродлив, а его вихры торчат, как сорняки на поле. Важно то, что внутри, а не то, что снаружи, баас; женщины частенько говорили мне это, когда я был помоложе. Тут, с восклицанием, которое я не стану сейчас воспроизводить, но о котором легко догадаться, поскольку никому не понравится, когда столь откровенно описывают его наружность, я занес ружье, намереваясь несильно стукнуть Ханса по пальцам ног. Однако в этот миг мое внимание было отвлечено от вздорной болтовни, при помощи которой готтентот выражал свою радость от спасения, очередным раскаленным валуном, что упал довольно близко от лодки. А следом развернулось ужасающее в своей красоте зрелище последнего извержения вулкана. Уж не знаю, что в точности произошло, однако к небесам взметнулись громадные языки пламени и облака пара. Все это сопровождалось громовыми раскатами и оглушительными взрывами, за каждым из которых взмывал в воздух поток горящих камней, а раскаленная лава с новой силой устремлялась к озеру, заставляя воду вскипать и испаряться. От валунов расходились большие волны, которые опасно раскачивали нашу лодку, над головами повисла плотная завеса пепла, и закапал горячий дождь. Внезапно стало так темно, что некоторое время мы не видели ничего дальше пальца, приставленного к носу. В совокупности это было наистрашнейшее проявление действия стихии, каковое обратило мои мысли к Священному Писанию и заставило вспомнить о Судном дне. — Это Хоу-Хоу мстит нам! — воскликнул старый Валлу. — Он разгневан тем, что мы лишили его невесты! На сем речь правителя оборвалась, поскольку раскаленный докрасна камень угодил старику в голову и, как позднее уточнил Ханс, сидевший рядом, «размозжил его, как жука». По крикам гребцов Сабила поняла, что ее отец мертв, — вождь лежал неподвижно, не издавая ни звука, — и это заставило бедняжку очнуться, как если бы она вдруг осознала, что теперь бремя власти легло на ее плечи. — Выбросьте этот камень из лодки, — велела она, — не то он прожжет дно и мы потонем. Иссикор веслом подцепил злополучный камень и выкинул его за борт. Тело вождя укрыли накидкой, и мы двинулись к берегу. Гребцы отчаянно налегали на весла. По прихоти судьбы поднялся сильный ветер, дувший в сторону острова и отогнавший от нас пепел и горячий дождь, поэтому видимость стала намного лучше. Единственная опасность теперь исходила от камней вроде того, что убил старого Валлу; они падали в воду вокруг нас, поднимая фонтаны пены. Походило на то, как если бы мы очутились под яростным обстрелом. По счастью, ни один камень больше не попал в лодку, а чем дальше мы отплывали от острова, тем меньше становилась угроза. Впоследствии мы узнали, что некоторые камни даже, перелетев через озеро, достигли суши. Впрочем, на этом опасности не закончились, поскольку перед нами внезапно возникла целая флотилия грубо сколоченных лодок, точнее, суденышек из топляка и тростника или из бревен, обожженных с обоих торцов. На каждом таком суденышке восседало по лесному демону, направлявшему свою лодку взмахами двулопастного весла. Должно быть, эти волосатые принадлежали к числу тех, кто отплыл на остров, внемля призыву Хоу-Хоу. Помните, друзья, я говорил, что накануне жертвоприношения на острове собралось немало дикарей, предвкушавших нападение на город валлу? Или же эти волосатые бежали с острова. По правде сказать, я не знаю. Ясно было одно: сколь бы низко эти существа ни стояли на шкале человекоподобия, им хватило ума связать нас с той жуткой катастрофой, которая разрушила остров. Завывая и что-то бормоча, как поступают многие крупные обезьяны, они тыкали лапами то в нас, то в охваченный пламенем вулкан, словно бы воплощавший собою преисподнюю. А затем, с громогласным воплем «Хоу-Хоу! Хоу-Хоу!», они двинулись к нам, с явным намерением напасть. Оставался лишь один выход — открыть по ним стрельбу, что мы с Хансом и не замедлили сделать, а гребцы наши еще усерднее налегли на весла. Должен признать, что эти омерзительные, жалкие твари выказали несгибаемое мужество: ничуть не устрашенные гибелью сородичей под пулями, они рвались вперед, желая, вне сомнения, перевернуть лодку и потопить всех, кто в ней был. Мы с Хансом стреляли настолько споро, насколько было возможно, однако наши пули выкашивали только малую часть нападавших, и оставалось лишь уповать на скорость лодки и умение рулевого. Сабила встала во весь рост и принялась раздавать указания гребцам, а мы с Хансом все стреляли и стреляли: сперва из ружей, а затем из револьверов. Один огромный, похожий на гориллу волосатый, заросший шерстью по самые нависавшие над переносицей надбровные дуги, ухватился обеими лапами за борт и начал раскачивать лодку. Стрелять мы больше не могли, ибо патроны закончились, а на удары кулаком мерзкая тварь не обращала ни малейшего внимания. Лодка ходила ходуном и стала набирать воду. Я уж было подумал, что гибели не избежать, потому что другие лесные демоны были совсем близко, но положение спасла Сабила, совершившая поистине геройский поступок. Рядом с нею на дне лодки лежало то самое копье, которое я забрал в сарае с затворами у жреца, убитого Хансом. Она схватила это копье и с удивительной силой вонзила его в косматое чудовище, терзавшее нашу лодку и упорно тянувшее борт под воду. Волосатый разжал лапы и канул ко дну. Рулевой искусно переложил кормило, и мы ускользнули от прочих хоу-хоуа, а через три минуты уже оставили их далеко позади: на своих примитивных суденышках дикарям было за нами не угнаться. — Сколько всего сегодня случилось, баас! — проговорил Ханс, вытирая пот со лба. — Надеюсь, никакой крокодил не накинется на нас у берега, а эти болваны не принесут нас в жертву духу Хоу-Хоу, да и молния в нас тоже не ударит. Баас ведь позволит мне выпить местного пива, когда мы доберемся до города, верно? От пламени у меня внутри все пересохло. Что ж, мы достигли суши. По моим ощущениям, сменилось целое поколение с тех пор, как мы отплывали от этой набережной, которую сейчас заполняла многолюдная толпа. У воды собралось едва ли не все перепуганное население города. Тело старого Валлу встретили почтительным молчанием, но мне показалось, что никто из его подданных по-настоящему не опечалился. Эти люди, похоже, изжили в себе все бурные человеческие страсти. Полагаю, этих сильных чувств они лишились под воздействием времени и под гнетущим влиянием того всепоглощающего фетишизма, среди которого жили. Если коротко, валлу сделались этакими человекоподобными автоматами, что бродили вокруг, насторожив уши в ожидании гласа своего божества и ловя этот глас в каждом явлении природы. Честно говоря, эти люди, каково бы ни было их происхождение, докатились до такого состояния, что внушали мне лишь презрение. Возвращение Сабилы поразило всех до глубины души, но отнюдь не вызвало восторга. — Она стала женою бога, — услышал я чьи-то слова. — А потом сбежала от него — именно поэтому и случились все несчастья. Сабила тоже услышала сие заявление и восприняла его как оскорбление. По-моему, она уже вполне оправилась от пережитых потрясений, чего, увы, никак нельзя было сказать об Иссикоре, который, хотя ему следовало бы лучиться радостью, выглядел понурым и почти не раскрывал рта. — Какие такие несчастья? — воскликнула Сабила. — Да, мой отец погиб, его убил упавший с неба камень, и я оплачу своего отца. Но ведь он был глубоким старцем и вскоре все равно должен был умереть. Что же до всего остального, то разве можно назвать несчастьем мое спасение, которым я обязана мужеству и могуществу этих вот чужестранцев, спасение дочери и наследницы вождя от загребущих рук Даки? Говорю вам: это Дака выдавал себя за бога, а Хоу-Хоу, которому вы поклоняетесь, оказался всего лишь раскрашенным истуканом! Если не верите мне, спросите белого вождя, спросите мою сестру Драману, которую вы словно забыли и которой тоже выпал когда-то жребий стать невестою бога. Или вы считаете несчастьем то, что Дака и его жрецы погибли, а с ними сгинула и большая часть лесных демонов, то бишь наших врагов? Разве можно назвать несчастьем то, что ненавистная огненная гора раз и навсегда уничтожена пламенем, а заодно разрушена и пещера таинств, откуда приходило столько зловещих прорицаний? Пророчество сбылось! Нас избавил от страданий могущественный белый вождь с юга! Эти гневные слова вынудили толпу замолчать, и перепуганные люди повесили голову. Сабила помолчала, оглядывая подданных, потом продолжила: — Иссикор, мой нареченный, выйди вперед и скажи этим людям, что ты рад всему случившемуся. Чтобы спасти меня от Хоу-Хоу, ты внял моим мольбам и отправился в дальние края, на юг, искать совета у могучего Повелителя духов. Он дал тебе совет, благодаря которому удалось победить Хоу-Хоу! Но все же ты сидел в той лодке, что отвезла меня на остров. За это я тебя не виню, тебе пришлось поступить так по причине твоего положения, а иначе бы тебя прокляли, как велит древний закон. Теперь я спасена, но не тобой, ибо ты, вообразив, что белый вождь пал на острове, смирился с моей участью стать женою бога. Нет, я спасена благодаря мудрости и силе белого вождя и его спутника, которые изничтожили Хоу-Хоу и его жрецов. Так поведай же людям, как сильно ты рад тому, что плавал на остров не напрасно, а мои избавители не зря внимали твоим просьбам о помощи. Ведь я стою сейчас перед своим народом, живая и не поруганная, а наша земля наконец-то избавилась от проклятия Хоу-Хоу. Да, скажи все это соплеменникам и поблагодари щедрых сердцем чужестранцев, которые сражались вместо тебя и спасли меня и мою сестру Драману! Я изрядно устал, однако с любопытством глядел на Иссикора. Мне было интересно, что тот скажет. Он выждал некоторое время, а затем выступил вперед и начал говорить, запинаясь: — Я искренне рад, о возлюбленная, что ты вернулась в целости и сохранности, хотя, приводя сюда белого вождя с юга, я надеялся, что он изыщет иной способ спасти тебя, не творя святотатства и не убивая жрецов огнем и водою. Эти люди с начала времен состояли при божестве, а белый вождь их убил. Госпожа Сабила, ты говоришь, что Хоу-Хоу мертв, но откуда нам знать, так ли это? Он же дух, а разве духи могут умереть? Не мертвый ли бог кинул тот камень, который убил старого Валлу? Не метнет ли Хоу-Хоу другие камни, которые прикончат и нас, а прежде всего тебя, госпожа, ведь ты стояла на Скале приношений, облаченная в наряд святой невесты? — Баас, — задумчиво справился у меня Ханс, чей голос прозвучал в наступившей тишине неожиданно громко, — как, по-вашему, Иссикор и вправду человек? Или он сделан из дерева и раскрашен, как тот идол, чье обличье принимал Дака, чтобы сойти за Хоу-Хоу? — В Черном ущелье, думаю, Иссикор был человеком, — ответил я, — но тогда он находился очень далеко от Хоу-Хоу. Теперь же, Ханс, я не уверен. Быть может, он всего-навсего сильно напуган и со временем придет в себя. Между тем Сабила внимательно разглядывала своего красавца-жениха, осматривая его с головы до ног, но не говорила при этом ни слова. Потом, по-прежнему избегая общаться с Иссикором, она повернулась к толпе и изрекла повелительно: — Поскольку мой отец погиб, отныне я становлюсь вашим вождем, вашим Валлу, и мне следует повиноваться так, как вы повиновались ему. Ступайте и займитесь своими делами, ничего не опасаясь, ибо Хоу-Хоу больше нет, а лесные демоны почти полностью истреблены. Я ухожу отдохнуть и забираю с собою своих избавителей и освободителей. — Тут она указала на нас с Хансом. — Позднее я выйду к вам и поговорю с тобой, мой господин Иссикор. Отнесите труп моего отца в то место, где положено погребать вождей! — С этими словами она развернулась и, сопровождаемая нами, старшей сестрой и свитой, направилась к своему дому. Там Сабила на время попрощалась с нами, потому что все мы от усталости уже буквально валились с ног и отчаянно нуждались в отдыхе. При расставании она поцеловала мне руку и со слезами на прекрасных глазах долго благодарила за все, что я сделал. Драмана последовала ее примеру.
— Почему это, баас, — спросил Ханс, когда мы перед сном перекусывали и пили местное пиво, — ни одна госпожа не поцеловала руку мне, хотя я тоже участвовал в их спасении? — Потому что сестры очень устали, Ханс, — ответил я, — и сочли, что одного поцелуя будет вполне достаточно для нас обоих. Готтентот наполнил свой кубок остатками туземного пива из кувшина и осушил его одним глотком. — Все справедливо, баас. Вам достались поцелуи, а мне вполне хватит и пива. Несмотря на полное изнеможение, я не мог не рассмеяться, хотя, сказать по правде, и сам не отказался бы еще от одного стаканчика. Потом я упал на постель и мгновенно провалился в сон. Мы проспали остаток дня и всю ночь, пробудившись, лишь когда первые лучи солнца проникли в нашу комнату через окно. Во всяком случае, я могу говорить за себя. Ибо, когда я открыл глаза, чувствуя себя совершенно иным человеком, и возблагодарил небеса за чудесный дар сновидений, Ханс был уже на ногах и чистил ружья и револьверы. Я покосился на уродливого желтокожего коротышку-готтентота и с благодарностью подумал о том, сколько мужества, хитроумия и верности заключено в этом тщедушном теле. Если бы не Ханс, я давным-давно был бы уже мертв, да и красавицы-сестры тоже бы погибли. Это ведь он придумал взорвать водяные затворы, подложив порох под каменный болт рычага. Сам я долго ломал голову, но так ничего и не сумел измыслить, ибо это единственно возможное решение от меня ускользнуло. Все, что случилось потом, произошло лишь благодаря Хансу. Нет, мне, конечно, приходило кое-что на ум, но я рассчитывал от силы затопить поля жрецов и, быть может, пещеру, чтобы отвлечь внимание недругов от нашего побега. А в результате мы высвободили силы природы и добились воистину устрашающих результатов. Вода проникла в колодцы, которые питали негаснущие костры, и добралась до недр вулкана, где стал образовываться пар, причем сила его была такова, что он разнес высокую гору вдребезги и навсегда уничтожил прибежище Хоу-Хоу со всеми прочими постройками и примыкающими к ним полями. В этом беспощадном истреблении я усматривал длань Провидения, которое предпочло действовать через Ханса. Да, силы небесные наделили готтентота проницательностью и смекалкой, чтобы стереть с лица земли жестокую тиранию и уничтожить кровожадного истукана и его почитателей. Вне сомнения — так думалось мне, человеку простому и неискушенному, — все это было предначертано свыше. Когда какой-то беглый жрец Хоу-Хоу сотни лет назад нарисовал в бушменской пещере тот портрет, его вела воля небес. И небеса же вселили в сердце старого мошенника Зикали желание заиметь некое снадобье, ниспослав ему неутолимую жажду знаний — или что-то еще, что побудило колдуна уговорить меня согласиться на этот поход и взвалить на свои плечи всю тяжесть дальнейших испытаний. Опять же, сколь благоразумно повел себя Ханс, после того как доплыл через озеро до лодки! Попытайся он заставить этих погрязших в язычестве и идолопоклонстве трусов немедленно двинуться нам на помощь, как наставлял его я, не исключено, что они, боясь нарушить свой закон, стали бы сопротивляться или вообще уплыли бы прочь, стукнув Ханса веслом по голове и бросив нас на произвол судьбы. Но готтентоту хватило ума и терпения обождать, хотя, как он признался мне впоследствии, сердце его разрывалось на части от беспокойства за меня. Тщательно взвесив все «за» и «против», он принял решение ждать, пока все условия «законности» не будут соблюдены, после чего валлу подчинились ему достаточно охотно. С Ханса мои мысли перескочили на Иссикора. Каким образом, интересно знать, характер этого человека изменился столь разительно, едва он вернулся в родную страну? Само путешествие за сотни миль от дома, предпринятое им в одиночку, показывало, что Иссикор сполна наделен такими достоинствами, как мужество, предприимчивость и решительность. Когда ему пришлось стать нашим проводником, он в основном молчал и держался отстраненно, однако не падал духом и не проявлял признаков пессимизма. А вот по возвращении домой вдруг мгновенно захандрил и превратился в законченного нытика. С великим трудом нам удалось уговорить Иссикора отвезти нас на остров, и при первом же признаке опасности он бежал без оглядки. Мало того, он покорно помогал доставить Сабилу, которую, как сам уверял нас в Черном ущелье, любил всем сердцем, на роковое свидание с богом и пальцем не пошевелил, чтобы спасти ее от страшного жребия. Наконец, всего несколько часов назад он произнес постыдную, пораженческую речь, которая, как я видел, потрясла и оскорбила его нареченную, а та, к слову, после чудесного спасения и трагической смерти отца сделалась куда более храброй, чем была ранее. Я искал объяснений поведению Иссикора — и не находил, а потому решил поделиться своими соображениями с Хансом. Готтентот выслушал меня, а затем ответил: — Баас не держит глаза открытыми, во всяком случае днем, когда ему кажется, что опасности нет. Иначе он давно бы понял, что этот Иссикор стал слабым, как нагретый кусок железа. А отчего мужчины слабеют, баас? — От любви? — предположил я. — Верно, баас. Иногда любовь делает мужчин слабыми — таких мужчин, как мой баас. А еще от чего, баас? — От выпивки, — процедил я сердито, платя Хансу за его ехидство той же монетой. — Да, баас, мужчины вроде меня порой слабеют от выпивки. Такие, как я, баас, знают, что бывает полезно навремя позабыть о мудрости, иначе небеса могут разозлиться. Но от чего слабеют все мужчины на свете, баас? — Не знаю, Ханс. — Значит, баас, мне снова придется повторить то, что сказал ваш достопочтенный отец, когда давал последние наставления перед смертью. Он сказал: «Ханс, если вдруг увидишь, что мой сын Аллан, который далеко не всегда разбирает дорогу, бредет прямиком в омут, то уж, пожалуйста, постарайся его оттуда вытащить». — Ах ты, маленький лжец! — воскликнул я. Ханс, нисколько не смутившись, продолжал: — Все мужчины на свете слабеют от страха, баас. Иссикор гнется, точно нагретый железный прут, потому что внутри у него тлеет пламя страха. — Но чего же он боится, Ханс? — Как я уже говорил, держи баас глаза открытыми, он бы и сам давно догадался. Разве баас не заметил высокого смуглого жреца, перед которым расступались люди? Он подошел к Иссикору, когда мы в первый раз высадились на этот берег. — Да, я видел его. Он вежливо поклонился Иссикору и, кажется, что-то ему вручил. — Полагаю, баас не рассмотрел, что именно он дал Иссикору, и не услышал его мудрых слов? Ага, так и есть: баас мотает головой. А вот я все видел и слышал. Жрец дал Иссикору крошечный череп, вырезанный из слоновой кости. А может, из морской раковины или из застывшей черной лавы. Слова же он произнес вот какие: «Это дар вождю Иссикору от Хоу-Хоу; дар, который Хоу-Хоу посылает всем, кто нарушает закон и осмеливается покидать земли валлу». Так сказал тот жрец, а я стоял рядом и все слышал, но не стал ничего говорить баасу, потому что хотел посмотреть, что будет дальше. — Ну же, Ханс, продолжай! Что было потом? — Потом жрец ушел. А вот что Иссикор сделал с этим маленьким черепом и куда его дел, я не знаю. Быть может, он носит череп на шее, как баас носит подаренные ему женщинами портреты в медальоне. — Хм… Но что же такого необычного в этом черепе, Ханс? Что он означает? — Баас, я тут расспросил одного старика, пока мы плыли в лодке. Иссикор сидел на другом конце и не мог меня слышать. Мне сказали, баас, что череп означает смерть. Баас, верно, помнит, как в Черном ущелье нам говорили, будто всякого, кто посмеет покинуть владения Хоу-Хоу, непременно ожидают болезнь и гибель? Думаю, баас, Иссикор ухитрился не заболеть только потому, что жрецы ничего не ведали о его затее. Но он допустил ошибку, баас, когда вернулся, ведомый своей любовью к госпоже Сабиле, как рыба ведется на наживку, баас. И вышло так, что он заглотил крючок, ибо жрецы узнали о его возвращении, баас, и приготовили смельчаку достойную встречу. — Что ты хочешь этим сказать, Ханс? Каким образом жрецы могут навредить Иссикору, особенно теперь, когда они все мертвы? — Да, баас, они все мертвы и никому больше не навредят, но Иссикор был прав, когда кричал, что Хоу-Хоу жив. Дьявол живет вечно, баас. Его жрецы погибли, но Хоу-Хоу смог прикончить старого Валлу и может расправиться с Иссикором. В здешней вере, баас, много такого, чего добрым христианам вроде нас с тобой попросту не понять. Проклятия не действуют на христиан, баас, поэтому нам Хоу-Хоу не страшен. Но, баас, если кто поклоняется Великому Черному, он рано или поздно обязательно становится его жертвой. Мне подумалось, что Ханс, сам того не зная, озвучил основополагающую и неоспоримую истину: те, кто преклоняет колени пред Ваалом, суть слуги Вааловы и живут по его закону, а кто таков этот самый Хоу-Хоу, как не Ваал, точнее, как не Сатана? Плод всегда будет тем же самым, как ни называй дерево, с ветвей которого его срывают. Впрочем, я не стал делиться своими мыслями с Хансом, рассудив, что они лишь собьют готтентота с толку; вместо этого я спросил, к чему он клонит и что, по его мнению, будет дальше с Иссикором. Он ответил так: — Баас, я сказал ровно то, что сказал. Иссикору суждено погибнуть. Старик в лодке поведал мне, что все, получившие черный череп, умирают не позднее чем через месяц, а зачастую и намного раньше. Только посмотрите на Иссикора, баас! Я готов спорить, что он протянет не больше недели. У этого красавца такой унылый вид, баас, что, я думаю, госпожа Сабила быстро примирится с утратой. Вот почему Иссикор изменился, баас: его преследует страх смерти. И госпожа Сабила тоже изменилась, потому что оставила позади страх смерти и иные, гораздо худшие для нее опасности. — Да уж, — протянул я, но не стал говорить, что Хансу не удалось полностью меня убедить. Я кое-что знал об африканских язычниках и считал их верования полнейшим вздором, но был уверен в том, что этот вздор относится к числу наиопаснейших заблуждений. Человеческая душа, а в особенности душа дикаря, человека примитивного и невежественного, становится страшнейшим оружием, когда поддается влиянию многовековых суеверий и предрассудков, которые унаследованы им по праву крови. Когда жертве таких предрассудков сообщают в прорицании, сделанном от имени местного бога или дьявола, что она должна умереть, то в девяти случаях из десяти именно так вскоре и происходит. Нет, человека не убивают, он совершает своего рода моральное самоубийство. Как справедливо заметил Ханс, страх делает его слабее. Затем случается, если угодно, нервическое расстройство, губительное для организма, в назначенный час физические силы покидают несчастного, и он умирает. Как выяснилось позднее, схожая участь была уготована и нашему туземному Аполлону, несчастному красавцу Иссикору.
Глава 15
ПРОЩАНИЕ САБИЛЫ
Досказать, друзья мои, остается совсем немного. Конечно, уже поздно, и я вижу, как вы зеваете от скуки[165], поэтому я постараюсь сократить свой рассказ, насколько смогу. Утром, после завтрака, мы отправились навестить Сабилу, которую нашли весьма взволнованной. Это было вполне естественно, учитывая, через какие испытания (как моральные, так и физические) ей пришлось пройти. Вдобавок бедняжка совершенно неожиданно и самым трагическим образом лишилась отца, к которому была сильно привязана. Однако истинная причина ее волнения, как мы узнали, заключалась в другом. Стало известно, что Иссикора постигло серьезное недомогание. Никто не мог понять, в чем дело, однако Сабила не сомневалась, что ее нареченного отравили. Она молила меня поскорее пойти к нему и исцелить юношу. Признаться, столь нелепая просьба порядком возмутила меня. Я объяснил, что ни в коей мере не могу считаться знатоком местных ядов, если допустить, что Иссикор и вправду отравлен, а в моих пожитках крайне мало лекарств и среди них есть всего лишь одно средство против змеиных укусов. Но Сабила продолжала настаивать, и в конце концов я согласился проведать Иссикора и посмотреть, что можно сделать, хотя про себя подумал, что толку от меня не будет. Старейшины народа валлу — среди зулусов такие люди зовутся индунами — отвели нас с Хансом в дом Иссикора. Это оказалось довольно красивое на вид сооружение на другом конце города. Мы шли по дороге, что пролегала вдоль кромки озера, и это позволило рассмотреть при свете дня остров Хоу-Хоу, точнее, то, что от него осталось. Теперь он представлял собой невысокий бугор посреди воды, над которым клубилось плотное облако пара. Когда ветер немного разогнал эти клубы, я разглядел рдяные потоки лавы, по-прежнему стекавшие в озеро. Горы больше не было, вулкан попросту исчез. С неба все еще сыпался пепел: он густым слоем устилал дорогу, усеивал ветви деревьев и прочую растительность и придавал окрестной местности единообразный серый цвет. В остальном суша по эту сторону озера как будто ничуть не пострадала, разве что там и тут попадались громадные валуны из лавы, а часть раскинувшихся на равнине полей затопило. Впрочем, вода уже начала отступать, хотя река до сих пор еще не вернулась в привычные берега. Когда мы добрались до дома Иссикора, нас сразу же проводили в его спальню. Молодой человек лежал на постели из звериных шкур, и за ним ухаживали какие-то женщины, как я понял, его родственницы. Когда мы с Хансом вошли, эти женщины поклонились и удалились, оставив нас наедине с больным. Беглый взгляд убедил меня в том, что бедняга умирает. Его прежде ясные глаза потускнели и ничего не видели, дышал он прерывисто, пальцы рук сжимались и разжимались, а тело время от времени сотрясали жестокие судороги. Мне подумалось, что Иссикор страдает, должно быть, от какой-то разновидности лихорадки, но потом я измерил ему температуру — в моем маленьком саквояже с лекарствами был термометр — и обнаружил, что она на два градуса ниже положенного. На мои расспросы юноша ответил, что у него ничего не болит, а страдает он от общей слабости и от мельтешения мыслей, то есть, насколько я понял, от головокружения. Я спросил, чему Иссикор приписывает свое недомогание, и он пояснил: — Во всем виновато проклятие Хоу-Хоу, господин Макумазан. Меня убивает Хоу-Хоу. Я уточнил, почему он так думает — не затевать же с больным напрасный спор о суевериях, — и молодой человек объяснил: — По двум причинам, господин. Во-первых, я покинул здешние края без ведома Хоу-Хоу. Во-вторых, я отвез тебя и твоего желтокожего товарища по имени Светоч во мраке на священный остров, прибывать на который, не будучи призванным, всегда считалось тягчайшим преступлением. По этой второй причине мне суждено закончить свои дни намного раньше, чем я умер бы в ином случае, но все равно я был обречен в тот миг, когда ушел отсюда в надежде спасти Сабилу. Вот доказательство. — Он пошарил под покрывалом и достал крошечный черный череп, в точности такой, как описывал Ханс. Не позволив мне дотронуться до зловещей побрякушки, Иссикор спрятал ее обратно. Я попытался высмеять его страхи, однако он печально улыбнулся и произнес: — Я знаю, господин, ты считаешь меня трусом — из-за того, как я вел себя с тех пор, как мы прибыли в город валлу. Но меня изменило проклятие Хоу-Хоу: оно поселилось внутри и сломило мой дух. Молю, объясни это Сабиле, которую я люблю всем сердцем, но которая, подобно тебе, винит меня в трусости; вчера я прочитал презрение в ее взоре. Пока у меня еще остались силы, я бы хотел поговорить с тобой, господин. Перво-наперво позволь поблагодарить тебя и твоего товарища, Светоча во мраке, за то, что вы своим мужеством и колдовством избавили Сабилу от Хоу-Хоу, уничтожили его обитель, его жрецов и, как мне сказали, его истукана. Конечно, сам Хоу-Хоу остался жить, ведь он не может умереть, но отныне он лишен дома, телесной оболочки и своих жрецов, а потому его власть над телами и душами людей сгинула навсегда. Я уверен, валлу со временем перестанут ему поклоняться. Надеюсь, что никто больше из моих сородичей не умрет от проклятия Хоу-Хоу, господин, я буду последним. — Но почему ты так уверен, что умрешь, Иссикор? — Да потому, что проклятие сие пало на меня, господин, еще когда Хоу-Хоу властвовал над валлу, как то было с начала времен. Я принялся было возражать, но молодой человек замахал рукою и продолжал: — Господин, моя жизнь вот-вот оборвется, и я хочу успеть кое-что тебе сказать. Вскоре все обо мне забудут, даже Сабила, мужем которой я грезил стать. Молю тебя, господин, женись на Сабиле. Я опешил, друзья мои, но сдержал рвавшийся наружу возглас. А Иссикор продолжал: — Господин, я уже послал известить невесту о том, что такова моя последняя воля. Также я позаботился уведомить всех старейшин народа валлу, и на совете, который состоялся этим утром, они пришли к выводу, что подобное решение будет правильным и мудрым. Они даже велели мне умереть как можно скорее, дабы немедленно провести церемонию и сочетать вас с Сабилой браком. — Святые угодники! — вскричал я. Иссикор снова сделал жест рукою, призывая меня к молчанию, и принялся развивать свою мысль: — Господин, Сабила не принадлежит к твоему народу, но она — настоящая красавица и большая умница. Став твоею женой, она сможет вернуть валлу былое величие, ибо предание гласит, что мы были великим народом, до того как на нас пало проклятие Хоу-Хоу, ныне уничтоженное. Ты тоже мудр и смел, и тебе ведомо многое из того, о чем мы знать не знаем; люди станут почитать тебя как бога и, возможно, увидят в тебе нового Хоу-Хоу, а потому ты сумеешь основать могущественную династию. Поначалу наши обычаи могут показаться тебе странными и непонятными, но затем ты поймешь их истинную суть. Не возражай, прошу; даже если ты против такой судьбы, все будет так, как я сказал. — Это еще почему? — осведомился я раздраженно. Вряд ли, друзья мои, можно упрекнуть меня в том, что я не постарался скрыть свое негодование. — Да потому, господин, что тебе суждено провести среди нас остаток жизни. Ты стал нашим пленником, и никакая отвага не поможет тебе сбежать, поскольку никто не согласится отвезти тебя вниз по реке, а силой ты не прорвешься, ибо за тобой будут следить днем и ночью и не позволят этого сделать. Вернувшись сейчас в дом вождя, ты увидишь, что твои патроны забрали и теперь, не считая тех немногих, что имеются у тебя при себе, ты безоружен. А посему, раз уж ты останешься среди нас, для тебя лучше всего сочетаться браком с Сабилой, нежели с любой другой женщиной, ведь она красивейшая и умнейшая из них. Вдобавок Сабила теперь наша правительница по праву крови, и через нее ты сам станешь вождем, как сделался бы я, по давнему обычаю. Тут Иссикор смежил веки и на мгновение словно бы лишился чувств. Потом он снова открыл глаза, уставился на меня в упор, приподнял дрожащую руку и воскликнул: — Славься, о вождь! Долгой тебе жизни и да славится народ валлу! После этого Иссикор опять впал в забытье; во всяком случае, все мои попытки расшевелить его оказались тщетными. Выждав некоторое время, мы с Хансом ушли в полной уверенности, что несчастный скончался. Однако потом выяснилось, что он оставался жив до наступления ночи и, как нам сказали, даже пришел в себя. Сабила, которую сопровождали несколько старейшин, навестила жениха. Именно тогда, полагаю, этот благородный неудачник, красивейший среди всех мужчин, каких я когда-либо встречал, сделал все, что мог, ради блага своей страны и своей возлюбленной: Иссикор исполнил свой долг, как он его понимал, ну а мои собственные чувства при этом, ясное дело, в расчет не принимались.— Что ж, баас, — проговорил Ханс, когда мы вышли от Иссикора, — пойдем-ка мы, пожалуй, домой. Теперь это ваш дом, верно? Нет, баас, не смотрите на реку, эти валлу так заботятся о вас, что прислали караул, достойный вождя. Я обернулся и понял, что готтентот нисколько не преувеличивает. Вместо одного валлу, который привел нас сюда, меня дожидались два десятка крепких мужчин, вооруженных копьями. Они отсалютовали мне самым почтительным образом и заявили, что будут сопровождать меня всюду (дабы, как я подумал, удостовериться, что чужеземец не сбежит). Делать было нечего, и мы отправились домой, а охрана следовала за нами, по-солдатски вышагивая в ногу. — Все как я и думал, баас, — вещал Ханс. — Если мужчина в глубине своего сердца охоч до женщин, то женщины это чувствуют, баас, и им это нравится, а еще они, будучи существами добросердечными, расположены к тому, чтобы полюбить такого мужчину. Баасу даже не потребовалось ничего говорить, его и так раскусили. В тот самый миг, когда госпожа Сабила увидела бааса, ей стало не до Иссикора, пусть он, весь из себя такой красивый, и отправился в долгий путь, чтобы ее спасти. Нет, в баасе она узрела то, чего никак не могла отыскать в женихе, который, уж простите, баас, был ничуть не лучше пустого барабана, что издает звук, только если по нему ударить. Стукнешь тихо, баас, и звук будет тихим, а стукнешь посильнее, так и барабан загремит. И потом, Иссикор все равно уже умер, а значит, и говорить о нем больше не стоит. Между прочим, — продолжал разглагольствовать готтентот, — тут не так уж и плохо, баас, особенно теперь, когда мы перебили половину лесных демонов. Глядите-ка, вон их тела на берегу! Мы научим местных варить пиво покрепче, а табак они и без нас уже выращивают. Все будет хорошо, баас, а когда нам надоест, мы, думаю, все-таки найдем способ сбежать. Скажу честно, баас, я рад, что не нашлось желающих выйти за меня замуж. И уж впредь никто не заставит меня трудиться, как целая упряжка волов, спасая этих женщин от бесчисленных неприятностей. Ханс все болтал и болтал, неся полную околесицу, а я ощущал себя настолько раздавленным морально, что сам даже и слова вставить не пытался. Недаром говорят, что жизнь наша полна сюрпризов. В последние несколько дней на мою долю выпало немало опасностей, каковые мне даже не снились. Но что за прихоть судьбы! Оказаться узником золотой клетки, трудиться ради пропитания, точно дрессированная обезьяна! Ну ничего, я сумею проскользнуть между прутьями этой клетки, не зря меня кличут Алланом Квотермейном! Вот только как отсюда сбежать? Сколько я ни размышлял, пути к спасению не обнаруживалось: прутья клетки выглядели толстыми и крепкими, да еще вдобавок ее стерегли дюжие мужчины с копьями. Мы благополучно добрались до дома вождя и направились прямиком в свою комнату. Пошарив в углу, Ханс окликнул меня: — Иссикор не обманул, баас. Все патроны пропали, и ружья тоже исчезли. Теперь у нас есть лишь револьверы и две дюжины патронов на двоих. Я проверил сам. Увы, это оказалось правдой! Потом я выглянул в окно и увидел, что мои охранники возятся в саду, явно собираясь возводить сторожку. — Они хотят поселиться рядышком, чтобы быть под рукой, когда баас позовет — или когда им прикажут схватить бааса. — Ханс многозначительно усмехнулся и прибавил: — Теперь, куда бы баас ни пошел, с ним всегда будут эти двадцать воинов.
В последующие несколько дней я не видел ни Сабилу, ни Драману, поскольку обе сестры были заняты исполнением церемониальных обязанностей. Следовало похоронить старого Валлу и несчастного Иссикора, причем меня на похороны не позвали, видимо по каким-то религиозным соображениям. Зато меня исправно навещали старейшины, или индуны. Стоило мне только выглянуть из дверей дома, как они моментально возникали рядом, словно бы из ниоткуда, вежливо кланялись и не упускали случая просветить меня относительно истории и обычаев валлу; складывалось впечатление, будто я внезапно вернулся в дни своей юности и вновь прилежно изучаю «Историю Сэндфорда и Мертона»[166] и упражняюсь в словесности. Эти старейшины утомляли меня донельзя. Я пытался отделаться от них, предпринимая долгие прогулки быстрым шагом, но они не отставали, бежали рядом, пока не падали от усталости, и все говорили, говорили, говорили. Разумеется, в резвости этим престарелым советникам было со мной не сравниться, а вот моя охрана, все двадцать человек, весьма ловко управлялись со своими ногами, как выразился бы ирландец, и не отставали от меня ни на пядь, сколь бы быстро я ни двигался. Порою они останавливали меня, если им чудилось, что я направляюсь туда, куда мне не следует идти: при этом половина их держалась позади, тогда как остальные бросались вперед и вежливо преграждали мне путь. Наконец, на третий или на четвертый день, все церемонии завершились и меня призвали к Сабиле. Как заметил впоследствии Ханс, все было обставлено очень красиво. Мне самому, впрочем, показалось, что прием выглядел довольно жалким, будучи, очевидно, полузабытым наследием некоей древней традиции, свойственной цивилизованному народу, каковой ныне скатился в варварство. Госпожа Сабила, на которую было приятно посмотреть, ибо эта красавица облачилась в роскошный наряд (роскошный на местный полудикий манер, разумеется), с воистину королевским достоинством восседала на стуле, как сидели, должно быть, на своих тронах ее давние предшественницы. Рядом стояли светловолосые советники-индуны, те самые, что изводили меня своими наставлениями; теперь они играли роль придворных далекого прошлого. При этом древняя королева — уж позвольте мне так выразиться — постепенно превращалась в женщину-вождя, повелительницу туземного племени, а ее советники-придворные напоминали ту толпу, что неизменно окружает вождей в тысячах краалей и поселений Африки. Прием тянулся невыносимо долго, ибо каждый из советников и старейшин рвался произнести речь, повторяя то, о чем уже упоминалось ранее, и пересказывая, едва ли не слово в слово, все события, которые произошли в здешних краях с тех пор, как мы прибыли сюда, а заодно измышляя всевозможные небылицы о нашем с Хансом пребывании на острове. Правда, из всех этих речей я усвоил кое-что полезное, а именно — что дикое племя хоу-хоуа, которое иначе называли волосатым народом и лесными демонами, почти полностью погибло во время великого извержения и разрушения вулкана; остались лишь несколько особей, не считая стариков, детенышей и самок, чтобы продолжать род. Поэтому валлу могли считать себя в безопасности — по меньшей мере на пару поколений — от этих тварей, чьи жалостные завывания оглашали окрестные леса (я сам их слышал, и эти жуткие причитания казались поистине звериными, в них почти не было ничего человеческого). Безжалостные придворные мудрецы уверяли, что теперь перед племенем валлу открылась замечательная возможность изловить и истребить остатки лесных демонов, вплоть до последнего детеныша. Мало того, они дружно требовали возложить исполнение этой задачи на меня. Когда все старейшины высказались, настала очередь Сабилы. Она поднялась со своего стула и обратилась к нам, изъясняясь весьма красноречиво. Прежде всего она назвалась женщиной, на которую обрушилось двойное горе (гибель отца и кончина человека, с коим она была обручена), и объявила, что эти утраты отягчают ее сердце. Далее она поблагодарила — смею сказать, очень трогательно — меня и Ханса за спасение. Если бы не мы, сказала Сабила, она была бы сейчас мертва или сделалась бы бесправной рабыней в обители Хоу-Хоу, которую мы разрушили, заодно уничтожив и зловещего истукана, вследствие чего она сама и ее земли освободились навсегда. А потом Сабила объявила, словами, которые явно были составлены заранее, что ей не пристало жалеть о былой любви и возвращаться памятью в прошлое: дескать, нужно смотреть вперед и думать о будущем. И добавила, что для благородного белого вождя существует единственная достойная награда — титул правителя валлу, к которому прилагаются ее рука и сердце. Затем Сабила, с единодушного одобрения советников, объявила, что мы с нею поженимся на четвертое утро, считая от сегодняшнего, после чего, по праву законного супруга, меня прилюдно провозгласят вождем валлу. Пока же я могу приблизиться к ней — рядом с ее стулом стоял другой, пустовавший с начала приема, — дабы мы обменялись поцелуем в знак грядущей свадьбы. Нетрудно вообразить, друзья мои, что я не тронулся с места; более того, еще никогда в жизни я не ощущал такого желания прирасти седалищем к тому месту, где сидел. Никакие внятные слова не шли мне на ум, а мой язык словно бы приклеился к нёбу. Так что я сидел неподвижно, а эти старые болваны пялились на меня. Сабила косилась на меня краем глаза и тоже ждала. Молчание становилось все более мучительным, и нарушил его Ханс, который негромко кашлянул и прошептал мне на ухо: — Вставайте, баас, и ступайте к ней. Все могло быть гораздо хуже. Многие бы вам позавидовали. Целоваться с красивой госпожой куда лучше, чем лежать с перерезанным горлом. Ступайте, баас, не то вас и вправду убьют. Сами знаете, коли женщина прилюдно зовет тебя целоваться, ей лучше не перечить. Я счел его доводы разумными и, скажу коротко, поднялся со своего места, сел рядом с Сабилой и… ну… исполнил положенное. Господи боже! Каким глупцом я себя чувствовал, когда эти болваны-валлу радостно закричали, а Ханс ухмылялся мне, точно большой бабуин. Впрочем, поцелуй был, можно сказать, невинным: как того требовал обычай, я лишь прикоснулся губами к челу прекрасной Сабилы и получил в ответ мимолетное лобзанье. После этого мне пришлось выслушать глупейшую песенку, которую затянули индуны: что-то насчет свадьбы героя с богиней. Должно быть, они сочинили эту песенку прямо тут, на приеме. Пользуясь случаем — глотки у старейшин были поистине лужеными, и пели они очень громко, — Сабила потихоньку заговорила со мной, не поворачивая головы и продолжая смотреть прямо перед собой. — Господин, — сказала она, — постарайся выглядеть веселым, иначе люди заподозрят неладное и начнут прислушиваться к нашей беседе. Закон гласит, что до свадьбы жениху с невестой видеться нельзя, но я должна поговорить с тобой наедине нынче вечером. Не беспокойся, — тут она довольно язвительно усмехнулась, — я приду одна, но ты приводи своего товарища, ибо то, что я хочу сказать, касается вас обоих. Давай в полночь, когда все будут спать, встретимся в коридоре, что ведет от этой залы к твоей спальне. В коридоре нет окон, зато стены там толстые, и никто нас не увидит и не подслушает. Обязательно запри дверь своей спальни, а я запру дверь залы. Ты меня понял? Я захлопал в ладоши, выражая удовольствие от музыкального представления, устроенного старейшинами, и шепотом подтвердил, что мне все ясно. — Хорошо. Когда песня закончится, скажи, что желаешь обратиться ко мне с просьбой. Попроси, чтобы завтра тебе дали лодку с гребцами и отвезли на остров. Мол, ты хочешь своими глазами увидеть последствия и выяснить, не уцелел ли кто из лесных демонов. Не забудь прибавить, что нужно истребить их всех до последнего, дабы эти твари не расплодились снова. Все, молчи, не отвечай. Песня стихла, и на этом церемония завершилась. Показывая, что пора расходиться, Сабила поднялась со стула и сделала мне реверанс. Я тоже встал и поклонился ей, как мог изящно. После чего мы прилюдно распрощались друг с другом до дня свадьбы, но напоследок я громким голосом попросил разрешения побывать на острове — или хотя бы обогнуть оный на лодке — и привел те доводы, каким научила меня Сабила. Она ответила: — Как будет угодно моему господину! — И, прежде чем кто-либо нашел повод возразить, удалилась в сопровождении своих придворных дам и Драманы, которая, насколько я мог судить, ничуть не обрадовалась тому, какой поворот приняли события.
Перехожу к нашему ночному свиданию. В назначенное время, точнее, чуть раньше я вышел в коридор вместе с Хансом, которого пришлось долго уговаривать. Готтентот упирался, и все его возражения сводились к голландскому присловью, которое в переводе на наш язык звучит коротко и ясно: «Третий — лишний». Но я все же уломал его, и мы, встав в темном коридоре, принялись ждать. Несколько минут спустя дверь в дальнем конце этого длинного коридора приоткрылась и появилась Сабила, вся в белом; в руке она держала фонарь без колпака. В этом одеянии и в подобной обстановке, да еще при таком освещении, она выглядела прекраснее, чем когда бы то ни было на моей памяти, и было в ней что-то от бесплотного духа. Мы сошлись посредине, и Сабила, не тратя времени на обмен приветствиями, произнесла: — Господин, твоя привычка бдеть по ночам, благодаря которой ты заслужил свое прозвище, стала сейчас ответом на мои молитвы. Знаю, это звучит странно, но выслушай, прошу тебя. Я не верю, будто ты решил, что мне желанна наша свадьба, вне всякого сомнения ненавистная тебе самому, ибо мы принадлежим к разным народам, и ты видишь во мне наполовину дикарку, которую, по воле судьбы, спас от смерти и позора. Нет, прошу, не спорь со мной, поскольку правда должна быть сказана. Я буду с тобой откровенна во всем и объясню, почему также не стремлюсь к этому браку. У меня много причин, но главная из них такова: я любила Иссикора, который с детских лет был моим товарищем по играм, а потом сделался для меня гораздо большим. — Знаю, — перебил я, — и знаю также, что и он любил тебя, госпожа. Но почему же тогда на смертном одре он сам молил меня стать твоим мужем? — Потому, господин, что Иссикор был благороден сердцем. Он считал тебя величайшим из людей и сам говорил мне, что ты, верно, подобен божеству. Иссикор думал, что с тобой я обрету счастье, а ты станешь хорошим правителем для нашего народа и пробудишь подданных от многолетнего сна. И потом, он знал, что, если ты не женишься на мне, тебя и твоего товарища попросту убьют. Возможно, Иссикор ошибался в своих рассуждениях, но прошу, вспомни, что его разум был отравлен ядом; я уверена, что умер он не только и не столько от одного лишь страха. Но он был человеком умным и благородным. — Понимаю, госпожа. Честь ему и хвала. — Благодарю тебя, господин, за добрые слова. Пусть я неискушенная дикарка, однако верю, что наша жизнь продолжается и за вратами смерти. Быть может, эта вера пришла ко мне от моих предков, которые до появления демона Хоу-Хоу поклонялись иным богам. Так или иначе, я надеюсь, что, когда сама пройду сквозь эти врата — а сие, возможно, случится уже довольно скоро, — то там, на дальней стороне, я снова встречу Иссикора: такого, каким мой нареченный был до того, как на него пало проклятие Хоу-Хоу и он был вынужден выпить яд, приготовленный жрецами. По этой причине я не хочу выходить замуж за любого другого мужчину. — И тебе честь и хвала, госпожа. — Снова благодарю тебя, господин. Но давай поговорим о другом. Завтра после полудня тебя будет ждать лодка, в ней ты найдешь оружие, которое у тебя украли, и все прочие пожитки. В лодке будут находиться четверо гребцов; нам ведомо, что они были лазутчиками жрецов, глазами Хоу-Хоу, приставленными следить за валлу. Им обещали, что со временем они и сами станут жрецами. Теперь, когда Хоу-Хоу пал, их ожидает смерть, пусть и не сразу; мои старейшины опасаются, что, если оставить этих людей в живых, они попытаются восстановить поклонение злому божеству. Словом, рано или поздно эти люди умрут якобы от болезни или от несчастного случая, и им самим об этом прекрасно известно. Потому они отчаянно стремятся сбежать отсюда, покуда кровь не остыла в их жилах. — Ты сама видела этих четверых, госпожа? — Нет, но их видела Драмана. Позволь кое-что открыть тебе, господин, хотя, быть может, ты и сам обо всем догадался, и мне нет нужды произносить слова, за которые будет стыдно. Драмана нисколько не рада нашему браку, господин. Ты спас ее, как спас и меня, и Драмана, подобно Иссикору, стала видеть в тебе божество. Не стану говорить больше ничего, прибавлю только, что по этой причине она хочет твоей свободы, ибо предпочтет побег, в результате которого мы обе тебя лишимся, необходимости мириться с тем, что ты станешь моим супругом. Достаточно ли я сказала? — Вполне достаточно, — заверил я, чувствуя, что собеседница говорит чистую правду. — Тогда добавлю, господин: я уповаю на то, что все пройдет благополучно и на рассвете дня, который наступит за сегодняшним, ты и твой желтокожий слуга высадитесь на проклятый остров. Если все сложится удачно, то после наступления сумерек, но прежде, чем взойдет луна, те люди, которые будут в лодке, приведут ее к устью реки, а дальше тебе придется плыть при лунном свете. Прошу, когда вернешься к себе домой, вспоминай иногда несчастную Сабилу, правительницу обреченного народа, а она всякий день, пробуждаясь утром и укладываясь спать вечером, будет вспоминать того, кто избавил от гибели ее саму и все, что ей дорого. Прощай, господин, прощай и ты, кого кличут Светочем во мраке. Она пожала мне руку, потом поцеловала пальцы и, не проронив более ни слова, скрылась за дверью в дальнем конце коридора.
В ту ночь я в последний раз видел прекрасную Сабилу и с тех пор никогда более ничего о ней не слышал. Мне неведомо, долго ли она прожила. Честно сказать, я в этом сомневаюсь: той ночью я узрел в ее глазах близкую смерть.
Глава 16
НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕРТЬЮ
Уподобившись, друзья мои, шотландскому священнику, кои славятся своим занудством, я произнесу слово «итак» — обыкновенно на этом слове задремавшая в ходе службы паства мигом просыпается. Итак, утро после той таинственной встречи с Сабилой мы с Хансом провели в своей комнате, поскольку, как выяснилось, согласно старинным обычаям валлу, жениху до свадьбы не разрешалось выходить наружу, разве что в самом крайнем случае и по особому разрешению. Наверное, причиной такого запрета было суеверное опасение, будто бы взгляд на какую-нибудь постороннюю красотку может отвратить жениха от невесты. В полдень мы перекусили; правда, лично я больше притворялся, что ем, поскольку беспокойство почти лишило меня аппетита. Чуть погодя, к несказанному моему облегчению, командир наших охранников — правильнее будет назвать их тюремщиками, ибо таковыми они и были, — сообщил, что ему велели препроводить нас к лодке, которая отправляется к острову, дабы осмотреть последствия извержения. Мы взяли с собою все наши скромные пожитки, в том числе узелок со сменой одежды и ветками Древа видений, и направились на берег — в сопровождении все тех же стражников, лицезрение физиономий которых меня, признаться, изрядно утомило. На берегу мы обнаружили маленькую лодку и четверых крепких на вид гребцов, которые дружно подняли весла, приветствуя нас. По всей видимости, кто-то заранее потрудился разогнать зевак; кроме нас, на берегу была только женщина в длинной накидке, скрывавшей ее лицо. Когда мы уже собрались сесть в лодку, женщина приблизилась и открыла лицо. Это была Драмана. — Господин, — сказала она, — меня прислала моя сестра, наша новая правительница. Сабила просила передать, что ваше снаряжение, включая железные трубки, плюющие огнем, лежит в носу лодки. Еще Сабила поручила пожелать вам счастливого пути до острова, некогда считавшегося священным. Сама она не желает на него более смотреть. Я поблагодарил Драману и попросил передать наилучшие пожелания своей суженой, громко прибавив, что надеюсь и сам вскоре увидеть ее, когда минет положенный срок. После чего отвернулся. — Господин, — окликнула меня Драмана и заломила руки, — окажи мне милость. Прошу, возьми меня с собою на этот остров, где я столько лет провела рабыней. Хочу теперь, когда я освободилась, бросить на него последний взгляд. Я сразу понял, что здесь требуется суровая, даже жестокая отповедь, иначе весь наш план может пойти прахом. — Нет, Драмана, — ответил я, — для свободного человека дурная примета возвращаться в тюрьму, не то ему грозит снова угодить за решетку. — Господин, случается, что бывший узник настолько потрясен обретенною свободой, что в сердце своем желает вернуться в плен. Я была верной рабыней, господин, и способна на любовь. Почему ты мне отказываешь? — Извини, Драмана, — сказал я, запрыгивая в лодку. — Сама видишь, для тебя тут места нет. Не будем затягивать расставание, это нам обоим ни к чему. Прощай! Она кинула на меня исполненный сожаления взор, а затем черты ее исказились гневом, как нередко случается с отвергнутыми женщинами. И, пробормотав что-то насчет «грубого мужлана», она залилась слезами и убежала. Я взмахом руки велел гребцам отплывать, ощущая себя негодяем и предателем. С другой стороны, друзья мои, посудите сами — что еще мне было делать? Да, Драмана оказалась надежною союзницей, и она мне нравилась. Однако мы уже отплатили ей добром за добро, спася бедняжку от Хоу-Хоу, а что до всего остального, нам с нею было не по пути. Если выражаться образно, окажись Драмана в нашей лодке, она бы ни за то не покинула суденышко добровольно. Мы вышли из бухты в открытое озеро: по воде стелилась легкая рябь, ярко светило солнце, и я искренне радовался тому, что сумел ускользнуть от тягот и хитросплетений людского общества. Мне всегда были милее чистые и непосредственные проявления природы. Вскоре мы добрались до острова и приблизились вплотную к берегу в том самом месте, где находился разрушенный город с окаменевшими древними людьми и животными. Высаживаться мы не стали: повсюду в озеро продолжали стекать ручейки раскаленной лавы, и разрушенный город прятался за плотной пеленой пара. Думаю, больше ни один человек не видел своими глазами эти останки неведомого прошлого. Лодка повернула и двинулась вдоль берега к тому месту, где прежде высилась Скала приношений, на которой мне привелось пережить столь жуткое приключение. Скала исчезла, и с нею заодно сгинули вход в пещеру, сад Хоу-Хоу, Древо видений и все возделанные поля. Воды озера, теплые и бурлящие, теперь омывали невысокий утес, единственное напоминание о священном острове. Катастрофа была полной; вулкан превратился в этакий огненный, медленно остывающий бугор, из умирающего чрева которого до сих пор изливалась жизнь ручьями алой, вяло плескавшейся лавы. Интересно, суждено ли ему когда-нибудь снова обрушить на окрестности свою пламенеющую ярость? Насколько я знаю, это вполне возможно, но уже не на острове, а где-либо на суше за озером. К тому времени, когда мы обогнули остров, на котором не осталось ни единого живого существа — зато на поверхности воды плавали раздувшиеся тела мертвых хоу-хоуа, — солнце стало садиться, а когда мы повернули в сторону города валлу, начало темнеть. Пока нас могли видеть с берега, мы плыли к тому самому причалу, с которого днем направились на остров. Но в миг, когда угас последний луч солнца, наши гребцы, почитатели демона Хоу-Хоу, о чем-то зашептались, быстро переговорили между собою, и лодка изменила направление: вместо того чтобы идти в бухту, мы двинулись вдоль берега и плыли так, покуда не достигли устья Черной реки. В темноте я не уловил, в какой именно момент мы покинули озеро и вошли в реку; более того, я не сознавал, что это случилось, пока не сообразил, что течение вдруг резко усилилось. После недавнего наводнения нас несло вперед на хорошей скорости. Я даже забеспокоился, как бы лодка во мраке не налетела на камни или не перевернулась, напоровшись на ветви огромных деревьев, однако эти четверо гребцов знали, похоже, каждый ярд речного русла и ухитрялись не отклоняться от середины, — должно быть, они намеренно держались быстрины. Мы плыли таким вот образом, покуда не взошла луна, которая, поскольку после полнолуния минуло всего лишь несколько дней, светила достаточно ярко. Едва лишь свет ее упал на реку, как наши гребцы совсем отложили весла, и лодка стремглав полетела по воде, уносимая течением. — Думаю, теперь все в порядке, баас, — сказал Ханс. — Мы настолько всех опередили, что этим валлу ни за что нас не догнать, даже если они и спохватятся. Нам повезло, баас уплыл от этих двух женщин, которые могли бы прикончить его, пытаясь поделить, а я бежал оттуда, где живут глупцы, утомившие меня настолько, что мне захотелось умереть. Он помолчал, а затем прибавил с дрожью в голосе: — Allemachte! Все-таки мы оба дураки, баас! Мы ведь кое-что забыли. — Что именно? — уточнил я. — Как что, баас? Те красные и белые камни, за которыми мы сюда шли! Те самые, которые сулил нам тот спятивший старый вождь, пока его не убил Хоу-Хоу, стукнув булыжником по голове. Сабила заполнила бы ими лодку доверху, если бы мы ее попросили, и нам больше никогда не пришлось бы работать, баас; ходили бы себе по гостям, пили бы лучший джин с утра и до вечера… Услышав это, я пригорюнился. Упреки Ханса были справедливы. За всею этой суматохой, связанной со смертями, свадьбами и обретением свободы, я совсем позабыл о бриллиантах и золоте. Впрочем, если хорошенько подумать — к слову, Ханс, наверное, просчитал все заблаговременно, — я вряд ли мог обратиться к Сабиле с подобной просьбой. Этакое прощание вполне могло оставить, так сказать, дурное послевкусие у нее на языке. Прекрасная правительница считала меня мужчиной, выгодно отличавшимся от прочих, настоящим героем, и, вообразите, этот герой вдруг является к ней и говорит, что хорошо бы уладить одно маленькое дельце и заплатить ему за оказанные услуги. Вдобавок наши перемещения с мешками на спинах могли бы возбудить подозрения, если бы только Сабила, конечно, не распорядилась погрузить сокровища в лодку заранее, как она поступила с нашим оружием. Да и к тому же эти мешки наверняка оказались бы тяжелыми, и нести их было бы неудобно — именно так и я и ответил Хансу. Но в глубине души я терзался напрасными сожалениями, ибо мои надежды стать богачом — хотя бы получить достойное вознаграждение, которое позволило бы ни в чем не нуждаться до конца моих дней, — вновь оказались пустыми. — Жизнь дороже золота, — сказал я Хансу с притворной уверенностью, — а честь дороже того и другого. Мне самому показалось, что эти слова прозвучали, будто фраза из Книги Притчей; и все же в них было, на мой вкус, что-то неправильное. По счастью, готтентот не стал придираться, хотя, должно быть, он все-таки что-то почувствовал, поскольку произнес: — Достопочтенный отец бааса частенько так изъяснялся. Еще он говорил, что лучше питаться травой и иметь незамутненный разум, которому не страшен гнев пустого живота, чем жить в большой хижине с двумя вздорными женщинами — как произошло бы с вами, баас, останься мы у валлу. Теперь-то мы в безопасности, баас, пусть у нас нет ни золота, ни камней. Как правильно сказал баас, нести их было бы тяжело. Лягу-ка я спать, пожалуй… Allemachte! Баас, что это за звуки такие? — Это всего лишь самки волосатых оплакивают своих погибших в лесу, — ответил я с деланым спокойствием. Крики, громом раскатившиеся над водою в ночной тишине, меня и самого напугали; однако мои мысли по-прежнему занимали сожаления о забытых бриллиантах. — Кабы так, баас, я бы сказал: «Да пусть себе воют, пока у них головы не отвалятся». Но баас ошибся. Я слышу плеск весел. Это валлу гонятся за нами, баас! Слушайте! Я прислушался — и, к своему ужасу, действительно разобрал равномерный плеск в темноте позади. Весла били о воду, и было их, как я определил на слух, не меньше пяти десятков. Значит, за нами в погоню отправили одну из больших лодок. — Баас, снова ваша вина! — воскликнул Ханс. — Госпожа Драмана влюбилась в вас так сильно, что не захотела с вами расставаться и приказала доставить обратно. Правда, — прибавил готтентот с обескураживающей наивностью, — это может быть также и госпожа Сабила. А вдруг она вспомнила, что задолжала нам прощальный подарок, и послала вдогонку лодку с камнями? — Не мели вздор! Это треклятые валлу, чьим даром будут копья! — проговорил я угрюмо. — Готовь ружья, Ханс! Живым я им не дамся. Теперь уже всем стало ясно, что нас преследуют, и я спрашивал себя, на самом ли деле причастна к погоне Драмана. Несомненно, я обошелся с нею грубо, поскольку меня вынуждали к тому обстоятельства, да и не стоит забывать о том, что женщина эта росла и воспитывалась под присмотром зловещих жрецов Хоу-Хоу. Но я надеялся — и надеюсь до сих пор, — что Драмана все-таки нас не предавала. Так это или нет, мне уже никогда не узнать. Гребцы испуганно озирались и налегали на весла с тройнымусердием, не меньше нашего желая оторваться от погони. Великие небеса, как они гребли, эти четверо бывших жрецов, твердо знавших, что на кон поставлены их жизни! Час за часом мы летели по бурной, широко разлившейся реке, а за спиной у нас, приближаясь с каждой минутой, равномерно ударялись о воду весла преследователей. Разумеется, наша лодка была проворной, но где уж нам было состязаться в скорости с пятью десятками гребцов, если у нас самих таковых было всего четверо? Как только мы миновали то место, где заночевали на пути к городу валлу, — лес остался позади, и лодка очутилась в ущелье, между каменными стенами, двигаясь вдвое быстрее, чем когда мы шли против течения, — так вот, именно тогда я разглядел неприятеля. От преследователей нас отделяло около мили, и передвигались они на одной из самых больших лодок, что имелись в распоряжении валлу. После этого, поскольку свет луны почти не проникал в узкое каменное ущелье, я на несколько часов потерял вражеское судно из вида. Однако оно не отставало, наоборот, неумолимо нагоняло нас, точно учуявшая след кровожадная гончая, которую спустили на дичь — или на беглого раба. Наши гребцы выбивались из сил. Мы с Хансом схватились за весла, давая двоим из них возможность передохнуть и подкрепиться. Потом они снова взялись за весла, а мы сменили двух других. Эти перемещения привели, увы, к тому, что лодка пошла медленнее, поскольку мы с готтентотом не имели привычки к столь долгим и изнурительным упражнениям с веслами. Впрочем, вода в ущелье мчалась так быстро, что наши неуклюжие попытки грести на самом деле не сильно ухудшили положение. Взошло солнце, и какое-то время спустя на дне ущелья сделалось светлее; в этом неверном, зыбком свете я разглядел, что расстояние между нами сократилось и теперь уже составляет не больше сотни ярдов. Зрелище было, друзья мои, поистине грозным и внушительным. Отвесные каменные стены; узкая полоска голубого неба высоко вверху; темные, вспененные воды реки; наша крохотная лодка, влекомая вперед течением и усилиями четверых донельзя утомленных гребцов, — и громадное боевое судно неприятеля, чье присутствие скорее угадывалось, чем наблюдалось, по размытым очертаниям и по белым фонтанам пены, когда весла ударялись о воду. — Они настигают нам, баас, а плыть еще долго, — сказал Ханс. — Скоро они нас догонят, баас. — Надо попробовать их задержать, — ответил я мрачно. — Дай-ка мне мой «экспресс», Ханс, а сам бери винчестер. Мы залегли на корме, подыскали упоры для ружей и принялись дожидаться подходящего мгновения для выстрела. Тем временем лодка достигла места, где недавно, по-видимому, случился оползень: русло сужалось настолько, что полноводная река будто ныряла в теснину. Вдобавок здесь, поскольку скалы частично осыпались, было намного светлее, и мы хорошо рассмотрели преследователей, до которых было около полусотни ярдов, — не то чтобы досконально, но вполне достаточно для стрельбы. — Целься ниже, Ханс, и не жалей патронов! — С этими словами я разрядил оба ствола «экспресса» в передних вражеских гребцов. Ханс последовал моему примеру — и выпустил подряд все пять патронов, которыми был заряжен винчестер. Результат оказался вполне удовлетворительным. Часть гребцов — не могу сказать, сколько именно, — попадала в воду вместе с веслами, и поднялся многоголосый крик: одни звали на помощь, другие просто вопили от ужаса. Тот, кто направлял лодку, стоя на носу, тоже оказался в числе раненых. Лодку развернуло, и некоторое время она двигалась бортом вперед, причем накренилась так, что едва не перевернулась. В ее обнажившееся днище я, поспешно перезарядив ружье, всадил две разрывные пули, рассчитывая пробить древесину насквозь. Не ведаю, получилось у меня или нет, ведь лодки валлу довольно прочные, но думаю, что получилось, поскольку враг заметно сбавил скорость и мне почудилось, что один из гребцов бросил весло и вычерпывает воду. Мы поплыли дальше, торопясь воспользоваться обретенным преимуществом. Однако четверо наших гребцов, как выяснилось, стерли руки веслами до крови; лишь страх неминуемой гибели заставлял их продолжать грести. Словом, в конце концов наше продвижение сильно замедлилось, и теперь приходилось полагаться только на силу течения. Поэтому вражеская лодка, на которой, должно быть, имелись, как то заведено у валлу, запасные гребцы, снова стала нас нагонять. Река вилась среди камней, поэтому неприятеля мы могли видеть, лишь когда нас сводила вместе очередная излучина. Всякий раз я хватал «экспресс» и стрелял, неизменно нанося преследователям урон и вынуждая их сбавить ход. Но вот изгибы закончились, и наша лодка очутилась в прямом как стрела русле, что тянулось приблизительно с милю, после чего река разливалась в болото. Преследуемые и преследователи двигались медленно, плывя по течению, ибо и те и другие устали до изнеможения. Я продолжал стрелять при каждом удобном случае, но противник надвигался, с суровой решимостью и в полном молчании. Наконец между нами осталось от силы шагов двадцать, и в нас принялись метать копья. Одно вонзилось в днище нашей лодки, едва не задев мою ногу. Каменные стены между тем сошлись настолько близко над головами, что я прекратил стрелять, поскольку не видел, куда целиться, и, не желая впустую переводить патроны, решил сохранить немногие оставшиеся для отражения последнего нападения. Наша лодка наконец-то уткнулась носом в илистый берег возле болота. Те валлу, что не пострадали от моих пуль, предприняли героическое усилие, пытаясь настичь нас; в ярком солнечном свете над окрестной равниной я видел, как они таращат глаза и высовывают языки, точно утомленные собаки. — Хватайте вещи, и бежим! — Выкрикнув это, я сам подобрал двустволку и прочее и выпрыгнул из лодки. Остальные кинулись за мной. Сдается мне, в лодке не осталось ничего, кроме весел. Я побежал вправо вдоль кромки болота, а остальные устремились следом. Ярдов через пятьдесят я опустился на невысокий пригорок, почувствовав, что ноги меня больше не держат, залег и стал смотреть, что будет дальше. Признаться, я вымотался настолько, что готов был умереть, только бы не бежать дальше. Мы шестеро сгрудились вместе, дожидаясь нападения; лично я не сомневался, что оно последует. Однако валлу повели себя непредсказуемо. Какое-то время они просто сидели в своей лодке, явно переводя дух. Затем, впервые за весь долгий срок погони, преследователи изволили заговорить и осыпали нас оскорблениями; сильнее всего доставалось нашим четверым гребцам, последователям Хоу-Хоу, которым среди прочего кричали, чтобы те не смели идти дальше, иначе они умрут, как умер Иссикор, отважившийся покинуть земли валлу. Один из гребцов, уязвленный попреками, вскочил и ответил врагам, что им лучше позаботиться о себе самих, ведь многие из них уже погибли, и пусть они пересчитают свои ряды, если не верят. На сие справедливое замечание ответить им было нечего. Кто их послал в погоню за нами, валлу тоже не открыли. Присвоив себе нашу маленькую лодку, они сложили туда бездыханные тела тех, кого сразили наши с Хансом пули, и медленно двинулись обратно против течения, увлекая наше суденышко за собою. Я в последний раз видел тогда эти прекрасные, но исполненные религиозного пыла лица, в последний раз лицезрел живое и наглядное напоминание о треклятой стране, где чуть-чуть не погиб и едва не остался узником до конца своих дней; по чести сказать, уж и не знаю, какая участь была бы хуже. — Баас, — окликнул меня Ханс, раскуривая трубку, — отменное вышло путешествие, и о нем приятно будет рассказывать, особенно теперь, когда все позади. Жалко, что мы не убили больше этих глупых валлу. — А вот мне совсем не жалко, Ханс, — возразил я. — Мне, напротив, было противно, что я вынужден их убивать. Знаешь что, я попрошу тебя впредь никогда не напоминать мне об этой гонке, да и сам про нее вспоминать не буду, разве что в дурном сне, но тут уж ничего не попишешь. — Правда, баас? А по мне, так очень приятно вспоминать об опасности, когда она миновала, приятно думать, что ты жив, хотя мог погибнуть, зато другие мертвы и теперь кормят своими побасенками Хоу-Хоу. — Каждому свое, Ханс, — пробормотал я. — Тут наши с тобой вкусы не совпадают. Готтентот помолчал, выпустил изо рта клуб дыма и спросил: — Баас, а почему эти болваны не вылезли из лодки и не напали на нас со своими копьями? Неужто ружей испугались? — Нет, Ханс, — ответил я, — они храбрые воины и не прекратили бы погоню из страха перед пулями. Они испугались другого, а именно проклятия, которое, как валлу верят, падет на всякого, кто посмеет покинуть их земли. Согласно местным поверьям, такой человек умрет, Ханс. Получается, что Хоу-Хоу сослужил нам добрую службу. — Ха, баас! Скажите еще, что он сделался христианином там, в огненном месте, и платит за зло добром, подставляя другую щеку! Ох и перепугался же я, баас, когда решил, что эти валлу нас вот-вот догонят. Но теперь-то другое дело, баас! Помните, что говорил ваш достопочтенный отец, баас? Если ты возлюбил Бога, то Небеса станут приглядывать за тобой и уберегут от всех напастей. Вот почему я сижу тут и курю, баас, а не отправился на прокорм крокодилам. Если бы мы еще взяли в награду драгоценные камни, баас, то я бы сказал, что Небеса и вправду славно приглядывали за нами, однако про камушки-то Небеса, похоже, и сами позабыли. — Вовсе нет, Ханс. По воле Небес мы бежали без этих тяжелых мешков, ибо, попытайся мы погрузить их в лодку, вместе с листьями для Зикали и нашим скарбом, валлу наверняка изловили бы нас прежде, чем мы успели бы высадиться. Они ведь были совсем близко, Ханс. — Ну да, баас, конечно, эти твои Небеса очень мудрые. Нам пора в путь, баас, не то эти глупые валлу еще решат, что проклятие им не страшно, и вернутся по наши души. У Небес свои правила, баас, кто их разберет. Порой они мгновенно приходят в ярость, прямо как госпожа Драмана, когда ты вчера наотрез отказался взять ее в лодку.Аллан умолк, налил себе немного виски с водой и произнес, в своей обычной отрывистой и чуть грубоватой манере: — Что ж, вот мы и добрались до конца этой истории, чему я весьма рад, уж не знаю насчет вас, ибо от долгой говорильни у меня в горле пересохло. Добавлю лишь, что мы благополучно вернулись к фургону после утомительного перехода через пустыню и успели сделать это как нельзя более вовремя, поскольку у нас оставалось всего три ружейных патрона на двоих. Сами понимаете, нам пришлось много стрелять по хоу-хоуа, напавшим на нас на озере, а потом по валлу, которые пытались догнать нас на реке. Впрочем, в фургоне нашлись запасы снаряжения, так что я по пути домой подстрелил четырех слонов. У них были увесистые бивни, которые я впоследствии продал, выручив сумму, достаточную для покрытия расходов на это путешествие. — Колдун Зикали заставил вас заплатить за волов? — спросил я. — Нет, не заставил, потому что я сразу предупредил: если он только попытается, я попросту не отдам ему мешочек с листьями Древа видений, который благополучно добрался с нами до Черного ущелья. Старому мошеннику его снадобья были важнее животных, поэтому волов он мне подарил. Да и мои собственные волы к тому времени тоже отдохнули, исцелились и раздобрели. Как ни удивительно, колдун откуда-то знал бóльшую часть случившегося с нами — еще до того, как я ему рассказал. Быть может, он успел расспросить одного из тех прислужников Хоу-Хоу, что бежали вместе с нами, опасаясь казни, если останутся на родине. К слову, я забыл сказать, что эти четверо, весьма молчаливые личности, исчезли во время нашего перехода через пустыню. Раз — и пропали, будто их никогда и не было. Полагаю, они прибились к местным племенам и стали выдавать себя за колдунов. Если так, не исключено, что кто-то из них связался с Зикали, самым могущественным колдуном в той части Африки, раньше, чем я добрался до Черного ущелья. Перво-наперво старый мошенник спросил меня: «Почему ты вернулся без золота и бриллиантов, Макумазан? Ты мог бы стать богатым, однако остался бедным». «Потому что забыл попросить себе награду», — ответил я. «Да, я знаю, что ты забыл попросить, — сказал он. — Ты настолько расстроился, прощаясь с прекрасной госпожою, чье имя мне неведомо, что начисто позабыл о богатстве. Как это на тебя похоже, Макумазан! Хо-хо! Как это на тебя похоже! — Потом карлик уставился в огонь, перед которым сидел, как обычно, и прибавил: — Но я уверен, что однажды бриллианты сделают тебя богачом, Макумазан, ибо рядом не будет женщины, с которой придется прощаться». Это был меткий выстрел с его стороны, друзья мои: вы же помните, что случилось позднее в копях царя Соломона. Там и впрямь не было женщины, с которой я, говоря словами Зикали, захотел бы попрощаться, а вот бриллианты, напротив, были. Гуд при этих словах отвернулся. Аллан, должно быть, тоже вспомнил погибшую красавицу Фулату и сообразил, что своим замечанием причинил другу боль. А потому поспешил продолжить: — Зикали страшно заинтересовался нашей историей и попросил меня задержаться в Черном ущелье на несколько дней, дабы поведать ему все подробности. «Я знал, что Хоу-Хоу всего лишь истукан, — признался он. — Но мне хотелось, чтобы ты выяснил это самостоятельно, потому я не стал ничего тебе говорить. И еще я знал, что дни того красавца по имени Иссикор сочтены. Но ему я тоже ничего не сказал, иначе он мог бы умереть задолго до того, как привел тебя в свою страну, и тогда я не получил бы вожделенные листья, без которых мне не обойтись, без которых я не смогу рисовать картины в пламени. Что ж, ты принес мне изрядное количество чудесных листьев, а теперь, когда Древо видений сгорело в огне, я единственный, кто ими владеет, ибо другого такого дерева нет в целом свете. Я рад, что так получилось, ибо ни к чему, чтобы какой-то другой колдун мог соперничать с великим Зикали, с Открывателем дорог. Прежде верховный жрец Хоу-Хоу был мне почти ровней, но теперь он мертв, а дерево сгорело, и я, Зикали, стану править единовластно. Этого я всегда и желал, Макумазан, а потому послал тебя в земли хоу-хоуа». «Ах ты, старый хитрец!» — воскликнул я. «Да, Макумазан, — кивнул он, — я хитер, а ты глуп, и сердце у меня черное, как моя кожа, а у тебя белое, как твоя кожа. Вот почему я великий колдун, Макумазан, я повелеваю тысячами людей и исполняю свои желания, а ты жалок и слаб и умрешь, так и не достигнув того, чего хотел. Хотя кто знает, кто знает? Быть может, в далеких землях все иначе. Хоу-Хоу тоже был велик, но где он теперь?» «Хоу-Хоу на самом деле никогда не существовало», — твердо возразил я. «Верно, Макумазан, Хоу-Хоу никогда не было на свете, но зато были жрецы Хоу-Хоу. Разве не так же обстоит дело со многими, очень многими богами, которых выдумали себе люди? На самом деле никаких богов нет и никогда не было, зато есть жрецы, что потрясают копьями власти и пронзают страхом человеческие сердца. Кому какое дело до богов, которых все равно никто не видел, если вот он, жрец с копьем власти в руке, готовый поразить сердца почитателей? Бог в жрецах; жрец есть бог — выбирай, что тебе больше по нраву, Макумазан». «Так бывает не всегда, Зикали, — ответил я, а затем, не собираясь затевать с ним религиозный спор, прибавил: — Но скажи, кто изготовил изваяние Хоу-Хоу в пещере видений? Сами валлу этого не знают». «Мне сие тоже неведомо, — произнес карлик. — Наш мир очень древний, и в нем обитало множество народов, о которых мы ничего и никогда не слышали; так говорит мне мой дух. Должно быть, какой-то народ вытесал это изваяние тысячи лет назад, это сделали какие-то пришлые, последние из живых, гонимые отовсюду и пришедшие на юг, те, кто уцелел, кто прятался от недругов в этом укромном месте, среди дикарей, столь уродливых и кровожадных, что молва объявила их демонами. Там, в пещере на острове посреди озера, где им ничего не грозило, они вытесали подобие своего божества — или божества дикарей, раз уж истукан настолько тех напоминал. Быть может, дикари получили свое прозвание от Хоу-Хоу. Или же, наоборот, Хоу-Хоу получил свое имя от них. Кто теперь знает? Так или иначе, Макумазан, когда люди взыскуют бога, они лепят того по своему подобию, только делают его громадным, страшным и более злобным. Во всяком случае, так заведено в здешних краях, а уж как дело обстоит за морями, мне неведомо. Часто повторяют, что этот бог был когда-то их правителем, ведь все люди на свете почитают предков, которые даровали им жизнь, и нередко этих предков, что даровали жизнь племени, признают за демонов и дьяволов. Великие предки — вот наши первые боги, Макумазан, и, не будь они злыми, они никогда бы не стали великими. Возьми хоть Чаку, что звался Зулусским львом. Его считают великим, потому что он был жесток и беспощаден, и таковы же все прочие герои, а вот тех, кто терпел поражения, к великим сроду не причисляли». «Странная какая у тебя вера, Зикали, — заметил я. — Странная и страшная». «Верно, Макумазан, но в этом мире вообще много страшного, красив только сам мир. Хоу-хоуа омерзительны, точнее, были омерзительны, потому как, сдается мне, ты убил большинство из них, когда взорвал гору, и это правильно. Хоу-Хоу был отвратителен, как и его жрецы. Лишь валлу, в особенности их женщины, по-настоящему красивы, благодаря древней крови, что течет в их жилах, истинной древней крови, которой питался Хоу-Хоу». «Как бы то ни было, Зикали, — произнес я, — но Хоу-Хоу больше нет. Что теперь станется с валлу?» «Не ведаю, Макумазан, — отвечал карлик. — Думаю, они последуют за Хоу-Хоу, который завладел их душами и потому потянет несчастных за собою. Не жалей о них, коли так произойдет, ибо они — не более чем гнилой пень дерева, что было когда-то высоким и красивым. Пески времени покрывают множество таких пней, Макумазан. Но что с того? Вырастают новые деревья, коим суждено в свой черед сделаться пнями, и так будет вечно». Зикали все вещал и вещал, и многое из того, о чем он тогда говорил, теперь за давностью лет уже позабылось. Смею думать, что колдун говорил правду, но хорошо помню, что эта его болтовня произвела на меня угнетающее впечатление и я постарался поскорее закончить разговор. Увы, я так и не получил внятных объяснений относительно того, кто такие валлу, откуда взялся дикий народ, именуемый волосатыми или лесными демонами, почему эти люди поклонялись Хоу-Хоу, из каких краев они пришли и каков будет их конец. Все перечисленное и по сей день остается для меня загадкой, поскольку я больше ничего не слышал ни о тех ни о других, и никакие другие путешественники не посещали упомянутые места; не исключено, что кто-то пытался туда проникнуть, но не смог подняться по реке — а если и смог, то не вернулся, дабы поведать об этом. Так что, друзья мои, если хотите узнать больше, отправляйтесь туда сами и хорошенько все вызнайте. Но меня, как я уже вас предупреждал, с собою не зовите.
— Что ж, — сказал капитан Гуд, — отменная история. Пусть меня повесят, я бы и сам не выдумал ничего лучше. — Ну вот, — откликнулся Аллан, зажигая свечу. — Я так и знал, что Гуд сочтет мой рассказ выдумкой, между тем как я придерживался самых что ни на есть непреложных фактов. Доброй ночи всем вам, друзья, доброй ночи. И он отправился спать.

Книга IX. МАГЕПА ПО ПРОЗВИЩУ АНТИЛОПА
В предисловии к роману «Мари» о ранних годах жизни покойного Квотермейна, известного в Африке под именем Макумазан, мистер Куртис, брат сэра Генри Куртиса, рассказал о нескольких рукописях, найденных им в доме мистера Квотермейна в Йоркшире. Среди них оказался и упомянутый роман. Кроме законченных рукописей, которые мне как редактору надлежало передать для последующего издания, я нашел там множество разрозненных записей и документов. Некоторые из них касались охоты и взятых трофеев, исторических событий, имелись заметки, связанные с писательским ремеслом, а также уникальные сведения о невероятных событиях, полученные из первых рук. Одна запись была оставлена в грязной и потертой тетради, видно, хозяин не расставался с ней многие годы. Она напомнила мне о давнем разговоре, состоявшемся между мной и мистером Квотермейном, когда я гостил у него в Йоркшире. Текст небольшой, должно быть, автор бегло набросал его за каких-нибудь пару часов. В нем говорилось следующее: «Интересно, есть ли в чужих землях знак отличия за храбрость и самоотверженность вроде нашего креста Виктории. Если бы я имел на то полномочия, то присудил бы его бедному старому туземцу Магепе. Честное слово, он заставил меня почувствовать гордость за все человечество. А ведь он был всего лишь цветным, как некоторые называют кафров». Долго я, редактор, не мог понять, о ком идет речь, но вдруг меня осенило. В памяти всплыло, как я, еще молодой, сидел после ужина в гостиной Квотермейна. С нами были тогда сэр Генри Куртис и капитан Гуд. Мы курили, беседовали. Разговор зашел о героизме. Каждый старался припомнить случай, оставивший у него неизгладимое впечатление. Последним заговорил Аллан Квотермейн: — С вашего позволения, я расскажу историю, ставшую для меня наивысшим примером храбрости. Итак, война с зулусами только началась, в Зулуленд направились войска. В ту пору, как вам известно, я подрабатывал, возил высокопоставленных военных. Нанял им три фургона, по шестнадцать здоровых волов в каждом, вместе с разведчиками, а сам был за главного. Они заплатили мне… впрочем, не важно сколько, как-то неловко говорить о деньгах… Сказать по правде, всю войну офицеры империи покупали необходимые им товары на дорогих рынках, и не всегда по закону. Много ходит историй — и не только от колонистов, — как они вскоре разбогатели на продаже патентов на офицерский чин и тому подобное. Впрочем, об этом лучше умолчим. Я запросил приличную сумму за свои фургоны, вернее, за их аренду, у самодовольного молодого человека в мундире, проведшего в стране уже три недели, и, как ни странно, тот согласился. Зато когда я обратился в штаб и предупредил о возможных последствиях, если они станут упорствовать в наступлении, самолюбие не позволило им послушать какого-то престарелого охотника и… и они вежливо от меня отделались. А ведь могли избежать трагедии при Изандлване. Тут Аллан задумался — вы же знаете, какая это для него болезненная тема. Он не любил вспоминать те события. Сам Квотермейн спасся, но потерял много друзей на поле битвы. Вскоре он продолжил: — Но вернемся к старому Магепе. Мы знакомы много лет, а впервые встретились в битве на реке Тугела. Я сражался на стороне королевского сына Умбелази Прекрасного в рядах войска Тулвана. Мне захотелось записать эту историю, дабы она не сгинула бесследно. Так вот, как вы знаете, войско было стерто с лица земли. После того как они разбили атаковавшие их войска Кечвайо, из трех тысяч в живых остались лишь пятьдесят. Среди уцелевших оказался и Магепа. Мы встретились позднее, во владениях старого короля Панды, и я вспомнил, как мы сражались бок о бок. Пока я говорил с ним, появился принц Кечвайо. Ко мне он отнесся вполне милостиво, ведь я случайно оказался в этом сражении, но свирепо посмотрел на Магепу. — Макумазан, не из тех ли он псов, с которыми еще не так давно ты норовил покусать меня на реке Тугела? Ловкий, должно быть, собака, и резвый бегун, раз ему удалось спастись, когда остальные умолкли навеки. О! Будь моя воля, я бы содрал с него шкуру и перегрыз ему горло. — Вовсе нет, — ответил я, — у него королевское самообладание и храбрость. Он даст мне сто очков вперед. Когда я покинул ряды Тулвана, он не сдвинулся с места. — Не ты бежал, Макумазан, а твой конь. Что ж, пусть живет, раз ты за него заступаешься. — С этими словами Кечвайо пожал плечами и удалился. — Рано или поздно он меня убьет, — заметил Магепа. — Память у Кечвайо длинна, словно тень от дерева на закате. Тем более, Макумазан, он прекрасно знает, что я и правда бежал. Хоть и после того, как все было кончено и я уже ничем не мог помочь. Ты же помнишь, едва мы расправились с первым войском Кечвайо, в атаку пошло второе, но мы и его победили. В том бою меня стукнули по голове дубинкой, удар пришелся по головному кольцу. В войске я был самый молодой и получил его совсем недавно. Кольцо спасло мне жизнь. Все же от удара я на какое-то время потерял сознание и лежал, словно мертвый. Очнулся, когда битва закончилась. Люди Кечвайо искали наших раненых, чтобы добить их. Скоро они нашли меня и убедились, что я не пострадал. — А этот притворяется мертвым, как цивета[167], — сказал здоровяк и занес надо мной копье. Тут я вскочил и стремглав побежал, как человек, который любит жизнь и недавно обзавелся женой. Они кидали в меня копья, но мне удалось увернуться. Тогда они бросились за мной вдогонку. Но недаром меня, самого быстрого в земле зулу, прозвали Антилопой, Макумазан. Я оторвался от погони и был таков. — Молодец, Магепа. Как тут не вспомнить поговорку твоего народа: «Сильный пловец плывет наперегонки с течением, а бегун мчится, пока не упадет». — Знаю, Макумазан, — кивнул он, — может, однажды это случится и со мной. В тот раз я не придал значения его словам и вспомнил о них лишь тридцать лет спустя. Так состоялось мое первое знакомство с Магепой. А теперь, друзья мои, я расскажу, как судьба вновь свела нас во время войны англичан с зулусами. Меня, как вы знаете, определили в центральный походный строй, направлявшийся в Зулуленд, в Роркс-Дрифт на реке Баффало. До того как объявили войну и пока не начались военные действия — многие все же верили, что проблемы можно решить мирным путем, — я занимался доставкой товаров на маленькую железнодорожную станцию Роркс-Дрифт. Впоследствии она прославилась. Между делом я собирал сведения о планах Кечвайо. Узнав, что за рекой примерно в миле отсюда есть зулусская деревня, в которой к англичанам относятся дружелюбно, я решил туда наведаться. Можете считать это безрассудством, но в стране зулусов меня давно все знали, по особому разрешению короля я мог безопасно ходить везде, где захочу, — под его защитой я не чувствовал угрозы, даже когда ездил туда в одиночку. Однажды вечером я пересек реку и направился к узкой долине, где, как мне говорили, раскинулась деревня зулусов. Десять минут езды — и я был на месте. Поселок оказался небольшой, всего шесть или восемь хижин за общим забором и, как водится, со скотом посредине. Однако место было выбрано весьма удачно, холм окружали лесистые склоны долины. Когда я приблизился, женщины и дети убежали и спрятались за оградой, а у ворот никто меня не встретил. Наконец появился маленький мальчик и сообщил, что в деревне пусто, как в бутылочной тыкве. — Пусть так, но ты все же пойди и скажи вождю, что с ним желает говорить Макумазан. Мальчик ушел, и вскоре из приоткрытой калитки выглянул некто, как будто знакомый. Оглядев гостя, он вышел за ограду. Высок, худощав, неопределенного возраста, примерно за шестьдесят, с тонкими чертами лица, седой бородкой, добрыми глазами и сильными руками и ногами. Его удивительно длинные пальцы то и дело дергались. — Приветствую тебя, Макумазан, — вижу, не признал меня. А вспомни-ка битву на реке Тугела, последнюю стоянку войска Тулвана, разговор во владениях Отца нашего усопшего, короля Панды, и что сказал тебе занявший его место, то есть Кечвайо. Мол, будь его воля, взял бы сыромятную веревку, да и придушил кое-кого. — А, я узнал тебя! Ты Магепа по прозвищу Антилопа. Значит, бегун до сих пор не упал. — Пока нет, Макумазан, время еще не пришло. Скоро мы все собьемся с ног. — Как поживаешь? — Вполне сносно, Макумазан. Одно плохо: у меня три жены. Они родили мне несколько детей, но все умерли, кроме одной дочери. Она вышла замуж, но ее муж тоже умер. Его убил бизон. Теперь дочь живет со мной, она пока не вышла замуж вторично. Входи и сам все увидишь. Все жены Магепы оказались старыми. Он велел своей дочери Гите принести мне маас, кислое молоко. Девушка была хорошо сложена, как и ее отец, но какая-то грустная. Возможно, тревожилась за свое будущее — не случится ли что худое. Милый малыш двух лет от роду все время ходил с ней за руку. Завидев Магепу, он подбежал к нему и обхватил его ноги своими ручонками. Старик взял его на руки и нежно поцеловал. — Вот этот карапуз, Макумазан, все, что у меня есть, ведь он мой единственный потомок. Остальные дети пришли сюда со своими родителями искать у меня приюта. Я потрепал мальчугана, которого звали Синала, по щечке. Такой знак внимания с моей стороны возмутил ребенка. — А где же их отцы? — спросил я. — Долг призвал их, — уклончиво ответил Магепа, и я поспешил сменить тему. Мы немного поговорили о былом. Я спросил, нет ли у него быков на продажу, ведь за этим я и пришел в деревню. — Нет, Макумазан, — ответил он важно, — в этом году весь скот принадлежит королю. Я кивнул: мол, раз так, то лучше мне уйти. Магепа, разумеется, вызвался проводить меня до реки. Попрощался я с его женами и дочерью, и мы пошли. Как только мы отошли подальше от деревни, Магепа выложил все начистоту. Я ехал верхом, а он шел следом. — Макумазан, — начал он, ища моего взгляда, — скоро будет война. Кечвайо не согласится на требования великого белого вождя Капской колонии, то есть сэра Бартла Фрера. Он готов биться с англичанами, только не станет нападать первым. Сперва заманит их в землю зулу, застанет врасплох и уничтожит. Я очень сожалею об этом, ведь мне нравятся англичане. От жалости сердце кровью обливается. Окажись на их месте буры, я был бы только рад, зулусы ненавидят буров. Англичане — другое дело. Даже сам Кечвайо к ним благосклонен. Но если они нападут, он будет вынужден защищаться. — Понимаю, — ответил я. Повинуясь долгу, я постарался вытянуть из него как можно больше сведений и, надо сказать, добился немалых успехов. Разумеется, я не принимал все на веру, ведь Магепа мог распускать слухи по приказу. Скоро мы вышли к самому краю долины, в которой стояла деревня, где и остановились, — тут было удобно разговаривать. Задушевные беседы лучше не вести на открытом пространстве. Тропинка шла мимо зарослей кустарника, усыпанного белыми благоухающими цветами, и высокой слоновьей травы. Кое-где росли шелковистые акации. — Магепа, если есть доля правды в том, что грядет война, почему бы тебе однажды ночью не собрать людей и скот и не перебраться через реку в Наталь? — Эх, Макумазан, если бы я мог… ведь я не хочу драться с англичанами. Король тоже придет в Наталь или пошлет тридцать тысяч своих людей с ассегаями, и я не буду в безопасности. Думаешь, как он поступит с теми, кто его бросил? — Ну раз так, тогда не трогайся с места! — ответил я со смехом. — Кроме того, Макумазан, мужчины в моей деревне призваны в свои полки, и, если их жены убегут к англичанам, их убьют. Опять-таки, король забрал почти весь наш скот, якобы для сохранности. На самом деле он боится, как бы мы не объединились с сородичами в Натале. — Жизнь — это не только скот, Магепа. Тогда иди сам. — Как? И оставить моих людей на верную смерть? Забудь об этом. Послушай, Макумазан, не окажешь мне услугу? Получишь за это хорошее вознаграждение. Я хочу спрятать Гиту и ребенка. Меня и моих жен не страшит будущее, ведь мы уже достаточно пожили на свете. А дочь и внука я спасу, они спасутся и сохранят память обо мне. Сможешь доставить их в безопасное место в Натале, если не сегодня завтра на заре они перейдут реку? У меня есть сбережения, пятьдесят золотых монет. Можешь взять себе половину, а также половину скота, если король вернет его при моей жизни. — Не волнуйся о деньгах, а о скоте поговорим позже. Мне кажется, ты поступаешь очень разумно, отсылая дочку и внука подальше. Ведь всякое может случиться, когда все начнется, если только беда нас не минует. Война — опасная игра, Магепа. Тут не действуют обычаи зулусов щадить женщин и детей. И ты ведь знаешь, некоторые зулусы будут сражаться на стороне англичан. — О да, понимаю, Макумазан. Я бывал в тылу врага и видел, как мальчик возраста моего внука Синалы пускал копье в спину своей матери. — Что ж, если я тебе помогу, ответь мне тем же. Скажи, Магепа, Кечвайо в самом деле собирается сражаться? И если да, то что он задумал? Знаю всё, что ты мне скажешь, но на этот раз хочу услышать правду. — Ты хочешь выведать тайны, — ответил старик, озираясь вокруг в сгущающихся сумерках. — Так и быть, как гласит наша поговорка, копье за копье, щит за щит. Я тебе не лгал. Король готов к войне. Нет, он вовсе не хочет сражаться, но его войска уже поклялись омыть свои копья в крови врага. Больше уж с тех пор, как прошла битва на реке Тугела, где и мы с тобой отличились, они ни разу не пролили чьей-то крови. И если король не захочет вмешаться, что ж, у него еще много людей! Вот как он собирается сражаться. — И Магепа поделился со мной сведениями, которые могли бы оказаться полезными, если бы командование соизволило обратить на меня внимание. Когда он умолк, в кустах у нас за спиной я услышал шум. Впечатление такое, будто кто-то сдерживает кашель. Мне стало не по себе. Ведь если нас подслушали, то теперь наверняка убьют, и мне отчаянно захотелось как можно быстрее перейти реку. — Что это? — Бушбок, лесная антилопа. Их тут много, Макумазан. Его объяснение меня не успокоило, хотя антилопа и впрямь издает звук, похожий на кашель. Я направил лошадь в кусты, как вдруг что-то отпрянуло и исчезло в высокой траве. В потемках, ясное дело, ничего толком не разглядишь, но на мгновение блеснуло нечто, похожее то ли на рог антилопы, то ли на древко копья. — Уверяю тебя, Макумазан, то была антилопа. Впрочем, если ты опасаешься, давай отойдем подальше от кустарника. Правда, еще ни одного белого человека тут и пальцем не тронули. Пока мы шли к переправе, Магепа, истинный кафр, в подробностях изложил свой план, как передаст дочку с ребенком на мое попечение. Помнится, я еще спросил, зачем ждать несколько дней, если можно отправить их утром. Оказалось, этой ночью ожидается сторожевой отряд разведчиков одного из войск деревни. Они могут задержаться до завтра, если не дольше. И пока они не уйдут, трудно, почти невозможно вывести Гиту с сыном, не вызывая подозрений. У реки мы расстались. Я вернулся во временный лагерь и составил превосходный отчет обо всем, что мне удалось узнать. Увы, на него не обратили никакого внимания. В предрассветный час, за день до назначенного срока, когда мы должны были встретиться с Гитой и ее сыном, я спустился к реке искупаться. Окунувшись, я взобрался на плоский камень и, пока натягивал брюки, любовался, как жемчужно-белый туман клубится над водной гладью. Мир спал, погрузившись в величественную тишину. Ах! Знать бы заранее, какое ужасное зрелище предстанет передо мной вскоре в этом образчике рая на земле! Меня будто посетило предчувствие, ибо тишину вдруг пронзил душераздирающий женский вопль. Крики повторились еще и еще, далекие, но отчетливые. А затем снова наступила гробовая тишина. Крики как будто доносились со стороны деревни Магепы. Я утешал себя мыслью, что в тумане звуки обманчивы. Пока я ждал, взошло солнце. Оно осветило столб дыма, поднимающийся от деревни Магепы! Мрачный, вернулся я к своим фургонам, кусок не лез в горло, так мне было горько. По пути я лихорадочно обдумывал, на самом ли деле в кустах тогда блеснул рог антилопы, или это все-таки было копье в руке шпиона! Если так, то вполне понятны столб дыма и те ужасные крики. Разве Магепа не делился со мной тайнами в логове зулусов? На следующее утро, спозаранку, я пришел к реке в смутной надежде встретиться с Гитой и ее сыном, как мы условились. Никто так и не появился, что неудивительно, поскольку, как я узнал позже, в это время Гита уже лежала мертвая, пронзенная насквозь. Женщина отважно боролась за сына. Ее дух теперь там, где место всем храбрецам независимо от цвета кожи. На другом берегу реки появилось несколько зулусских разведчиков. Они, видимо, знали, зачем я здесь, потому что, издеваясь, спрашивали, неужели красавица не пришла ко мне на свидание. Пока я пытался собраться с мыслями, а подумать было над чем, один за другим стремительно появились отряды из множества воинов с их командирами. Увидев с того берега наших людей, зулусы открыли по ним огонь. Как ни целились, они все равно промахнулись. По-моему, эти неопытные кафры опасны, только когда стреляют наобум. Пуля найдет себе дорогу и может вас настигнуть. Желая избавиться от досадной помехи, нашим союзникам-туземцам, а их собралось сотни, был отдан приказ перейти реку и очистить ущелье и скалы от притаившихся зулусских стрелков. Они ушли бравой походкой и остаток дня с того берега то и дело доносились крики и пальба. Под вечер мне сообщили, что импи, как величаво именовалось войско, вернулись с победой. От нечего делать я спустился к реке, туда, где самая глубина и обрывистые берега. Взобрался на груду валунов и глянул в бинокль — передо мной раскинулся простор, тянувшийся в обрамлении холмов и зарослей кустарника до страны зулусов. Вскоре вернулись наши союзники-туземцы, они отправились домой, потрепанные и нестройным шагом, но зато очевидно очень довольные собой, распевая воинственные песни и потрясая в воздухе копьями. Через мгновение я заметил человека, бегущего в паре миль отсюда. В глаза мне бросилось, что он был высокий, невероятно быстрый и что-то нес за спиной. Без сомнения, у него была веская причина уносить ноги, ведь по пятам за ним неотступно гнались кафры. Они окружали беднягу со всех сторон, стараясь отрезать ему путь к отступлению и убить. Погоня все приближалась, и я уже различал отблеск летящих в жертву копий. Тут я догадался: он не бежит куда глаза глядят, у него есть цель — пробиться к реке. Мне было жаль смотреть на эту травлю. Скоро вся эта орда расправится с беднягой. Почему он не выбросит свой заплечный узелок? Должно быть, это колдун, а в свертке драгоценные амулеты и снадобья. Когда же до него оставалось не более четырехсот шагов, я вдруг явственно разглядел черты его лица. Магепа! «Бог мой! Это же старик Магепа по прозвищу Антилопа! А в свертке его внук Синала!» Да, я сразу понял, что с ним ребенок. Что же теперь делать? В этом месте я не мог перейти реку, а пока ищу брод, все будет кончено. Я встал на груде валунов во весь рост и закричал этим дикарям, чтобы оставили человека в покое. Но они были так взбудоражены погоней, что даже не обратили на меня внимания, а позже клялись, что я будто бы подбадривал их продолжать охоту. Зато меня услышал Магепа. Оно уже выбивался из сил, но, увидев меня, словно обрел второе дыхание. Он собрался с силами и припустил с такой прытью, какой от него никто не ожидал. От реки его теперь отделяло не больше трехсот шагов, а отчаянный рывок дал ему преимущество шагов на двести, хотя кафры были в основном молодые и полные сил. Но вскоре Магепа снова стал терять силы. В свой бинокль я видел, как он тяжело дышит, а на губах выступила кровавая пена. Ноша за спиной тянула его к земле. Раз он поднимал руки, желая проверить сохранность ценного груза, и вновь они бессильно повисали плетьми. Двое преследователей оказались проворнее остальных и подобрались к Магепе, один, правда, чуть раньше. Оба долговязые, тощие, двадцати лет от роду, с острыми копьями для ближнего боя. До берега оставалось пятьдесят шагов, а первый охотник отставал от него всего на десять и стремительно сокращал расстояние. Магепа бросил взгляд через плечо и из последних сил пронесся стрелой сорок шагов, оставив преследователей позади, но, оказавшись в паре шагов от цели, вдруг оступился и упал. Ему конец, решил я, и, клянусь честью, будь при мне ружье, я бы остановил этих кровожадных скотов. Пусть бы имели дело со мной. Но не тут-то было! Только первый охотник собрался вонзить широкое копье в спину старику, туда, где висел узелок, Магепа подскочил, развернулся и принял удар грудью. Ясно, почему он защищал спину. Копье так крепко засело, что выскользнуло из рук кафра. Старик пошатнулся, но копье не пронзило тело насквозь, возможно, древко наткнулось на кость. Он выдернул копье из своего тела и метко пустил в нападавшего. После чего, пошатываясь, попятился к краю обрыва. Добрался наконец. «Помоги мне, Макумазан!» — крикнул Магепа и, спасаясь от второго охотника, прыгнул в темную воду. Оказавшись в реке, он вынырнул и поплыл. Да, мужественный старик неистово устремился к другому берегу, оставляя за собой кровавый след. Я бросился, вернее, прыгнул и скатился по склону к реке, туда, где ее воды омывают прибрежную гальку. Забрался в воду по пояс. Поравнявшись со мной, Магепа протянул мне руку, и я вытащил его на берег. — Мальчик, — задыхаясь, выговорил он, — мальчик умер? Я мигом разорвал ремни рогожного мешка, они глубоко врезались в плечи старика. Внутри лежал малыш Синала, он отплевывался от воды, но был цел и невредим. Ребенок тут же заплакал. — Нет, он жив, и с ним все будет в порядке. — Тогда все к лучшему, Макумазан… В кустах был все-таки шпион, а не антилопа. Он нас подслушал, а король послал своих убийц. Гита охраняла вход в хижину, пока я проделал своим копьем отверстие в стене из тростниковой циновки и выполз вместе с ребенком. Убегая, я видел, как ее насмерть пронзило множество копий. Пока меня не нашли кафры, я прятался в кустах и подумывал искать убежища в Натале. Побежал к реке и увидел тебя на другом берегу. Мне самому ничего не стоило убежать, но этот ребенок такой тяжелый… Покорми его, Макумазан, он, должно быть, голодный… Прощай. Как верно ты сказал тогда… самого быстрого бегуна все-таки обогнали. А все-таки я не зря бегал… — Магепа приподнялся на локте, а другой рукой помахал на прощание сначала малышу Синале, потом мне. — По мни о своем обещании, Макумазан. — Магепа по прозвищу Антилопа умер. Никто и никогда не бегал столь же быстро с тяжелой ношей. — Тут Квотермейн отвернулся, стараясь скрыть волнение от нахлынувших воспоминаний. — А что стало с мальчиком Синалой? — спросил я. — О, я отправил его учиться в Наталь. А впоследствии мне даже удалось вернуть ему кое-что из его собственности. По-моему, из него выйдет превосходный переводчик.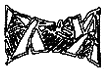
Книга X. ЗУЛУССКИЙ ЦИКЛ (сборник)
НАДА
Введение
Несколько лет тому назад, за год до зулусской войны, один европеец путешествовал по Наталю. Имя его мы не называем, так как оно не играет никакой роли в этой истории. Путник вез с собою в Преторию два фургона с товаром. Из-за холодной погоды травы было очень мало, чтозатрудняло прокорм волов и усложняло путешествие. Европейца соблазняла, однако, высокая стоимость его транспорта в это время года, которая могла бы вознаградить его за возможную потерю скота. Он храбро продвигался вперед. Все шло хорошо до маленького города Тангера на берегах реки Дугузы, где находился крааль Чаки, первого царя зулусов, приходящегося дядей Сегивайо. В первую же ночь после отбытия европейца из Тангера погода значительно испортилась, густые серые облака заволокли небо и скрыли звезды. «Если бы я находился не в Натале, то сказал бы, что надвигается снежная буря, — подумал он про себя. — Я часто видел такое небо в Шотландии, оно всегда предвещало снег!» Но в Натале уже много лет не было снега. Эта мысль отчасти успокоила его. Европеец выкурил трубку и лег спать под навесом одной из повозок. Среди ночи его разбудило ощущение сильного холода и слабое мычание волов, привязанных к повозкам. Он высунул голову из-под навеса и осмотрелся. Земля была покрыта густым слоем снега, в воздухе носились бесчисленные снежинки, разгоняемые холодным резким ветром. Путешественник вскочил, поспешно натягивая на себя теплую одежду, и стал будить кафров, спавших под прикрытием повозок. Не без труда удалось вывести их из оцепенения. Кафры вылезли из-под повозок, дрожа от холода, закутанные в меховые одеяла. — Живо, ребята! — обратился он к ним на зулусском наречии. — Живо! Что, вы хотите, чтобы скот замерз от снега и ледяного ветра? Отвяжите волов и загоните их между повозками, они хотя немного защитят их! Он зажег фонарь и соскочил с повозки в снег. С большим трудом удалось наконец кафрам отвязать волов, закоченевшие пальцы плохо повиновались им. Повозки выстроили в ряд, в пространство между ними загнали всех тридцать шесть волов и привязали веревками, накрест протянутыми между колесами. Покончив с этим делом, европеец снова забрался в свою холодную постель, а дрожавшие от холода туземцы, подкрепившись ужином, расположились во второй повозке, натянув на себя парусину от походной палатки. На некоторое время водворилась тишина. Изредка лишь беспокойно мычали столпившиеся быки. «Если снег не перестанет, я потеряю свой скот: он не вынесет этого холода», — вздохнул про себя европеец. Не успел он подумать об этом, как послышался треск порванных веревок и громкий топот копыт. Европеец снова выглянул из повозки. Волы, сбившись в кучу, бросились бежать и скоро исчезли в темноте ночи, ища защиты от холода и снега. Делать было нечего, осталось лишь терпеливо ждать рассвета. Наступившее утро осветило местность, густо засыпанную снегом. Предпринятые поиски не привели ни к чему. Волы убежали, и следы их быстро занесло свежим снегом. Европеец спросил у кафров, что теперь делать. Один советовал одно, другой — другое, но все согласились с тем, что надо дождаться, пока снег растает, прежде чем что-либо предпринимать. — Пока мы сами не замерзнем, дураки вы этакие! — возразил угрюмо европеец. Он был сильно не в духе, что, впрочем, вполне естественно. Европеец терял по меньшей мере четыреста фунтов стерлингов на одних пропавших волах. Но тут один из слуг выступил вперед — до этой минуты он упорно молчал, это был погонщик первой повозки. — Отец мой, — обратился он к европейцу, — вот что я скажу. Волы пропали, и след их замело снегом. Никто не знает, куда они побежали, живы ли они. Но там внизу, в краале, — он указал рукой на несколько шалашей на склоне холма, — приблизительно в двух милях расстояния живет колдун по имени Цвите. Он стар, очень стар, но все знает, и если кто может сказать вам, отец мой, где находятся пропавшие волы, то это он! — Что за глупости! — ответил ему европеец. — Но в краале будет не холоднее, чем в этой повозке. Пойдем туда и спросим, пожалуй, Цвите. Принеси-ка бутылку джина и немного нюхательного табаку для подарка! Час спустя европеец уже входил в шалаш Цвите. Это был очень старый худой человек, кожа да кости, слепой на оба глаза, с мертвенно бледной и сморщенной левой рукой. — Что ты хочешь от старого Цвите, белый человек? — спросил старик тонким голосом. — Ведь ты не веришь мне? Не веришь в мои знания? Ты нехорошо поступаешь, обращаясь ко мне. Зачем же мне помогать тебе? Но все же я исполню твое желание, хотя оно и противоречит нашим законам. Я хочу доказать тебе, что не все ложь у нас, зулусских колдунов, и помогу тебе. Ты хочешь знать, отец мой, куда сбежали от холода твои волы? Не так ли? — Совершенно верно! — ответил европеец. — У вас длинные уши! — Да, отец мой. У меня длинные уши, хотя я стал глохнуть. У меня и глаза зоркие, хотя я и не вижу твоего лица. Дай же мне послушать! Дай посмотреть! Старик замолчал на несколько минут, мирно раскачиваясь взад и вперед. Наконец он заговорил: — У тебя ферма там, внизу, около Пинь-Тауна, не так ли? Ага! Я так и думал. А на расстоянии часа езды от твоей фермы живет бур. У него только четыре пальца на правой руке. На ферме этого бура есть роща, и в ней растет мимоза. В этой самой роще ты найдешь своих волов — да, да, на расстоянии пяти дней пути отсюда ты найдешь своих волов. Кроме трех: большого черного африканского вола, маленького рыжего зулусского и однорогого пестрого. Этих ты не найдешь, они погибли в снегу. Пошли людей, чтобы найти остальных. Нет, нет! Я не прошу награды! Я не делаю чудеса за плату: к чему мне? Я и так богат! Европеец посмеялся, но все же послал людей в указанное место. И что же? На одиннадцатый день посланные вернулись и пригнали всех волов, за исключением трех. После этого европеец больше не смеялся. Эти одиннадцать дней он провел в одном из шалашей крааля старого Цвите. Ежедневно он приходил и беседовал с ним. Часто такие беседы продолжались далеко за полночь. На третий день он спросил Цвите, почему его левая рука такая белая и сморщенная и кто такие Умелопогас и Нада, о которых он мельком упомянул несколько раз. Тогда старик рассказал ему интересную историю. День за днем старик рассказывал. История эта не вся записана в этой книге, некоторые части ее забыты, другие выпущены. Автор не мог также передать всей выразительности зулусского наречия, создать точного образа рассказчика, который не просто рассказывал свою историю, но подкреплял ее действиями. Говоря о смерти воина, он ударял палкой, показывая при этом, куда попал удар и как упал сраженный. Излагая грустные факты, он стонал и даже плакал. За каждое из действующих лиц он говорил разными голосами. Этот старый сморщенный человек вновь переживал прошлое. Оно само говорило со слушателем, повествуя о делах, давно забытых, о делах, никому более не известных. Европеец записал рассказ старика Цвите, как сумел, стараясь точнее передать его. История Нады и тех, чья жизнь была тесно связана с нею, произвела на него сильное впечатление и он решил напечатать свои записки для того, чтобы другие могли узнать ее. Пусть тот, кого называют Цвите, но настоящее имя которого другое, начинает свой рассказ.Глава 1
ПРОРОЧЕСТВО МАЛЬЧИКА ЧАКИ
Вы просите меня, отец мой, рассказать про юношу Умелопогаса, владельца железной секиры, Виновницы Стонов, прозванного впоследствии Булалио-убийцей, и про его любовь к Наде — самой прелестной женщине племени зулусов? История эта длинная, но вы пробудете здесь не одну ночь, и если я буду жив, то расскажу ее вам до конца. Приготовьтесь, отец мой, услышать много грустного, даже теперь, когда я вспоминаю о Наде, слезы подступают к моим старым слепым Глазам! Знаете ли вы, кто я, отец мой? Нет, наверное, не знаете. Вы думаете, что я старый колдун Цвите. Так и люди думают уже много лет, и никто не знает моего настоящего имени. Мало кто и знал его. Я хранил его в сердце. Хотя я и живу теперь под защитой законов белого царя, а великая королева считается верховным вождем моего племени, но если бы кто узнал мое настоящее имя, то и теперь ассегай мог бы найти дорогу к этому сердцу! Взгляните на мою руку, отец мой, — нет, не на эту, иссушенную огнем, посмотрите на мою правую руку. Вы видите ее, а я не вижу, потому что я слеп, но я помню ее такой, какой она была когда-то. Ага! Я вижу ее и сильной, и красной, потому что она обагрена кровью двух царей. Слушайте, отец мой, наклоните ухо ко мне ближе и слушайте. Меня зовут Мопо! Ага! Я чувствую, что вы вздрогнули так, как дрогнул отряд Пчел, когда Мопо выступил перед ними, и с его ассегая кровь царя Чаки медленно капала на землю. Да! Я тот самый Мопо, который убил царя Чаку. Я убил его вместе с принцами Динганом и Умланганом. Но рана, лишившая его жизни, нанесена моей рукой. — Что вы говорите? Динган погиб при Тангале! — Да, да, он погиб, но не там. Он погиб на Горе Привидений и лежит на груди Каменной колдуньи, которая сидит там, на вершине, в ожидании конца мира. И я был на Горе Привидений. В то время ноги мои двигались быстро, а жажда мести не давала покоя. Я шел весь день и к ночи нашел его. Я, да еще другой, и мы убили его. Ха! Ха! Ха! Зачем я вам все это рассказываю? Что это имеет общего с любовью Умелопогаса и Нады по прозванию Лилия? А вот сейчас скажу вам. Я заколол Чаку из мести за мою сестру Балеку — мать Умелопогаса, и за то, что он умертвил моих жен и детей. Я и Умелопогас убили Дингана за Наду — мою дочь! В этой истории встречаются великие имена, отец мой, эти имена известны многим. Когда имни дико выкрикивали их, идя на приступ, я чувствовал, как горы содрогались, вода трепетала в своем русле. Где они теперь? Их нет, но белые люди записывают имена их в книги. Я, Мопо, открыл врата вечности носителям этих имен. Они вошли в них и больше не вернулись. Я обрезал нити, связывающие их с землей, и они сорвались. Ха! Ха! Они сорвались! Может быть, и теперь падают, а может, ползают по своим опустелым жилищам в образе змей. Я хотел бы узнать этих змей, чтобы раздавить их своим каблуком. Вон там внизу, на кладбище царей, есть яма. В этой яме лежат кости царя Чаки, убитого мною за Балеку. А там далеко, в стране зулусов, есть расщелина в Горе Привидений. У подножия этой трещины лежат кости Дингана, царя, убитого за Наду. Падать было высоко, а он был тяжелый, кости его рассыпались на мелкие куски. Я ходил смотреть на них после того, как шакалы и коршуны окончили свое кровавое дело. О, как я хохотал! Потом я пришел сюда умирать. Все это было давно, а я еще не умер, хотя хочу умереть и пройти тем путем, которым прошла моя Нада. Может быть, я для того и жив еще, чтобы рассказать вам эту историю, отец мой, а вы передадите ее белым людям, если захотите. Вы спрашиваете, сколько мне лет? Да я и сам не знаю. Я очень, очень стар. Царь Чака был одних лет со мной. Никого не осталось в живых из тех, кого я знал мальчиками. Я так стар, что мне следует торопиться. Трава вянет, наступает зима. Да, я говорю, а зима окутывает холодом мое сердце. Что же! Я готов уснуть в этом холоде, и кто знает, быть может, снова проснусь среди благоухающей весны. Еще до того, как зулусы составили отдельное племя, я родился в племени лангени. Племя наше было небольшое. Впоследствии все способные сражаться составили лишь один отряд в войске царя Чаки — их набралось, может быть, от двух до трех тысяч, — но зато все были храбрецы. Теперь все они умерли: и жены их, и дети, племя больше не существует. Оно исчезло, как исчезает луна каждого месяца. Племя наше жило в красивой открытой местности. Говорят, там живут теперь буры, которых мы звали анабоонами. Отец мой Македама был вождем этого племени, и его крааль располагался на склоне холма. Я был, однако, сыном не старшей его жены. Я и моя сестра Балека были еще маленькими. Ростом я едва достигал локтя взрослого человека. Однажды вечером мы пошли с матерью в долину, где находился загон для скота: нам хотелось посмотреть наше стадо. Мать очень любила своих коров. Среди них была одна с белой мордой, она, как собака, ходила следом за нею. Мать несла на спине маленькую сестру Балеку. Мы шли по долине, пока не встретили пастухов, загонявших скот. Мать подозвала корову с белой мордой и покормила ее из рук листьями мучного дерева, которые захватила с собой. Пастухи погнали скот дальше, а корова с белой мордой осталась около нас. Мать сказала пастухам, что приведет ее сама домой. Она села на траву, держа на руках Балеку, я играл около нее, корова паслась рядом. Вдруг мы увидели женщину, идущую по долине к нам. По ее походке было заметно, как сильно она утомлена. К спине ее был привязан узел, завернутый в циновку. Она вела за руку мальчика приблизительно моих лет, но выше ростом и на вид сильнее меня. Мы ждали довольно долго, пока женщина дошла до нас и в изнеможении опустилась на землю. По ее прическе мы сразу узнали, что она не из нашего племени. — Здравствуйте! — сказала женщина. — Здравствуйте! — ответила моя мать. — Что вам нужно? — Поесть и шалаш, где бы мы могли отдохнуть, — ответила женщина. — Мы идем издалека! — Как ваше имя и какого вы племени? — спросила мать. — Зовут меня Унанда, я жена Сензангакона из племени зулусов! — ответила незнакомка. Между нашим племенем и зулусами только что была война, Сензангакон убил несколько наших воинов и захватил много скота. Поэтому мать, услышав слова Унанды, гневно вскочила на ноги. — И ты смела приходить сюда и просить пищи и крова, ты, жена зулусского пса! — воскликнула она. — Убирайся прочь, не то я позову работниц и прикажу выгнать тебя отсюда кнутами! Женщина — она была очень красива — молча ждала, пока мать закончит свою гневную речь, а потом подняла голову и тихо сказала: — Около вас стоит корова, у которой молоко сочится из вымени. Неужели же вы откажете мне и моему мальчику в кружке молока? — она вынула из своего узла кружку и протянула ее нам. — Конечно, не дам! — ответила моя мать. — Нам так хочется пить после долгого пути, — продолжала женщина, — может быть, вы дадите нам хоть кружку воды? Мы уже давно не встречали источника! — Не дам, песья жена, иди и сама ищи себе воды! Глаза женщины наполнились слезами, мальчик скрестил руки на груди и нахмурился. Это был очень красивый мальчик, но его большие черные глаза, когда он хмурил брови, темнели, как небо перед грозою. — Матушка, — сказал он, — видно, мы непрошенные гости здесь, как и там внизу! — и он кивнул головой в ту сторону, где жило племя зулусов. — Пойдем в Дингиевайо, там племя умтетва защитит нас! — Пойдем, сын мой, — ответила Унанда, — но путь наш дальний, а мы с тобой так устали, что, пожалуй, и не дойдем! Я молча слушал. Но почувствовал, как сердце мое содрогнулось от жалости. Мне было жаль и женщину, и мальчика. Оба казались такими утомленными. Не говоря ни слова матери, я схватил ковш и побежал к источнику. Через несколько минут вернулся с водой. Мать моя очень рассердилась и хотела поймать меня, но я быстро промчался мимо нее и подал ковш мальчику. Мать решила не мешать мне, но все время словами старалась унизить женщину. Она говорила, что муж ее причинил зло нашему племени, а сердце подсказывает ей, что сын причинит еще большее зло. Так говорит ей ее Элозий [168]. Ах, отец мой, — Элозий ее был прав! Если бы женщина Унанда и ее сын умерли тут же на лугу в тот день, поля и сады моего племени не обратились бы в голые степи, и кости моих соплеменников не валялись бы в большом овраге — там, около крааля Сетивайо. Пока моя мать говорила, я стоял молча рядом с беломордой коровой и наблюдал за происходящим. Сестренка Балека громко плакала. Мальчик, сын Унанды, взяв из моих рук ковш, не подал воды своей матери. Он сам выпил две трети, и я думаю, выпил бы и все, если бы не утолил жажду. Затем он подал остаток воды матери. Когда она напилась, мальчик взял ковш из ее рук и выступил на несколько шагов вперед, держа в одной руке ковш, а в другой — короткую палку. — Как тебя зовут, мальчик? — спросил он меня тоном взрослого. — Меня зовут Мопо! — ответил я. — А как называется ваше племя? Я назвал: племя лангени. — Хорошо, Мопо, теперь я скажу тебе свое имя. Меня зовут Чака, я сын Сензангакона, мое племя — амазулу. И еще. Сейчас я маленький мальчик, а мое племя — маленькое племя, но придет время, и я вырасту такой большой, что голова моя будет теряться в облаках. Лицо мое ослепит тебя, оно будет сиять, подобно солнцу, а племя мое возрастет одновременно со мной и наконец поглотит весь мир. Слушай меня! Я стану велик, мое племя со мной возвеличится, и тогда я припомню, как однажды лангени отказали дать мне с матерью ковш молока, чтобы утолить жажду. Ты видишь этот ковш. За каждую каплю, которую он может вместить, будет пролита кровь ваших соплеменников. Но за то, что ты, Мопо, дал мне воды, я пощажу тебя, одного тебя, Мопо, и возвеличу. Ты разжиреешь в тени моей славы. Тебя одного я никогда не трону, как бы ты ни провинился передо мной, клянусь тебе в этом. Но зато эта женщина, — и он указал палкой на мою мать, — пусть торопится умереть, чтобы мне не пришлось заставить ее желать смерти. Я сказал! Мальчик заскрежетал зубами и погрозил нам палкой. Мать моя, молча стоявшая в стороне, не выдержала. — Негодный лгунишка! Говорит, точно взрослый, не правда ли? Еще теленок, а ревет, как бык! Я научу его говорить иначе. Мальчишка, злой прорицатель! — и, спустив Балеку на землю, она побежала к мальчику. Чака стоял неподвижно, пока она не подошла совсем близко к нему, а тогда вдруг поднял палку и так сильно ударил ее по голове, что она тут же упала. Он захохотал, повернулся и ушел в сопровождении своей матери. Это были первые слова Чаки, слышанные мною, отец мой. Они оказались пророческими. Последние слова, слышанные мною, тоже сбудутся. Они, впрочем, уже исполнились. Во-первых, он сказал, что племя зулусов возвысится. И что же, разве это не так? Во-вторых, он предсказал, как оно падет, — и оно падет. Разве белые люди не собираются уже теперь вокруг него близ Сетивайо, как коршуны вокруг околевающего быка? Зулусы уже не те, что прежде. Да, да, слова его сбываются. Я подошел к матери. Она приподнялась с земли и села, закрыв лицо руками. Кровь из раны, нанесенной палкой Чаки, текла по ее рукам и капала на грудь. Так она сидела долго, сестренка плакала, корова мычала, как бы прося подоить ее, а я все вытирал кровь пучками сорванной травы. Наконец она отняла руки от лица и заговорила со мной. — Мопо, сын мой, мне снился сон. Я видела мальчика Чаку, ударившего меня, он вырос и стал великаном. Он гордо ступал по долинам и горам, глаза его сверкали, как молнии, и в руках он держал ассегай, обагренный кровью. Вот он захватывает одно племя за другим, он топчет ногами их краали. Перед ним все зелено, а позади — все черно, будто огонь сжег траву. Я видела и наше племя, Мопо. Это было многочисленное и здоровое племя, мужчины храбры, девушки красивы, детей я считала сотнями. Я видела его еще раз, Мопо, — от него остались лишь белые кости, тысячи костей, наваленных в кучу в каменистом овраге. А Чака стоял над этими костями и хохотал так, что земля тряслась. Мопо, я видела и тебя взрослым человеком. Ты один остался в живых из всего нашего племени. Ты ползал за великаном Чакой, а за тобой шли великие мужи с царственной осанкой. Ты ударил его небольшим камнем, он упал и снова сделался маленьким. Он упал и проклял тебя! Но ты крикнул ему в ухо имя Балеки, твоей сестры, и он испустил дух… Пойдем домой, Мопо, пойдем домой. Темнеет! Мы встали и медленно направились к дому. Но я молчал. Мне было страшно, очень страшно, отец мой.Глава 2
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОПО
Теперь я расскажу, как исполнилось предсказание Чаки о смерти моей матери. На ее лбу, куда мальчик Чака ударил палкой, образовалась глубокая язва, которую невозможно было залечить. В этой язве образовался нарыв, он проникал все глубже, пока не дошел до мозга. Моя мать слегла и вскоре умерла. Я очень любил ее и горько плакал. Вид ее тела, холодного, окоченевшего, приводил меня в ужас. Как громко я ее ни звал, она не отвечала мне. Ее похоронили и скоро забыли о ней. Я один помнил ее. Даже Балека забыла, она была еще слишком мала. Мой отец вскоре взял себе другую жену и успокоился. С тех пор я чувствовал себя дома несчастным. Братья не любили меня за то, что я был умнее их, проворнее бегал. Они восстановили против меня отца, и он стал плохо обращаться со мной. Но Балека и я любили друг друга, мы чувствовали себя одинокими, она льнула ко мне, как вьющееся растение обвивается вокруг единственного дерева в пустыне. Несмотря на свою молодость, я уже убедился: быть мудрым — значит быть сильным. Убивает тот, у кого в руках ассегай, но сильнее тот, чей разум руководит битвой, а не тот, кто убивает. Я заметил также, что колдуны и знахари внушали страх народу. Вооруженный одной лишь палкой, колдун обращал в бегство десять человек, вооруженных копьями. Вот я и решил стать колдуном: только колдун может убить одним словом тех, кого ненавидит. Я стал изучать медицину, приносить жертвы, постился в пустынном месте, одним словом, делал все, о чем вы уже слыхали, и многому научился. Вы сами могли в этом убедиться, отец мой, иначе вы не пришли бы ко мне спросить о пропавших быках. Время шло. Мне минуло уже двадцать лет — я стал взрослым. Я превозмог все, что по силам одному, и присоединился к главному знахарю и колдуну нашего племени Наме. Он был очень старым, видел только на один глаз и считался очень умным человеком. От него я узнал некоторые тайны нашей науки и приобрел немало знаний, но он стал мне завидовать и подстроил ловушку. У богатого человека из соседнего племени пропала часть скота. Он приехал к Наме, привез подарки и просил выследить пропавший скот. Нама не смог найти, зрение начинало изменять ему. Тогда человек этот рассердился и потребовал возвращения подарков. Нама не хотел отдавать то, что ему уже дано, и они обменялись гневными словами. Тот пригрозил, что убьет Наму. Колдун же пообещал околдовать его. — Успокойтесь! — сказал я, боясь, что прольется кровь. — Дайте посмотреть, не скажет ли мне мой змей, где находится пропавший скот? — Ты мальчишка и больше ничего! — отмахнулся хозяин скота. — Разве мальчику доступна такая мудрость? — Это мы скоро увидим! — ответил я, забирая кости в руку. Оставь кости! — закричал Нама. — Мы не станем больше беспокоить наших змей для этого собачьего сына! — А я говорю, что он бросит кости! — возразил владелец скота. — Не мешай, иначе я этим ассегаем пропущу свет сквозь твое тело! И он занес копье над головой Намы. Я поспешил бросить кости. Владелец скота сидел передо мной на земле и отвечал на мои вопросы. Вы сами убедились, отец мой, что иногда колдуны узнают, где находится потерянное. Подчас Элозий подсказывает им, как, например, на днях подсказал мне, где ваш скот. И тогда мой змей выручил меня. Я ровно ничего не знал об имуществе этого человека, но мой дух был со мной, и вскоре я увидел его скот и описал: цвет, возраст — одним словом, все приметы. Я мог сказать ему также, где он находится, и что один из волов упал в поток и лежит на спине, а его передние ноги защемлены в раздвоенном корне дерева. Как мне подсказал дух, так я и передал этому человеку. Довольный, он сказал, что если мое зрение не обмануло меня, и он найдет свой скот в указанном мною месте, подарки будут отобраны у Намы и переданы мне. Присутствующие согласились с ним. Нама сидел молча и злобно поглядывал на меня. Он знал, что я угадал верно, и очень сердился. Но дело казалось выгодным: если большое стадо найдут там, где я указал, то все признают меня великим колдуном. Владелец скота объявил, что проведет ночь в нашем краале, а на рассвете мы пойдем к указанному мною месту. Среди ночи я проснулся от ощущения тяжести на груди. Попробовал вскочить, но почувствовал, как что-то холодное колет мне шею. Дверь моего шалаша была открыта. Низкая луна походила на огненный шар. Лунный свет проник в шалаш и упал на лицо Намы. Колдун сидел передо мной, злобно посматривая на меня своим единственным глазом. В руках он держал нож. Вероятно, этот нож и уколол меня в шею. — Ах ты, щенок! Я вижу, что вырастил тебя на свою погибель! — зашипел он. — Ты осмелился угадать то, чего я не угадал. Прекрасно. Теперь я покажу тебе, как я расправляюсь с такими щенками. Начну с того, что проколю язык твой до самого корня, чтобы ты не мог болтать. Отрежу тебе руки и ноги, потом разрежу тебя на куски, а утром скажу народу, что это духи наказали тебя за ложь. Да, да, я сделаю тебя похожим на палку! Потом я… — и он хотел вонзить нож в мое горло. — Пощади меня! — закричал я. Мне было больно, и я не на шутку перепугался. — Пощади! Я сделаю все, что хочешь! — Все сделаешь? — допрашивал старик, продолжая колоть меня ножом. — Ты встанешь сейчас же, пойдешь искать стадо этого негодяя, загонишь его в указанное мною место и спрячешь там! — Нама назвал овраг, мало кому известный. — За это я пощажу тебя и выделю трех быков. Если же ты откажешься исполнить мое требование или обманешь меня, клянусь духом моего отца, я найду способ покончить с тобою! — Конечно, я все сделаю, — поспешно ответил я. — Если бы я знал, что ты не хочешь отдавать скот, я не стал бы его выслеживать. Я поступил так, боясь, что ты лишишься обещанных подарков! — Ну, ладно, ты еще не такой злодей, как я думал, — проворчал Нама, — вставай и исполни мое приказание. Еще успеешь вернуться за два часа до рассвета! Я встал, размышляя, не броситься ли сейчас же на него. Но я безоружный, а у него был нож. Ну, убью я его, а меня обвинят в его смерти, и мне самому не миновать ассегая. И я придумал другой выход. Я решил отыскать скот в той долине, где выследил его, но не пригонять стадо в указанное колдуном место. Нет, нет, я пригоню его прямо в крааль и изобличу Наму перед моим отцом и всем народом. Увы! Я был молод и не знал коварного сердца Намы. Недаром он был колдуном всю свою жизнь. О! Это был злой человек — хитрый, как шакал, свирепый, как лев. Он посадил меня, как дерево, но намеревался подрезать корни. Теперь я вырос, и тень моя падала на него, поэтому он хотел вырвать меня с корнем. Я направился в угол моего шалаша. Нама все время зорко следил за мною. Я взял свое керри и маленький щит и вышел. Луна ярко светила. Пока я шел по нашему краалю, я старался скользить, как тень, но выйдя за ворота, пустился бегом, громко распевая песню, чтобы отогнать духов, отец мой. Я быстро шел по долине, пока не дошел до склона холма, где начинались заросли кустарников. Здесь было темно, и я запел еще громче. Вскоре я убедился, что мой змей не обманул меня — вот и следы скота. Я бодро пошел дальше, пока не добрался до долинки, по которой с легким журчаньем бежал ручеек. Следы скота выступали уже совершенно ясно. Теперь я дошел до пруда. У самого берега плавал утонувший бык с ногами, защемленными в раздвоенном корне. Все оказалось именно так, как я видел моими духовными очами. Еще несколько шагов вперед — и взор мой упал на что-то светлое, — то был серый свет утренней зари, слабо блеснувшей на рогах скота. Пока я всматривался, одно из животных захрапело, поднялось и стряхнуло с себя ночную росу. В тумане рассвета вол показался мне ростом с большого слона. Я собрал в кучу и пересчитал всех животных — их было семнадцать, — и погнал по узкой тропинке, ведущей к краалю. Взошло солнце, и через час я достиг того места, где мне следовало свернуть, если бы я хотел спрятать скот, как приказал мне Нама. Но я вовсе не собирался исполнять его приказания. О нет! «Я пригоню скот, — решил я про себя, — прямо в крааль и скажу всему народу, что Нама вор!» В эту минуту послышался шум. Я оглянулся и увидел на откосе холма приближающуюся толпу. Во главе шел Нама. Рядом с ним — владелец скота. В полном недоумении я замер на месте. Дикари бросились ко мне с криками, размахивая палками и копьями. — Вот он! — кричал Нама. — Вот он! Ловкий мальчик! Я вырастил его, а он покрывает срамом мою седую голову! Разве не прав я? Не говорил ли я, что он вор? Да! Да! Я знаю твои проделки, Мопо! Посмотрите, он хотел украсть скот! Он все время знал, где найти его, а теперь угоняет стадо и хочет спрятать его. Оно, конечно, пригодилось бы ему на покупку жены, не так ли, мой умный мальчик? Старик стремительно бросился ко мне с поднятой палкой, за ним последовал владелец скота со злобным рычанием. Я понял сразу, в чем дело, отец мой. В душе поднялась целая буря злобы, у меня закружилась голова, перед глазами заколыхалась как бы красная скатерть, — казалось, она то опускалась, то опять поднималась. С тех пор я всегда видел ее перед глазами каждый раз, когда мне приходилось вступать в бой. Я крикнул только одно слово «Лжец!» и бросился навстречу. Нама тоже приближался ко мне. Он ударил меня палкой, но мне удалось подставить под его удар мой маленький щит и вовремя отскочить. Я же ударил его моим керри по черепу! О! Как я ударил его! Нама упал мертвым к моим ногам. Я снова зарычал, как зверь, и бросился на второго врага. Он метнул в меня копье, но промахнулся, и в следующую секунду я ударил его. Он поднял свой щит, но я выбил его, щит полетел через его голову, а сам он упал без чувств. Надеюсь, что он остался жив. Весь народ замер, я воспользовался этой минутой и обратился в бегство, дикари кинулись за мной, бросая в меня камнями и стараясь поймать меня, но никто не мог тягаться со мной в беге. Я летел, как ветер, летел, как олень, которого собаки застигли во сне. Понемногу погоня отставала, мои преследователи окончательно потеряли меня из виду, и я остался один.Глава 3
МОПО ЕЩЕ РАЗ ПОСЕЩАЕТ СВОЙ КРААЛЬ
Задыхаясь, бросился я на траву и лежал некоторое время. Потом я спрятался в высоком тростнике, окружавшем болото. Весь день я пролежал, раздумывая о случившемся. Что мне было делать? Теперь я напоминал шакала, не имеющего даже норы. Если я вернусь к своему племени, меня, без сомнения, убьют, как вора и убийцу. Кровь моя будет пролита за кровь Намы-колдуна. В эту-то тяжелую минуту я вспомнил Чаку — того мальчика, которому много лет тому назад дал кружку воды. Я уже не раз слышал о нем. Его имя было известно в стране, его всюду повторяли. Деревья и трава, казалось, шептали его. Видение моей матери начинало осуществляться. С помощью племени умтетва он занял место своего отца Сензангакона, прогнал племя амаквабе, теперь вел войну с Цвите, вождем племени эндванде, и поклялся стереть его с лица земли. Я вспомнил обещание Чаки возвеличить меня и дать мне благосостояние в тени своей славы и решил бежать к нему. Мне было жаль только мою сестру Балеку. Не взять ли ее с собой? Если только удастся добраться до нее и сообщить ей о моем намерении. Я решил попробовать. Дождавшись темноты, я пополз, как шакал, к краалю. У плантации мучного дерева я остановился. Голод мучил меня, пришлось утолить его недозрелыми плодами, а затем продолжать свой путь. Несколько человек сидело у входа одного из шалашей, разговаривая у костра. Я подполз ближе, как змея, и спрятался за куст. Люди не могли видеть меня, я же хотел услышать, о чем они говорят. Как я и предполагал, сидевшие говорили обо мне и, конечно, бранили меня. Они говорили, что убийством такого великого колдуна, как Нама, я, несомненно, принесу несчастье всему племени, что племя убитого владельца скота потребует огромного выкупа. Я услышал дальше, что мой отец отдал приказ всему народу начать с завтрашнего утра погоню за мною и умертвить меня, где бы меня ни нашли. «Ага, — подумал я, — можете охотиться за мной, но охота ваша будет безуспешна!» В эту минуту собака, спокойно лежавшая доселе у огня, встала, понюхала воздух и зарычала. Я не на шутку перепугался. — Чего это собака рычит? — заметил один из сидевших у огня. — Пойди посмотри! Но человек, к которому обращались, только что понюхал табаку и вовсе не расположен был двигаться. — Пускай собака сама посмотрит, — ответил он, чихая, — к чему же держать собак, если надо самому ловить вора? — Ну, пошла вперед! — обратился к собаке первый из говорящих. Собака с лаем бросилась вперед. Это был мой Коос — хороший, верный пес. Я не знал, что делать. Собака, почуяв меня, перестала лаять и, прыгая в кустах, нашла меня и стала лизать мое лицо. — Смирно, Коос! — шепнул я ему. Он покорно улегся у моих ног. — Куда же это собака подевалась? — заговорил первый голос. — Точно ее околдовали. Вдруг перестала лаять и не возвращается. — Надо посмотреть! — сказал другой, вставая с копьем в руках. Мне стало страшно, что они поймают меня, в лучшем случае, я должен буду снова бежать. Я поднялся, но тут большая черная змея проскользнула между людьми и направилась к шалашу. Все отскочили в ужасе и кинулись в погоню за змеей, уверенные, что собака лаяла на нее. Это был мой добрый Элозий, отец мой, принявший образ змеи, чтобы спасти мне жизнь. Как только люди удалились от меня, я пополз другой дорогой. Коос следовал за мной по пятам. Я решил заглянуть в собственный шалаш, взять стрелы, меховое одеяло и попытаться поговорить с Балекой. Мой шалаш был пуст, в нем никто не спал. А шалаш Намы находился справа. Я дополз до тростниковой изгороди, окружавшей шалаш. У открытых ворот никого. Я приказал Коосу лежать смирно, смело дошел до двери и прислушался. В шалаше — тоже никого, дыхания не слышно. Я прополз в дверь и стал шарить рукой в поисках моих стрел, фляжки для воды и деревянной подушечки, она была так удачно вырезана, что мне стало жаль оставить ее. Все эти вещи я нашел. Но мне нужно еще одеяло из шкур. Вдруг моя рука наткнулась на что-то холодное. Я вздрогнул и снова пощупал рукой. Это было лицо мертвеца, лицо Намы, убитого мной. Вероятно, его положили в мой шалаш до погребения. О! Я не на шутку струсил. Нама мертвый и в потемках — это гораздо хуже, чем Нама живой. Я готов был снова бежать, как вдруг услышал почти рядом с собой, за дверью, женские голоса, принадлежавшие двум женам Намы. Одна из них сообщила, что пришла сторожить тело мужа. Я в западне! Раньше, чем я мог сообразить что-либо, я увидел свет в дверях и по тяжелому дыханию пожилой женщины понял, что вошла главная жена Намы. Она присела около тела так, что я не мог выйти из двери, начала плакать и призывать проклятия на мою голову, не зная, что я слушаю ее. Страх заставил мой ум быстрее соображать. Теперь, когда я был не один, я уже не так боялся мертвеца и вспомнил, кстати, какой он был обманщик. «Ладно, — подумал я, — пусть побудет обманщиком последний раз!». Я осторожно просунул руки под его плечи и приподнял так, что тело его оказалось в сидячем положении. Женщина услышала шорох, и в горле ее заклокотало. — Будешь ли ты сидеть смирно, старая ведьма? — заговорил я, подражая голосу Намы. — Неужели ты не можешь оставить меня в покое даже мертвого? Услышав голос мужа, женщина в ужасе отшатнулась и собралась с духом, чтобы позвать на помощь. — Как? Ты еще смеешь кричать? — продолжал я тем же голосом. — Так я научу тебя молчанию! С этими словами я повалил тело прямо на нее. Она потеряла сознание. Некоторое время она была недвижима и для меня безопасна. Я схватил одеяло из шкур — впоследствии я узнал, что это было лучшее одеяло Намы стоимостью в три быка, и пустился бегом в сопровождении Кооса. Крааль отца моего, вождя Македама, находился на расстоянии двухсот шагов от моего шалаша. Прорезав себе лазейку в тростниковой изгороди с помощью ассегая, я подполз к шалашу, где спала Балека с несколькими своими сестрами от других матерей. Я знал, с какой стороны шалаша она обыкновенно ложилась, лег на бок и очень осторожно начал сверлить дыру в тростнике, покрывавшем шалаш. Это заняло много времени. Но мне вдруг пришло в голову, что Балека могла случайно переменить место, и тогда я разбужу не ее. Я почти отказался от моего замысла, решив, что убегу один, как вдруг услышал, как одна из девушек проснулась и начала плакать, как раз на другой стороне шалаша. «Ага, — подумал я, — Балека оплакивает своего брата!» Я приложил губы к тому месту, где крыша была потоньше, и шепнул: — Балека! Сестра моя! Балека, не плачь. Я, Мопо, здесь. Не говори ни слова, выйди ко мне. Захвати свое одеяло! Умная девушка не вскрикнула, как сделала бы другая на ее месте, нет, она сразу все поняла, осторожно встала и через минуту выползла из шалаша с одеялом в руках. — Где ты, Мопо? — шепотом спросила она. — Тебя могут увидеть и убить! — Тише! — отвечал я и в нескольких словах объяснил ей мой план. — Хочешь идти со мной? Или вернешься в шалаш, простившись со мною, может быть, навеки? Она подумала и сказала: — Нет, брат мой, я пойду с тобой, потому что из нашего племени люблю тебя одного, хотя и предчувствую, что ты ведешь меня к моей погибели! В эту минуту я мало обратил внимания на ее слова, но позже припомнил их. Итак, мы убежали вдвоем в сопровождении Кооса. Мы пустились бегом по степи в ту сторону, где жило племя зулусов.Глава 4
БЕГСТВО МОПО И БАЛЕКИ
Мы шли не останавливаясь, пока не почувствовали, как устали. Днем мы спрятались в кустах. Около полудня мы услышали голоса. Сквозь кусты я увидел несколько человек нашего племени, посланных моим отцом в погоню за нами. Они направились к соседнему краалю, вероятно, для того, чтобы спросить, не видел ли нас кто-либо. Больше они не показывались. Наступила ночь, и мы снова пустились в путь, но судьба преследовала нас. Мы встретили старую женщину, она как-то странно посмотрела на нас и молча прошла мимо. И мы решили не останавливаться ни днем, ни ночью. Вне всякого сомнения, старуха сообщит нашим преследователям о встрече с нами. Так оно и было. На третий день мы набрели на плантацию мучного дерева, сильно вытоптанную. Пробираясь между поломанными стеблями, мы наткнулись на мертвого старого человека, который до того был утыкан стрелами, что напоминал шкуру дикобраза. Нас это очень удивило. Пройдя немного, мы убедились, что крааль, к которому относилась эта плантация, только что сожгли дотла. Мы осторожно подошли к нему. Какое грустное зрелище! Всюду десятки убитых — старые, молодые, женщины, дети, даже грудные младенцы — все они лежали среди обгорелых шалашей, пронзенные множеством стрел. Земля, пропитанная их кровью, казалась красной, и сами они, озаренные лучами заходящего солнца, казались красными. Да, отец мой, вся местность была как бы окрашена кровавой рукой Великого Духа Ункулункулу! От этого ужасного зрелища Балека расплакалась. Мы не нашли пищи в этот день и ели только травы да зеленые плоды хлебного дерева. — Здесь прошел неприятель! — сказал я. И тут же мы услышали слабый стон по другую сторону тростниковой изгороди. Я пошел посмотреть, в чем дело. Там лежала молодая женщина, вся израненная. Бедняжка еще дышала, отец мой. В нескольких шагах от нее лежал труп мужчины, а около него еще несколько мертвых воинов другого племени. Очевидно, все они пали в ожесточенной битве. В ногах у женщины мы увидели тела детей, четвертый, совсем маленький, лежал рядом с нею. В ту минуту, когда я нагнулся к несчастной женщине, она опять застонала, открыла глаза и увидела меня. Заметив копье в моих руках, женщина проговорила слабым голосом: — Убей меня скорее! Неужели ты еще недостаточно терзал меня? Я поспешил ответить, что я здесь чужой и вовсе не намерен убивать ее. — Тогда дай мне воды, — попросила она, — там, позади крааля есть источник! Я подозвал к несчастной женщине Балеку, а сам пошел за водой. В источнике тоже валялись трупы, которые пришлось вытащить, и когда вода немного очистилась, я наполнил флягу и принес умирающей. Она жадно припала к ней губами, вода продлила ей жизнь на несколько минут. — Как это случилось? — спросил я участливо. — На нас напал отряд Чаки — вождя зулусов, — ответила она. — Они налетели сегодня на рассвете, когда мы все еще спали. Я проснулась и услышала, как убивают. Проснулся мой муж, вот он лежит здесь, наши дети спали тут же. Мы выскочили из шалаша. Муж успел схватить щит и копье. Он был храбрый человек. Посмотри. Он умер героем, убив трех чертей-зулусов прежде, чем сам пал мертвым. Тогда они схватили меня, убили на моих глазах всех детей, а меня кололи до тех пор, пока не сочли мертвой. За что они напали на нас? Думаю, за то, что наш вождь отказался послать воинов на помощь Чаке против Цвите! Женщина замолчала, потом громко вскрикнула и испустила дух. Балека опять расплакалась, да и сам я был глубоко возмущен и потрясен рассказом. «Ах! — подумал я, — Великий Дух должен быть очень злой, иначе как он может творить такие ужасы!» Так я размышлял тогда, отец мой. Теперь я думаю иначе. Я знаю, что мы тогда не шли по пути Великого Духа. В то время, отец мой, я был ребенком. Постепенно я привык к таким зрелищам. Они более не трогали меня, но тогда, во времена царя Чаки, текла кровь, отец мой! Прежде, чем зачерпнуть из реки воды, стоило убедиться, чиста ли она. Люди умели умирать без лишнего шума. Мы провели ночь в разоренном краале, но спать не могли. Всю ночь души убитых ходили вокруг нас и перекликались между собою. Оно и не удивительно — мужья искали своих жен, матери своих детей. Но нам это казалось страшным. Мы боялись, что души рассердятся на нас за наше присутствие. Прижавшись друг к другу, мы сидели и дрожали. Коос тоже дрожал и временами громко завывал. Но души, видимо, не замечали нас, и к утру голоса их смолкли. На рассвете мы осторожно выбрались из крааля мертвых и продолжили свой путь. Теперь нам легко было найти дорогу к краалю Чаки — мы шли по следам его войска и угнанного им скота. По дороге попадались мертвые воины — очевидно, их убивали, если раны мешали продолжать путь. Мною овладело сомнение: благоразумно ли идти к Чаке? Не убьет ли он и нас? После того, что мы видели, мы могли сомневаться. Но свернуть было уже некуда, и я решил идти вперед, пока ничто не препятствовало нам. Однако от усталости и голода мы начинали терять силы. Балека считала, что лучше всего остаться здесь и ждать смерти, которая положит конец нашим страданиям. Мы присели около ручья. Пока мы отдыхали на берегу, Коос отбежал в ближайшие кусты, и вскоре мы услышали, что он с яростным лаем бросается на кого-то. Я подбежал к кустам и увидел, что собака поймала козленка, по величине почти такого, как сама. Я схватил копье, заколол козленка и громко закричал от радости: теперь было чем подкрепить наши слабеющие силы. Ободрав добычу, я отрезал несколько кусков мяса, обмыл их в ручье. Где взять огня? Пришлось есть его сырым. Сырое мясо очень невкусно, но мы были так голодны, что не обращали на это внимания. Утоливголод, мы решили вымыться в ручье, не подозревая о грозившей опасности. Балека случайно глянула на вершину холма и в ужасе вскрикнула. Там, недалеко от нас, мы увидели шестерых вооруженных людей из нашего племени. То были дети моего отца Македама, они все еще преследовали нас, чтобы убить. Воины уже заметили нас, испустили дикий крик и бросились бегом к нам. Мы тоже побежали с быстротою ланей, причем страх еще ускорял наш бег. Мы неслись по открытому месту, все ниже и ниже к берегу Белой Умфолоци. Река извивалась по равнине огромной сверкающей змеей. Противоположный берег поднимался в гору, и мы не видели, что нас ожидает по ту сторону горы, но предполагали, что там расположен крааль Чаки. Мы побежали к реке, да, впрочем, больше и некуда было: за нами следом гнались воины. Они понемногу настигали нас: им помогали сила и злость на нас за то, что им пришлось забраться так далеко от своего крааля. Ясно, что как бы скоро мы ни бежали, они настигнут нас. Мы приближались к берегу реки, широкой и полноводной. Течение воды сильное, белые гребешки пены показались на ее поверхности в тех местах, где вода мчалась над подводными камнями, а ниже крутился водоворот. Его никто не мог переплыть. Напротив нас угадывалась глубокая яма, вода над ней казалась спокойной, но с быстрым течением. — Ах, Мопо, что нам делать? — задыхаясь, проговорила Балека. — Выбирать одно из двух, — отвечал я, — или погибнуть от ассегаев наших соплеменников, или переплыть реку! — Лучше утонуть в реке, нежели умереть под ударами ассегая! — ответила она. — Хорошо! — сказал я. — Пусть же наш добрый гений поможет нам, и духи наших предков да будут с нами! К счастью, мы оба хорошо плавали. Я подвел Балеку к самому краю реки. Мы бросили наши одеяла, бросили все, кроме копья, которое я держал в зубах, и пошли вброд, пока было возможно. Когда ноги наши перестали касаться земли, мы поплыли на середину реки вслед за Коосом. В эту минуту воины показались на берегу сзади нас. — Эге, молодцы! — закричал один из них. — Вы плывете? Плывите, плывите, но вы непременно утонете, а если не утонете, то мы знаем брод и все же поймаем вас и убьем. Да, да! Даже на краю света мы все же поймаем вас! И говорящий пустил в нас стрелу, которая сверкнула, как молния, но упала между нами. Пока он говорил, мы быстро продвигались вперед и уже попали в течение. Оно сильно относило нас вниз, но мы храбро, как хорошие пловцы, боролись с ним. Если нам удастся добраться до противоположного берега прежде, чем течение унесет нас вниз к водовороту, мы спасены. Мы уже почти добрались до берега, но, увы, так же близко были и от пенящегося водоворота. Наконец я выбрался на небольшой утес около берега и оглянулся на Балеку. В восьми шагах от нее бурно кипела вода. Я не мог вернуться к ней, так как чувствовал себя слишком утомленным, и казалось, Балека должна погибнуть. В эту минуту Коос заметил ее отчаянное положение. Верный пес с громким лаем подплыл к ней и повернулся головой к берегу. Балека схватила его за хвост, Коос старался изо всех сил. Так они медленно продвигались вперед до тех пор, когда я мог протянуть конец моего ассегая, сестра ухватилась за него левой рукой. Ноги ее уже касались водоворота, но я и Коос тянули изо всех сил. Мы вытащили ее благополучно на берег в полном изнеможении. Воины на противоположном берегу, увидев, что нам удалось переплыть реку, дико закричали, посылая нам проклятья, и быстро побежали вдоль берега. Я уговорил утомленную сестру подняться, и мы начали взбираться на гору. Добравшись до вершины, мы увидели вдали большой крааль. — Мужайся, Балека, — сказал я, — смотри, вот крааль Чаки! — Я вижу, брат! Но что ожидает нас там? Смерть перед нами, смерть за нами, — мы со всех сторон окружены смертью! В эту минуту мы дошли до тропинки, шедшей от брода через реку Умфолоци к краалю. По ней, очевидно, прошло войско Чаки. Нам оставалось не более получаса пути, но, оглянувшись, я заметил, что наши враги настигают нас. Их было теперь только пятеро, шестой, вероятно, утонул при переправе через реку. Мы снова побежали, но силы наши все слабели, и преследователи быстро настигали нас. Тогда я снова вспомнил о собаке. Злобный Коос разорвет каждого, на кого я натравлю. Я подозвал его и постарался объяснить ему, что требую от него, хотя и знал, что посылаю его на верную смерть. Он понял и, весь ощетинившись, со страшным рычанием бросился на наших врагов. Те старались убить его копьями, но он бешено прыгал вокруг них, кусал, кого попало, и таким образом задерживал их бег. В конце концов, один из них ударил его по голове. Коос подпрыгнул, схватил его за горло и повис на нем. Оба упали, вцепившись друг в друга. Кончилось тем, что борцы одновременно испустили дух. Да! Это был удивительный пес! Таких больше не встретишь. Он происходил от бурской собаки, впервые появившейся в то время в нашей стране. Эта собака, отец мой, однажды справилась в одиночку с леопардом. Так погиб мой верный Коос! Ну, а мы продолжали бежать. Оставалось шагов триста до ворот крааля. В нем происходило что-то необыкновенное. А четыре воина, бросив труп товарища, быстро настигали нас. Я понял, что они добегут до нас раньше, чем мы успеем дойти до ворот крааля. Балека уже не могла двигаться быстро. «Ну, что же, — подумал я. — Я привел сюда Балеку и тем подверг ее смертельной опасности, теперь постараюсь спасти ее жизнь. Она дойдет до крааля без меня. Чака не убьет такую молодую и красивую девушку». — Беги, Балека! Беги! — крикнул я, бросаясь назад. Бедная Балека почти ослепла от усталости и страха и, не подозревая о моем намерении, медленно шла к воротам. Я же присел на траву перевести дух прежде, чем вступлю в борьбу с четырьмя врагами. Я твердо решил бороться до тех пор, пока меня не убьют. Сердце мое стучало, кровь ударила в голову, но когда воины приблизились ко мне, я встал с копьем в руках, кровавая скатерть снова заколыхалась перед моими глазами, и всякий страх оставил меня. Враги мои бежали попарно, но один был впереди на пять или шесть шагов. Он дико закричал и бросился на меня с поднятым копьем и щитом. У меня не было ничего, кроме ассегая, но я был хитер. Вот он приблизился ко мне, я стоял, выжидая, пока он занесет копье надо мной. Тогда я внезапно бросился на колени и направил мой удар ниже края щита. Он тоже нанес мне удар, но промахнулся, копье его только разрезало мне плечо. Видишь, вот шрам! Мое же копье пронзило его насквозь. Он бешено катался с ним по земле. Зато я теперь был безоружен, рукоятка моего копья сломалась, и в моих руках остался только короткий кусок палки. Тем временем другой враг уже спешил ко мне! Он показался мне ростом с целое дерево. Я уже считал себя мертвым, никакой надежды не осталось — тьма вот-вот поглотит меня. Но вдруг в этой тьме блеснул свет. Я бросился плашмя на землю и повернулся набок. Тело мое ударилось о ноги моего врага с такой силой, что он потерял равновесие и полетел кувырком, не успев ударить меня копьем. Раньше, чем он коснулся земли, я уже вскочил на ноги. Копье выпало из его рук. Я нагнулся, схватил его, и, пока он вставал, вонзил ему копье в спину. Несколько секунд, отец мой, и он уже упал мертвый. Тогда я пустился бежать и шагах в восьмидесяти от крааля нагнал сестру. В этот момент она упала. Нас спасло то, что оставшиеся два врага на минуту остановились около своих мертвых товарищей. Правда, они снова бросились за мной с удвоенной яростью, но было уже поздно: ворота крааля распахнулись, в них показался высокий человек со шкурой леопарда на плечах, он громко смеялся. Вслед за ним выступали пять или шесть его приближенных, шествие замыкала еще группа воинов. Все сразу поняли, в чем дело, и подбежали к нам как раз в ту минуту, когда наши враги настигли нас. — Кто вы такие? — закричали воины. — Кто осмелился убивать у ворот крааля Слона? Здесь убивает только сам Слон! — Мы дети Македама, — ответили мои соплеменники, — преследуем злодеев, совершивших убийство в нашем краале. Смотрите, вот сейчас двое из нас погибли от их руки, а еще двое лежат мертвые на дороге. Разрешите нам убить их! — Спросите у Слона! — сказали воины. — Да, кстати, просите, чтобы он не приказал убить вас самих! В это время высокий вождь увидел кровь и услышал слова спутников. Он гордо выпрямился. Действительно, на него стоило посмотреть. Несмотря на молодость, он был на голову выше всех окружающих, ширины его грудной клетки хватило бы на двоих, лицо его было красиво, хотя и свирепо, глаза горели, как уголья. — Кто эти люди, дерзнувшие поднять пыль у ворот моего крааля? — спросил он, нахмурив брови. — О Чака! О Слон! — ответил один из военачальников, склоняясь перед ним до земли. — Эти люди говорят, что преследуют злодеев и хотят умертвить их! — Прекрасно! — сказал он. — Пусть они убьют злодеев! — О великий вождь! Благодарение тебе, великий вождь! — закричали наши обрадованные соплеменники. — Когда они убьют злодеев, — продолжал Чака, — пусть им самим выколют глаза и выпустят на свободу искать дорогу домой за то, что они осмелились поднять копье перед воротами великого вождя зулусов. Ну, что же, продолжайте восхвалять меня, дети мои! Он дико захохотал, а воины тихо шептали: — О, он мудр! Он велик! Его справедливость ясна и страшна, как солнце. Однако люди моего племени заплакали от страха, они вовсе не искали такой справедливости. — Отрежьте им языки! — продолжал Чака. — Что? Неужели страна зулусов потерпит такой шум? Никогда! Начинайте! Эй, вы, чернокожие! Вот там лежит девушка, она беспомощна. Убейте ее! Что? Вы колеблетесь? Хорошо! Если вам нужно время на размышление, я даю его вам. Возьмите этих людей, обмажьте их медом и привяжите к муравьиным кучам. Завтра с восходом солнца они скажут нам, что думают! — Начните с того, что убейте этих двух затравленных шакалов! — и он указал на меня и Балеку. — Они, кажется, очень устали и нуждаются в отдыхе! Воины приблизились к нам, чтобы исполнить приказание Чаки. Тогда я заговорил. — О Чака! — воскликнул я. — Меня зовут Мопо, а это сестра моя Балека! Взрыв громкого хохота был ответом. — Прекрасно! Мопо и сестра его Балека! — угрюмо сказал Чака. — Здравствуйте, Мопо и Балека, а также прощайте!.. — О Чака! — прервал я его. — Я Мопо, сын Македама из племени лангени. Вспомни, я дал тебе кружку воды много лет тому назад, когда мы оба были мальчиками. Тогда ты обещал защищать меня, когда станешь могущественным вождем, и никогда не причинять зла. Вот я пришел и привел с собой сестру. Прошу тебя, не отрекайся от своих слов, сказанных много лет назад! Лицо Чаки заметно изменилось: он слушал меня очень внимательно. — Это не ложь, — сказал он, — приветствую тебя, Мопо! Ты будешь собакой в моем шалаше, я буду кормить тебя из рук. Но о сестре твоей я ничего не говорил. Отчего же мне не убить ее, раз я поклялся отомстить всему племени, кроме тебя одного? — Она слишком прекрасна, чтобы убивать ее, о вождь! — отвечал я храбро. — Кроме того, я люблю ее и прошу ее жизни как милости! — Поверните девушку ко мне лицом! — велел Чака. Приказание его было немедленно исполнено. — Опять ты сказал правду, сын Македама. Я жалую тебе этот подарок. Она тоже поселится в моем шалаше и будет одною из моих «сестер». Теперь расскажи мне свою историю, но смотри! Говори правду. Я сел на землю и рассказал все, как было. Выслушав, Чака обратился к своему военачальнику. — Я беру свои слова назад. Не нужно изувечивать этих людей из племени лангени. Один умрет, а другому будет дана свобода. Мопо, ты видишь перед собой труса, — и он указал на человека, которого перед тем выводили за ворота. — Вчера уничтожен по моему приказанию крааль колдунов-чародеев, наверное, вы шли мимо него. Этот человек и трое других напали на защищавшего свою жену и детей воина того крааля. Он храбро дрался и убил трех моих людей. Тогда эта собака побоялась встретиться с ним лицом к лицу. Трус метнул в него ассегай, после чего заколол его жену. Он должен был сразиться с мужем этой женщины в рукопашном бою! Теперь я хочу сделать ему великую честь. Он будет бороться на смерть с одной из свиней твоего хлева, — он указал копьем на людей моего племени, — а тот, кто останется в живых, пусть бежит — за ним будут гнаться так же, как они гнались за тобой. Эту вторую свинью я отсылаю в хлев с костью от меня. Ну, выбирайте между собой, дети Македама, кто из вас останется в живых? Эти двое моих соплеменников были братьями и любили друг друга, каждый из них готов был умереть, чтобы дать свободу другому. Оба разом выступили вперед, выражая готовность на единоборство с зулусом. — Что? Неужели и свиньи имеют чувство чести? — насмешливо спросил Чака. — В таком случае, я сам решу этот вопрос. Видите этот ассегай? Я подброшу его в воздух: если он упадет клинком кверху — тот, кто из вас выше ростом, получит свободу, а если же он упадет рукояткой книзу, то свободу получит тот, кто ниже! С этими словами он подбросил ассегай в воздух. Все напряженно следили за тем, как оружие закружилось в воздухе и упало рукояткой на землю. — Поди сюда, ты! — обратился Чака к тому, кто был повыше. — Спеши назад в крааль Македама и скажи ему: так говорит Чака, Лев зулусов: много лет тому назад женщина твоего племени отказалась дать мальчику Чаке кружку молока — сегодня собака сына твоего Мопо воет на крыше твоего шалаша. Ступай! Человек обернулся, пожал руку своему брату и ушел, унося с собой слово дурного предзнаменования. Затем Чака обратился к зулусу и к оставшемуся воину моего племени, приказав начать единоборство. Воздав хвалу могущественному вождю, они начали яростную битву. Мой соплеменник победил зулуса. Едва он успел перевести дух, как должен был пуститься бежать, а за ним погнались пятеро выбранных людей. Моему соплеменнику удалось убежать. Он скакал, как заяц, и благополучно ушел от них. Чака не рассердился, я думаю, он сам приказал своим воинам не особенно торопиться. В жестоком сердце Чаки была очень хорошая черта: он всегда готов был спасти жизнь храброго человека, если мог это сделать, не роняя своего достоинства. Я был очень рад тому, что мой соплеменник победил воина.Глава 5
МОПО НАЗНАЧЕН ЦАРСКИМ ВРАЧОМ
Теперь ты знаешь, отец мой, при каких обстоятельствах моя сестра Балека и я, Мопо, поселились в краале Чаки, Льва зулусов. Зачем я так долго рассказывал об этом? Эти обстоятельства имеют отношение к истории рождения Булалио Умелопогаса — Умелопогаса-убийцы и Нады-прекрасной, о любви которых я хочу вам рассказать. Нада была моей дочерью, а Умелопогас, что известно лишь немногим, сыном царя Чаки, рожденным сестрой моей Балекой. Когда Балека пришла в себя от усталости, ее прежняя красота вернулась, и Чака взял ее в жены. Она поселилась среди женщин, которых он называл «сестрами». Меня Чака взял в число своих врачей, и так ценил мои медицинские познания, что со временем сделал главным врачом. Это был важный пост, занимая который в течение нескольких лет, я стал обладателем многих жен и большого количества скота. Но звание это влекло за собой и большую опасность. Встав утром здоровым и сильным, я не мог быть уверен, что ночью не стану окоченевшим трупом. Многих своих врачей Чака убивал. Как бы хорошо они его ни пользовали, их постигала та же участь. Неминуемо приходил день, когда царь чувствовал себя нездоровым или был не в духе и тогда он истязал своего врача. Мне же удалось избежать такой участи, во-первых, благодаря моим медицинским способностям, а во-вторых — в силу клятвы, данной мне Чакой в детстве. Куда бы ни шел царь, за ним следовал и я. Я спал рядом с его шалашом, сидел за ним во время совета, в битве я находился всегда при нем. О, эти битвы! Эти битвы! В те времена люди умели сражаться, отец мой. В те дни коршуны тысячами сопровождали наши войска, гиены стаями ходили по нашим следам, и все были довольны. Никогда не забуду я первой битвы. Я находился рядом с Чакой. Это было вскоре после того, как царь построил себе новый крааль на берегу реки Умллатуза. Вождь Цвид в третий раз пошел войной на своего соперника. Чака выступил ему навстречу с десятью отрядами (около 30 000 человек), впервые вооруженных короткими копьями. На длинном отлогом холме, как раз против нашего войска, расположились отряды Цвида — их было семнадцать. От этой массы чернокожих сама земля казалась черной. Нас разделяла долина с ручьем посередине. Всю ночь наши костры освещали долину, всю ночь пели воины. На рассвете волы замычали, войска начали подниматься, воины бодро вскакивали на ноги, стряхивали утреннюю росу с волос и щитов. Да! Они радостно готовились идти на верную смерть. Отряды один за другим строились в боевой порядок. Утренний ветерок освежал их, перья, украшавшие их головы, слегка колебались. За холмом загоралась заря смерти, бросая багровый отблеск на медно-красные щиты, место битвы тоже казалось красным, даже белые перья вождей порозовели. В этом они видели предзнаменование смерти — и что же? Храбрецы смеялись при мысли о приближающейся битве. Что такое смерть? Разве не хорошо умереть под ударом копья? Что такое смерть? Разве не счастье умереть за своего царя? Смерть — оружие победы. Победа будет невестой каждому из них в эту ночь. О! Как нежна ее грудь! Чу! Раздается воинственная песнь «Ингомо», она приводит в исступление бойцов. Она начинается слева и, как мяч, перекатывается от одного отряда к другому. В глазах Чаки тоже отражается смерть. Смерть и убийство. Вот он поднял свое копье, и сразу наступила тишина, только эхо песни еще перекатывается по вершинам холмов. — Где же дети Цвида? — громко спросил Чака, словно бык проревел. — Там, внизу, отец! — отвечали воины. Копье каждого воина указало на долину. — Что же они не выступают? — снова закричал он. — Не стоять же нам здесь до старости! — О нет, отец! — ответили все сразу. — Начинай! Начинай! — Пусть отряд Умкланду выступит вперед! — закричал он в третий раз. И в ту же секунду черные щиты Умкланду выдвинулись из рядов войска. — Идите, дети мои! — воскликнул Чака. — Вот неприятель. Идите и больше не возвращайтесь! — Мы внемлем, отец! — прокатилось по рядам, и они двинулись по откосу, словно бесчисленное стадо со стальными рогами. Вот они перешли поток, и только тогда Цвид как бы проснулся. Ропот пронесся по его войску, копья засверкали в воздухе. — У-у, вот они идут! У-у, они встретились. Слышен гром их щитов! Слышны звуки воинственной песни! Ряды колышутся взад и вперед. Воины Умкланду отступают — они бегут! Они кидаются назад через поток — правда, только половина их, — остальные мертвы. Рев ярости несется по рядам, один Чака улыбается. — Расступитесь! Расступитесь! Дайте дорогу «красным девицам» Умкланду! — и с поникшими головами они возвращаются. Чака шепотом говорит несколько слов своим приближенным. Они бегут и шепотом передают приказание Менциве — полководцу и остальным начальникам отрядов. Вслед за этим два отрада стремительно спускаются с холма, другие два отряда бегут направо, еще два отряда — налево. Чака стоит на холме с тремя остальными. Снова звенят сталкивающиеся щиты. Вот это воины! Они не бегут! Один неприятельский отряд за другим кидаются к ним, а они все стоят. Они падают сотнями, тысячами, но ни один не бежит. Павшие лежат друг на друге. Отец мой! Из этих двух отрядов ни один воин не остался в живых. Это были все мальчики, но все дети царя Чаки. Сам Менцива погребен под грудами своих мертвых воинов. Теперь больше нет таких людей. Все убиты, все успокоились. Однако Чака все еще стоит с поднятой рукой. Он зорко смотрит на север, на юг. Смотри! Копья блестят среди деревьев! Передние отряды нашего войска сошлись с крайними отрядами неприятеля. Они убивают, их убивают, но воины Цвида многочисленны и храбры! Мы начинаем проигрывать сражение. Тогда Чака опять говорит. Военачальники слушают, воины вытягивают шеи, чтобы лучше слышать. — Вперед, дети племени зулусов! Рев, топот, копья сверкают, перья развеваются, и, подобно реке, выступающей из берегов, мы обрушиваемся на врагов. Они спешно строятся, готовясь встретить нас. Раненые приподнимаются и подбадривают нас. Мы топчем их. Что нам до них? Они не могут больше биться. Навстречу нам стремится Цвид, мы сталкиваемся, подобно двум стадам разъяренных быков. Фу! Отец мой! Больше я ничего не помню. Все окрасилось в багровый цвет. О, эта битва! Эта битва! Нам удалось одолеть врага. Немногие спаслись бегством, да некому было и бежать. Мы пронеслись над ними, как огонь, и уничтожили их. Наконец, мы остановились. Все были мертвы. Войска Цвида не существовало больше. Началась перекличка. Десять отрядов видели восход солнца, — и лишь три увидели его закат: остальные ушли туда, где солнце не светит. Таковы бывали битвы во времена царя Чаки! Вы спрашиваете, что сталось с отрядом Умкланду, обратившимся в бегство? Расскажу, отец мой! Когда мы вернулись в крааль, Чака выстроил этот отряд и сделал перекличку. Он говорил с ними ласково, благодарил за службу, прибавил, что находит естественным, что «девушкам» делается страшно при виде крови, и они бегут назад. Но он приказал им не возвращаться, а они вернулись! Как ему поступить? И Чака закрыл лицо руками. Тогда воины убили их всех — около двух тысяч человек — убили, осыпая насмешками и упреками! Вот как поступали в те времена с трусами, отец мой. После такого примера ни один зулус не бежал, даже если бы десять человек вышли на него. «Бейтесь и падайте, но не бегите», — таков был наш девиз. Никогда больше при жизни царя Чаки ни один побежденный отряд не переступал порог царского крааля. Эта битва была лишь одной из многих. С каждым новолунием свежее войско отправлялось обмывать свои мечи. Возвращались лишь немногие, но всегда с победой и множеством захваченного скота. Избежавшие ассегая составляли новые отряды, и хотя ежемесячно умирали тысячами, но войско царя Чаки все-таки оставалось многочисленным. Вскоре Чака остался единственным вождем в стране. Умсудука пал, а за ним и Мансенгеза. Умциликази отогнали далеко к северу, Мастеване совершенно уничтожили. Тогда мы ринулись в Наталь. Когда мы появились здесь, нельзя было счесть народа, когда же ушли — кое-где можно было встретить человека, прячущегося в пещере, вот и все! Мужчин, женщин, детей — всех стерли с лица земли, никого не осталось в стране. Затем настал черед Уфаку — вождя аманондосов. Ах, где-то теперь Уфаку? И так продолжалось долго, пока сами зулусы устали воевать, самые острые мечи затупились.Глава 6
РОЖДЕНИЕ УМЕЛОПОГАСА
Чака имел много жен. Но каждого ребенка, рождавшегося от одной из его «сестер», немедленно убивали, так как царь опасался, чтобы его сын не сверг его и не лишил власти и жизни. Таково было его правило. Вскоре после рассказанных событий сестре моей Балеке, жене царя, пришло время рожать. В тот же день и моя жена Макрофа разрешилась близнецами. Это случилось через восемь дней после того, как Анаиди, моя вторая жена, родила сына. Когда царь узнал о беременности Балеки, он не приказал тотчас умертвить ее, потому что по-своему любил. Он велел мне быть при ней, а когда ребенок родится, принести показать мне его труп: он лично должен был убедиться в его смерти. Я склонился перед ним до земли и пошел исполнять приказание. Тяжело было у меня на сердце, но я знал непреклонность Чаки. Неповиновения он не допускал. Следовало покориться. Я отправился в Эмпозени — жилище царских жен — и объявил приказание царя стоявшей у входа страже. Воины подняли свои копья и пропустили меня, я вошел в шалаш Балеки, где жили и другие царские жены. Но они ушли: закон не позволял им находиться в моем присутствии. Я остался наедине с сестрой. Балека лежала молча, но я заметил, что она плачет. — Потерпи, милая! — сказал я. — Скоро страдания твои закончатся! — О нет! — ответила она, поднимая голову, — только начнутся. О жестокий человек! Я знаю, зачем ты пришел: умертвить моего младенца! — Ты сама знаешь, такова воля царя! — А! Воля царя! А что мне до воли царя? Разве я сама не имею голоса в этом? — Да ведь это ребенок царя! — Это ребенок царя — правда, но разве он также не мой ребенок? Мое дитя должно быть оторвано от моей груди и задушено! И кем же? Тобой, Мопо! Не я ли бежала с тобой, спасая тебя от злобы нашего народа и мести отцовской? Знаешь ли ты, что два месяца назад царь разгневался на тебя, когда заболел, и наверняка умертвил бы тебя, если бы я не заступилась и не напомнила ему клятвы? А ты приходишь убить мое дитя, моего первенца! — Я исполняю приказание царя! — отвечал я угрюмо, но сердце мое разрывалось на части. Балека больше ничего не сказала, но, обернувшись лицом к стене, горько плакала и стонала. Но тут раздался шорох у входа в шалаш. Вошла женщина. Я склонился до земли. Передо мной стояла Унанда, мать царя, как ее называли, Мать небес, — та самая женщина, которой моя мать отказалась дать молока. — Здравствуй, Мать небес! — приветствовал я ее. — Здравствуй, Мопо, — ответила она. — Скажи, почему плачет Балека? Мучается родами? — Спроси ее сама, Мать вождя! — посоветовал я. Тогда Балека заговорила прерывающимся голосом. — Я плачу, царица-мать, потому, что этот человек, брат мой, пришел от моего господина, твоего сына, чтобы умертвить моего будущего ребенка. О, Мать небес, ты сама кормила грудью дитя, заступись за меня! Твоего сына не убили при рождении! — Кто знает, Балека? Может, было бы лучше, если бы и его убили! — грустно ответила Унанда. — Многие из тех, кто теперь мертв, были бы живы! — Но ребенком он был добр и ласков, и ты могла любить его, Мать зулусов! — Никогда, Балека! Ребенком он кусал мне грудь и рвал волосы. Какой сейчас — такой был и ребенком! — Да! Но его ребенок может быть и не таким, Мать небес! Подумай, у тебя нет внука, который будет беречь тебя в старости. Неужели ты допустишь иссякнуть твоему роду? Царь, наш властелин, постоянно подвергается опасностям войны. Он может умереть, и что тогда? — Что тогда? Корень Сензангакона не иссяк. Разве у царя нет братьев? — Но они не твоей плоти и крови, мать! Как? Ты не хочешь даже слушать меня? Тогда я обращаюсь к тебе, как женщина к женщине. Спаси мое дитя или убей меня вместе с ним! Сердце Унанды дрогнуло. Слезы показались на ее глазах. — Как бы это сделать, Мопо? — обратилась она ко мне. — Царь должен видеть ребенка мертвым, если же он заподозрит обман, а ты знаешь, и тростник имеет уши, то… тебе известно, где будут лежать наши трупы завтра! — Неужели нет других новорожденных в стране зулусов? — прошептала Балека, приподнявшись на постели. — Слушай, Мопо! Твоя жена тоже должна родить? Послушайте же меня, ты, Мать небес, и ты, брат! Не думайте шутить со мной. Я или сама спасу своего ребенка, или вы оба погибнете вместе с ним. Я скажу царю, что вы приходили ко мне оба и нашептывали мне заговор — спасти ребенка, а царя убить. Теперь выбирайте и скорее! Она откинулась навзничь, мы молча переглянулись. Наконец, Унанда первая заговорила. — Дай мне руку, Мопо, и поклянись, что сохранишь эту тайну, так же, как и я клянусь тебе. Быть может, придет день, когда этот ребенок, еще не увидевший света, будет царем страны зулусов, тогда в награду за сегодняшнюю услугу ты станешь первым человеком, голосом царя, его наперсником! Если же ты не сдержишь клятвы, берегись! Я умру не одна! — Клянусь, Мать небес! — ответил я. — Хорошо, сын Македама! — Хорошо, брат мой! — сказала Балека. — Теперь иди и скорее делай все, что нужно. Я чувствую приближение родов. Иди и знай, что в случае неудачи я буду безжалостна и добьюсь твоей смерти, даже ценою собственной жизни! Я вышел из шалаша. — Куда идешь? — спросили стражники. — Иду за лекарствами, слуги царские! — ответил я. Так я ответил, но на душе было тяжело, и задумал я бежать из страны зулусов. Я не мог сделать того, что от меня требовали. Убить собственного ребенка, отдать его жизнь для спасения ребенка Балеки? Могу ли я пойти против воли царя и спасти ребенка, осужденного на смерть? Нет, это невозможно! Я убегу, оставлю все и буду искать жилище где-нибудь в стороне, там я начну жизнь сначала. Здесь я жить больше не могу. Здесь, около Чаки, ничего не найти, кроме смерти. В своем шалаше я узнал, что жена моя Макрофа только что разрешилась двойней. Я выслал из шалаша всех, кроме Анаид и, неделю тому назад подарившей мне сына. Второй ребенок из двойни — мальчик — родился мертвым. Первой родилась девочка, известная впоследствии под именем Нады прекрасной — Нады-Лилии. Внезапная мысль озарила меня — вот выход из положения! — Дай-ка мне мальчика, — сказал я Анаиди. — Он не умер. Дай его мне, я вынесу его за ворота крааля и верну к жизни моими лекарствами. — Это бесполезно, ребенок мертвый! — воскликнула Анаиди. — Дай мне его, раз я приказываю! — закричал я свирепо. Она подала мне труп ребенка. Я завернул его в узел с лекарствами и обернул циновкой. — Не впускайте никого до моего возвращения, — сказал я, — и никому ни слова о ребенке, которого вы считаете мертвым! Если впустите кого-нибудь или скажете хоть слово, мое лекарство не поможет, и ребенок действительно умрет. Я вышел. Жены мои недоумевали. У нас не в обычае оставлять в живых обоих детей, если рождалась двойня. Тем временем я поспешно бежал к воротам Эмиозени. — Я несу лекарства, слуги царские! — объяснил я страже. — Проходи, — ответили они. Я прошел ворота и направился к шалашу Балеки. Около него сидела Унанди. — Ребенок родился! — сказала мне мать царя. — Взгляни на него, Мопо, сын Македама! Ребенок был крупный, с большими черными глазами, как у Чаки, царя. Унанда вопросительно смотрела на меня. — Где же он? — шепотом спросила она. Я развернул циновку и вынул мертвого ребенка, со страхом оглядываясь кругом. — Дайте мне живого! — тоже шепотом потребовал я. Она передала мне ребенка. Я выбрал из своих лекарств снадобье и потер им язык младенца… От этого снадобья язык немеет на некоторое время. Я завернул ребенка в узел с лекарствами и снова обмотал циновкой. Вокруг шеи мертвого ребенка я завязал шнурок, которым будто бы задушил его, и завернул в другую циновку. Только теперь я обратился к Балеке. — Послушай, женщина, и ты, Мать небес! Я исполнил ваше желание. Но знайте, что это может стоить жизни многим людям. Будьте безмолвны, как могила, которая широко может разверзнуться перед вами обеими! Я ушел, унося в правой руке циновку с завернутым в нее мертвым ребенком. Узел с лекарствами и живым ребенком я привязал к плечам. Проходя мимо стражи, я молча развернул перед ними циновку. — Ладно! — сказали они, пропуская меня. Но тут начались неудачи. Как только я вышел за ворота, меня встретили три посланных от царя. — Царь зовет тебя в Интункуму! Так называется жилище царя, отец мой. — Хорошо, — ответил я, — сейчас приду, но сперва забегу к себе взглянуть на Макрофу. Вот то, что нужно царю! — я показал им мертвого ребенка. — Отнесите ему! — Царь не давал нам такого приказания, Мопо! — отвечали они. — Он приказал, чтобы ты сию минуту явился к нему! Кровь застыла в моих жилах. У царя много ушей. Неужели он уже знает? И как явиться к нему с живым ребенком за спиной? Но всякое колебание послужит моей погибели так же, как страх или смущение. — Хорошо! Идем! — ответил я, и мы вместе направились к воротам Интункуму. Надвигались сумерки. Чака сидел в маленьком дворике перед своим шалашом. Я на коленях подполз к нему, произнося обычное царское приветствие «Баете!» и, оставаясь в таком положении, ждал. — Встань, сын Македама! — сказал царь. — Я не могу встать, Лев зулусов! — отвечал я. — Я не могу встать, держа в руках царскую кровь, пока царь не дарует мне прощения! — Где он? — спросил Чака. Я указал на циновку в моих руках. — Покажи! Я развернул циновку. Чака взглянул на ребенка и громко рассмеялся. — Он мог быть царем! — сказал он, приказав одному из своих приближенных унести труп. — Мопо, ты умертвил того, кто мог бы царствовать. Тебе не страшно, Мопо? — Но царь… — ответил я, — ребенок умерщвлен по приказанию того, кто сам царь! — Сядь-ка, потолкуем. Завтра ты можешь выбрать в награду пять быков из царского стада! — Царь добр, он видит, что пояс мой туго стянут, он хочет утолить мой голод. Позволишь ли мне царь удалиться? Моя жена Макрофа рожает, и я хотел бы навестить ее! — Нет, посиди немного. Что делает Балека, моя сестра и твоя? — Все благополучно! — ответил я. — Не плакала ли она, когда ты взял у нее ребенка? — Нет, не плакала. Она сказала: воля моего властелина пусть будет моей волей! — Хорошо. Если бы она заплакала, то тоже умерла бы. Кто же был при ней? — При ней была Мать небес! Чака нахмурил брови. — Унанда, моя мать? Зачем она туда пошла? Клянусь, хоть она и моя мать, но если бы я подумал… — и Чака остановился. Через минуту он продолжал: — Что у тебя в этой циновке? — он указал концом своего ассегая на узел за моими плечами. — Лекарства, царь! — Ты носишь с собой такое количество лекарств? Да их хватило бы на целое войско! Разверни циновку, что в ней! Скажу вам откровенно, отец мой, что от ужаса у меня кровь застыла в жилах. — Это «шагаши». Оно заколдовано, мой повелитель. Не следует смотреть! — Разверни, говорю тебе! — возразил он громко. — Что? Я не могу видеть того, что должен глотать? Я, величайший из царей? — Смерть есть лекарство царей! — ответил я, взял в руки узел и положил его как можно дальше от него, в тени изгороди. Затем нагнулся, медленно развязал веревки. Капли пота текли по моему лицу, подобно каплям слез. Что, если он увидит ребенка? Я должен буду вырвать копье из рук царя и ударить его. Да, решено! Я убью царя и самого себя. И вот циновка развязана. Сверху — коричневые корни целебных трав, а под ними — бесчувственный ребенок, завернутый в мох. — Скверная штука! — сказал царь, нюхая щепотку табаку. — Смотри-ка, Мопо, какой у меня верный глаз! Вот тебе и твоим лекарствам! — он поднял ассегай и намерился пронзить им узел, но мой змей внушил царю «Чихни!» Копье пронзило только листья моих целебных трав, не задев ребенка. — Да благословит Небо царя! — сказал я, как того требует обычай. — Спасибо, Moпo, это — хорошее пожелание, — сказал царь, — а теперь убирайся! Следуй моему совету. Убивай своих, как убиваю я. Это для того, чтобы они не надоедали мне. Поверь мне, детеныша льва лучше утопить! Я поспешно завернул узел. Руки мои дрожали. Что, если бы в эту минуту ребенок проснулся и закричал!? Я завязал узел, поклонился царю и, согнувшись вдвое, прошел мимо него. Не успел я переступить порог Интункуму, как ребенок начал пищать. Случись это минутой раньше… — Что это, — спросил меня один из воинов, — спрятано у тебя под поясом, Moпo? Я бежал, не останавливаясь и не отвечая, до своего шалаша. Мои жены были одни. — Я вернул ребенка к жизни! — сказал я, развязывая узел. Анаиди взяла младенца и стала его разглядывать. — Мальчик кажется мне больше, чем был! — Дыхание жизни вошло в него и раздуло его! — объяснил я. — И глаза его совсем другие, — продолжала Анаиди. — Теперь они большие и черные, как у царя! — Дух мой заглянул в них и сделал их красивыми! — ответил я. — У этого ребенка родимое пятно на бедре. У моего, которого я дала тебе, такого знака не было! — Я прикладывал лекарство к этому месту! — ответил я. — Нет, это другой ребенок, — сказала она угрюмо. — Это подмененное дитя, оно принесет несчастье нашему дому! Я вскочил в ярости и проклял ее, ибо если не остановить эту женщину, язык ее погубит нас. — Замолчи, колдунья! — крикнул я. — Как ты смеешь так говорить? Ты хочешь навлечь проклятье на наш дом! Ты хочешь сделать нас всех жертвами царского гнева! Повтори еще свои слова, и ты сядешь в круг, Ингомбоко сочтет тебя колдуньей! Я продолжал браниться, угрожая ей смертью, пока она не испугалась и, бросившись к моим ногам, не стала молить о прощении. Признаюсь, однако, я очень боялся языка этой женщины и, увы, не напрасно!Глава 7
УМЕЛОПОГАС ОТВЕЧАЕТ ЦАРЮ
Прошло несколько лет, и об этом происшествии, казалось, все забыли. Но только казалось. О нем не говорили, но и не забыли, и скажу тебе, отец мой, я очень боялся того часа, когда о нем вспомнят. Тайна была известна двум женщинам: Унанде, Матери небес, и Балеке, сестре моей, жене царя. Мои жены, Макрофа и Анаиди, подозревали ее. Такая тайна не могла быть сохранена. К тому же, Унанда и Балека не умели скрывать своей нежности к ребенку, который назывался моим сыном, но был ведь сыном царя Чаки и моей сестры Балеки, внуком Унанды! Частенько то та, то другая заходили в мой шалаш якобы к моим женам, брали ребенка на руки и ласкали его. Напрасно просил я их воздерживаться от этих знаков особого внимания к нему, любовь к ребенку брала верх. Кончилось тем, что Чака однажды увидел мальчика на коленях своей матери Унанды. — Какое дело моей матери до твоего мальчишки, Мопо? — спросил он меня подозрительно. — Разве она не может целовать меня, если ей так хочется ласкать ребенка? — и Чака дико расхохотался. Я только недоуменно пожал плечами, и вопрос на время заглох. Но с этого дня Чака приказал следить за своей матерью. Тем временем Умелопогас из мальчика превратился в здорового крепкого отрока — подобного ему не было в округе. С самого детства в характере мальчика замечалась угрюмость, он говорил мало и, подобно отцу своему Чаке, не знал чувства страха. Он любил только двух существ на земле — меня, Мопо, которого называл отцом, и Наду, считавшуюся его сестрой-близнецом. Среди мальчиков Умелопогас выделялся силою и храбростью, Нада же — прелестью и красотой. Скажу тебе откровенно, отец мой, мне кажется, в ее жилах текла не только кровь зулусов. Глаза ее были нежнее и больше, чем у женщин нашего племени, волосы длиннее и менее курчавы, а цвет лица девочки напоминал цвет чистой меди. Она пошла в свою мать Макрофу, хотя росла красивее матери и кого-либо из виденных мною женщин. Мать ее Макрофа принадлежала к племени сваци и попала в крааль Чаки вместе с другими пленными после одного из его набегов. Она считалась дочерью вождя из племени галакаци, но был ли вождь отцом ее? Макрофа рассказывала, что до ее рождения в краале ее отца проживал европеец, португалец, очень красивый, мастер делать железные вещи. Этот европеец любил мать моей жены, поговаривали, что Макрофа его дочь, а не вождя племени сваци. Мне известно, что за несколько месяцев до рождения Макрофы вождь сваци убил этого европейца. Никто, конечно, не может знать правды, и я говорю об этом лишь потому, что Нада имела больше черт европейцев, нежели наших соплеменниц, что естественно, если ее дед был европейцем. Умелопогас и Нада не разлучались. О, как они были милы! Дважды за время их детства Умелопогас спасал жизнь Нады. В первый раз дело было так. Однажды дети зашли далеко от крааля в поисках ягод. Незаметно забрались в страшную глушь, где их застала ночь. Утром, подкрепившись яйцами, они тронулись дальше, но не могли выбраться из незнакомого места, а тем временем снова наступил вечер и спустилась непроглядная мгла. Наступило еще одно утро. Дети изнемогали от усталости и голода — ягоды им не попадались. Нада, обессиленная, опустилась на землю, а Умелопогас все еще не терял надежды. Оставив Наду, он полез на гору и на склоне ее нашел много ягод и очень питательный корень, которым утолил свой голод. Мальчик добрался до самой вершины. И что же! Далеко на востоке он увидел белую полоску, похожую на стелющийся дым. Он сообразил, что видит водопад за царским жилищем. Бегом спустился он с горы с целым запасом кореньев и ягод в руках, прыгая и крича от радости. Наду он нашел без чувств. Над нею стоял шакал, обратившийся в бегство при приближении Умелопогаса. Как найти выход из такого положения? Самому спасаться? Или же лечь рядом с Надой и ждать смерти? Но мальчик снял свою кожаную сумку, разорвал ее, сделал из нее веревки и привязал ими Наду к своей спине. С этой ношей мальчик направился к царскому краалю. Ему бы никогда не удалось добраться — путь был слишком дальний, — но, к счастью, под вечер несколько царских посланных, проходя лесом, наткнулись на голого мальчика с привязанной к спине девочкой. Мальчик с палкой в руках, шатаясь, медленно продвигался вперед с блуждающими глазами и пеной у рта. От усталости он не мог даже говорить. Веревки глубоко врезались в его плечи. Узнав Умелопогаса, сына Мопо, люди помогли ему добраться домой. Наду они хотели оставить, думая, что она уже мертвая, но Умелопогас знаками указал на ее сердце. Оно еще билось. В конце концов, оба быстро поправились и еще сильнее полюбили друг друга. После этого я просил Умелопогаса сидеть дома, не выходить за ворота крааля и не водить сестру по диким, незнакомым местам. Но мальчик любил бродить, как дикий зверь, а куда шел он, туда шла и Нада. В один прекрасный день они опять ускользнули через открытые ворота и забрались в глубокую долину, пользующуюся дурной славой из-за привидений, которые якобы убивают всех, кто туда попадает. Не знаю, правда ли это, но в этой долине жила дикая женщина. Жилищем ей служила пещера, а питалась она тем, что ей удавалось убить, украсть или вырыть из земли. Женщина была сумасшедшей. Случилось это так: мужа ее заподозрили в колдовстве против царя и убили. Чака, по обычаю, послал разрушить его крааль. Воины пришли и убили всех его обитателей, даже трех молоденьких девушек. Закололи бы и мать, но на глазах у всех в нее вошел дух. Она сошла с ума. Тогда они отпустили ее, и с тех пор никто не решался ее трогать. Несчастная женщина убежала и поселилась в этой долине. Безумие ее заключалось в том, что где бы она ни видела детей, особенно девочек, ею овладевало непреодолимое желание убить их, как убили когда-то ее собственных детей. Такие случаи бывали не раз. Во время полнолуния, когда ее безумие усиливалось, женщина уходила очень далеко в поисках детей и, как гиена, выкрадывала их из краалей. И вот Умелопогас и Нада пришли в эту долину. Они присели около впадины с водой,вблизи ее пещеры, и, не подозревая об опасности, занялись плетением венков. Умелопогас отошел от Нады, чтобы поискать лилии, что растут на скалах: она любила их. Уходя, он что-то крикнул ей. Его голос разбудил женщину, спящую в пещере. Обыкновенно она выходила только ночью, подобно диким шакалам. Услышав голос мальчика, женщина вышла из пещеры, подчиняясь своим кровожадным инстинктам, в руке она держала копье. Увидев Наду, спокойно сидящую на траве, занятую цветами, женщина, крадучись, стала приближаться к ней с намерением убить ее. Когда она была уже в нескольких шагах, — я рассказываю со слов самой девочки, — Нада почувствовала около себя как бы ледяное дыхание. Невольный страх овладел девочкой, хотя она еще не замечала женщины, собиравшейся нанести ей смертельный удар. Нада отложила цветы, нагнулась над водой, и там увидела отражение кровожадного лица детоубийцы. Сумасшедшая подползла к ней сверху. Всклокоченные волосы закрывали ее лицо до бровей, глаза сверкали, как у тигрицы. Пронзительно вскрикнув, Нада вскочила и бросилась по тропинке, по которой ушел Умелопогас. Безумная дикими прыжками пустилась вслед за нею. Умелопогас услышал крик Нады, обернулся, бросился назад под гору и — о, ужас! — увидел безумную. Она уже схватила Наду за волосы и занесла копье, чтобы пронзить ее. Умелопогас не имел оружия, кроме короткой палки. С этой палкой он бросился на сумасшедшую и так сильно ударил ее по руке, что она выпустила девочку и с диким воплем бросилась на Умелопогаса, подняв копье. Мальчик отскочил в сторону. Опять она замахнулась на него, но он высоко подпрыгнул, и копье пролетело под его ногами. В третий раз женщина занесла копье, и хотя он бросился на землю, стараясь избежать удара, копье все же вонзилось ему в плечо. Женщина обернулась и бросилась на Наду, чтобы задушить ее. Умелопогас, стиснув зубы, вырвал копье из раны и ударил им сумасшедшую. Она же подняла большой камень и швырнула в мальчика с такой силой, что камень, ударившись о другой, разлетелся вдребезги. Мальчик же снова ударил женщину и на этот раз так ловко, что копье пронзило ее насквозь, и она замертво упала на землю. Нада перевязала глубокую рану на плече Умелопогаса. С большим трудом дети добрались до крааля, где рассказали мне эту историю. Однако дело на этом не кончилось. Некоторые из наших соплеменников стали роптать и требовать смерти мальчика за то, что он убил женщину, одержимую духом. Но я сказал, что никто не тронет его. Он убил безумную, защищая свою жизнь и жизнь сестры, а всякий имеет право защищаться. Если женщина и была одержима духом, — говорил я, — то злым. Добрый дух не станет требовать жизни детей, тем более, что у нас не принято приносить Аматонге человеческие жертвы даже во время войны — это делают только собаки племени базуто. Однако ропот не прекратился. Колдуны особенно настаивали на смерти мальчика, они предсказывали всевозможные несчастья в наказание за смерть безумной, одержимой духом, если убийца ее останется в живых. В конце концов дело дошло до самого царя. Чака призвал меня, Умелопогаса и колдунов. Сначала колдуны изложили свою жалобу, испрашивая смерти мальчика. Чака спросил, что случится, если мальчик не будет убит. Они ответили, что дух убитой женщины внушит ему чинить зло царскому дому. Чака поинтересовался, внушит ли дух причинить зло лично ему, царю. Колдуны спросили у духов и ответили, что опасность грозит не ему, а одному из членов царской семьи после него. На это Чака ответил, что ему нет дела до счастья или несчастья тех, кто будет после него. — Мальчик, — обратился он к Умелопогасу, отважно смотревшему ему прямо в глаза, как равный смотрит на равного, — что ты можешь сказать, чтобы не быть убитым, как того требуют эти люди? — А то, великий царь, — ответил он, — что я убил безумную, защищая свою собственную жизнь! — А если бы я, царь, приказал убить тебя, осмелился бы ты лишить жизни меня или моего посланного? Итонго, поселившийся в той женщине, несомненно, царственный дух, который приказал убить тебя, и ты должен был подчиниться его воле. Что ты можешь еще сказать в свою защиту? — А вот что, Слон, — ответил Умелопогас, — если бы я не убил женщину, то она убила бы мою сестру, которую я люблю больше своей жизни! — Это еще ничего не значит, — сказал Чака, — если бы я приказал убить тебя за что-нибудь, то были бы убиты все твои. Не мог ли поступить так же и царственный дух? Если ты не знаешь, что еще сказать, то ты должен умереть! Признаюсь, мне стало страшно. Я боялся, что Чака в угоду колдунам убьет того, кого называли моим сыном. Но мальчик Умелопогас поднял голову и храбро ответил, не как человек, просящий сохранить ему жизнь, а как человек, защищающий свое право. — Победитель врагов! Если этого не достаточно, то не будем больше говорить — вели меня умертвить. Ты, царь, не раз приказывал убить эту женщину. Те, кому ты приказывал, щадили ее, считая одержимой духом. Я же в точности исполнил приказание царя и убил ее. Я заслужил не смерти, а награды! — Хорошо сказано, Умелопогас! — ответил Чака. — Пусть дадут десять голов скота этому мальчику с сердцем взрослого человека, его отец будет стеречь их за него. Ты теперь доволен, Умелопогас? — Я беру должное и благодарю царя, потому что он платить не обязан, а дает по своей доброй воле! — ответил мальчик. Чака на мгновение замолчал, он начинал сердиться, но вдруг громко расхохотался. — Да, да, этот теленок похож на того, что был занесен много лет тому назад в крааль Сензангакона! Каким я был, таков и этот малый. Мальчик, иди своей дорогой, может быть, в конце ее найдешь тех, кто будет тебя встречать царским приветствием «Баете!». Но смотри! Не попадайся на моем пути — нам вместе тесно будет! А теперь ступай! Мы ушли, но я заметил, как колдуны продолжали ворчать про себя. Они были недовольны и предвещали всякого рода несчастья. Дело в том, что они завидовали мне и хотели поразить в самое сердце, погубив того, кого считали моим сыном.Глава 8
ВЕЛИКОЕ ИНГОМБОКО
До конца Праздника плодов было тихо, спокойно, хотя немало людей погибло во время Великого Ингомбоко — травли колдунов. Многих заподозрили в колдовстве против царя. В то время вся страна зулусов трепетала перед чародеями. Никто не мог спать спокойно, уверенный, что утром не тронут его жезлом Изангузи сыщики колдунов и не приговорят к смерти. Чака молчал довольный, пока Изангузи выслеживали тех, от кого он сам хотел отделаться, но они в своих интересах подвергли смерти и его любимцев. Царь стал гневаться. Обычай страны требовал немедленной смерти тех, на кого указали колдуны. Это был приговор, от которого сам царь редко мог спасти даже тех, кого любил. Однажды ночью меня позвали к царю: он был нездоров. Именно в этот день происходило Ингомбоко, и пятерых храбрейших военачальников заподозрили вместе со многими другими. Всех их умертвили, а также их жен и детей. Чака, очень рассерженный этими убийствами, обратился ко мне: — Мопо, сын Македама, теперь в стране зулусов правят колдуны, а не я! Чем же это кончится? Чего доброго, они меня самого заподозрят и убьют! Эти Изангузи одолевают меня, они покрывают страну, как черные тени. Научи меня, как отделаться от них. — Тот, кто идет по мосту из копий, о царь, падает в бездну небытия! — ответил я мрачно; — Сами колдуны не могут удержаться на этом мосту. Разве у колдунов не такое же сердце, как у других людей? Разве кровь их нельзя пролить? Чака как-то странно взглянул на меня. — Ты, однако, храбрый человек, Мопо, что осмеливаешься говорить такие слова мне, — сказал он, — разве ты не знаешь, что тронуть Изангузи — кощунство? — Я говорю то, что сам царь думает, — отвечал я. — Это правда, что тронуть настоящего Изангузи — кощунство. А если Изангузи — лжец? А что, если он обрекает на смерть напрасно и лишает жизни неповинных людей? Разве кощунство — подвергнуть его той же участи, которую он готовит другим? Скажи-ка, царь! — Это ты хорошо сказал, Мопо, — ответил Чака. — А теперь скажи мне, сын Македама, как можно доказать это? Я нагнулся и шепотом сказал царю несколько слов на ухо. Чака уныло склонил голову. Я, отец мой, видел зло, причиняемое Изангузи. Я ведь знал все их тайны и бояться за собственную жизнь и жизнь дорогих моему сердцу людей имел основание. Все колдуны и Изангузи ненавидели меня — человека, знакомого с их колдовством, имеющего проницательный взор и тонкий слух. Однажды утром после разговора с царем в краале произошло небывалое. Царь выскочил утром из своего шалаша, громко созвал народ, чтобы показать зло, содеянное ему неизвестным колдуном. Все немедленно сбежались к воротам Интункуму — жилища царя и увидели большие кровавые пятна. Храбрейшие из воинов почувствовали, что колени их подкосились, женщины громко плакали, как плачут над покойниками. Они плакали потому, что знали весь ужас такого предзнаменования. — Кто это сделал? — кричал Чака громовым голосом. — Кто осмелился околдовать царя и пролить кровь на пороге его дома? Все молчали. Чака снова заговорил. — Такое преступление не отмыть кровью двух или трех и не забыть! Человек, совершивший его, отправится не один, а со многими другими в царство духов. Все племя умрет вместе с ним, не исключая младенцев в его шалаше и скота в его краале! Идите, гонцы, на восток, на запад, на север, на юг, созовите именитых колдунов. Пусть они позовут начальников каждого отряда и вождей каждого племени! На десятый день соберется круг Ингомбоко, и начнется такое выслеживание колдунов и ведьм, какого еще доселе не бывало в стране зулусов! Гонцы тотчас же отправились исполнять приказание царя. И вот стали стекаться люди к вратам царского крааля и ползком приближались к царю, громко восхваляя его. Но царь никого не удостоил вниманием. Только одного из военачальников он приказал немедленно предать смерти, заметив в его руке трость из королевского алого дерева, которую Чака когда-то сам же и подарил ему. В ночь перед собранием Ингомбоко сто колдунов и пятьдесят колдуний вступили в крааль. Человеческие кости, рыбьи и волчьи пузыри, змеиные кожи, надетые на них, делали их отвратительными и страшными. Они шли молча, пока не достигли царского жилища Интункуму. Тут они остановились и хором начали песню, которую поют перед началом Ингомбоко. Окончив ее, они молча отошли на место, указанное им, где провели ночь в непрерывном бормотании и чародействе. Призванные издалека дрожали от страха, прислушиваясь к их словам. Они знали, что многих из них отметит обезьяний хвост раньше, чем солнце успеет сесть еще раз. Я тоже дрожал от страха. Ах, отец мой, тяжело было жить во времена царя Чаки. Все принадлежали царю, а те, кого щадила война, были во власти колдунов. На рассвете глашатаи начали созывать весь народ на царское Ингомбоко. Люди приходили сотнями. В руках они держали только короткие палки — иметь при себе какое бы то ни было оружие запрещалось под страхом смерти. Они усаживались в большой круг перед воротами царского жилища. О! Вид они имели грустный. Богатый пир готовила себе смерть. Прислуживать ей будут воины, рослые и свирепые, вооруженные одними керри, — палачи. Наконец все было готово. Из своего шалаша вышел царь, одетый в плащ из звериных шкур, на голову выше всех присутствующих. За ним — индуны и я. При появлении Чаки вся бесчисленная толпа бросилась на землю, и уста каждого пронзительно и отрывисто прокричали царское приветствие: «Баете!» Чака, казалось, не обратил на них ни малейшего внимания, чело его затуманилось, как горная вершина, задернутая облаками. Воцарилось гробовое молчание. Затем из отдаленных ворот вышла толпа девушек, одетых в блестящие одежды, с зелеными ветвями в руках. Подойдя ближе, девушки захлопали в ладоши и затянули нежными голосами какой-то напев, а затем столпились позади нас. Чака поднял руку, и тотчас раздался топот бегущих ног. Из-за царского шалаша показалась целая группа Абоягоме-колдунов, мужчины — по правую сторону, женщины — по левую. Каждый из них держал в левой руке хвост дикого зверя, в правой — пучок стрел и маленький щит. Отвратительное зрелище! Кости, украшавшие их одежды, гремели при каждом движении, пузыри и змеиные кожи развевались за ними по ветру, лица, натертые жиром, блестели, глаза были вытаращены, точно у рыб, а губы подергивались. Они яростно осматривали сидящих в кругу. Ха! Ха! Ха! Эти дети зла тоже не знали, кто из них еще до заката станет палачом, а кто жертвой. Но вот они стали приближаться в глубоком молчании, нарушаемом лишь топотом их ног да сухим бренчанием костяных ожерелий. Вот они выстроились в ряд перед царем. Так стояли они мгновение. Вдруг все одновременно протянули руки, с маленькими щитами и все в один голос закричали: — Здравствуй, отец наш! — Здравствуйте, дети мои! — ответил Чака. — Что ты ищешь, отец? — спросили они. — Крови? — Крови виновного! — ответил Чака. Они повернулись и заговорили шепотом между собой, женщины переговаривались с мужчинами. — Лев зулусов жаждет крови! — Он насытится! — закричали женщины. — Лев зулусов чувствует кровь! — Он увидит ее! — опять закричали женщины. — Взор его выслеживает колдунов! — Он сосчитает их трупы! — Замолчите! — крикнул Чака. — Не теряйте времени в напрасной болтовне, приступайте к делу. Слушайте! Чародеи околдовали меня! Чародеи осмелились пролить кровь на пороге царского дома. Ройтесь в недрах земли и найдите виновных, вы, крысы! Облетите воздушные пространства и найдите их, вы, коршуны! Обнюхайте ворота жилищ и назовите их, вы, шакалы, ночные охотники! Тащите их из пещер, где они прячутся, верните их из далеких стран, если они убежали, вызовите их из могил, если они умерли. К делу! К делу! Укажите мне их, и я щедро награжу вас, и даже если это целый народ, уничтожьте его. Теперь начинайте! Начинайте группами в десять человек. Вас много — все должно быть окончено до заката солнца! — Все будет исполнено, отец! — отвечали, хором колдуны. Тогда десять женщин выступили вперед во главе с самой известной колдуньей того времени престарелой Нобелой. Для нее темнота почти не существовала, она обладала чутьем собаки, ночью слышала голоса мертвых и в точности передавала все услышанное. Остальные Изангузи обоего пола сели полукругом перед царем. Нобела выступила вперед, а за нею — девять ее подруг. Они поворачивались к востоку, к западу, к северу и югу, зорко вглядываясь в небеса. Они поворачивались, стараясь проникнуть в сердца людей. Потом, как кошки, поползли по всему кругу, обнюхивая землю. Все это происходило в глубоком молчании. Каждый из сидящих в кругу прислушивался к биению своего сердца. Одни коршуны пронзительно кричали на деревьях. Наконец Нобела заговорила: — Вы чувствуете его, сестры? — Чувствуем! — ответили те. — Он на востоке, сестры? — Да, на востоке! — отвечали они. — Не сын ли он чужеземца, сестры? — Да, он сын чужеземца! Колдуньи поползли на руках и коленях и остановились у того места, где я сидел около царя. Индуны переглянулись и позеленели от страха, а у меня, отец мой, затряслись колени, костный мозг превратился в воду. Я отлично понимал, кого они называли сыном чужеземца. Конечно, меня, отец мой. Меня-то они и собирались выследить. Если же меня заподозрят в чародействе, то убьют со всем моим семейством, и даже клятва царя едва ли спасет меня от приговора колдуний. Я смотрел на свирепые лица Изангузи передо мной, следил, как они ползут, точно змеи. Я увидел палачей, уже схватившихся за свое оружие, готовых приступить к исполнению своих обязанностей. Да, чаша горечи моей переполнена. Но тут я вспомнил, о чем шепнул царю, для чего созван Ингомбоко, и надежда вернулась ко мне, подобно первому лучу рассвета после бурной ночи. Но… что если царь лишь подставил мне ловушку, чтобы вернее поймать меня? Колдуньи уже остановились прямо передо мной. — Оправдывается ли наш сон? — спросила престарелая Нобела. — Виденное во сне сбывается наяву! — отвечали колдуньи. — Не шепнуть ли вам его имя, сестры? Женщины, как змеи, подняли головы, костяные ожерелья звякнули на их худых шеях. Затем они соединили головы в круг, а Нобела просунула свою среди них и что-то произнесла. — Ага! Ага! — засмеялись они. — Мы слышим тебя. Ты верно назвала его. Пускай его имя будет произнесено перед лицом Неба, как и всего его дома! Все вдруг вскочили на ноги и бросились ко мне со старухой Нобелой во главе. Они прыгали вокруг, указывая на меня звериными хвостами, а старуха Нобела ударила меня этим хвостом по лицу и громко закричала: — Привет тебе, Мопо, сын Македама! Ты тот самый человек, который пролил кровь на пороге царского дома с целью околдовать царя. Да погибнет весь твой род! Я видел, как она подошла ко мне, чувствовал удар по лицу, но ощущал все это, как во сне. Я слышал шаги палачей, когда они ринулись вперед, чтобы схватить меня и предать ужасной смерти, язык прилип к моей гортани, и я не мог произнести ни слова. Я взглянул на царя и разобрал слова, сказанные им вполголоса: «Близко к цели, а все же мимо!» Он поднял свое копье, и все смолкли. Палачи остановились, колдуньи замерли с простертыми руками, вся толпа застыла, точно окаменев. — Стойте! — крикнул царь. — Отойди в сторону, сын Македама, прозванный злодеем! И ты, Нобела отойди в сторону вместе с теми, кто назвал его злодеем. Что? Вы думали, я удовлетворюсь смертью одной собаки? Продолжайте выслеживать, коршуны, выслеживайте группами по очереди! Днем работа, ночью пир! Я встал, крайне удивленный, и отошел в сторону. Колдуньи отошли в другую, совершенно озадаченные. Никогда еще не было такого выслеживания в стране. До сих пор минута, когда человека касался хвостом Изангузи, считалась минутой его смерти. Отчего же, спрашивал каждый из присутствующих, на этот раз смерть отступила? Колдуньи тоже недоумевали и вопросительно смотрели на царя, как смотрят на грозовую тучу, ожидая молнии. Царь молчал. Итак, мы стояли в стороне, пока следующая группа Изангузи начала свой обряд. Они делали то же, что и предыдущая, а все же разница была: по обычаю Изангузи, каждая группа выслеживала по-своему. Эта группа ударила по лицу некоторых царских советников, обвиняя их в колдовстве. — Станьте и вы в сторону, — сказал царь тем, на которых указали Изангузи, — а вы, указавшие на их преступность, станьте радом с теми, кто назвал Мопо, сына Македама. Быть может, все тоже виновны! Приказание царя было исполнено, и третья группа начала свое дело. Она указала на некоторых из военачальников и в свою очередь получила приказание стать в сторону. Так продолжалось целый день. Группа за группой приговаривала своих жертв. Наконец колдуньи закончили и по приказу царя отошли туда же, где стояли их жертвы. Тогда Изангузи мужского пола начали проделывать то же самое, но я заметил, что они чего-то смутно боялись, как бы предчувствуя западню. Тем не менее, приказание царя необходимо выполнять. Хотя колдовство и не могло помочь им, но жертвы должны быть указаны. Нечего делать — они выслеживали то того, то другого, пока не набралось очень много осужденных. Мы сидели молча на земле, гладя друг на друга грустными глазами, в последний раз, как мы думали, любуясь закатом солнца. Надвигались сумерки, и тех, кого колдуны не тронули, обуревало все большее исступление. Они прыгали, скрежетали зубами, катались по земле, ловили змей, пожирали их живыми, обращались к духам, выкрикивали имена древних царей. Наступил вечер, и последняя группа колдунов окончила свое дело, указав на нескольких стражей Эмпозени — дома царских женщин. Только один из колдунов этой последней группы — молодой человек высокого роста, не принимал участия в выслеживании. Он стоял один посреди большого круга, устремив глаза к небу. Когда этой последней группе было приказано стать вместе с теми, кого они наметили своими жертвами, царь громко окликнул молодого человека, спрашивая его имя, какого он племени, и почему не принимал участия в выслеживании. — Зовут меня Индабацимба, я сын Арии, о царь! — ответил он. — Я принадлежу к племени маквилизани. Прикажешь ли мне назвать, как подсказали мне духи, виновника этого деяния? — Приказываю тебе! — сказал царь. Тогда молодой человек по имени Индабацимба выступил из круга и, не делая никаких движений, не произнося ни одного заклинания, уверенно, как человек, знающий, что он делает, подошел к царю и ударил его хвостом по лицу, сказав: — Я выслеживаю тебя, Небо! [169] Крик изумления пробежал по толпе. Все ожидали немедленной смерти безумца, но Чака встал и громко рассмеялся. — Ты сказал правду! — воскликнул он. — Ты один! Слушайте, вы все! Я сделал это! Я пролил кровь на пороге моего дома! Я сделал это собственными руками, чтобы узнать, кто обладает настоящим знанием, а кто из вас обманывает меня. Оказывается, во всей стране зулусов один настоящий колдун — этот юноша, а обманщиков — взгляните на них, сочтите их! Они бесчисленны, как листья на деревьях. Смотрите! Вот они стоят рядом с теми, кого они осудили на смерть — невинные жертвы, осужденные ими вместе с женами и детьми на собачью смерть! Теперь я спрашиваю вас всех, весь народ, какого они достойны возмездия? Громкие крики раздались в толпе. — Пусть они умрут, о царь! — Да! — ответил он. — Пусть они умрут смертью, достойной лгунов и обманщиков. Изангузи, как женщины, так и мужчины, стали громко кричать от страха, они молили о пощаде, царапали себя ногтями — никто из них не желал вкусить собственного смертельного лекарства. Царь же громко смеялся, слушая их крики. — Слушайте, вы! — сказал он, обращаясь к толпе, где и я стоял среди осужденных. — Вас обрекли на смерть эти лживые пророки. Теперь настал ваш черед. Убейте их, дети мои! Убейте их всех. Сотрите их с лица земли! Всех! Всех! За исключением этого молодого человека! Мы повскакивали с земли, исполненные ярости и злобы, со страшным желанием отомстить за пережитый нами ужас. Осужденные карали своих судей. Громкие крики и хохот раздались в кругу Ингомбоко — люди радовались своему избавлению от ига колдунов. Наконец все кончилось! Мы отошли от груды мертвых тел — наступила тишина. Ни криков, ни мольбы, ни проклятий. Лживые колдуны получили то, на что обрекали стольких невинных людей. Царь подошел поближе посмотреть на их трупы. Те, кто исполнял его приказание, склонились перед ним и отползли в сторону, громко прославляя царя. Я один стоял перед ним, я не боялся стоять в присутствии царя Чаки, который подошел ближе и смотрел на груду мертвых тел и на облако пыли, еще не успевшее опуститься на землю. — Вот они лежат здесь, Мопо! Лежат те, кто осмелился обманывать царя! Ты мудро посоветовал мне, Мопо, ты научил меня расставить им ловушку, однако мне показалось, что ты вздрогнул, когда Нобела, царица ведьм, указала на тебя. Ну, ладно! Они убиты — теперь страна вздохнет свободней, а зло, причиненное ими, рассеется, подобно этому облаку пыли. И вдруг царь Чака замолк. Что это? Как будто что-то шевелится за этим облаком пыли? Чья-то фигура медленно прокладывает себе дорогу через груду мертвых тел. Медленно поднималась она, с трудом отстраняя мертвые тела, пока не стала на ноги и, шатаясь, направилась к нам. Что за ужасное зрелище! Перед нами стояла, вся в крови и грязи, Нобела, осудившая меня и восставшая из мертвых проклясть меня. Вот она все ближе. Одежда висит на ней кровавыми лохмотьями, сотни ран покрывают ее тело и лицо. Я видел, что она умирает, но жизнь еще теплилась в ней, и огонь ярости и ненависти горел в ее змеиных глазах. — Да здравствует царь! — воскликнула она. — Молчи, лгунья! — ответил Чака. — Ты мертва! — Нет… еще нет, царь! Я услыхала твой голос и голос этого пса, которого охотно отдала бы на съедение шакалам, и не хочу умереть, не сказав тебе нескольких слов на прощанье. Я выследила тебя сегодня утром, пока еще была жива, теперь, когда я почти мертвая, я снова выслеживаю тебя. О царь, он околдует тебя, верь мне, Чака. Он и Унанда, мать твоя, и Балека, жена твоя. Вспомни меня, царь, когда смертельное оружие в последний раз блеснет перед твоими глазами. Прощай! Старуха с диким криком повалилась мертвая на землю. — Колдуньи упорно лгут и нехотя умирают! — небрежным голосом произнес Чака, отвернувшись от трупа. Но слова умирающей старухи запали в его душу, особенно то, что было сказано про Унанду и Балеку. Подобно зернам, падающим в землю, они проросли и со временем дали плоды. Так закончилось великое Ингомбоко царя Чаки, когда-либо происходившее в стране зулусов.Глава 9
КАК МЫ ПОТЕРЯЛИ УМЕЛОПОГАСА
После великого Имгомбоко Чака приказал установить надежный надзор за своей матерью Унандой и женой Балекой, сестрой моей. Ему было доложено, что обе женщины тайком приходили в мой шалаш, нянчили и целовали мальчика — одного из моих детей. Чака вспомнил предзнаменование колдуньи Нобелы, и в сердце его закралось подозрение. Меня он не допрашивал и не считал способным на заговор. Тем не менее, вот что он предпринял, не знаю, отец мой, нарочно или без умысла. Чака послал меня с поручением к племени, живущему на берегу реки Амаскази. Я должен был сосчитать скот, принадлежащий царю и порученный попечению этого народа, чтобы дать отчет о приплоде. Я низко склонился перед царем, сказав, что, как собака, исполню его приказание, и он дал мне стражу. Затем я отправился домой проститься с моими женами и детьми. Одна из жен моих Анаиди, мать Мусы, тяжко занемогла. Странные вещи приходили ей в голову, она бредила ими вслух. Ее, несомненно, околдовал один из врагов моего дома. Однако остаться я не мог, а должен был идти исполнять поручение царя, что и сообщил второй своей жене, Макрофе — матери Нады и, как все думали, Умелопогаса. Но когда я сообщил Макрофе о своем уходе, она залилась горькими слезами и прижалась ко мне. На мой вопрос, отчего она так плачет, Макрофа ответила, что на душе ее уже лежит тень несчастья, она уверена, что по возвращении не найду в живых ни ее, ни Наду, ни Умелопогаса, любимого мною, как сына. Я старался успокоить жену, но чем больше я уговаривал, тем сильнее она рыдала, повторяя, что она совершенно уверена в том, что предчувствие ее не обманывает. Тронутый ее слезами, я спросил, как же нам быть. Ее страх невольно передался мне, подобно тому, как тени ползут с долины на гору. — Возьми меня с собой, дорогой супруг мой, — умоляла она, — дай мне уйти из этой проклятой страны, где само Небо ниспосылает кровавый дождь, и позволь мне жить на моей родной стороне, пока не пройдет время страшного царя Чаки! — Но как я могу это сделать? — спросил я. — Никто не смеет покинуть царский крааль без разрешения на то самого царя! — Муж может прогнать свою жену! — возразила Макрофа. — Царь не вмешивается в отношения мужа и жены. Скажи мне, милый муж, что ты больше не любишь меня, что я не приношу детей, и поэтому ты отсылаешь меня на родину. Со временем мы опять соединимся, если только будем живы! — Хорошо, будь по-твоему. Уходи из крааля сегодня ночью вместе с Надой и Умелопогасом, а завтра утром встретимся на берегу реки и вместе продолжим путь. А там, что будет, да сохранят нас духи отцов наших! Мы обнялись, и Макрофа тайком вышла из крааля вместе с детьми. На рассвете я собрал людей, назначенных царем для сопровождения меня, и мы отправились в путь. Солнце поднялось высоко, когда мы подошли к берегу реки. Макрофа ждала меня с детьми, как было условлено. Они встали при нашем приближении, но я успел взглянуть на жену, грозно нахмурив брови, что удержало ее от приветствия. Сопровождавшие меня воины с недоумением смотрели на меня. — Я развелся с этой женщиной, — объяснил я им, — она увядшее дерево, негодная, старая ведьма, я взял ее с собой, чтобы отослать в страну Сваци, откуда она взята. Перестань реветь! — обратился я к Макрофе. — Мое решение неизменно! — А что говорит на это царь? — спросили люди. — Я сам буду отвечать перед царем! — сказал я, и мы пошли дальше. Теперь я должен рассказать, как мы лишились Умелопогаса, сына царя Чаки. В ту пору он был уже вполне взрослым юношей крутого нрава, высоким и безумно храбрым для своих лет. Итак, мы путешествовали уже семь дней. К ночи седьмого дня мы достигли гористой местности. Здесь нам встречалось мало краалей: Чака разграбил их много лет тому назад. Тебе, может быть, знакома эта местность, отец мой? Там большая и необыкновенная Гора Привидений, на которой водятся привидения. Серая заостренная вершина ее своими очертаниями напоминает голову старухи. В этой дикой местности нам пришлось переночевать. Темнота быстро надвигалась. Вскоре мы убедились, что в скалах кругом нас много львов. Мы слышали их рев, было очень страшно всем, кроме Умелопогаса. Этот ничего не боялся. Мы окружили себя изгородью из веток терновника и приютились за нею, держа оружие наготове. Скоро выглянула полная луна и светила так ярко, что мы видели все далеко вокруг. На расстоянии шести полетов копья от нас высилась скала, а на вершине ее — пещера. Когда луна поднялась выше, мы увидели, что львы вышли из логова и остановились на краю скалы. Около них, точно котята, играли два львенка. Если бы не опасность нашего положения, можно было бы залюбоваться этой картиной. — О, Умелопогас, — сказала Нада, — я бы хотела иметь одного из этих зверьков вместо собаки! Юноша рассмеялся и ответил: — Если хочешь, я достану тебе одного из них, сестрица! — Оставь, малый, — сказал я, — человек не может взять львенка из логова, не поплатившись за это жизнью! — Однако, отец, это возможно! — ответил он, и разговор на этом прекратился. Когда львята наигрались, львица захватила их в пасть и отнесла в пещеру. Через минуту она снова вышла и вместе с самцом отправилась за добычей. Вскоре мы услышали их рев в некотором отдалении. Тогда мы сложили большой костер и спокойно легли спать внутри изгороди, зная, что львы заняты охотой и ушли от нас далеко. Один Умелопогас не спал. Оказалось, что он решил исполнить желание Нады, — достать маленького льва. Когда все уснули, Умелопогас, как змея, выполз из-за терновой изгороди и с ассегаем направился ползком к подножию скалы, к логовищу львов. Затем он вскарабкался на скалу и, подойдя к пещере, стал ощупью пробираться к ней. Львята, услышав шум, подумали, что мать вернулась с пищей, и стали визжать и мурлыкать. Умелопогас дополз до того места, где лежали маленькие, протянул руку и схватил одного из них — другого он убил, потому что не мог бы унести обоих. Юноша очень торопился, сознавая, что должен успеть уйти до возвращения больших львов, и вернулся к забору, где мы лежали. Начало светать. Я проснулся, поднялся с земли, оглянулся кругом. И что же? За колючей изгородью стоял Умелопогас и громко смеялся. В зубах он держал ассегай, с которого еще капала кровь, а в руках его барахтался молодой львенок. Он ухватил его одной рукой за шерсть на загривке, а другой за задние лапы. — Просыпайся, сестрица! — закричал он. — Вот собака, которую ты хотела иметь. Сейчас она кусается, но скоро будет ручной! Нада проснулась и, увидев львенка, закричала от радости, я же замер от ужаса. — Безумец! — закричал я. — Выпусти львенка, пока львы не пришли растерзать нас! — Я не хочу выпускать его, отец, — угрюмо ответил он. — Нас здесь пятеро вооруженных копьями, неужели же мы не справимся с двумя кошками? Я не побоялся один идти в их логовище, а ты боишься встретиться в ними на открытом месте! — Ты с ума сошел! — ответил я. — Брось его сейчас же! И я кинулся к Умелопогасу, чтобы отнять у него львенка. Он быстро схватил львенка за голову, свернул ему шею и бросил на землю. — Ну вот, смотри. В этот миг мы услышали громкий рев. — Скорее в изгородь! — закричал я, и мы оба перескочили через колючую преграду, где наши спутники схватились за копья, дрожа от страха и утреннего холода. Взглянув наверх, мы увидели, что львы спускались со скалы по следам того, кто похитил их детей. Впереди шел лев и страшно ревел, за ним следовала львица. Она не могла реветь потому, что держала во рту львенка, убитого Умелопогасом в пещере. Вот они, разъяренные, приближались к нам с ощетинившимися гривами, бешено размахивая хвостами. Подойдя совсем близко к нам, они наткнулись на второго детеныша. Львы остановились, обнюхали его и заревели так, что, казалось, земля тряслась. Львица выпустила изо рта детеныша и схватила другого. — Стань за мной! — крикнул Умелопогас, поднимая копье. — Лев собирается прыгнуть! Огромный зверь присел, затем взвился в воздух и, как птица, пролетел пространство, разделявшее нас. — Ловите его на копья! — крикнул Умелопогас, и мы поневоле исполнили приказание мальчика. Столпившись в одно место, мы выставили наши копья таким образом, что лев, подпрыгнув, упал прямо на них, причем они глубоко вонзились в его тело. Тяжесть его падения сбила нас с ног, лев катался по земле, рыча от ярости и боли. Он встал на ноги, хватаясь зубами за копья, вонзившиеся ему в грудь. В голове Умелопогаса, стоявшего в стороне во время падения льва, очевидно, созрел свой план. С диким криком он вонзил свой ассегай в плечо разъяренного зверя. Лев протяжно застонал и свалился замертво. Тем временем львица стояла вне загородки, держа в зубах второго убитого детеныша, она не могла решиться бросить их, но услышав предсмертный стон самца, выронила львенка и сжалась, готовясь к прыжку. Умелопогас стоял один прямо перед ней, он только что успел вытащить свой ассегай из тела убитого льва. Разъяренная львица в один миг очутилась около мальчика, стоявшего неподвижно, точно каменное изваяние. Она наткнулась на копье, которое он держал вытянутым перед собой, оно переломилось, и Умелопогас упал замертво, придавленный тяжестью львицы. Она тотчас же вскочила, сломанное копье все еще торчало в ее груди, обнюхала мальчика и, как бы узнав в нем похитителя своих детей, схватила его за пояс и перепрыгнула со своей ношей через изгородь. — О, спасите его! — закричала Нада отчаянным голосом. Мы все кинулись с громким криком в погоню за львицей. На минуту она остановилась над мертвыми своими детенышами. Тело Умелопогаса висело у нее в пасти, она смотрела на своих малышей, как бы в некотором недоумении. В нас блеснула надежда, что она бросит Умелопогаса, но, услышав наши крики, львица повернулась и исчезла в кустах, унося его с собой. Мы схватили копья и кинулись за нею, однако почва вскоре стала каменистая, и мы не могли найти следов львицы. Она исчезла бесследно, как исчезает облако. А вместе с ней и Умелопогас. Мы вернулись. О, как тяжело сжималось сердце! Я любил мальчика так же нежно, как и своих родных сыновей. И вот он погиб… — Где мой брат? — воскликнула Нада, когда мы пришли без него. — Он погиб, — отвечал я. Девушка бросилась на землю с громкими рыданиями. — О, как бы я хотела погибнуть вместе с ним! — воскликнула она. — Идем дальше! — сказала Макрофа. — Неужели ты не оплакиваешь своего сына? — спросил ее один из наших спутников. — К чему плакать над мертвыми? Разве слезы могут вернуть их к жизни? — ответила Макрофа. — Пойдемте! Эти слова, очевидно, показались странными нашему спутнику, но он ведь не знал, отец мой, что Умелопогас не родной сын ее. Однако мы остались еще на день в этом месте в надежде, что львица вернется к своему логову, и нам удастся по крайней мере убить ее. Но она больше не возвращалась. Прождав напрасно целый день, мы дождались утра, свернули наши покрывала и с тяжелым сердцем продолжили наш путь. В душе я недоумевал, зачем судьба позволила мне вырвать жизнь этого мальчика из когтей Льва зулусов, чтобы отдать его на растерзание горной львицы? Тем временем мы продвигались вперед, пока не дошли до крааля, где я должен был исполнить приказание царя и где мне предстояло расстаться с женой. Нежно поцеловавшись украдкой, хотя на людях враждебно глядели друг на друга, мы расстались, как расстаются те, кому не суждено уже более встретиться на земле. Духи подсказывали нам, что мы никогда более не увидимся. Так оно и оказалось на самом деле. Я отвел Наду в сторону и сказал ей: — Мы расстаемся, дочь моя, и не знаю, свидимся ли когда-нибудь. Времена тяжелые, и ради безопасности твоей и матери я лишаю себя радости видеть вас. Нада, ты уже почти женщина, прекраснее всех женщин нашего племени. Многие знатные люди будут свататься к тебе. Меня, твоего отца, не будет, возможно, с тобой. Я не смогу выбрать тебе мужа по обычаю нашей страны. Но я завещаю тебе, если это будет возможно, выбери человека, которого ты сможешь любить. Это единственный залог счастья для женщины! Но Нада взяла меня за руку и, гладя на меня своими прекрасными глазами, сказала: — Отец, не говори со мной о замужестве, я не буду ничьей женой. Умелопогас погиб из-за моего легкомыслия. Я проживу и умру одна. О, скорее бы дождаться этой минуты и соединиться с любимым человеком! — Послушай, Нада, — сказал я. — Умелопогас был тебе братом, и тебе не подобает так говорить о нем даже теперь, когда его нет в живых! — Это меня не касается, отец, — ответила Нада, — я говорю то, что сердце подсказывает мне, а оно говорит мне, что я любила Умелопогаса живого и буду любить его мертвого до самой своей смерти. Ах, вы все считаете меня ребенком, но сердце мое горячо и не обманывает меня! Я не стал более уговаривать девушку. Я-то знал, что Умелопогас ей не брат, она вполне могла быть его женой. Я мог только удивляться, как ясно говорил в ней голос крови, подсказывая ей естественное чувство. — Утешься, Нада, — успокоил я ее, — то, что нам дорого на земле, станет нам еще дороже на небесах. Я твердо верю, что человек создан для того, чтобы, умерев на земле, возвратиться снова к Умкулункулу. Теперь прощай! Мы поцеловались и расстались. О, как мне было грустно! Только что я потерял Умелопогаса. Но еще тяжелее казалась мне разлука с женой и дочерью.Глава 10
ПЫТКА МОПО
Четыре дня я пробыл в шалашах племени, к которому привела меня царская воля. На пятое утро я собрал сопровождавших меня, и мы снова направили свои стопы к краалю царя. В пути мы встретили отряд воинов, приказавших нам остановиться. — Что надо вам, царские слуги? — смело спросил я их. — Слушай, сын Македама! — ответил их посредник. — Ты должен передать нам жену свою Макрофу и твоих детей Умелопогаса и Наду. Таков приказ царя! — Умелопогас, — отвечал я, — ушел за пределы царской власти, ибо его нет в живых, жена же моя Макрофа и дочь Нада находятся у племени сваци, и царю придется послать армию их отыскивать! С ненавистной мне Макрофой пусть царь делает, что хочет, я развелся с ней. Девушка? Конечно, невелика важность, коль она умрет, девушек ведь много, но я буду просить о ее помиловании! Все это я говорил беззаботно, ибо хорошо знал, что жена моя и дочь вне власти Чаки. — Проси, проси милости! — сказал воин, смеясь. — Все остальные, рожденные тобой, умерли по приказанию царя! — Неужели? — спокойно ответил я, хотя колени мои дрожали, язык прилип к гортани. — На то царская воля! Подрезанная ветвь дает новые ростки, у меня будут другие дети! — Так, Мопо, но раньше найди жен, ибо твои умерли! — В самом деле? — отвечал я. — Что же, и тут царская воля. Мне самому надоели эти крикуньи! — Слушай же дальше, Мопо, — продолжал воин, — чтобы иметь новых жен, надо жить, от мертвых не рождается потомство, а мне сдается, что Чака уже точит тот ассегай, который снесет тебе голову! — Пусть так, — ответил я, — царь лучше знает. Высоко солнце над моей головой и долог путь. Убаюканные ассегаем крепко спят! Так говорил я, отец мой, и правда, мне хотелось умереть. Мир после этих утрат был пуст для меня. Моих спутников допросили, чтобы выяснить, правду ли я говорю, и мы двинулись в путь. Дорогой я постепенно узнал все, что произошло в царском краале. После моего ухода лазутчики донесли Чаке, что вторая жена моя Анаиди занемогла и в беспамятстве повторяет загадочные слова. Когда зашло солнце, Чака взял с собой трех воинов и пошел с ними в мой крааль. Он оставил воинов у ворот, приказав им не пропускать никого ни туда, ни обратно, а сам вошел в шалаш, где лежала больная Анаиди, вооруженный своим маленьким ассегаем с рукояткой из алого царского дерева. В шалаше находилась, Унанда и Балека, пришедшие поласкать Умелопогаса. Но они нашли только других моих детей и жен. Тогда они отослали всех, кроме Мусы, сына больной Анаиди, того самого мальчика, который родился восьмью днями раньше Умелопогаса. Задержав Мусу в шалаше, они стали ласкать его, иначе равнодушие их к другим детям возбудит подозрение остальных жен. Когда они так сидели, в дверях вдруг мелькнула чья-то тень, сам царь подкрался к ним и увидел, как они нянчились с Мусой. Они же, узнав его, бросились к его ногам, славя. Но он угрюмо улыбнулся и велел им сесть. Потом обратился со словами: — Вас поражает, Унанда, мать моя, Балека, жена моя, почему я пришел сюда в шалаш Мопо, сына Македама? Мне сказали, что его жена Анаиди занемогла. Не она ли там лежит? Как первый врач в стране, я пришел излечить ее, знайте это, Унанда, мать моя, Балека, жена моя! Так говорил он, огладывая их и понюхивая табак с лезвия своего маленького ассегая, но они дрожали от страха, так как знали, что если Чака говорит коротко — замышляет смерть. Унанда, Мать небес, ответила ему, что они рады его приходу, ибо его лекарство, наверное, успокоит больную. — Конечно, — сказал он, — меня забавляет, мать моя и сестра, видеть, как вы ласкаете вот этого ребенка. Даже если бы он был вашей крови, вы не могли бы любить его больше! Опять они задрожали и молились в душе, чтобы только что заснувшая Анаиди не проснулась и не стала бормотать в бреду безумные слова. Анаиди проснулась, услыхала голос царя, и ее больное воображение остановилось на том, кого она принимала за царского сына. — Ага, вот он! — сказала она, приподнимаясь и указывая на собственного сына Мусу, испуганно прижавшегося в углу шалаша. — Поцелуй его, Мать небес, приласкай. Как звать его, щенка, накликавшего беду на наш дом? Он сын Мопо отМакрофы?! Она дико захохотала и опрокинулась на свою постель из звериных шкур. — Сын Мопо от Макрофы? — переспросил царь. — Женщина, чей он сын? — Не спрашивай ее, царь! — закричали обезумевшие от страха мать и жена Чаки, бросаясь ему в ноги. — Не слушай ее, царь. Больную преследуют дикие мысли, не годится тебе слушать ее безумные речи. Должно быть, околдовали ее, ей снятся сны! — Молчать! — крикнул царь. — Я хочу слушать ее бред. Авось, луч правды осветит мрак, я хочу знать правду. Женщина, кто отрок сей? — Кто он? Безумный, ты еще спрашиваешь? Тише, наклони ухо ко мне, шепотом говори, не подслушал бы тростник этих стен, не донес бы царю. Так слушай же: этот отрок — сын Чаки и Балеки, сестры Мопо, ребенок, подмененный Матерью небес, Унандой, подкинутый нашему дому на проклятие, тот будущий правитель, которого Унанда представит народу вместо царя, ее сына, когда народ наконец возмутится его жестокостью! — Она лжет, царь, — закричали обе женщины, — не слушай ее. Мальчик этот — ее собственный сын, она в беспамятстве не узнает его! Но Чака, стоя среди шалаша, зловеще засмеялся. — Нобела верно предрекла, я напрасно убил ее. Так вот, как ты провела меня, мать! Ты приготовила мне в сыне убийцу. Славно, Мать небес, покорись теперь небесному суду. Ты надеялась, что мой сын меня убьет, но пусть будет иначе. Пусть твой сын лишит себя матери. Умри же, Унанда, умри от руки рожденного тобой, — и подняв ассегай, он заколол ее. С минуту Унанда, Мать небес, жена Сензангакона, стояла неподвижно, не проронив ни звука, потом, вырвав из проколотого бока ассегай, закричала: — Злодей Чака, ты умрешь, как я! — и упала мертвая. Так умертвил Чака свою мать Унанду. Балека, видя случившееся, повернулась и побежала вон из шалаша, в Эмпозени, с такой быстротой, что стража у ворот не могла остановить ее, но она без чувств упала на землю. Муса, мое дитя, пораженный ужасом, остался на месте, и Чака, считая его своим сыном, убил и его. Потом он гордо выступил из шалаша, оставив стражу у ворот, и приказал отряду воинов, окружив весь крааль, поджечь его. Они поступили по его приказанию, выбегавших людей убивали, а оставшиеся погибли в огне. Так умерли мои жены, дети, слуги и все случайно находившиеся у них люди. Улей сожгли, не пожалев пчел, в живых оставался один я, да где-то далеко Макрофа с Надой. Говорят, Чака не насытился пролитой кровью, так как послал людей убить Макрофу, жену мою, Наду, дочь мою, и того, кто назывался моим сыном. Меня же он приказал посланным не убивать, а привести к нему живым. Мне пришла в голову мысль, не лучше ли самому покончить с собой? Зачем ждать смертного приговора? Покончить с жизнью так легко, я знал, как это сделать. В своем кушаке я тайно хранил одно снадобье. Тому, кто отведает этого снадобья, отец мой, не видеть ни света солнца, ни блеска звезд. Погибнуть от ассегая, медленно мучиться под ножами истязателей, быть уморенным голодом или бродить до конца дней своих с выколотыми глазами — вот что ждало меня, и вот почему я днем и ночью носил с собой свое снадобье. Настал час им воспользоваться. Так думал я среди мрака ночи и, достав горькое снадобье, попробовал его языком. Но вспомнил вдруг свою дочь Наду, единственное дорогое существо, находящееся только временно в другой далекой стране, вспомнил про жену Макрофу, про сестру Балеку, живую еще по какому-то странному капризу царя. Еще одно желание таилось в моем сердце — это жажда мести. Мертвые бессильны карать своих мучителей, если души их еще страдают, то руки уже не платят за удар ударом. Итак, я решил жить. Умереть я всегда успею. Успею, когда голос Чаки произнесет мой смертный приговор. Смерть сама намечает своих жертв, не отвечает ни на какие вопросы. Смерть — это гость, которого не надо ждать у порога шалаша, он проберется через солому крааля. Я решил пока не принимать снадобья. Итак, отец мой, я остался жить, и воины повели меня обратно в крааль Чаки. Мы добрались до него к ночи. Воин вошел к царю сообщить о нашем прибытии. Царь немедленно приказал привести пойманного, и меня втолкнули в дверь большого шалаша. Посередине горел огонь, так как ночь была холодна, а Чака сидел в глубине, против двери. Несколько его приближенных схватили меня за руки и потащили к огню, но я вырвался, так как руки мои не были связаны. Падая ниц, я славил царя, называя его царскими именами. Приближенные опять хотели схватить меня, но Чака сказал: — Оставьте его, я сам допрошу своего слугу! Тогда они поклонились до земли и, сложив руки на палках, коснулись лбами пола. А я сел тут же на полу против царя, и мы разговаривали через огонь. По приказанию Чаки я отчитался о своем путешествии. — Хорошо, — сказал царь, — я доволен! Как видно, в стране моей еще остались честные люди! А известно ли тебе, Мопо, какое несчастье постигло твой дом в то время, как ты вел мои дела? — Как же, слыхал! — ответил я так просто, будто вопрос касался пустяков. — Да, Мопо, горе обрушилось на дом твой, проклятие Небес на крааль твой! Мне говорили, Мопо, что небесный огонь живо охватил твои шалаши. — Слыхал, царь, слыхал! — Мне докладывали, Мопо, что люди, запертые внутри, теряли рассудок при виде пламени и, понимая, что нет спасения, закалывали себя ассегаями и бросались в огонь! — Знаю все, царь! Велика важность! — Много ты знаешь, Мопо, но не все еще. Ну, известно ли тебе, что среди умерших в твоем краале родившая меня Мать небес? При этих словах, отец мой, я поступил разумно, добрый дух вдохновил меня, F я упал на землю, громко завопил, как бы в полном отчаянии. — Пощади слух мой! — вопил я. — Не повторяй, что родившая тебя мертва, о, Лев зулусский! Что мне все остальные жизни, они исчезли, как дуновение ветра, как капли воды, но это горе могучее, как ураган, оно безбрежно, как море! Перестань, слуга мой, успокойся! — говорил насмешливо Чака. — Я сочувствую твоему горю по Матери небес. Если бы ты сожалел только об остальных жертвах огня, то плохо бы тебе было. Ты выдал бы свою злобу ко мне, а так тебе же лучше: хорошо ты сделал, что отгадал мою загадку! Только теперь я понял, какую яму Чака рыл мне, и благословил в душе Элозия, внушившего мне ответ царю. Я надеялся, что теперь Чака отпустит меня, но пытка моя только начиналась. — Знаешь ли ты, Мопо, — сказал царь, — что когда мать моя умирала в охваченном пламенем краале, она кричала загадочные, страшные слова. Слух мой различил их сквозь песню огня. Вот эти слова: будто ты, Мопо, сестра твоя Балека и твои жены сговорились подкинуть ребенка мне, не желавшему иметь детей. Скажи теперь, Мопо, где дети, уведенные тобой из крааля — мальчик со львиными очами, прозванный Умелопогасом, и девочка по имени Нада? — Умелопогаса растерзал лев, о царь, — отвечал я, — а Нада находится в скалах сваци! И я рассказал ему про смерть Умелопогаса и про то, как я разошелся с Макрофой. — Отрок с львиными глазами в львиной пасти! — сказал Чака. — Туда ему и дорога. Наду можно еще добыть ассегаями. Но довольно о ней, поговорим лучше о песне, петой моей покойной матерью в треске огня. Мопо, лжива ли она? — Помилуй, царь, Мать небес обезумела, когда пела ту песню! — ответил я. — Слова ее непонятны! — И ты ничего об этом не знаешь? — спросил царь, глядя на меня сквозь дым костра. — Странно, Мопо, очень странно! Но что это, тебе холодно? Руки твои положительно дрожат! Не бойся, погрей их, хорошенько погрей, всю руку положи в огонь! И, смеясь, он указал мне своим маленьким, оправленным в царское дерево ассегаем, на самое яркое место костра. Тут, отец мой, я действительно похолодел, так как донял намерение Чаки. Он готовил мне пытку огнем. С минуту я молчал, задумавшись. Тогда царь опять громко сказал: — Что же ты робеешь, Мопо? Неужели мне сидеть и греться, пока ты дрожишь от холода? Встаньте, приближенные мои, возьмите руку Мопо и держите ее в пламени, чтобы он согрелся и чтобы душа его ликовала, пока мы будем говорить с ним о ребенке, упомянутом моей матерью, рожденном Балекой, женой моей, сестрой Мопо, моего слуги! — Прочь слуги, оставьте меня! — смело сказал я, решившись сам подвергнуться пытке. — Благодарю тебя, о царь, за милость! Я погрелся у твоего огня. Спрашивай меня, о чем хочешь, услышишь правдивые ответы! Тогда, отец мой, я сунул руку в огонь, но не в самое яркое пламя, а туда, где дымило. Кожа моя от страха покрылась потом, и несколько секунд пламя обвивалось вокруг руки, не сжигая ее. Но я знал, что мука близка. Некоторое время Чака следил за мной, улыбаясь. Потом он медленно заговорил, как бы давая огню разгореться. — Мопо, ты и правда не знаешь о том, что сестра твоя Балека родила сына? — Я одно знаю, о, царь, — ответил я, — что несколько лет тому назад я убил младенца, рожденного твоей женой Балекой, и принес тебе его тело! Между тем, отец мой, рука моя уже дымилась, пламя въедалось в тело, и страдания были ужасны. Но я старался не показывать виду, так как знал, что если я крикну, не выдержав пытки, то смерть будет моим уделом. Царь опять заговорил: — Клянешься ли ты моей головой, Мопо, что в твоих краалях не выкармливали никакого младенца, мной рожденного? — Клянусь, царь, клянусь твоей головой! — отвечал я. Теперь уже, отец мой, мучение становилось нестерпимым. Мне казалось, что глаза мои выскакивают из орбит, кровь кипела во мне, бросалась в голову, по лицу текли кровавые слезы. Но я невозмутимо держал руку в огне, а царь и его приближенные с любопытством следили за мной. Опять Чака молчал, и эти минуты казались годами. Наконец он сказал: — Тебе, я вижу, жарко, Мопо, вынь руку из пламени. Ты выдержал пытку, я убежден в твоей невиновности. Если бы ты затаил ложь в сердце, то огонь бы выдал ее, и ты бы запел последнюю песню! Я вынул руку из огня, и на время муки стихли. — Правда твоя, царь, — спокойно ответил я, — огонь не властен над чистым сердцем! Говоря это, я взглянул на свою левую руку. Она была черна, отец мой, черна, как обугленная палка, и на искривленных пальцах не было ногтей. Взгляни на нее теперь, отец мой, я ведь слеп, но тебе видно. Рука скрючена и мертва. Вот следы огня в шалаше Чаки, огня, сжигавшего меня много, много лет тому назад. Эта рука уже не служила мне с той ночи истязания, но правая оставалась, и я с пользой владел ею. — Но мать мертва, — снова заговорил царь, — умерли в пламени и твои жены, и дети. Мы устроим поминки, Мопо, такие поминки, каких не было еще никогда в стране зулусов, и все народы земли станут проливать слезы. Мопо, на этих поминках будет выслеживание, но колдунов не станем созывать, мы сами будем колдунами и сами выследим тех, кто навлек на нас горе. Как же мне не отомстить за мать, родившую меня, погибшую от злых чар! А ты, безвинно лишенный жен, чад, неужели не отомстишь за них? Иди теперь, Мопо, иди, верный слуга мой, которого я удостоил погреться у моего костра! — и, пристально глядя на меня сквозь дым, он указал мне ассегаем на дверь шалаша.Глава 11
СОВЕТ БАЛЕКИ
Я поднялся на ноги, громко славя царя, вышел из Интункуму и бросился бежать, такие страшные муки я испытывал. Забежал на минутку к знакомому, чтобы обмазать руку жиром и завязать кожей, но это мало помогло. Я снова стал метаться от нестерпимой боли и помчался на место бывшего моего дома. В отчаянии я бросился на пепел, зарылся в него, ощущая прикосновение костей своих близких, еще лежащих здесь. Да, отец мой, последний раз лежал я на земле своего крааля, и от холода ночи защищал меня пепел рожденных мною. Я стонал от душевной и физической боли. Пройдя через испытание огнем, я снова делался славным, знаменитым. Да, я преодолею свое горе, стану великим, и тогда наступит день мщения царю. Ах, отец мой, тут, лежа в пепле, я взывал к Аматонго, к духу своих предков, молился Элозию, духу-хранителю, я даже дерзал молить Умкулункулу, великого мирового духа, живущего в небесах и на земле незримо и неслышно. Я молил о жизни, чтобы убить Чаку, как он убил всех дорогих мне людей. В молитве я уснул, вернее, свет мыслей моих погас, и я лежал, как мертвец. И меня посетило видение, посланное в ответ на мольбу. Быть может, это был только бред, порожденный моими горестями? Я стоял на берегу большой, широкой реки. Было сумрачно, хотя поверхность реки слабо освещалась, но далеко на той стороне точно выпала заря, и в ее ярком свете я различил могучие камыши, колеблемые легким ветром. Из камышей выходили мужи, жены, дети, выходили сотнями, тысячами, погружались в волны реки и барахтались в них. Слушай дальше, отец мой. Все люди, выходившие из камышей и барахтавшиеся в реке, были черного племени. Белых, как твой народ, я вовсе не видел. Да, я видел зулусское племя. Это о нем сказано, что оно «будет оторвано от берега». Люди в реке вели себя по-разному: одни быстро переплывали, другие не двигались с места, точь-в-точь как в жизни, отец мой, когда одни рано умирают, а другие живут долгие годы. Среди бесчисленных лиц я узнал многих, Чаку и рядом с ним самого себя, узнал также Дингана, его брата, отрока Умелопогаса, Наду, мою дочь. И вот тут-то впервые понял, что Умелопогас не умер, а исчез. Я обернулся и вроде бы осмотрел тот берег реки, где стоял. За мной поднималась скала высокая, черная, и в ней я увидел двери из слоновой кости. Через них изнутри струился свет, доносился смех. Заметил я в скале и другие двери, черные, как бы выточенные из угля, и в них зияла темнота, слышались стоны. Перед дверьми стояло ложе, а на нем восседала ослепительная женщина. Высокая, стройная, она сверкала белизной, белые одежды покрывали ее, волосы ее были цвета литого золота, а лицо светилось, как полуденное солнце. Я заметил, что выходившие из реки (по ним струилась вода) подходили к женщине, становились перед ней и громко взывали: — Хвала Инкозозане зулусов, хвала царице небес! Чудная женщина держала в каждой руке по жезлу: в правой — белый жезл из слоновой кости, в левой — из черного дерева. Подходившие к трону люди приветствовали ее, она указывала им то белым жезлом правой руки на светлую дверь, на дверь света и смеха, то черным жезлом левой руки на угольные двери мрака и стонов. Люди шли, куда она указывала: одни вступали в свет, другие погружались во мрак. Между тем еще горсточка людей вышла из воды. Я узнал их: Унанда, мать Чаки, моя жена Анаиди, сын мой Муса, а также мои жены, дети, вместе со всеми жившими у них людьми. Они остановились перед небесной царицей, которой Умкулункулу поручило охранять зулусский народ, и громко взывали. — Хвала Инкозозане зулусов, хвала! Инкозозана указала им светлым жезлом на светлую дверь. Но они не двигались с места. Тогда женщина вдруг заговорила тихим, грустным голосом: — Идите, дети моего народа, идите на суд, чего вы ждете? Проходите в дверь света! Но они все медлили, а Унанда сказала: — Мы медлим, о царица небес, медлим, чтобы вымолить суд над тем, кто убил нас. Я, прозванная на земле Матерью небес, больше всех прошу этого! — Как его имя? — спросил снова тихий, страшный голос. — Чака, царь зулусов! — отвечала Унанда. — Чака, сын мой. — Многие уже приходили искать возмездия, — сказала властительница небес, — многие еще придут. Не бойся, Унанда, час его пробьет. Не бойся и ты, Анаиди, и вы все, жены и дети Мопо. Повторяю вам, его час пробьет. Копье пронзило твою грудь, Унанда, копье вонзится и в грудь Чаки. А вы, жены, дети Мопо, знайте, что нанесет удар его рука. Я сама направлю его, я научу его мстить. Идите же, дети моего народа, приходите на суд, ибо Чака уже приговорен. Вот что снилось мне, отец мой, вот какое видение посетило меня, когда я лежал несчастный среди костей и пепла своего крааля. Так было мне дано узреть Инкозозану небес на высоте ее величия. Позже, как ты узнаешь, я еще два раза видел ее, но наяву. Да, трижды удостоился я узреть лицо, которое теперь уже не увижу до самой смерти, потому что больше трех раз смертные этого лица видеть не могут. Утром, проснувшись, я пошел к шалашу царских «сестер» и подождал, когда они пойдут за водой. Я тихонько окликнул Балеку, она осторожно зашла за куст алоэ, и мы уныло взглянули в глаза друг другу. — Злосчастен день, когда я послушался тебя и спас твоего ребенка. Видишь, что вышло из этого. Погиб весь мой род, умерла Мать небес, все умерли, а меня самого пытали огнем! — я показал Балеке свою сухую руку. — Ах, Мопо, я бы меньше горевала, если бы знала, что сын мой Умелопогас жив! Да и меня ведь не пощадят! Скоро я присоединюсь к остальным. Чака уже обрек меня на смерть, ее только отложили. Он играет мной, как леопард раненой ланью. Впрочем, я даже рада умереть, там я скорее найду своего сына! — А если юноша жив, Балека, что тогда? — Что ты сказал? — вскрикнула она, дико сверкнув глазами и бросаясь ко мне. — Повтори свои слова, Мопо, о, повтори их! Я готова тысячу раз умереть, лишь бы Умелопогас остался в живых! — Точно я ничего не знаю, но прошлую ночь мне приснился сон! И я рассказал ей про видение и про то, что перед тем случилось. Она внимала мне, как внимают царю, решающему вопрос жизни и смерти. — Сон твой вещий, Мопо, — сказала она, — ты всегда был странным человеком и обладал даром ясновидения. Чует мое сердце, что Умелопогас жив! — Велика любовь твоя, женщина, и она — причина наших горестей. Будущее докажет, что мы напрасно пострадали, злой рок тяготеет над нами. Что делать теперь, бежать или оставаться здесь, и ждать перемен судьбы? — Оставайся на месте, Мопо! Слушай, что надумал царь. Он, всегда бесстрашный, теперь боится, как бы убийство матери не навлекло на него гнев народа. Поэтому он должен рассказать, что он не убивал ее, а что она погибла в огне, вызванном колдовством в твоем краале. Никто не поверит этой лжи, но возражать не посмеют. Он устроит выслеживание, но совсем нового характера: он сам с тобой станет находить колдунов. Так он предаст смерти всех ненавидящих его за жестокость и убийство матери. Ты же нужен ему, Мопо, и тебя он не тронет. Нет, оставайся здесь, прославься, дождись великого мщения, о брат мой! Ах, Мопо, разве нет в стране других принцев? А Динган, а Умбланган, а Умнаиди? Разве братья царя не хотят царствовать? Просыпаясь по утрам, засыпая по ночам, разве они знают, что разбудит их на заре — ласки жен или лезвие царского ассегая? Добейся их доверия, брат мой, очаруй сердца их, узнай их замыслы или открой им свои. Только так сможешь ты толкнуть Чаку за тот порог, который переступили твои жены, который я готовлюсь переступить! Балека совершенно права. Умнаиди ни на что не подбить, он живет тихо, больше молчит, как слабоумный. Но Динган и Умбланган из другого теста, их при случае можно вооружить таким ассегаем, который разнесет по ветру мозги Чаки. Время действовать еще не настало, чаша Чаки не наполнилась до краев. Обдумав все это, я пошел в крааль своего друга, чтобы полечить обожженную руку. Пока я с ней возился, ко мне пришел посланный от царя. Я предстал перед ним и припал к его ногам, называя его царскими именами. Но он протянул руку и, подняв меня, ласково сказал: — Встань, Мопо, слуга мой, ты много перенес горя от колдовства твоих врагов. Я потерял мать, а ты — жен и детей. Плачьте же, наперсники мои, оплакивайте мою мать, плачьте над горем Мопо, лишенного семьи колдовством наших врагов! Тоща приближенные громко завопили, а Чака сверкал на них очами. — Слушай, Мопо, — сказал царь, когда вопли прекратились. — Никто не возвратит мне матери, но тебе я дам новых жен, и ты обретешь детей. Пойди, выбери себе шесть девушек из предназначенных царю. Также возьми из царского скота лучших его волов, созови царских слуг и повели им выстроить тебе новый крааль больше, красивее прежнего. Все это даю тебе с радостью, Мопо, тебя ждет еще большая милость: я разрешаю тебе месть. В первый день новолуния я созову большой совет Бандла из всех зулусских племен. Твое родное племя лангени также тут будет. Мы все вместе станем оплакивать свои потери и тут же узнаем, кто виновник их. Иди теперь, Мопо, иди. Идите и вы, мои приближенные, оставьте меня одного горевать по матери! Так, отец мой, оправдались слова Балеки, так, благодаря коварной политике Чаки, я еще больше возвысился в стране. Я выбрал себе крупный скот, выбрал прекрасных жен, но это не доставило мне радости. Сердце мое высохло, радость, сила исчезли из него, погибли в огне Чакиного пожара, утонули в горе по тем, кого я раньше любил.Глава 12
РАССКАЗ ПРО ГАЛАЦИ-ВОЛКА
Я расскажу тебе о том, что случилось с Умелопогасом после того, как львица схватила его, расскажу так, как узнал от него самого много лет спустя. Львица, отскочив, побежала, держа в зубах Умелопогаса. Он попробовал вырваться, но она так больно укусила его, что юноша уже не двигался в ее пасти. Однако он видел, как Нада отбежала от колючей изгороди и громко закричала: «Спасите его!» Он видел ее лицо, слышал крик, а потом перестал что-либо видеть и слышать. Немного погодя Умелопогас очнулся от боли в боку, где львица укусила его, и до него долетели какие-то окрики. Он осмотрелся: над ним стояла львица, только что выпустившая его из пасти. Она хрипела от ярости, а перед ней стоял юноша, высокий, сильный, с угрюмым видом и серовато-черной шкурой волка, положенной на плечи таким образом, что верхняя челюсть с зубами лежала на его голове. Он стоял, покрикивая, перед львицей, держа в одной руке воинский щит, а в другой сжимая тяжелую, оправленную в железо, дубину. Львица, раздраженно рыча, присела, готовясь прыгнуть, но юноша не стал дожидаться ее нападения. Он подбежал к ней и ударил ее по голове сильно, метко, но не убил. Она приподнялась на задние ноги и тяжело набросилась на юношу. Он принял ее на щит, но, придавленный страшной тяжестью, не удержался на ногах и упал, громко воя, как раненый волк. Тогда львица, прыгнув на него, стала его теребить. Благодаря щиту, ей не удавалось покончить с ним, но Умелопогас видел, что долго так не может продолжаться, щит будет отброшен в сторону и незнакомца загрызет львица. Тогда Умелопогас вспомнил, что в груди зверя осталась часть его сломанного копья и решил или еще глубже вонзить его, или умереть. Юноша вскочил, силы вернулись к нему в трудную минуту. Он подбежал к тому месту, где львица нападала на человека, прикрывавшегося щитом. Он бросился на колени и, схватив за рукоятку сломанного копья, повернул копье в ране. Тогда львица увидела Умелопогаса, обернулась к нему и, выпустив когти, стала рвать ему грудь и руки. Лежа под ней, он услыхал невдалеке могучий вой. И что же он увидел?! Множество волков, серых и черных, бросилось на львицу и стали рвать ее, пока не растерзали на куски. Умелопогас лишился чувств. Очнулся в пещере, на сеннике. Стены ее были увешаны шкурами зверей, возле него стояла кружка с водой. Он протянул к воде руку и заметил, что рука его исхудала, как после тяжелой болезни, а грудь покрыта чуть зажившими рубцами. Пока он лежал, раздумывая, у входа в пещеру показался тот самый юноша, которого подмяла под себя львица. Он сбросил с плеча мертвую лань и подошел к Умелопогасу. — Ага, — вгляделся он в него, — глаза смотрят! Незнакомец, ты жив? — Жив, — отвечал Умелопогас, — и голоден! — Пора и проголодаться! — сказал тот. — С того дня, как я с трудом нес тебя сюда через лес, прошло двадцать суток, а ты все лежал без сознания, глотая одну воду. Я думал, что львиные когти прикончили тебя. Два раза я хотел тебя убить, чтобы прекратить твои страдания и самому с тобой развязаться. Но меня остановили слова, сказанные кем-то, кого уже нет в живых. Набирайся сил, потом поговорим! Умелопогас стал есть и с того дня начал поправляться. Как-то, сидя у огня, они разговорились. — Как тебя зовут? — спросил Умелопогас. — Мое имя — Галаци-волк, — ответил тот, — я зулусской крови, из рода царя Чаки. Отец Сензангакона, отца Чаки, приходится мне прадедом. — Откуда же ты, Галаци? — Я пришел из страны Сваци, из племени галакази, которым должен был управлять. История моя такова: Сигуяна, дед мой, приходился младшим братом Сензангакону, но, поссорившись с ним, ушел и стал странником. С некоторыми людьми из племени умтетва он кочевал по стране Сваци, жил в больших пещерах племени галакази. В конце концов, он убил предводителя племени и занял его место. После его смерти управлял мой отец, но образовалась целая враждебная партия, ненавидящая его за зулусское происхождение и стремящаяся иметь правителя из древнего рода Сваци. Но осуществить это не решались, так как боялись моего отца. Я же родился от его старшей жены, так что в будущем мне предстояло стать вождем, и потому представители враждебной партии ненавидели и меня. Так обстояло дело до прошлой зимы. Мой отец задумал во что бы то ни стало лишить жизни двадцать военачальников с их женами и детьми, узнав о их заговоре. Но военачальники пронюхали, что им готовилось, и убедили одну из жен отца отравить его. Поутру я нашел его в корчах. — Что случилось, отец? — воскликнул я. — Кто виновник злодейства? — Я отравлен, сын мой, — проговорил он, задыхаясь, — вот мой убийца! — Он указал на женщину, дрожащую у дверей с опущенной головой, наблюдающую плоды своего преступления. Эта жена отца была молода и прекрасна, мы дружили с ней, однако я, не задумываясь, хоть сердце мое разрывалось, схватил копье и, не слушая ее мольбы о пощаде, заколол ее. — Молодец, Галаци! — похвалил меня отец. — Позаботься о себе, эти собаки Сваци прогонят тебя отсюда, не дадут властвовать. Если ты останешься в живых, поклянись мне, что не успокоишься, пока не отомстишь за меня! — Клянусь, отец мой! — ответил я. — Клянусь, что истреблю все племя до последнего человека, кроме родственников своих, и обращу в рабство их жен и детей! — Громкие слова для молодых уст, — сказал отец, — но я верю, что ты это выполнишь. В свой предсмертный час я предвижу твое будущее, Галаци. О сын Сигуаны, впереди у тебя несколько лет странствий по чужой земле, смерть мужественная, не такая, как моя, от руки этой ведьмы! Он поднял голову, посмотрел на меня и с громким стоном скончался. Я вышел из шалаша, таща за собой тело женщины. Много военачальников собралось тут в ожидании конца. — Предводителя, отца моего, не стало! — громко крикнул я. — И я, Галаци, заступая на его место, покарал его убийцу! — Я повернул тело так, чтобы они могли видеть лицо. Тогда отец женщины, принудивший ее к убийству и находившийся тут, обезумел от такого зрелища. — Как, братья? — воскликнул он. — Мы допустим над собой господство этого зулусского пса, умертвившего женщину? Старый лев издох, долой львенка! — и он подбежал ко мне, занося копье. — Долой его! — закричали остальные и подбежали, потрясая копьями. Но я не торопился, ведь отец сказал мне, что мой час не пробил. Отец убитой мною женщины бросил копье, я отскочил в сторону и заколол его. Он упал на труп дочери. Тогда я с громким криком прорвался сквозь толпу остальных. Никто меня не тронул, никто не посмел меня поймать. Еще не родился человек, способный обогнать меня. — Не попробовать ли мне? — спросил Умелопогас, слывший у зулусов за скорохода. — Прежде окрепни, а потом обгоняй! — ответил Галаци. — Продолжай рассказ, — попросил Умелопогас, — он веселит меня. — Да, незнакомец, я не закончил! Бежав из страны галакази, я направился к зулусам, намереваясь просить помощи у Чаки. На пути я зашел в крааль старца, осведомленного во всем, что делается вокруг. Он отсоветовал мне идти к Чаке. Утром проходил я мимо другого крааля и встретил старуху, спросившую меня, не хочу ли я получить страшное оружие, способную истребить все палицу. Я ответил, что не знаю, где такую найти. Она посоветовала мне: — Завтра утром, на заре поднимись на эту гору. По пути увидишь тропинку, ведущую в мрачный лес. Потом ты дойдешь до пещеры, в которой лежат кости человека. Собери их в мешок, принеси мне, и я дам тебе дубину! Из крааля выходили люди, прислушивались к словам старухи и не советовали мне слушать ее, говоря, что она помешанная, а в пещерах и скалах обитают злые духи. Там, в пещере, по их словам, погиб сын ее, за его-то кости она и обещает в награду Великую дубину. — Лгут они, — сказала старуха, — нет никаких духов. Духи живут в их трусливых сердцах, а там, наверху, одни волки. Я знаю, что кости моего сына лежат в пещере, я видела их во сне, но я слишком слаба, чтобы взбираться по горной тропинке. Здесь все трусы, ни одного молодца! Был один, мой муж, но его убили зулусы! Когда она закончила говорить, я попросил показать мне дубину, предназначенную тому, кто предстанет перед Аматонго, перед лесными духами Горы Привидений. Старуха встала и ползком добралась до шалаша. Вернулась она, таща большую дубину. Вот, незнакомец, смотри, видал ты что-нибудь подобное? — Галаци потряс дубиной перед Умелопогасом. Да, отец мой, то была дубина, и я, Мопо, позже видел ее в деле. Огромная, узловатая, черная, точно продымившееся в огне железо, металлическая оправа ее стерлась от частых ударов. — Увидел ее я, — продолжал Галаци, — и меня охватило безграничное желание овладеть ею. — Как называется дубина? — спросил я старуху. — Страж Брода, — ответила она, — и хорошо же она стережет! Пять человек покалечила на войне эта дубина, а сто семьдесят три полегли под ее ударами. Последний из сражавшихся ею убил двадцать человек, прежде чем пасть самому. Такова дубина! Владеющий ею погибает славной смертью. Во всей стране зулусов есть только одно еще подобное оружие — это великая секира Джиказы, вождя племени Секиры, живущего вон там, в том краале. Эта обеспечивающая победу древняя Имубуза с роговой рукояткой прозвана Виновницей Стонов. Если бы секира Виновница Стонов и дубина Страж Брода работали вместе, то и тридцати человек не осталось бы в живых во всей стране зулусов. Теперь выбирай! — Вот что, старуха, — сказал я, — дай-ка мне дубину на время, пока я буду отыскивать кости. Я не вор и принесу ее обратно! — Кажется, ты действительно честный малый! — сказала она, вглядываясь в меня. — Бери Стража и отправляйся за костями. Если ты погибнешь, то и твое оружие пропадет. В случае неудачи верни его мне, если же принесешь кости, то владей дубинок. Ока поможет тебе добыть славу, и конец твой будет мужественный, ты падешь, занося ее высоко над побежденными тобой! Итак, поутру, взяв Стража Брода и небольшой легкий щит, я собрался в дорогу. Старуха благословила меня, пожелав доброго пути. Но остальные жители крааля насмехались: — Маленький человек с большой дубиной! Берегись, малыш, как бы привидения ею же не побили тебя! Так говорили все, кроме одной девушки, внучки старухи. Она отвела меня в сторону, умоляя остаться и говоря, что лес на Горе Привидений имеет дурную славу, что никто не ходит туда, где духи воют, подобно волкам. Я поблагодарил девушку и попросил показать мне дорогу. Галаци помолчал, затем вновь обратился к Умелопогасу: — Если ты набрался сил, незнакомец, то пойди к отверстию пещеры, взгляни. Месяц ярко светит. Умелопогас приподнялся и прополз в узкое отверстие пещеры. Над ним высоко в небо вздымалась серая вершина, похожая на сидящую женщину со склоненной на грудь головой. Казалось, что пещеру она держит на коленях. Ниже скала круто обрывалась, вся поросшая кустарником. Еще ниже темнел густой лес, спускаясь к другой скале, у подножья которой, по ту сторону реки, расстилались широкие зулусские равнины. — Вон там, — сказал Галаци, указывая Стражем Брода на далекую равнину, — крааль, где жила старуха, вот и скала, куда мне надлежало взобраться, вот и лес, где царили духи Аматонго. По ту сторону леса вьется тропинка в пещеру, а вот и сама пещера. — Видишь этот камень, им загораживается вход. Он очень велик, но ребенок может сдвинуть его, так как он укреплен на каменном стержне. Только не надо толкать камень слишком глубоко. Если он дойдет вот до этого знака, то надо много сил, чтобы отвалить его. Однако я справлюсь, хотя и не достиг еще полной зрелости. Если же камень перевалится за знак, то он покатится внутрь пещеры с такой быстротой, с какой скатывается голыш с обрыва. Тогда, пожалуй, и два человека не справятся с ним. Смотри теперь, я, как всегда, на ночь завалю камень так! — Он ухватился за скалу, и она, как любая дверь, захлопнулась на выточенном природой стержне. — Итак, — продолжал он, — я покинул крааль, и все провожали меня до реки. Она разлилась, и никто не решался переправиться. — Ага, — кричали они, — вот и конец пути, маленький смельчак, сторожи теперь брод, ты, мечтавший владеть Стражем Брода, размахнись-ка дубиной по воде, может ты усмиришь волны! Не отвечая на насмешки, я привязал щит к плечам, захваченный мешок обмотал вокруг тела, а к дубине прикрепил ремень и взял его в зубы. Потом я бросился в реку и поплыл. Дважды течение относило меня, и стоящие на берегу кричали, что я погиб, но я опять всплывал. Так добрался до противоположного берега. Оставшиеся на той стороне замерли от удивления, а я пошел вперед, к скале. Трудно, незнакомец, взбираться на ту скалу. Когда ты окрепнешь, я покажу тебе тропинку. Я одолел ее и в полдень добрался до леса. Тут, на опушке, я отдохнул и закусил провизией из мешка, так как для борьбы с привидениями, если таковые существовали, нужны были силы. Потом я встал и углубился в лес. Высоки в нем деревья, странник, и настолько густы, что местами света не больше, чем в ночь новолуния. И все же я пробивался вперед, часто сбиваясь с дороги. Изредка из-за верхушек выглядывала фигура серой каменной женщины, сидящей наверху Горы Привидений. Туда я и стремился. Сердце мое сильно билось, пока я так бродил в темноте леса, среди ночной тишины, я все осматривался, не следят ли за мной глаза Аматонго. Временами мелькал серый волк и прокрадывался между деревьями, следя за мной. А в больших ветвях глубоко, точно женщина, вздыхал ветер. Я продвигался вперед, напевая, чтобы приободриться. Наконец деревья поредели, местность стала повышаться, и опять блеснули небеса. Но я утомил тебя рассказом, отдохни. Завтра я доскажу. Как зовут тебя? — Умелопогас, сын Мопо! — ответил гость. — Когда ты окончишь свой рассказ, я начну свой. А теперь давай спать! Галаци вздрогнул. Услыхав имя гостя, он смутился, но ничего не сказал. Они легли спать, и Галаци закутал Умелопогаса козлиными шкурами. Сам Галаци был такой крепкий, что улегся без всякого покрывала на голой скале. Так почивали они, а вокруг пещеры выли волки, чуя кровь человеческую.Глава 13
ГАЛАЦИ ПОКОРЯЕТ ВОЛКОВ
— Слушай дальше, Умелопогас, сын Мопо! — продолжал на другой день Галаци. — Пройдя через лес, я добрался как бы до колен Каменной колдуньи, сидящей вон там высоко и целые века выжидающей конца мира. Здесь уже весело играло солнце, бегали ящерицы, порхали птицы, и хотя опять наступил вечер, — я ведь долго бродил по лесу, — я уже больше не трусил. Я влез на крутую скалу, поросшую мелким кустарником, и добрался до каменных колен колдуньи — площадку перед пещерой. Я заглянул за край скалы, и, поверишь ли, Умелопогас, кровь моя похолодела, сердце замерло. Там, перед самой пещерой, лежало много больших волков. Одни спали, рыча во сне, другие грызли черепа убитых зверей, а еще другие сидели, как псы, оскалив зубы, высунув языки. За ними — вход в пещеру, где, по-видимому, лежали кости юноши. Но как туда идти? Я боялся волков, так как понял теперь, кого принимали за горных духов. Я решил бежать оттуда, но великая дубина Страж Брода размахнулась и хватила меня по спине. Так храбрецы расправляются с трусами. Случайность или Страж хотел пристыдить вооруженного им, этого я не знаю, но стыд охватил меня. Как, вернуться назад, терпеть насмешки жителей крааля, старухи!? Ведь в лесу ночью меня не загрызли духи! Лучше уж сейчас поскорее попасться в их лапы. Не мешкая, чтобы страх не обуял меня, я взмахнул дубиной и с боевым криком племени галакази вскочил на край скалы и бросился на волков. Они тоже вскочили и остановились, завывая со взъерошенной шерстью и горящими глазами. Их звериный запах доносился до меня. Но увидев, что на них кинулся человек, они вдруг испугались и разбежались во все стороны, спрыгивая со скалистой площадки — колен колдуньи так, что скоро я остался один у входа в пещеру. Сердце у меня росло в груди от радостного сознания, что я покорил волков, не зашибив ни одного, я гордо, точно петух на крыше, подошел к отверстию пещеры и заглянул вглубь ее. В эту минуту заходящее солнце красными лучами осветило темноту. Тут, Умелопогас, я опять струсил! Видишь, вон там в стене углубление, которое освещает огонь? В том конце высота пещеры в рост человека. Углубление узкое и неглубокое, оно точно вырублено железом. Человек мог бы сидеть в нем, да человек и сидел, а скорее то, что было когда-то человеком — остов, обтянутый почерневшей кожей. Зрелище ужасное. В правой руке он держал, очевидно, кусок мяса, наполовину съеденный, наверное, он обедал перед смертью. Глаза этого скелета покрывала кожаная повязка, точно он заслонялся от чего-то. Одной ноги не было, а другая висела через край ниши. Под ней на земле валялось заржавленное лезвие сломанного копья. — Подойди сюда, Умелопогас, тронь рукой стену пещеры. Она гладкая, не правда ли? Гладкая, как те камни, на которых женщины мелют зерна. А отчего она гладкая, я могу тебе сказать. Тогда, глядя в пещеру, я видел следующее: на полу лежала волчица, тяжело дыша, точно она пробежала много верст. Близ нее — волк, старый, черный, больше всех, виденных мной, настоящий вожак стаи, с серыми полосами на голове и на боках. Этот волк стоял на месте, но потом он вдруг побежал и подскочил вверх, к иссохшей ноге мертвеца. Лапы его ударились о гладкую скалу, на секунду он за нее ухватился, щелкнув зубами на расстоянии копья от ноги, но сорвался с яростным рычанием и медленно прошелся по пещере. Опять пробежал, подпрыгнул, опять щелкнули страшные челюсти, и опять он, воя, упал. Тогда поднялась волчица, и они вместе старались стащить высоко сидящую фигуру. Ничего не выходило. Выше расстояния копья они не могли подпрыгнуть. Умелопогас, тебе понятно теперь, почему скала гладкая, блестящая. Месяц за месяцем, год за годом волки охотились за мертвецом. Каждую ночь они, щелкая зубами, бросались на стену пещеры, но не доставали до мертвой ноги. Одну ногу они сожрали, но другую достать не могли. Я смотрел, исполненный ужаса и волнения, как волчица, высунув язык, прыгнула так высоко, что почти достала до висящей ноги. Она упала назад. Я понял, что это ее последний прыжок. Она надорвалась и лежала, громко воя. Изо рта ее струилась черная кровь. Волк все видел, он приблизился, обнюхал ее и, решив, что она убилась насмерть, схватил ее за горло и стал теребить. Теперь пещера огласилась стонами, воем, все волки катались по земле под сидящим высоко человеком. В багровом свете заходящего солнца эта картина, эти звуки были столь ужасны, что я дрожал, как ребенок. Волчица заметно слабела, так как белые клыки самца глубоко вонзились ей в горло. Я понял, что настала минута покончить с ним. После недолгой, но ужасной борьбы мне удалось уложить его ловким ударом дубины. Немного погодя я оглянулся и увидел, что волчица стала на ноги, как ни в чем не бывало. Знай, Умелопогас, такова природа этих злых духов, что, грызясь постоянно, они не могут истреблять друг друга. Только человек может убить их, и то с трудом. Итак, она стояла, поглядывая не на меня, даже не на мертвого самца, а на того, кто сидел наверху. Заметив это, я подкрался сзади и, подняв Стража, опустил его вниз со всей силой. Удар пришелся ей по шее, сломав ее. Волчица перекувырнулась и издохла. Отдохнув немного, я подошел к отверстию пещеры и выглянул. Солнце садилось, лес почернел, но свет еще сиял на лице каменной женщины, вечно восседающей на горе. Мне пришлось ночевать тут. Несмотря на полнолуние, я не смел спускаться один, окруженный волками и привидениями. А уж вынести сидящего в расщелине тем более не мог. Нет, приходилось оставаться, поэтому я вышел из пещеры к ключу, бьющему из скалы справа, и напился. Потом я вернулся, уселся у входа в пещеру и следил, как потухал свет на лице земли. Пока он угасал, стояла тишина, но потом проснулся лес. Поднялся ветер, зашумели зеленые ветки, похожие на волны, слабо озаренные луной. Из глубины леса неслись завывания привидений и волков, им ответил вой с вершины скал, вот такой вой, какой мы слышим, Умелопогас, сегодня ночью! Ужасно было сидеть здесь, у входа, про камень я еще не знал, да если бы и знал, то не согласился бы остаться внутри с мертвыми волками и с тем, кого они стремились сожрать. Я прошелся по площадке и посмотрел вверх. Свет месяца падал прямо на лицо Каменной колдуньи. Мне показалось, что она смеется надо мной. Я тогда понял, что нахожусь на месте, где являются мертвецы, где злые духи, носящиеся по свету, гнездятся, как коршуны. Я вернулся в пещеру, чувствуя, что надо что-нибудь предпринять, иначе можно сойти с ума. Я стал сдирать с мертвого волка шкуру. Я работал около часа, напевая и стараясь не думать ни о том, кто висел в расщелине, ни о завываниях, которые оглашали горы. Но месяц все ярче освещал пещеру. Я мог различить форму костей висевшего, даже повязку на его глазах. «Зачем он завязал глаза? — размышлял я. — Чтобы не видеть свирепых морд бросавшихся на него волков?» Между тем вой все приближался, я видел серые тени, подкрадывающиеся ко мне в сумерках. Вот совсем близко сверкнули огненные зрачки, острое рыло обнюхало волчий труп. С диким криком поднял я Стража и ударил. Раздался крик боли, что-то ускакало в темноту. Наконец, шкура была содрана. Я бросил ее в сторону и, схватив труп, дотащил его до края скалы и оставил там. И вот завывания стали приближаться, я увидел подкрадывающиеся серые тени. Они обступили труп, накинулись на него и стали жестоко драться, разрывая на куски. Потом, облизываясь красными языками, волки убежали обратно в лес. Во сне это было или наяву? Не знаю. Вдруг я увидел свет. Да, Умелопогас, это не мог быть свет месяца, падающий на скелет, нет, то был красный свет, висевшая фигура точно пылала в нем. Я все смотрел, и мне показалось, что отвисшие челюсти задвигались, и из пустого желудка, из высохшей груди вырвался резкий голос. — Привет тебе, Галаци, сын Сигуяны, — сказал голос, — привет, Галаци-волк! Скажи, что ты делаешь здесь, на Горе Привидений, где столько веков уже Каменная колдунья сторожит конец мира? Я отвечал, Умелопогас, или мне показалось, что яотвечаю, ибо голос мой тоже звучал дико и глухо. — Привет тебе, мертвец, сидящий, как коршун, на скале. Слушай, почему я здесь, на Горе Привидений: я пришел за твоими костями, чтобы твоя мать могла похоронить их! — Много, много лет просидел я тут, Галаци, — отвечал голос, — следя, как привидения-волки подскакивают и стараются стащить меня вниз, так что скала стала гладкой под их скользящими лапами! Так просидел я еще живым семь дней, семь ночей, томясь голодом, с голодными волками по соседству. Так просидел я мертвым много лет в сердце Каменной колдуньи, следя за месяцем, солнцем, звездами, прислушиваясь к вою волков-привидений, пожирающих все подо мной, сидел, проникаясь разумом вечной неподвижной колдуньи. Но мать моя была молода, прекрасна, когда я вступил в зачарованный лес и взобрался на каменные колени. Как выглядит она теперь, Галаци? — Она поседела, сморщилась, очень постарела! — ответил я. — Ее считают помешанной, однако я по ее желанию пришел разыскать тебя, вооруженный Стражем, принадлежавшим твоему отцу и перешедшим теперь ко мне! — Он останется при тебе. Галаци, — сказал голос, — потому, что ты один не побоялся волков, чтобы предать меня погребению. Слушай же, — ты проникаешься разумом вечной, давно окаменелой колдуньи, ты и еще другой. Не волков ты видел, не волков убил, нет, это души злых людей, живших в давно прошедшие времена, обреченных скитаться по земле, пока не истребит их человек. Знаешь ли ты, как жили эти люди, Галаци, чем они питались? Когда просветлеет, взберись на каменные плечи колдуньи, загляни во впадину между ее грудей. Тогда увидишь, как жили эти люди. Им произнесен приговор, они обречены блуждать истощенные, голодные, в волчьем образе на Горе Привидений, где когда-то жили, до тех пор, пока не погибнут от руки человека. Раздирающий голод заставляет их годами тянуться к моим костям. Ты убил их царя, а с ним и царицу. Слушай дальше, Галаци-волк, каким разумом я награжу тебя. Ты станешь царем волков-привидений, ты, да еще один, принесенный тебе львом. Накинь на плечи черную шкуру, тогда волки пойдут за тобой, все оставшиеся триста шестьдесят три волка, и пусть тот, кто явится к тебе, оденет серую шкуру. Куда вы двое поведете их, там они все пожрут, принося всем смерть, а вам — победу. Знай одно, что они сильны только в тех местах, где прежде добывали себе пищу. Недобрый дар взял ты от моей матери — Стража. Хотя без него ты бы никогда не одолел царя волков, но зато, приобретя его, ты сам погибнешь. Завтра снеси меня к матери, чтобы мне уснуть там, где уже не мечутся духи-волки. Галаци, я закончил! По мере того, как мертвец говорил, голос его становился все глуше, я еле различал слова. Однако я успел спросить его, кого же принесет лев, кто поможет мне управлять волками-привидениями, как зовут этого пришельца? Тогда мертвец ответил столь тихо, что если бы не окружающая тишина, я бы не расслышал. — Его зовут Умелопогас-убийца, сын Чаки, Льва зулусского! Тут Умелопогас вскочил с места. — Мое имя Умелопогас, — сказал он, — но я не убийца, кроме того, я сын Мопо, а не Чаки. Ты видел это во сне, Галаци, а если нет, то мертвец солгал тебе! — Может быть, я видел сон, — ответил Галаци-волк, — может быть, солгал мертвец. Но, если в этом он солгал, то, как ты увидишь, о другом он сказал правду! После того, что я услышал наяву или во сне, я и в самом деле заснул, а когда проснулся, лес утопал в тумане, слабый, серый свет скользил по лицу той, что сидит на камне. Я вспомнил про свой сон и решил проверить его. Я вышел из пещеры, нашел место, где мог взобраться до груди и головы каменной колдуньи. Когда я лез, лучи заиграли на ее лице. Я им обрадовался, но по мере того, как приближался, сходство с женским лицом утрачивалось, я уже ничего не видел перед собой, кроме шероховатых скалистых глыб. Так всегда бывает с колдунами, Умелопогас, каменные они или живые: при приближении они меняются! Теперь я находился на груди горы. Бродил взад и вперед между каменными глыбами. И набрел на расщелину шириной в три мужских прыжка и длиной в полполета копья. Близ этой расщелины лежали большие, почерневшие от огня камни, а около них — сломанные горшки и кремневый нож. Я заглянул в расщелину, она была глубока, сыра и вся поросла зеленым мхом да высокими папоротниками. Вернувшись, я содрал и с волчихи шкуру. Только я закончил, солнце взошло, пора было уходить! Но один я не смел уйти, надо было захватить с собой сидящего в скалистой расщелине. Я очень боялся мертвеца, говорившего со мной во сне. Но я обязан был его взять. Навалив один на другой камни, я добрался до него и снес его вниз. Он оказался очень легким: кожа да кости. Спустив его, я обвязал вокруг себя волчью шкуру и поднял мертвеца на плечи, как ребенка (в кожаный мешок он не помещался), держа его за оставшуюся ногу, и направился в крааль. По откосу, зная дорогу, я шел быстро, ничего не видя и не слыша. Но вот начался лесной мрак. Тут пришлось умерить шаг, чтобы ветви не хлестали мертвеца по голове. Так я шел вглубь леса. Вдруг справа от меня раздался волчий вой, слева тоже послышались завывания, за мной, впереди меня. Я шел, боясь остановиться, по солнечным лучам, изредка пробивавшимся сквозь большие деревья. Теперь я уже различал крадущиеся серые и черные тени, обнюхивающие на пути воздух. Наконец я дошел до открытого места, и — о ужас! — все волки мира собрались тут. Сердце у меня замерло, ноги задрожали, со всех сторон меня окружали звери, большие, голодные. Я стоял неподвижно, занеся дубину, а они тихо подползали, ворча, бормоча, образуя вокруг меня большой круг. Но они на меня не бросались, а только подкрадывались все ближе. Один из них прыгнул, но не на меня, а на то, что я держал на плечах. Я отклонился в сторону, он промахнулся и, упав на землю, стал жалобно, точно испуганно, визжать. Тогда припомнилось мне предсказание в моем сне, что мертвец наградит меня разумом, который поможет мне стать царем вол ков-привидений, меня и еще другого, принесенного мне львом. Разве это не оправдалось, ведь не растерзали же меня волки? На минуту я задумался, потом завыл, подобно волку. Все волки откликнулись могучим, протяжным воем. Я протянул руку, позвал их. Они подбежали, окружили меня, но вреда не причинили, напротив, они красными языками лизали мне ноги, дрались, чтобы стать ко мне ближе и терлись о меня, как коты. Один еще раз попробовал схватить мертвеца за моей спиной, но я ударил его Стражем, и он улизнул, как наказанный пес. К тому же, другие волки искусали его так, что он взвыл. Я понял, что мне нечего бояться, я стал главой духов-волков, и я пошел дальше, а за мной побежала вся стая. Я все шел, а они покорно следовали за мной, листья хрустели под их ногами, поднимая пыль. Наконец показалась лесная опушка. Я подумал, что меня не должны видеть люди в окружении волков, иначе они примут меня за колдуна и убьют. На опушке я остановился и приказал волкам идти обратно. Они жалобно взвыли, точно жалея меня, но я крикнул им, что вернусь опять, что буду управлять ими. Слова мои точно отозвались в их диких сердцах. Они, завывая, вернулись, и я остался один. Теперь, Умелопогас, пора спать, завтра я закончу рассказ.Глава 14
БРАТЬЯ-ВОЛКИ
На следующую ночь Умелопогас и Галаци опять грелись у огня около пещеры, вот как мы сидим теперь, отец мой, и Галаци продолжал рассказ. — Я подошел к реке. Уровень воды настолько упал, что я мог переправиться вброд. Люди на том берегу разглядывали мою ношу и волчью шкуру на моей голове. Они побежали к краалю, крича: «К нам по воде приближается кто-то на спине у волка!» Когда я подошел к краалю, все жители его собрались встретить меня, кроме старухи, которая не могла так далеко идти. Когда они поняли, что я несу на плечах, всех обуял страх. Но, удивленные, они не убежали, а только молча пятились предо мной, держась друг за друга. Я тоже медленно продвигался, пока не приблизился к краалю. Старуха сидела у ворот, греясь в полуденных лучах. Я подошел к изгороди и, сняв с плеч ношу, опустил ее на землю со словами: — Женщина, вот сын твой! С большим трудом вырвал я его из когтей привидений, там их много наверху. Он весь тут, кроме одной ноги, не найденной мною. Возьми его теперь, предай погребению, ибо общество его мне тягостно. Она вгляделась в лежавшего, протянула иссохшую руку, сорвала повязку с провалившихся глаз. Потом с диким воплем обхватила руками шею мертвого. Она вскрикнула еще раз, стоя неподвижно с протянутыми руками. Тут пена выступила у нее изо рта, и она упала мертвая на труп сына. Кто-то из жителей закричал: «Как зовут этого человека, отвоевавшего тело у духов?» — Галаци зовут меня! — отвечал я. — Нет! Твое имя волк, вот и волчья шкура на твоей голове! — Галаци мое имя, а Волком ты прозвал меня, но пусть я буду Галаци-волк! — И правда волк! Смотрите, как он скалит зубы, не человек он, братья, нет! — Ни то, ни другое, просто колдун! — закричали все. — Только колдун мог пробраться через лес и влезть на каменные колени! — Да, да, это волк, это колдун! Убейте его, убейте колдуна-волка, пока он не навлек на нас своих духов! Они подбежали ко мне с поднятыми копьями. — Да, я волк, — закричал я. — Да, я колдун, я пойду за волками и привидениями и приведу их к вам! Я повернулся и побежал так быстро, что они не могли меня догнать. По дороге мне попалась девушка, она несла на голове корзину с хлебами, а в руках мертвого козленка. Я дико взвыл, набросился на нее, вырвал хлебы и козленка и побежал дальше к реке. Перейдя речку, я спрятался на ночь в скалах и съел свою добычу. Встав на заре, я стряхнул росу с волчьей шкуры, потом вступил в лес и завыл по-волчьи. Волки-привидения узнали мой голос и откликнулись издалека. Скоро они обступили меня целыми десятками и ласкались ко мне. Я сосчитал их — оказалось триста шестьдесят три зверя. Я направился в пещеру и вот живу здесь с волками уже двенадцать месяцев. С ними я охочусь, с ними свирепствую, они меня знают и слушаются меня! Теперь, Умелопогас, я покажу тебе их! — и Галаци, надев на юношу волчью шкуру, протяжно завыл. Еще не успело замереть эхо, как из-за скал, из глубины леса, со всех сторон раздались ответные завывания. Волки приближались, подскочил большой серый волк, а за ним много других. Они бросились к Галаци, ласкаясь, но он отогнал их ударами Стража. Тогда, заметив Умелопогаса, они, раскрыв пасти, накинулись на него. — Смирно! Не двигайся! — крикнул Галаци. — Не бойся. — Я привык к собачьим ласкам! — отвечал Умелопогас. Что же в них страшного? Он говорил смело, но в душе трусил, так как зрелище было самое ужасное. Волки набросились на него со всех сторон, разинув пасти, почти закрывая его. Но ни один волк не тронул его, подскакивая, звери обнюхивали шкуру и тогда ласкались и лизали его. Волков — больших и истощенных, молодых и зрелых — было столько, что при луне их трудно было сосчитать. Вглядевшись в их красные глаза, Умелопогас почувствовал, что сердце его становится волчьим. Подняв голову, он тоже взвыл, и самки завыли в ответ. — Стая собрана, пора на охоту! — крикнул Галаци. — Поторопимся, дружище, нам этой ночью предстоит дальний путь! Эй, Черный Клык! Серое Рыло, эй, слуги мои, черные, серые, вперед, вперед! Он с криком прыгнул вперед, за ним Умелопогас, а следом устремились волки-привидения. Они сбежали, как лани, с горных уступов, перескакивая со скалы на скалу и вдруг перед самой чащей остановились. — Я чую добычу! — крикнул Галаци. — Вперед, слуги мои, вперед! Вскоре из леса выскочил буйвол, и волки кинулись за ним. Буйвол, спасаясь от преследователей, летел со всех ног, но Умелопогас, опередив других и даже Галаци, нагнал его, вскочил на спину и ударил копьем. Животное закачалось и рухнуло на землю. В это время подоспели остальные волки и поделили между собой добычу. Вскоре после охоты Умелопогас рассказал Галаци свою историю, и тот спросил его, останется ли он с ним жить, разделит ли власть над волками, или отправится разыскивать отца своего Мопо в крааль Чаки. Умелопогас признался, что хочет только разыскать сестру Наду, о которой он ни на минуту не забывал, но Галаци уговорил его подождать до полного возмужания, и он остался. Друзья на глазах у всех волков заключили кровавый братский союз до смерти, и волки завыли, почуяв человеческую кровь. С той поры братья во всем были заодно, и волки-духи откликались на голоса обоих. Не одну лунную ночь они охотились вместе, добывая пищу. Иногда они переправлялись через реку, охотились по равнине, так как на горах водилось мало дичи. Тогда, заслышав могучий вой, жители крааля выходили из шалашей и, следя, как стая неслась по степи, говорили, что это носятся духи, и со страхом прятались. Однако братья-волки и их стая до сих пор не убивали еще людей. После нескольких месяцев жизни на Горе Привидений, Умелопогасу стала сниться Нада. Просыпаясь, он подумывал о том, как бы разузнать про меня, отца своего Мопо, а также про ту, кого считал матерью, про сестру Наду и про всех остальных. Однажды он оделся (на горе они жили нагими), оставил Галаци и спустился в крааль, где прежде жила старуха. Там он выдал себя за сына одного вождя из далекой страны, ищущего себе жену. Жители крааля выслушали его, хотя вид его показался им диким, свирепым, а кто-то даже спросил, не он ли Галаци-волк, Галаци-колдун. Умелопогас отвечал, что он ничего про Галаци не знает, а тем более про каких-то волков. Пока они так рассуждали, в крааль вступил отряд из пятидесяти воинов. Умелопогас узнал в них воинов Чаки и сначала хотел заговорить с ними, но Элозий внушил ему молчать. Он сел в углу большого шалаша и стал прислушиваться. Хозяин крааля, страшно струсивший, так как думал, что отряд послан умертвить его и всех его близких, спросил, что пришедшим нужно. — Дело наше небольшое. Царь послал нас разыскивать некоего юношу Умелопогаса, сына царского врача Мопо. Мопо распустил слух, что юношу растерзал лев в этих горах, Чака хочет убедиться, правда ли это. — Не видали мы никогда такого юношу! — ответил хозяин. — Да на что он вам? — Мы исполним приказание, убьем его! «Подождите еще!» — подумал про себя Умелопогас. — Не видели мы никогда такого юношу! — повторял хозяин крааля. — Он злоумышленник, — ответил вождь, — и царь уже умертвил всех его родных, всех мужей, жен и детей.Глава 15
СМЕРТЬ ЦАРСКИХ ПАЛАЧЕЙ
Услышав такое, Умелопогас вскипел гневом, так как любил меня, Мопо, и считал погибшим, как остальных своих родных. Он смолчал, но выждав, когда никто не смотрел в его сторону, проскользнул за спинами военачальников к двери шалаша. Он выбрался из крааля и, перейдя реку, поднялся на Гору Привидений. Между тем военачальник все допытывал главу крааля, знает ли он что-нибудь про юношу, которого они разыскивают. Хозяин рассказал про Галаци-волка, но вождь ответил, что это не он, так как Галаци уже много месяцев обитает на Горе Привидений. — Есть тут еще один юноша, — сказал хозяин, — это незнакомец высокого роста, сильный, с глазами сверкающими, как копья. Он здесь, в шалаше, сидит вон там, в тени! Военачальник заглянул в угол, но Умелопогаса уже и след простыл. — Юноша убежал, — сказал он, — как же никто этого не заметил? Уж не колдун ли он? И вправду, до меня дошли слухи, будто на горе обитают двое, и что оба они по ночам охотятся с привидениями, но я не уверен, что это так! — Тебя стоит убить, — сказал разозленный вождь, — ты дал убежать, несомненно, Умелопогасу, сыну Мопо! — Я не виноват, — сказал хозяин крааля. — Оба эти юноши колдуны, они могут являться и исчезать, как им вздумается. Только помни одно, царский гонец, если ты собираешься на Гору Привидений, то иди один, без твоих воинов, туда никто не смеет влезать! — А я посмею, и завтра же! — ответил военачальник. — Мы становимся храбрыми в краале Чаки, мои люди не боятся ни копий, ни духов, ни диких зверей, ни колдовства, они боятся лишь царского слова. Солнце садится, накорми нас, завтра мы пойдем в гору! Так, отец мой, говорил безумный вождь, которому не суждено было увидеть следующий закат солнца. Между тем Умелопогас достиг горы, и когда пришел Галаци, рассказал ему о случившемся. — Тебе грозила большая опасность! — сказал Галаци. — Что же дальше? — А вот что! — ответил Умелопогас. — Наше войско томится по человеческому мясу. Накормим его досыта воинами Чаки, они засели в краале, чтобы убить меня. Я хочу отомстить за отца Мопо, за всех своих убитых родственников, за матерей, за жен Мопо. Что ты скажешь? Галаци расхохотался. — Славно придумал, брат! Мне надоело охотиться на зверей, и эту ночь поохотимся на людей! Они отдохнули, поели, затем, вооружившись, вышли. Галаци завыл, волки сбежались. Тогда он обошел их, потрясая Стражем, а звери сидели на задних лапах, следя за ним огненными зрачками. Потом стая по обыкновению разделилась. Самки пошли за Умелопогасом, самцы — за Галаци. Неслышно, быстро спустились они в равнину, переплыли реку и остановились на расстоянии восьми полетов копья от крааля. Братья-волки стали совещаться и решили: Галаци с самцами направится к северным воротам, а Умелопогас с самками — к южным. Благополучно добрались они до ворот, по знаку братьев волки перестали выть. Ворота заросли терном, но братья отодрали его и сделали проход. В это время от треска сучьев в краале проснулись собаки, учуяв запах волков. Они с лаем выбежали, быстро достигли южных ворот крааля и набросились на Умелопогаса. Волки бросились на собак и стали рвать их на части. Шум этой драки долетел до воинов Чаки и до жителей крааля, они вскочили со сна, хватаясь за оружие. Выходя из шалашей, они видели освещенного луной человека, одетого в волчью шкуру, бежавшего через загон, где ночевал скот. Жители крааля завопили в страхе, что это привидения, и повернули к северным воротам. О, ужас! И тут их встретил человек в волчьей шкуре и множество волков серых и черных. Ужас обуял людей. Одни падали на землю с отчаянными криками, другие старались убежать, большинство же воинов, а с ними жители крааля, собирались группами, решив, несмотря на свой страх, храбро умереть от зубов духов. Умелопогас громко завыл, Галаци ему ответил. Они кинулись на воинов, на жителей крааля, за ними волки. Стоны, вопли достигали небес, а серые волки все наскакивали, рвали, кусали. Они не боялись ни копий, ни керри. Нескольких волков воины убили, но остальные не унимались. На каждом человеке уже висело по два-три волка, таща к земле. Некоторые люди убежали, но волки выслеживали их и раздирали на куски, прежде чем те успевали добраться до ворот крааля. Братья-волки свирепствовали. Страж неутомимо работал, многие падали под ним, беспрестанно сверкало при луне занесенное копье Умелопогаса. Наконец все кончилось: в краале не осталось живых, и проголодавшиеся за долгое время волки теперь, насыщаясь, угрюмо ворчали. А братья, сойдясь, радовались, что убили пришедших убивать их. Они созвали волков и приказали им обыскать шалаши, волки ворвались туда, как собаки в лесную чащу, терзали спрятавшихся людей или затравливали, выгоняя их наружу. Вдруг какой-то высокий человек выскочил из последнего шалаша. Волки кинулись к нему, но Умелопогас отогнал их, так как узнал его. Это был тот самый военачальник, которому Чака поручил убить Умелопогаса. Отогнав зверей, юноша подошел к вождю со словами: — Привет тебе, царский вождь! Поведай нам, что привело тебя сюда, поведай здесь, под тенью той, что сидит на камне! — Он указал копьем на серую колдунью Горы Привидений, ярко освещенную луной. Военачальник не лишен был благородства, хотя и прятался от волков. Он смело ответил: — Какое тебе дело, колдун? Твои духи порешили всех, пусть они покончат и со мной! — Не торопись так, — сказал Умелопогас, — скажи-ка лучше, кого послали тебя разыскивать. Сына Мопо? — Ты не ошибся, — ответил вождь. — Я, правда, искал юношу, а нашел только злых духов! — Он взглянул на волков, раздирающих добычу. — А скажи мне, — продолжал Умелопогас, сдергивая с головы шкуру, чтоб свет луны падал на него, — скажи, признаешь ли ты лицо юноши, которого ты искал? — Да, признаю! — ответил пораженный вождь. — Ага, — засмеялся Умелопогас, — узнал! Дурень ты, ведь я угадал, какое тебе дано поручение, слышал твою болтовню, и вот мой ответ! — Он указал на груды мертвых тел. — Теперь выбирай, да поживее! Хочешь спастись бегством, гонимый всей стаей, или померяешься силами с этими четырьмя? — он указал на Серое Рыло, Черного Клыка, Кровь и Смертоносца. Волки слушали, глотая слюну. — А может быть, ты выступишь против меня, если же я паду, то против того, кто сражается дубиной, кто вместе со мной правит этим серым и черным войском? — Я боюсь привидений, но не людей и не колдунов! — ответил вождь. — Идет! — крикнул Умелопогас, потрясая копьем. Они вступили в яростный поединок. Вскоре копье Умелопогаса сломалось о щит вождя, и он остался безоружным. Юноша повернулся и быстро побежал, перепрыгивая через волков, а вождь настигал его, занеся копье и издеваясь над ним. Галаци удивлялся, что Умелопогас испугался одного человека и мечется во все стороны, опустив глаза в землю. Вдруг следивший за ним Галаци заметил, как он вспорхнул, будто птица, и нагнулся к земле. Потом закрутился на месте. И что же? В руках его оказалась секира. Вождь кинулся на него, но Умелопогас с разбега ударил, и лезвие большого, занесенного над ним копья упало на землю, выбитое из рукоятки. Снова Умелопогас ударил, лунообразная секира, проткнув толстый щит, вонзилась глубоко в тело: военачальник взмахнул руками и упал на землю. — Ага! — крикнул Умелопогас. — Ты искал юношу, а нашел секиру, спи сладко, вождь Чаки! И обратился к Галаци со словами: — Я теперь не буду сражаться копьем, а одной только секирой. Это разыскивая ее, я убегал, точно трус. Но эта секира плохая, видишь, рукоятка переломилась от удара. Я хочу добыть большую секиру Джиказы, прозванную Виновницей Стонов, о которой мы наслышаны. Пусть секира с дубиной работают вместе! — Но не в эту ночь! — сказал Галаци. — На первый раз и этого довольно. Теперь разыщем утварь и хлеб, это пригодится нам. До зари нужно успеть назад, в гору! Вот как братья-волки уничтожили отряд Чаки. Это был один из первых разгромов, учиненных ими с помощью волков. Каждую ночь они свирепствовали в стране, нападая на тех, кого ненавидели, и уничтожали. Скоро страна почти совсем опустела. Однако братья заметили, что волки не соглашаются переходить границы, не хотят драться повсюду. Так, однажды ночью братья собрались напасть на крааль племени Секиры, где жил вождь Джиказа, прозванный Непобедимым, владевший секирой под названием Виновница Стонов. Но когда они подбирались к краалю, волки вдруг повернули обратно. Тут Галаци припомнился его сон, когда с ним беседовал мертвый в пещере и предупреждал его, что только там, где когда-то охотились людоеды, могут охотиться и волки. Братья ни с чем вернулись домой, но Умелопогас стал обдумывать план, как добыть секиру.Глава 16
УМЕЛОПОГАС ОВЛАДЕВАЕТ СЕКИРОЙ
Прошло немало времени с тех пор, как Умелопогас встретился с Галаци. Юноша вырос и превратился в храброго, сильного мужчину, но до сих пор не достал еще секиру Виновница Стонов. Иногда он прятался в камышах у реки, посматривая на крааль Джиказы-Непобедимого, следя за воротами. Однажды он заметил высокого человека, несшего на плечах блестящую секиру с рукояткой из клыка носорога. С тех пор желание владеть ею захватило Умелопогаса. Но возможности добыть секиру не представлялось. Как-то вечером, когда Умелопогас прятался в камышах, он увидел девушку, стройную и прекрасную, с кожей такой же блестящей, как медные украшения на ее теле. Она тихо шла по направлению к месту, где он лежал, не остановилась у края камышей, а вошла в них и, усевшись на расстоянии полета копья от Умелопогаса, стала плакать, сквозь слезы разговаривая сама с собой. — Пусть бы волки-привидения напали на него, на все его имущество, — рыдала она, — пусть напали бы и на Мезилу. Я готова сама натравить их, пусть они меня растерзают клыками. Лучше умереть от зубов волков, чем отдать себя этому толстому борову Мезиле! А я, если меня за него выдадут, вместо поцелуев пырну его ножом! Если бы я распоряжалась волками, захрустели бы кости в краале Джиказы, до новолуния всех бы загрызли! Все это выслушав, Умелопогас вдруг предстал перед девушкой — высокий, дикого вида, со сверкающими на лбу клыками волчицы. — Девушка! Волки-привидения наготове! — сказал он. — Они всегда к услугам тех, кто в них нуждается! Увидев незнакомого юношу, девушка слабо вскрикнула, потом притихла, пораженная его ростом и свирепым видом. — Кто ты? — спросила она. — Но кто бы ты ни был, я не боюсь тебя! — Напрасно, девушка, меня все боятся. Я один из прославленных братьев-волков, я колдун с Горы Привидений. Берегись, как бы я не убил тебя! Не трудись звать на помощь, я бегаю скорее, чем твои соплеменники! — Я никого звать не собираюсь, Человек-Волк, только стоит ли убивать такое молодое существо, как я? — Твоя правда, девушка! — ответил Умелопогас. — Но скажи мне, о каком Джиказе и Мезиле ты говорила? Твои речи дышали яростью, они мне нравятся! — Ты, как видно, подслушал их, — ответила девушка, — можно не повторять! — Как хочешь, милая! Расскажи лучше о себе, возможно, я смогу тебе помочь!.. — Не о чем рассказывать, история моя коротка и обыденна. Зовут меня Зинитой, а Джиказа-Непобедимый — мой отчим. Он женился на моей покойной матери, но я не его крови. Теперь он сватает меня некоему Мезиле, толстому старику, которого я ненавижу, но Джиказу прельщает количество предложенного за меня скота! — Нет ли у тебя кого другого на примете? — спросил Умелопогас. — Никого нет! — ответила Зинита, глядя ему пристально в глаза. — Так как же избежать Мезилы? — Одно спасение — смерть, Человек-Волк. Умирая, я спасусь, умрет Мезило — то же самое, впрочем, это ни к чему, меня выдадут за другого, если же Джиказа умрет, вот тогда хорошо! Скажи, Человек-Волк, разве не проголодалось твое войско? — Сюда я не могу их привести, — ответил Умелопогас, — как же быть? — Есть способ, — сказала Зинита, — только бы человек нашелся! — и опять она так странно посмотрела, что в нем кровь загорелась. — Слушай, знаешь ли ты, кто правит нашим племенем? Им правит владеющий секирой Виновница Стонов. Тот, кто на войне выбьет секиру из рук держащего ее, тот станет новым вождем. Но если сражающийся секирой умрет непобежденным, тогда сын займет его место и право на секиру. Так было с четырьмя поколениями, ибо до сих пор владеющий Виновницей Стонов всегда оставался непобежденным. Но я слышала, что прадед Джиказы обманом добыл секиру. Легко раненый, он упал, притворился мертвым. Тогда владелец секиры засмеялся и хотел отойти, но прадед Джиказы вскочил позади, пронзил его копьем и таким образом стал вождем племени. Поэтому сам Джиказа, убивая секирой, всегда отсекает головы. — А многих он убил? — спросил Умелопогас. — Да, за последние годы многих, — сказала девушка, — никто не может противиться ему, никакие силы. Вооруженный Виновницей Стонов, он непобедим, сражаться с ним — идти на верную смерть. Пятьдесят три человека пробовали, и вот перед шалашом Джиказы валяются их белые черепа. Помни одно — секира добывается в сражении, краденая или найденная случайно, она теряет силу, даже приносит позор, смерть завладевшему ею! — Как же сойтись в Джиказой? — А вот как. Раз в год, в первый день новолуния, летом, Джиказа созывает совет военачальников. Тут он вызывает желающих — одного или многих — сразиться с ним за секиру, стать вождем вместо него. Если один человек выступит, они идут в загон. Отрубив голову врагу, Джиказа возвращается на совет. Всем позволяется участвовать в совете, и Джиказа обязан драться со всеми, кто бы ни принял его вызов! — Не пойти ли мне туда? — спросил Умелопогас. — После этого совета, в следующее новолуние, меня выдадут за Мезилу! — сказала девушка. — Тот, кто покорит Джиказу, станет вождем и сможет выдать меня за кого хочет! Умелопогас понял ее намек, он чувствовал, что понравился ей, и мысль эта тронула его, до сих пор чуждавшегося женщин. — Если стану я править племенем Секиры, благодаря железной владычице, секире Виновница Стонов, то знай, Зинита, что и ты заживешь в ее тени! — Я согласна, Человек-Волк, хотя многие бы побоялись жить в этой тени. Но раньше добудь секиру. Многие пытались, а никому не удалось! — Кому-нибудь должно удасться! — сказал он. — Так до свидания! С этими словами Умелопогас бросился в реку и поплыл по течению. Девушка Зинита следила за ним, пока он не скрылся из виду, и любовь пронзила ее сердце, любовь свирепая, ревнивая, сильная. Он же, направляясь к Горе Привидений, думал больше о Виновнице Стонов, чем о девушке Зините, так как в глубине души Умелопогас предпочитал войну женщинам, хотя именно женщины были виновницами горя в его жизни. Пятнадцать дней до новолуния Умелопогас много думал и мало говорил. Однако он рассказал Галаци часть правды и объявил о своем намерении сразиться с Джиказой-Непобедимым из-за секиры Виновница Стонов. Галаци советовал оставить эти мечты, считая, что воевать с волками вернее, чем разыскивать какое-то неведомое оружие. Он сообщил также, что добычей секиры дело не кончится, придется отвоевать девушку, а от женщин он не ждет добра. Разве не женщина отравила его отца в краале Галакаци? На все эти доводы Умелопогас ничего не отвечал, так как сердце его жаждало и секиры, и девушки, правда первой больше, чем второй. Между тем время шло, и настало новолуние. На заре этого дня Умелопогас одел охотничью сумку, обвязав под ней, вокруг бедер, шкуру волчицы. Толстый боевой щит, сделанный из кожи буйвола, и та самая лунообразная секира, которой он убил вождя Чаки, составляли его оружие. — И с таким оружием выступишь ты против Джиказы? — сказал Галаци, косо поглядывая на него. — Ничего, она послужит мне! — ответил Умелопогас. Они медленно спустились с горы и, чтобы Умелопогас сберегал силы, перешли реку вброд. Галаци спрятался в камышах. Тут Умелопогас простился с ним, не зная, свидятся ли. У ворот крааля он заметил, что много людей проходят и смешиваются с толпой. Скоро все пришли к открытому пространству перед шалашом Джиказы, где собрались его советчики. Перед кучей черепов сидел, сверкая глазами, сам Джиказа, страшный, надменный, волосатый человек. К руке его прикреплена была кожаным ремнем великая секира Виновница Стонов, и каждый, подходя, приветствовал ее, называя Инкозикас, — владычицей. Самому Джиказе никто не кланялся. Умелопогас сел в толпе перед советниками, никто не обратил на него внимания, кроме Зиниты, которая уныло двигалась взад и вперед, угощая пивом царских наперсников. Близко к Джиказе, по его правую руку, сидел жирный, маленький человек с блестящими глазками, жадно следивший за Зинитой. «Вероятно, Мезило!» — подумал Умелопогас. Немного погодя Джиказа заговорил, вращая глазами. — Послушайте, советники мои, что я решил! Я решил выдать падчерицу мою Зиниту за Мезилу, только мы еще не сошлись с ним на свадебном подарке. Я требую от Мезилы сотню голов скота за девушку прекрасную, стройную и безупречную. К тому же, она мне дочь, хоть и не моей крови. Но Мезило предлагает пятьдесят голов, а вам предоставляю помирить нас! — Пусть так, повелитель секиры! — ответил один из советников. — Но прежде, о Непобедимый, ты обязан согласно древнему обычаю вызвать желающих сразиться с тобой за Виновницу Стонов и за право власти над племенем Секиры! — Какая тоска! — ворчал Джиказа. — Когда же этому придет конец? В юности я уложил пятьдесят три человека и с тех пор все выкрикиваю свой вызов, точно петух на навозной куче, и никто его не принимает! Так есть ли между вами желающий вступить в поединок со мной, Джиказой, за великую секиру Виновница Стонов? Она будет принадлежать отвоевавшему ее, а с ней и владычество над племенем Секиры! Все это он пробормотал скороговоркой, точно молился духу, в которого не верил, и опять заговорил о скоте Мезилы и о девушке Зините. Но вдруг поднялся Умелопогас и, поглядывая на него из-за боевого щита, закричал: — Есть, Джиказа, желающий сразиться с тобой за Виновницу Стонов и за связанное с этим оружием право власти! Тут вся толпа расхохоталась, а Джиказа сверкнул глазами. — Опусти твой большой щит, выходи! — сказал он. — Выходи, назови свое имя, происхождение, ты, дерзнувший сразиться с Непобедимым за древнюю секиру! Когда Умелопогас выступил вперед, он показался всем таким свирепым, несмотря на молодость, что все перестали смеяться. — Что тебе, Джиказа, в моем имени, в родстве? — сказал он. — Брось это, поторопись лучше сразиться со мной, как исстари заведено, я жажду владеть Виновницей Стонов, занять твое место и решить вопрос о скоте Мезилы Борова. Когда я тебя убью, то выберу себе такое прозвище, какого никто еще не носил! Опять народ засмеялся, но Джиказа вскочил, захлебываясь от ярости. — Как? Что такое? — воскликнул он. — Ты осмеливаешься так говорить со мной, ты, неповитый младенец, со мной, Непобедимым, с владельцем секиры! Не думал я дожить до подобного разговора с длинноногим щенком. Пошел в загон! Я отсеку голову тебе, хвастуну! Он хочет сесть вместо меня, отобрать право, которым благодаря секире пользовались я и четыре поколения моих предков. Вот сейчас я размозжу ему голову, и мы вернемся к делу Мезилы! — Прекрати болтовню! — перебил его Умелопогас. — Если же не умеешь молчать, то лучше попрощайся с солнцем! Тут Джиказа задохнулся от бешенства, пена выступила у него изо рта так, что он больше не мог говорить. Это забавляло всю толпу, кроме Мезилы, косо поглядывавшего на высокого, свирепого незнакомца, и Зиниты, глядевшей на Мезилу тоже не особенно любезно. Все двинулись к загону. Галаци, издалека заметив это, не мог больше удержаться. Он подошел и смешался с толпой.Глава 17
УМЕЛОПОГАС СТАНОВИТСЯ ВОЖДЕМ ПЛЕМЕНИ СЕКИРА
Умелопогас и Джиказа-Непобедимый вошли в загон и остановились посреди его на расстоянии десяти шагов друг от друга. Умелопогас, как мы помним, был вооружен большим щитом и легкой лунообразной секирой, а Джиказа — Виновницей Стонов и небольшим щитом. Глядя на такое вооружение, народ думал, что владелец секиры быстро расправится с незнакомцем. По данному знаку Джиказа с яростным ревом налетел на Умелопогаса. Но тот не шелохнулся до той минуты, когда враг приготовился ударить. Тогда он внезапно отскочил в сторону и сильно хватил по спине промахнувшегося Джиказу. Он ударил его тупым концом, так как убивать секирой не намеревался. В толпе раздался взрыв смеха. Джиказа чуть не лопнул от досады, от позора. Он обежал кругом, как дикий бык, еще раз налетел на Умелопогаса, поднявшего щит, чтобы встретить удар великой секиры. И когда Джиказа занес ее высоко над головой Умелопогаса, тот закричал, будто от ужаса, и побежал. Опять раздался смех, а Умелопогас бежал все быстрее. За ним в слепой ярости гнался Джиказа. Туда-сюда по загону носился Умелопогас на расстоянии копья от Джиказы, держась спиной к солнцу, чтобы следить за тенью своего врага. Еще раз он обежал круг, а толпа рукоплескала этой погоне, похожей на то, как на охоте загонщики травят лань. Умелопогас, хоть и шатался от слабости так, что многие думали: вот-вот ему не хватит дыхания, однако несся все быстрее, увлекая за собой Джиказу. И так до тех пор, пока, наконец, понял по дыханию врага и по дрожанию тени, что силы его истощились. Теперь он притворился, что сам падает, сбивается с дороги вправо. Спотыкаясь, он уронил большой щит под ноги Джиказы. А тот сослепу налетел на него, как орел на горлинку. Мгновенно Умелопогас выхватил секиру — Виновницу Стонов, сильным ударом разорвал ремень, крепивший ее к руке Джиказы, и отскочил с ней. Тут все присутствующие оценили его хитрость, и ненавидящие Джиказу громко возликовали. Остальные молчали. Медленно поднялся Джиказа с земли, как бы удивляясь, что еще жив, схватил маленькую секиру Умелопогаса и, глядя на нее, зарыдал. Умелопогас же, подняв великую Виновницу Стонов, железную владычицу, рассматривал ее кривые, стальные зубцы, красоту рукоятки, обмотанной медной проволокой и кончающейся шишкой, как у палки. Он любовался ею, как жених красотой новобрачной. На глазах у всех он поцеловал широкое лезвие и воскликнул: — Привет тебе, моя владычица, привет, подруга моей юности, отвоеванная мной в сражении! Никогда мы с тобой не расстанемся, вместе и умрем потому, что я не допущу, чтобы кто-нибудь владел тобой после меня! И обратился, смеясь, к плачущему, все утратившему Джиказе. — Где же гордость твоя, Непобедимый? Продолжай поединок. Ты вооружен, как только что я, но я перед тобой не струсил! Джиказа с минуту глядел на него, но потом с проклятьем швырнул в него маленькой секирой и бросился бежать к воротам загона. Умелопогас нагнулся, и брошенная секира пролетела над ним. Он не двигался с места, и народ думал, что он даст Джиказе уйти. Но Умелопогас подождал, пока Джиказа почти достиг ворот, и с диким ревом, с быстротой молнии бросился вперед. Джиказа тоже припустил бежать, вот он у ворот, вот они столкнулись, блеснула сталь, и Джиказа упал, убитый могучей секирой, Виновницей Стонов, которою он и отцы его владели столько лет. Толпа возликовала, что Джиказа наконец убит, многие рукоплескали Умелопогасу, называя его вождем, господином племени Секиры. Но сыновья побежденного, десять сильных, храбрых мужей, кинулись, чтобы убить и его. Умелопогас отбежал, занося Виновницу Стонов, а некоторые из советников бросились между ними, крича: «Остановитесь!» — Разве не по вашему закону, — спросил Умелопогас, — я, победивший вождя племени Секиры, становлюсь сам вождем? — Таков закон, правда, — ответил один из престарелых советников, — но по тому же закону ты должен победить одного за другим всех, кто выступит против тебя. Так было при моем отце, когда дед покойного Джиказы завладел секирой, так должно быть и сегодня! — Я согласен, — сказал Умелопогас, — но кто же еще поборется со мной за Виновницу Стонов, за право власти над племенем Секиры? Все десять сыновей Джиказы, как один, выступили вперед потому, что сердца их обезумели из-за смерти отца, их охватила ярость, ведь род их лишился власти. Им было теперь безразлично — жить или умереть. Никто больше не выступал, все мужчины боялись Умелопогаса, боялись Виновницы Стонов. Между тем он сосчитал их. — Клянусь головой Чаки, их десять! — вскричал он. — Если сражаться со всеми, то останется время разобрать дело Мезилы и девицы Зиниты. Слушайте! Что скажете вы, сыновья Джиказы-Побежденного, если я предложу еще кому-нибудь драться со мной против десяти? Согласны? Братья рассудили, что это более выгодно, чем выходить по одному. — Пусть так! — ответили они, и советники тоже одобрили. Умелопогас, бегая кругом по загону, заметил в толпе своего брата Галаци и понял, что тот жаждет разделить с ним бой. Тогда он громко крикнул: — Выбранный мною союзник станет вторым правителем племени Секиры, если мы победим! Он медленно обошел ряды, всматриваясь в лица, пока не дошел до Галаци, опирающегося на Стража. — Вот большой человек с большой дубиной, — сказал Умелопогас. — Как зовут тебя? — Мое имя Волк! — ответил Галаци. — Согласен ты разделить со мной бой вдвоем против десяти? Если победим, разделишь и власть мою над этим племенем! — О, великий владелец секиры, — ответил Галаци, — мне глушь леса, вершины гор дороже краалей и поцелуев жен, но ты так отличился, что я готов испытать радость битвы, драться с тобой рядом до конца! — Так помни уговор! — сказал Умелопогас. Удивительная пара дошла до середины загона. Они поражали всех, а некоторым даже пришло на ум, что это братья-волки с Горы Привидений. — Что, Галаци, сошлись, наконец, Виновница Стонов с дубиной Стражем! — сказал Умелопогас. — Я думаю, мы сильнее их! — А вот увидим! — ответил Галаци. — Во всяком случае, борьба веселая, а какой конец — видно будет! — Да, хорошо побеждать, но смерть — всему конец, и это еще лучше! Для того, чтобы победить, нужно учесть все, даже мелочи. Умелопогас, размахивая секирой, долго и с любопытством рассматривал ее зубцы. Посовещавшись, воины стали спиной друг к другу посреди загона. Умелопогас взял секиру по-новому, кривыми зубцами к себе, тупым краем к врагу. Десять братьев толпились вместе, потрясая ассегаями. Пятеро выстроились перед Умелопогасом, пятеро перед Галаци-волком. Все рослые, рассвирепевшие от пережитого позора. — Одно колдовство спасет этих двоих! — сказал стоявший близко советник. — Сильна секира, — ответил другой, — да и дубину я как будто знаю. Ее, кажется, зовут Стражем Брода. Горе неповинующемуся ей! Я видел ее в деле, когда был молодым. К тому же, вооруженные дубиной и секирой далеко не трусы. Это еще юноши, но они воспитаны волками! Между тем подошел старец, которому надлежало дать условный знак — подбросить вверх копье. Когда оно коснется земли, бой должен начаться. Старец подбросил его, но так неловко, что оно упало среди сыновей Джиказы. Они расступились, и когда копье коснулось земли, Умелопогас и Галаци, выкрикнув какое-то слово, не дожидаясь, пока враг соберется, бросились вперед, каждый на свою группу врагов, растерявшихся перед этим натиском. Недолго продолжался бой. Вскоре четверо братьев были убиты, а секира и дубина продолжали неистовствовать. Тогда остальные, разъяренные тщетностью борьбы, бросились бежать. — Эй, сыновья Непобедимого, стойте, не бегите так стремительно! — закричал Умелопогас. — Я прощаю вас, оставайтесь мести мои шалаши и возделывать мои поля с остальными бабами крааля! Советники, битва закончена, пойдемте в шалаш вождя, где Мезило ждет нас! — Он повернулся и пошел с Галаци, а за ним, молча, пораженная виденным, следовала толпа. Добравшись до шалаша, Умелопогас сел на то место, где еще утром сидел Джиказа. Зинита принесла воды, чистую тряпицу и омыла ему рану от копья. Он поблагодарил ее, но когда она хотела омыть еще более глубокую рану Галаци, тот грубо отстранил ее и сказал, что ненуждается ни в какой женской возне. Умелопогас обратился к сидевшему перед ним перепуганному Мезиле Борову. — Ты, кажется, сватал девушку Зиниту, даже насильно преследовал ее? Я предполагал убить тебя, но на сегодня довольно крови! Приказываю тебе поднести свадебный подарок этой девушке, которую я сам возьму в жены. Ты подаришь ей сто голов скота! А потом, Мезило Боров, удались отсюда, из племени Секиры, пока не случилось с тобой чего-нибудь худшего! Мезило вышел с позеленевшим от страха лицом. Пригнав все сто голов, он быстренько убрался, наверное, в крааль Чаки. Зинита следила за его бегством, радовалась, что красивый победитель взял ее себе в жены. Между тем советники и военачальники преклонились перед тем, кого они прозвали Убийцей, воздавая ему почести, как вождю, как владельцу секиры. Став вождем многочисленного племени, Умелопогас возвысился, разбогател скотом, обзавелся женами. Никто не смел ему перечить. Изредка, правда, какой-нибудь смельчак дерзал вступить с ним в поединок, но никто не мог победить его. Галаци также возвысился, но мало жил с племенем. Он больше любил дикие леса, высокие горы и часто, как и раньше, носился по лесу, по равнинам, сопровождаемый волками-привидениями. Умелопогас реже охотился с волками. Он проводил ночи с Зинитой, которая любила его и рожала ему детей.Глава 18
ПРОКЛЯТИЕ БАЛЕКИ
Снова, отец мой, возвращаюсь к началу, как река течет с верховьев. Я расскажу о событиях в краале Гибамаксегу, прозванном белыми Гибеллик или крааль Погибель стариков, потому что Чака умертвил всех старцев, непригодных к войне. В знак печали по погибшей от его руки матери Чака назначил траур на целый год, и никто не смел ни детей рожать, ни жениться, ни есть горячей пищи. Вся страна стонала и плакала, как плакал сам Чака. Беда ждала смельчака, рискнувшего появиться перед царем с сухими глазами. Приближался праздник новолуния, со всех сторон сходились тысячами люди, оглашая воздух жалобным плачем. Когда все собрались, Чака и я вышли к народу. — Теперь, Мопо, — сказал царь, — мы узнаем чародеев, навлекших на нас горе, и кто чист сердцем. И он подошел к одному знаменитому вождю Цваумбане, главе племени амабува, явившемуся сюда с женой и со всей своей свитой. Этот не мог больше плакать: он задыхался от жары и жажды. Царь посмотрел на него. — Видишь, Мопо! — сказал он. — Этот скот не горюет по моей покойной матери. О бессердечное чудовище! И что, он может радоваться солнцу, пока ты и я плачем, Мопо? Нет, ни за что! Уведите его, уведите всех, кто при нем, уведите бессердечных людей, равнодушных к смерти моей матери, погибшей от злых чар! — Чака, плача, пошел дальше, я, рыдая следовал за ним, а вождя Цваумбане со всеми его приближенными убили царские палачи и, убивая, плакали над жертвами. Вот мы подошли к человеку, быстро понюхавшему табак. Чака успел это заметить. — Смотри, Мопо, у чародея нет слез, а бедная мать мертва. Он нюхает табак, чтобы вызвать слезы на своих сухих от злобы глазах. Уберите это бесчувственное животное, ах, уберите его! Убили и этого. Чака совсем обезумел от ярости, бешенства, от жажды крови. Он входил, рыдая, к себе в шалаш пить пиво, так как он говорил, что горюющим надо подкрепляться, и я сопровождал его. По дороге он размахивал ассегаем, приговаривая: «Уберите их, бессердечных тварей, равнодушных к смерти моей матери!» Попадавшихся на его пути убивали. Когда палачи уставали, их самих приканчивали. Мне тоже приходилось убивать, иначе и меня бы убили. Народ потерял рассудок от жажды, от неистового страха. Стали нападать друг на друга, каждый выискивал врага и закалывал его. Никого не пощадили, страна превратилась в бойню. В тот день погибло семь тысяч человек, но Чака все плакал, повторяя: «Уберите бесчувственных скотов, уберите их!» В его жестокости, отец мой, таилась хитрость: закалывая многих ради забавы, он одновременно разделывался с теми, кого ненавидел или боялся. Настала ночь. Солнце село багровое, все небо казалось кровавым, кровь текла по всей земле. Резня наконец прекратилась, все ослабели, люди, тяжело дыша, валялись кучами, живые вместе с мертвыми. Видя, что многие умрут до рассвета, если им не позволят поесть и напиться, я сказал об этом царю. Я не дорожил жизнью, я даже о мести забыл, такая тоска меня грызла. На другой день Чака решил прогуляться и приказал мне и еще кое-кому из приближенных и слуг следовать за ним. Мы молча выступили, царь опирался на мое плечо, как на палку. — Что скажешь, Мопо, о своем племени лангени? Было оно на поминках? Я не заметил! — спросил Чака. Я отвечал, что не знаю, и Чака остался очень недоволен. В это время мы дошли до места, где черная скала образует большую, глубокую щель Ундонга-Лука-Татьяна. Скала спускается уступами, и с высоты открывается вид на всю страну. Чака уселся на краю бездны, размышляя. Оглядев местность, он увидел, массу мужчин, женщин, детей, идущих по равнине в направлении крааля Гибамаксегу. — По цвету щитов, — сказал царь, — это племя лангени, твое племя, Мопо! — Ты не ошибся, о царь! — ответил я. Тогда Чака послал гонцов, чтобы они вернули к нему племя лангени. Послал он гонцов и в крааль, шепнув им что-то, чего я не понял. Он следил, как повернула назад черная лента людей, и спросил: — Сколько их, Мопо? — Не знаю, о Слон, я давно не видел их, но кажется, до трех полных отрядов! — По-моему, больше, — сказал царь. — А как, по-твоему, Мопо, заполнит твое племя вот эту щель под нами? — Он кивнул на скалистую пропасть. Тут, отец мой, я весь задрожал, угадав намерение Чаки. Отвечать ему я не мог, язык мой прилип к гортани. — Людей много, — продолжал Чака, — однако, бьюсь об заклад на пятьдесят голов скота, они не заполнят щель! — Царь изволит шутить! — Да, я шучу, Мопо, а ты, шутя, бейся об заклад! — Воля царя священна, — пробормотал я, видя, что отказаться нельзя. А мое племя приближалось, его вел старец с белой головой и бородой. Вглядевшись, я узнал в нем отца своего Македама. Подойдя к царю, он отдал ему высшую честь: «Баете» и пал ниц на землю, громко славя его. Тысячи людей упали на колени, славя царя, казалось, гремит гром. Родитель мой Македам все лежал в пыли, распростертый царским могуществом. Чака повелел ему встать, ласково приветствовал его, все же остальные мои соплеменники не двигались, колотя лбами землю. — Встань, Македам, дитя мое, встань, отец племени лангени! — сказал Чака. — Расскажи, почему ты опоздал на поминки? — Долог наш путь, о царь, время коротко, к тому же женщины и дети сильно утомились! — Довольно, дитя мое, я убежден, что ты горевал в душе, а также горевало твое племя. Скажи мне, все ли тут? — Все тут, о Слон, все в сборе. Краали мои опустели, скот без пастырей бродит по холмам, птицы клюют заброшенные посевы! — Так, Македам, так, верный слуга мой, я верю, что ты стремился погоревать со мной. Так слушай же: расположи племя по правую и по левую сторону от меня вдоль уступов, по самому краю расщелины! Македам исполнил царский приказ, и никто из приближенных не догадывался, в чем тут дело, только я, изучивший злое сердце Чаки, все понял. Толпы народа рассыпались по склонам и покрыли всю траву. Когда все встали, Чака опять обратился к Македаму, повелел ему спуститься на дно пропасти и там завопить. Старец повиновался. Медленно, с большим трудом, полез он на дно. Оно было так глубоко, что свет едва проникал туда, волосы старца чуть белели издалека в надвигающемся мраке. Стоя внизу, он закричал, этот вопль долетел до толпы. Мой родитель пел тихим, слабым голосом, но люди наверху так отвечали ему, что горы дрожали. К тому же, пошел дождь крупными каплями, блистала молния, гремел гром. Чака слушал, слезы текли по его щекам. Дождь хлестал все сильнее, окутывая людей, как сетью, а люди все кричали, заглушая непогоду. Вдруг они замолчали. Я посмотрел вправо. Там развевались перья над головами воинов, вооруженных копьями. Я посмотрел влево — и там развевались перья, блистали копья. Опять толпа издала вопль, но уже вопль ужаса и отчаяния. — Вот они когда горюют, — сказал Чака, — вот, когда племя твое искренне тоскует. Ряды его воинов колыхнулись, как волны, в одну сторону, в другую и, подгоняемые копьями, мои соплеменники с ужасными криками стали падать на дно пропасти, вниз, в мрачную глубину… Отец мой, прости мне слезы. Я слеп, стар. Я плачу, как плачут дети. Всего не перескажешь. Все кончилось скоро, все стихло… Так погиб Македам, погребенный под телами своих соплеменников, так кончилось племя лангени. Сон моей матери оказался вещим: Чака отомстил за отказ ему в кружке молока. — Ты проиграл, Мопо! — сказал немного погодя царь. — Мы до краев наполнили наш склад, но смотри, тут есть еще место. Разве некому занять его? — Есть еще человек, о царь! — отвечал я. — Я тоже из племени лангени, пусть мой труп ляжет здесь! — Нет, Мопо, нет! Я не нарушу обета, да и кто останется горевать со мной? — В таком случае никого нет! — Да нет же, есть, — сказал Чака, — есть у нас с тобой общая сестра, да вот она идет! Я поднял голову, отец мой, и увидел направляющуюся к нам, закутанную в тигровую шкуру Балеку. Два воина вели ее. Она выступала гордо, как царица, высоко держа голову. Вот она заметила мертвых, они чернели, как стоячая вода в пруду… С минуту она дрожала, поняв, что ее ждет, потом стала перед Чакой, посмотрела ему в глаза и сказала: — Не видать тебе покоя, Чака, с этой ночи до конца дней твоих, пока тебя не поглотит вечная жизнь. Я сказала. Чака испуганно отвернулся. — Мопо, брат мой, — обратилась ко мне Балека, — поговорим в последний раз, на то царская воля! Мы отошли в сторону и стояли одни около трупов. Балека надвинула на брови тигровую шкуру и быстро прошептала: — Видишь, Мопо, слова мои сбылись. Поклянись теперь, что отомстишь за меня, если будешь жив! — Клянусь, сестра! — Прощай, Мопо, мы всегда любили друг друга. Сквозь дымку прошлого я вижу нас детьми, играющими в краалях лангени, будем ли мы снова играть так в иной стране? А теперь, Мопо, — она твердо взглянула на меня широко раскрытыми глазами, — теперь я устала. Я спешу к духам моего племени, я слышу, они зовут меня. Прощай!..Глава 19
МЕЗИЛО В КРААЛЕ ДУГУЗЫ
В ту ночь, когда проклятие Балеки пало на Чаку, так плохо спалось ему, что он потребовал меня к себе и приказал сопровождать его в ночной прогулке. Я повиновался, и молча мы шли одни. Ноги сами несли его к ущелью Ундонга-Лука-Татьяна, к тому месту, где весь мой народ лежал мертвый, а с ним сестра моя Балека. Мы медленно поднялись на холм и дошли до края пропасти, до того самого места, где стоял Чака, пока люди падали со скалы с криками и плачем. Теперь же царило молчание. Ночь была очень тихая, луна освещала убитых, которые лежали поближе к нам, и я ясно видел их всех, я мог даже разглядеть лицо Балеки, которую бросили в самую середину мертвых тел. Никогда еще лицо ее не было так прекрасно, как в этот час, но, глядя на него, я испытывал страх. Дальний конец ущелья был покрыт мраком. — Теперь ты не выиграл бы заклада, Мопо, слуга мой! — сказал Чака. — Посмотри, тела мертвецов не заполнили ущелья, на высоту целого копья! Я не отвечал. Голос царя вспугнул шакалов. Он заговорил снова, громко смеясь. — Ты должна спать хорошо эту ночь, мать моя, немало людей отправил я к тебе, чтобы беречь твой сон. О люди племени лангени, вы все забыли, я же ничего не забыл! Вы забыли, как приходила к вам женщина с мальчиком, прося крова и пищи, и вы ничего не захотели дать им, ничего, даже кружки молока. Что обещал я вам в тот день, люди племени лангени? Разве я не обещал вам, что за каждую каплю, которую могла вместить кружка, я возьму у вас жизнь человека? Я сдержал свое обещание! Лежит здесь мужчин больше, чем капель в кружке, а с ними женщины и дети, бесчисленные, как листья! О люди племени лангени, вы отказались дать мне молока, когда я был ребенком, теперь, став великим, я отомстил вам! Великим! Да, кто может сравниться со мной? Земля дрожит под моими ногами, когда я говорю, народы трепещут, когда я гневаюсь, они умирают тысячами. Я стал великим и великим останусь. Вся страна, куда только может дойти нога человека, мне принадлежит. Я стану еще сильнее, еще могущественнее. Балека, твои это глаза пристально смотрят на меня из толпы тех тысяч, которых я умертвил? Ты обещала мне, что отныне я буду плохо спать. Балека, я тебя не боюсь, ведь ты спишь крепко. Скажи мне, Балека, встань и скажи, — кого должен я бояться? — внезапно он прервал бред своей гордости. Отец мой, царь Чака говорил, а мне пришла в голову мысль прекратить все его кровавые дела, убить его. Сердце мое сжималось от гнева и жажды мщения. Я стал за ним, я уже поднял палку, которую держал в руке, чтобы размозжить ему голову, как вдруг остановился потому, что увидел нечто необычайное. Там, среди мертвых, я увидел руку, которая двигалась. Она задвигалась, поднялась и поманила кого-то из тени, скрывающей конец ущелья и кучу тел. Мне показалось, что это рука Балеки, хотя ее холодное лицо не изменилось. Три раза поднялась рука, три раза поманила она к себе согнутым пальцем кого-то из мрака тени, из тьмы мертвых. Рука потом упала, и я услышал звон медных браслетов. Из тени раздалось пение, громкое и нежное, какого я никогда не слыхал. Слова песни долетали до меня, отец мой, но потом они стерлись из моей памяти. Я только знаю, что пелось о сотворении мира, о начале и конце всех народов. Они рассказывали, как размножились черные племена, как белые люди пожрут их, о том, как они воюют друг с другом, и каков будет конец борьбы. Песня говорила также о зулусах, о том, как они растают в тени этой Белой руки, будут забыты и перейдут в страну, где никто не умирает, а живет вечно. Добрый с добрым, злой со злым. Песня была о жизни и смерти, о радости и горе, о времени и о том море, на котором время — лишь плавающий листок, и о причине, почему все так создано. Много имен поминалось в этой песне, но из них я знал не все, хотя и мое имя послышалось мне, имя Балеки и Умелопогаса и имя Чаки-льва. Голос из мрака пел и наполнял все пространство, казалось, что и мертвые его слушают. Чака слышал голос и дрожал от страха, но уши его не воспринимали смысла песни. Голос все приближался, и среди мрака засветился слабый луч, подобно сиянию, которое появляется после шести дней на лице умершего человека. Медленно приближался он сквозь мрак, и я видел, что светлое сияние принимает очертания женщины. Вскоре я понял, что это лицо Инкозозаны зулусов — Небесной царицы. Она приближалась к нам очень медленно, скользя по бездне, наполненной мертвыми, она ступала по трупам. Пока она подходила, мне казалось, что мертвые поднимались тенями и следовали за нею, Царицей мертвых, — тысячи и тысячи умерших. Отец мой, какое сияние, — сияние ее волос, подобных расплавленному золоту, ее очей, подобных полуденным небесам, блеска ее рук и груди, похожих на свежевыпавший снег, когда он сверкает при солнечном закате! На ее красоту страшно было взглянуть, но я радуюсь, что дожил до счастья видеть ее, пока она сияла и блистала в меняющейся пелене света, составляющей ее одеяние. Но вот она подошла к нам, и Чака упал на землю, скорчившись от страха, закрывая лицо руками. Я не боялся, отец мой, только злые должны бояться Небесной царицы. Нет, я не боялся, я стоял прямо и вбирал ее сияние. В руке она держала небольшое копье, вправленное в царское дерево: то была тень копья, которое Чака держал в руке, того, которым он убил свою мать, и от которого он сам должен был погибнуть. Она перестала петь, остановилась перед лежащим ниц царем и передо мной, стоящим за царем, так, что свет ее сияния падал на нас. Она подняла свое небольшое копье, тронула им чело Чаки, сына Сензангакона, обрекая его на гибель. Потом она заговорила. Но Чака почувствовал лишь прикосновение, слов он не слыхал, они предназначались только мне. — Мопо, сын Македама, — сказал тихий голос, — придержи свою руку, чаша Чаки еще не полна. Когда третий раз ты увидишь меня на крыльях бури, тогда убей его, Мопо, дитя мое! Так говорила она, и облако проскользнуло по лику луны. Когда оно прошло, видение исчезло, и снова остался я в ночной тиши с Чакой и мертвецами. Чака поднял голову, и лицо его посерело от холодного пота, вызванного страхом. — Кто это, Мопо? — спросил он хриплым голосом. — Это — Небесная Инкозозана, та, которая заботится о людях ваших племен, царь, и которая показывается людям перед совершением великих событий! — Я слыхал об этой царице, — сказал Чака. — Почему появилась она теперь, какую песню пела она, и почему она тронула меня копьем? — Она явилась, о царь, потому, что мертвая рука Балеки призвала ее, как ты сам видел. То, о чем она пела, недоступно моему пониманию, а почему она прикоснулась к твоему челу копьем, я не знаю, царь! Может быть, для того, чтоб короновать тебя царем еще большего царства! — Да, может быть, чтоб короновать меня властелином в царстве смерти! — Ты и без того царь смерти, Черный! — отвечал я, взглянув на темные трупы и на холодное тело Балеки. Снова Чака вздрогнул. — Пойдем, Мопо, — сказал он, — теперь и я узнал, что такое страх! — Рано или поздно, страх приходит к убийцам, даже к царям, о Землетряситель! — отвечал я. Вскоре после этой ночи Чака объявил, что его крааль заколдован, что заколдована вся страна зулусов, он говорил, что более не может спать спокойно, а вечно просыпается в тревоге, произнося имя Балеки. В конце концов он перенес свой крааль подальше от тех мест и основал большой город Дугузу, здесь, в Натале. Послушай, отец мой! Там, в равнине, далеко отсюда, есть жилища белых людей. Место то зовут Стангер. Там, где теперь город белых людей, стоял большой крааль Дугуза. Я ничего более не вижу, мои глаза слепы, но ты видишь. Там, где были ворота крааля, теперь стоит дом. В нем белый человек судит судом справедливым. Раньше через ворота этого крааля никогда не проникала справедливость. Сзади находится еще дом, в нем те из белых людей, которые согрешили против Небесного царя, просят у него прощения. На этом месте многие, не сделавшие ничего дурного, молили царя людей о милосердии, и только один из них был помилован. Да, слова Чаки сбылись, я расскажу тебе об этом, отец мой. Белый человек завладел нашей землей, он ходит взад и вперед по своим мирным делам, где раньше наши отряды мчались на убийства, его дети смеются и рвут цветы в тех местах, где люди в крови умирали сотнями, они купаются в водах Имбозамо, где раньше крокодилы ежедневно питались человечиной, белые молодые люди мечтают о любви там, где раньше девушек целовали только ассегаи. Все изменилось, все стало иным, а от Чаки осталась только могила и страшное имя. Чака перешел в крааль Дугузы и некоторое время жил в покое, но вскоре прежняя жажда крови проснулась в нем, и он выслал свои войска против народа пондо, уничтожил этот народ и привел его стадо. Но воинам не разрешили отдыхать, снова их собрали на войну среди десятков тысяч с приказанием победить Сотиангану, вождя народа, который живет на севере от Лимпопо. Они ушли с песнями после царского смотра и приказа вернуться победителями или не возвращаться вовсе. Их было так много, что с рассвета до полуденного часа эти непобежденные воины проходили сквозь ворота крааля, подобно бесчисленным стадам. Не знали они, что победа более не улыбнется им, что придется им умирать тысячами от голода и лихорадки в болотах Лимпопо и что вернувшиеся принесут щиты в желудках, сожрав их от неумолимого голода! Но что говорить о них? Они — ничто. «Прах» — название одного из больших отрядов, отправляемых против Сотианганы, и прахом оказались посланные на смерть Чакой, Львом зулусов. Мало осталось воинов в краале Дугузы, почти все ушли в поход, остались только женщины и старики. Да Динган и Умгланган, братья царя, которых Чака не отпустил, боясь заговора с войсками против него. Он всегда смотрел на них гневно, и они дрожали за свою жизнь, хотя не смели показать страха, чтобы опасения их не оправдались. Я угадал их мысли и, подобно змее, обвился вокруг их тайны, и мы говорили между собой туманными намеками. Но об этом ты узнаешь потом, отец мой, я сперва должен рассказать о приходе Мезилы после того, как Умелопогас-убийца выгнал его из крааля племени Секиры. На следующий день после отбытия нашего отрада Мезило явился в крааль Дугузы, прося разрешения говорить с царем. Чака сидел перед своей хижиной, а с ним Динган и Умгланган. Я также присутствовал, а с нами некоторые из индунов, советников царя. В это утро Чака чувствовал себя уставшим — ночью спал плохо, как, впрочем, спал он всегда теперь. Поэтому, когда ему доложили, что какой-то бродяга по имени Мезило хочет говорить с ним, он не приказал убить его, но велел привести. Вскоре раздались возгласы приветствия, и я увидел толстого человека, утомленного дорогой, ползущего по пыли к нам и выкрикивавшего все имена и титулы царя. Чака приказал ему замолчать и говорить только о своем деле. Тогда человек этот приподнялся и передал нам этот рассказ, который ты уже слышал, отец мой, о том, как явился к народу Секиры молодой, высокий и сильный человек и, победив Джиказу, вождя Секиры, стал начальником всего народа, о том, как он отнял у Мезилы весь его скот, а его самого выгнал. До этого времени Чака ничего не знал о народе Секиры, страна была обширна в те дни, отец мой, и в ней жило далеко от нас много маленьких племен, о которых царь никогда даже не слыхал. Он стал расспрашивать Мезилу о них, о количестве воинов, скота, спросил имя правящего ими молодого человека, а особенно о дани, которую они платят царю. Мезило отвечал, что число их воинов составит, быть может, половину одного полка, что скота у них много, что они богаты, что дани они не платят. И что имя молодого человека — Булалио-убийца, по крайней мере, он известен под этим именем, а другого Мезило не слыхал. Тогда царь разгневался. — Встань, Мезило, — сказал он, — беги обратно к своему народу, скажи на ухо ему и тому, кого зовут Убийцей: «Есть на свете другой убийца, который живет в краале Дугуза. Вот его приказ вам, народ Секиры, и тебе, владелец секиры. Поднимись со всем народом, со всем скотом своего народа, явись перед живущим в краале Дугуза и передай в его руки великую секиру, Виновницу Стонов». Немедля исполни это приказание, чтобы не очутиться тебе сидящим на земле последний раз [170]. Мезило выслушал и отвечал, что исполнит приказание, хотя дорога предстоит дальняя, и он боится явиться перед тем, кого зовут Убийцей, и который живет в тени Горы Привидений. — Ступай, — повторил царь, — и вернись ко мне с ответом от начальника Секиры на тридцатый день! Если не вернешься, я пошлю искать тебя и вождя Секиры! Мезило быстро удалился, чтобы исполнить приказание царя, Чака же более не говорил об этом событии. Но я невольно задавал себе вопрос, кто этот молодой человек, владеющий секирой, мне казалось, что он поступил с Джиказой и с сыновьями Джиказы так, как поступил бы Умелопогас, если бы дожил до этого возраста. В тот же день до меня дошла весть, что моя жена Макрофа и дочь Нада, жившие в племени свациев, умерли. Рассказывали, что люди племени галакациев напали на их крааль и зарубили всех. Выслушав это известие, я не пролил даже слезы, отец мой, потому, что и так был погружен в печаль.Глава 20
МОПО ВХОДИТ В СОГЛАШЕНИЕ С ПРИНЦАМИ
Прошло двадцать восемь дней, отец мой, а на двадцать девятый Чаке приснился сон. Утром он приказал позвать женщин из крааля, сотню или более, некоторых из тех, которых он называл «сестрами», девушек, еще не выданных замуж, но всех без исключения молодых и прекрасных. Какой сон приснился Чаке, я не знал, в те дни ему постоянно снились сны, которые вели к одному — к смерти людей. Мрачный сидел он перед своей хижиной, и я находился тут же. Налево от него стояли призванные женщины и девушки, и колени их ослабели от страха. По одной подводили их к царю, и они стояли перед ним с опущенными головами. Он просил их не печалиться, говорил с ними ласково и в конце разговора задавал вопрос: «Есть ли, сестра, в твоей хижине кошка?» Некоторые из них отвечали, что у них есть кошка, другие, что нет, а некоторые стояли неподвижно и не отвечали вовсе, онемев от страха. Но что бы они ни отвечали, конец был один: царь кротко вздыхал и говорил: «Прощай, сестра моя, очень жаль, что у тебя есть кошка!», или «Очень жаль, что у тебя нет кошки!», или «Печально, что ты не можешь сказать мне, есть ли у тебя кошка, или нет!» Несчастную хватали палачи, вытаскивали из крааля, и конец ее наступал быстро. Так прошла большая часть дня, шестьдесят две женщины и девушки были убиты. Наконец, привели девушку, которую ее змея одарила присутствием духа. Когда Чака спросил, есть ли у нее в хижине кошка, она отвечала, что не знает, но на ней висит полкошки. И она указала на шкуру этого животного, привязанную вокруг ее стана. Тогда царь рассмеялся, захлопал в ладоши и сказал, что наконец получил ответ на свой сон. В этот день он более не убивал, да и после также, за исключением одного вечера. Сердце мое давно окаменело, покоя я не знал. И все чаще восклицал мысленно: «Доколе?» Как-то вечером я вышел из крааля Дугузы, пошел к большому ущелью в горах и сел там на скале. С высоты я видел огромные пространства, тянущиеся на север и на юг, влево и вправо от меня. Воздух был необыкновенно тих. Необычайная дневная жара собирала грозу. Солнца закатывалось красное, словно вся кровь, пролитая Чакой, наводнила страну, которой он правил. Потом поднялись огромные тучи и остановились перед солнцем, и оно окружило их сиянием, а внутри их молнии трепетали, как огненная кровь. Тень от их крыльев пала на гору и равнину. Под крыльями этими царило молчание. Медленно зашло солнце, и тучи собрались в толпу, как отряд воинов по приказу начальника, мерцание же молний казалось блеском копий. Я смотрел на эту картину, и страх проник в мое сердце. Молнии больше не резали тучи, тишина окутала мир, ни один лист не шевелился, ни одна птица не пела, словно мир вымер, — я один жил в мертвом мире. Мне казалось, что я слышу эту глубокую тишину. Внезапно, отец мой, блестящая звезда упала с небес и коснулась вершины туч, при ее прикосновении разыгралась гроза. Серый воздух дрогнул, стон пронесся среди скал и замер в отдалении, потом ледяное дыхание вырвалось из уст грозы и устремилось к земле. Оно захватило падающую звезду и погнало ее ко мне. Сначала она превратилась в летящий огненный шар, потом приняла облик, смутно напоминающий женский. Я узнал ее, отец мой, даже когда она еще была далеко, я узнал ее — Инкозозану, явившуюся, как она обещала, на крыльях бури. Все приближалась она, несомая вихрем, и страшно было взглянуть на нее, ее одеждой была молния, молнии же сверкали из ее огромных глаз, молнии тянулись из ее распущенных волос, а в руке она держала огненное копье и потрясала им. Вот она приблизилась ко входу в ущелье, перед нею царила тишина, за нею бились крылья бури, гремел гром, дождь свистел, как змея, она промчалась мимо меня и взглянула на меня своими страшными глазами. Вот она удаляется, она исчезла! Ни слова не сказала она, только потрясала своим огненным копьем. Но мне показалось, что буря заговорила, что скалы громко вскрикнули, что дождь прошумел мне в уши слова: — Убей его, Мопо! Я слышал эти слова: сердцем или ушами — а не все ли равно? Я оглянулся: сквозь вихри бури и пелену дождя я мог еще раз разглядеть ее, несущуюся высоко в воздухе. Вот крааль Дугуза под ней, огненное копье упало из ее руки на крааль, и оттуда навстречу полыхнул огонь. Еще некоторое время я просидел в ущелье, потом встал и, борясь с разбушевавшейся грозой, направился к краалю Дугузы. Подходя, я услыхал крики ужаса среди рева ветра и свиста дождя. Я спросил о причине тревоги, мне отвечали, что с неба упал огонь на хижину царя, когда он спал, вся крыша сгорела, но дождь потушил огонь. Я дошел до большой хижины и при свете луны, которая теперь сияла на небе, увидел Чаку, дрожащего от страха. Он пристально смотрел на свое жилище, на сгоревшую тростниковую кровлю. Я поклонился царю и спросил, как это случилось. Он схватил меня за руку и прижался ко мне, как прижимается к своему отцу ребенок при виде палачей. Потом он втащил меня за собой в небольшую хижину, стоящую рядом. — Раньше я не знал страха, Мопо, — сказал Чака на мой вторичный вопрос, — а теперь я боюсь, да, боюсь так же, как в ту ночь, когда мертвая рука Балеки призвала кого-то, кто шел по лицам умерших! — Чего тебе бояться, царь, тебе, властителю всей земли? Чака нагнулся ко мне и прошептал: — Мопо, мне снился сон. Когда окончился суд над колдунами, я ушел спать засветло потому, что почти совсем не могу спать, когда мрак окружает землю. Сон мой покинул меня, — сестра твоя Балека унесла его с собой в жилище смерти. Я лег и уснул, но явилось сновидение с закрытым лицом, село рядом со мной и показало мне картину. Мне почудилось, что стены моей хижины упали, и я увидел открытое место, посередине лежал я мертвый, покрытый ранами, а вокруг моего трупа ходили братья мои Динган и Умгланган, гордые, как львы. Плечи Умглангана покрывал мой царский плащ, из копья капала кровь. Во сне моем, Мопо, ты приблизился и, подняв руку, отдал царские почести братьям моим, а ногой ударил труп своего царя. Сновидение с закрытым лицом указало вверх и исчезло, я проснулся: огонь пылал на кровле моей хижины. Вот что снилось мне, Мопо. А теперь, слуга мой, отвечай: почему бы мне не убить тебя? Тебя, мечтающего служить другим царям и воздавать царские почести принцам, моим братьям? — и он свирепо взглянул на меня. — Как желаешь, царь! — отвечал я кротко. — Без сомнений, твой сон не предвещает добра, а еще худшее предзнаменование — огонь, упавший на твою хижину. А все же… — и я невольно остановился, придумав хитрый план. На следующие вопросы царя отвечал намеком на возможность убить принцев, если призвать отряд Убийц, находящийся в дне пути отсюда. — Если бы даже все слова, произнесенные тобой, были ложью, последние слова — истина, — сказал Чака. — Знай, слуга мой: если план наш не удастся, ты умрешь непростой смертью. Иди! Я знал прекрасно, отец мой, что Чака осудил меня на смерть, но сначала при моей помощи хотел погубить принцев. Я не боялся, так как знал, что час Чаки наступил. Ночью я пробрался в хижину принцев и сообщил им об угрожавшей опасности. Оба принца задрожали от страха, узнав о намерении царя убить их. Тогда я рассказал им, что побудительной причиной к убийству послужил сон Чаки. Вкратце я передал его содержание. — Кто надел царский плащ? — спросил Динган тревожно. — Принц Умгланган! — отвечал я медленно, нюхая табак и следя за обоими принцами через край табакерки. Динган, мрачно хмурясь, взглянул на Умглангана, но лицо последнего было подобно утреннему небу. — Чаке снилось еще вот что, — продолжал я, — будто один из вас, принцы, завладел его царским копьем! — Кто завладел царским копьем? — спросил Умгланган. — Принц Динган! А с копья капала кровь! Тогда лицо Умглангана стало мрачно, как ночь, а лицо Дингана прояснилось, как заря. — Снилось еще Чаке, что я, Мопо, ваша собака, недостойный стоять рядом с вами, приблизился к вам и воздал вам царские почести! — Кому воздал ты царские почести, Мопо, сын Македама? — спросили в один голос оба принца. — Я воздал почести вам обоим, о двойная утренняя звезда, принцы зулусов! Тогда принцы взглянули по сторонам и замолчали, не зная, что сказать: они ненавидели друг друга. Однако опасность заставила их забыть вражду. — Нельзя ли подняться теперь и напасть на Чаку? — спросил Динган. — Это невозможно, — отвечал я, — царя окружает стража! — Можешь ты спасти нас, Мопо? — простонал Умгланган. — Мне сдается, что у тебя есть план для нашего спасения! — А если я могу вас спасти, принцы, чем наградите вы меня? Награда должна быть велика, потому что я устал от жизни и не стану изощрять свою мудрость из-за всякого пустяка! Тогда оба принца стали мне предлагать всякие блага, каждый обещая больше другого подобно тому, как два молодых соперника засыпают обещаниями отца девушки, на которой оба хотят жениться. Я ответил, что обещают они мало. Тогда оба поклялись своими головами и костями своего отца Сензангакона, что я буду первым человеком в стране после них, царей, начальником войск, если только укажу им способ убить Чаку и стать царями. После того, как они дали клятву, я заговорил, взвешивая свои слова. — В большом краале за рекой, принцы, живет не один полк, а два. Один носит название Убийц и любит царя Чаку, который щедро одарил его, дав скот и жен. Другой полк зовут Пчелами, он голоден и хотел бы получить скот и девушек, кроме того, принц Умгланган — начальник этого полка, и он любит его. Вот мой план: вызвать Пчел именем Умглангана, а не Убийц именем Чаки. Нагнитесь ко мне, принцы, чтобы я мог сказать вам два слова на ухо! Они нагнулись, и я зашептал им о смерти царя, и в ответ сыновья Сензангакона кивали головами, как один человек. Потом я встал и выполз из хижины, как и вполз в нее. Разбудил верных гонцов, и они быстро исчезли во мраке ночи.Глава 21
СМЕРТЬ ЧАКИ
На следующий день, часа за два до полудня, Чака вышел из хижины, где просидел всю ночь, и перешел в небольшой крааль, окруженный окопом, шагах в пятидесяти от хижины. На мне лежала обязанность каждый день выбирать место, где царь будет заседать, чтобы выслушивать мнения своих индунов и чтобы вершить суд над теми, кого он желал умертвить. Сегодня же я избрал это место. Чака шел от своей хижины до крааля один, по некоторым соображениям и я пошел за ним. На ходу царь оглянулся через плечо и спросил тихим голосом: — Все готово, Мопо? — Все готово, Черный! — отвечал я. — Полк Убийц будет здесь в полдень! — Где принцы, Мопо? — снова спросил царь. — Принцы — в домах со своими женами, царь, — отвечал я, — они пьют пиво и спят на коленях своих жен! Чака мрачно улыбнулся. — В последний раз, Мопо! — В последний раз, царь! Мы дошли до крааля, и Чака сел в тени тростниковой изгороди на измятые воловьи шкуры. Около него стояла девушка, держа тыквенную бутылку с пивом, здесь же стоял старый военачальник Ингуацонка, брат Унанды, Матери небес, и вождь Умксамама, которого любил Чака. Вскоре вошли люди с журавлиными перьями. Царь посылал их собирать эти перья очень далеко от крааля Дугузы, поэтому их немедленно допустили к царю. Люди эти долго не возвращались, и царь гневался на них. Предводитель этого отряда был старый вождь, участвовавший во многих битвах под началом Чаки. Теперь он не мог воевать потому, что ему топором отрубили правую руку. Это был человек большого роста и очень храбрый. Чака спросил его, почему он долго не возвращался с перьями. Вождь отвечал, что птицы улетели из тех мест, куда его посылали, и ему пришлось ждать их возвращения, чтоб захватить их. — Ты должен был отправиться в погоню за журавлями, даже если бы они пролетели сквозь солнечный закат, непослушная собака, — возразил царь. — Уведите его и всех, кто был с ним! Некоторые из воинов стали молить о пощаде, но вождь их только отдал честь царю, называя его отцом и прося о милости перед смертью. — Отец мой, — сказал начальник, — я хочу просить тебя о двух милостях. Я много сражался в битвах рядом с тобой, когда мы оба были молоды, и никогда не поворачивался спиной к врагу. Удар, отрубивший мою руку, был направлен в твою голову, царь, я остановил его голой рукой. Все это пустяки, по твоей воле я живу и по твоей умираю. Осмелюсь ли я оспаривать повеление царя? Но я прошу тебя снять с себя плащ, о царь, для того, чтобы в последний раз глаза мои могли насладиться видом того, кого я люблю более всех людей! — Ты многоречив! — сказал царь. — Что еще? — Еще позволь, отец мой, проститься с сыном, он маленький ребенок, не выше моего колена, царь! — и вождь тронул себя рукой немного выше колена. — Твое первое желание я исполню! — отвечал царь, спуская плащ с плеч и показывая свою мощную грудь. — Вторую просьбу также исполню, не хочу я добровольно разлучать отца с сыном. Приведите мальчика, ты простишься с ним, а затем убьешь его своей собственной рукой, после чего убьют тебя самого, мы же посмотрим на это зрелище! Черная кожа вождя посерела, он задрожал, но прошептал: — Воля царя — приказ для его слуги. Приведите ребенка! Я взглянул на Чаку: слезы текли по его лицу. Он хотел только испытать старого вождя, любившего его до конца. — Отпустите его, — сказал царь, — его и бывших с ним! Я рассказал тебе этот случай, отец мой, хотя он не касается моей повести, потому, что единственный раз был я свидетелем того, как Чака помиловал осужденного им на смерть. Начальник и его отряд ушли, а царю доложили, что какой-то человек хочет его видеть. Он вполз на коленях. Я узнал Мезилу, которому Чака дал поручение к Булалио-убийце, правящему народом Секиры. Да, то был Мезило, но сильно похудевший в долгих странствиях, кроме того, на спине у него виднелись следы палок, едва начинающие заживать. — Кто ты? — спросил Чака. — Я Мезило из племени Секиры, которому ты приказал отправиться к Булалио-убийце, их начальнику, и вернуться на тридцатый день. Царь, я вернулся, но в печальном состоянии! — Это видно! — заметил царь, громко смеясь. — Теперь я вспомнил: говори, Мезило-худой, бывший Мезило-толстый, что скажешь ты об Убийце? Явится ли он сюда со своим народом и передаст ли в мои руки секиру? — Нет, царь, он не придет. Он выслушал меня с презрением и с презрением выгнал из своего крааля. Кроме того, меня схватили слуги Зиниты, которую я сватал, но которая стала женой Убийцы. Они разложили меня на земле и жестоко избили, а Зинита считала удары! — А что сказал этот щенок? — Вот его слова, царь: «Булалио-убийца, сидящий в тени Горы Привидений, — убийце, сидящему в краале Дугузы. Тебе я не стану платить дани. Желаешь получить нашу секиру — приходи и возьми ее. Я же обещаю: ты здесь увидишь лицо, знакомое тебе, ибо есть человек, который хочет отомстить за кровь убитого Мопо!» Пока Мезило говорил, я заметил две вещи: во-первых, что небольшая палочка просунулась сквозь тростник изгороди, а во-вторых, что отряд Пчел собирался на холме против крааля, повинуясь приказанию, посланному ему от имени Умглангана. Палочка же означала, что за изгородью скрывались принцы в ожидании условного знака, а приближение войск — что наступило время действовать. Мезило кончил свой рассказ, и Чака в гневе вскочил с места. Его глаза бешено сверкали, лицо исказилось, пена показалась на губах. С тех пор, как он стал царем, подобные слова никогда не оскорбляли его ушей. Знай Мезило его лучше, никогда бы не осмелился произнести их. С минуту царь задыхался, потрясая своим маленьким копьем. От волнения он не мог говорить. — Собака, — прошипел он наконец, — собака смеет плевать мне в лицо! Слушайте же! Приказываю вам этого Убийцу разорвать на куски, его и все его племя. Как осмелился ты передать мне речь этого горного хорька? Мопо, и твое имя упоминается. Впрочем, с тобой я поговорю позже. Умксамама, слуга мой, убей этого рабского гонца, выбей ему палкой мозги. Скорей! Скорей! Старый вождь Умксамама кинулся вперед по приказанию царя, но старость уменьшила его силы, и кончилось тем, что Мезило, обезумев от ужаса, убил Умксамаму. Ингуацона, брат Унанды, напал на Мезилу и покончил с ним, но сам был ранен в борьбе. Я взглянул на Чаку, который продолжал потрясать маленьким красным копьем, и немедленно решил действовать. — Помогите! — закричал я. — Царя убивают! Мои слова послужили сигналом: тростниковая изгородь раздалась, и сквозь нее ворвались принцы Умгланган и Динган, как проскакивают быки сквозь чащу леса. Своей иссохшей рукой я указал на Чаку: — Вот ваш царь! Из-под своих плащей принцы вытащили по небольшому копью и поразили ими Чаку-царя. Умгланган ударил его в левое плечо. Динган в правый бок. Чака уронил свое маленькое копье, отделанное красным деревом. Я оглянулся. Его движение было так величественно, что братья смутились и отступили от него. Он взглянул на них и сказал: — Неужели вы убиваете меня, домашние собаки, которых я выкормил? Неужели вы убиваете меня, думая завладеть и управлять страной? Но я говорю вам: владеть вы будете недолго. Я слышу топот бегущих ног великого белого народа. Они вас затопчут, дети моего отца! Они будут управлять страной, которую я покорил, и вы, и ваш народ станете их рабами! Так говорил Чака, пока кровь текла из его ран на землю, потом снова величественно взглянул на них, как загнанный олень. — Кончайте, если хотите быть царями! — воскликнул я, но робость охватила их сердца, и они не решились. Тогда я, Мопо, выскочил вперед и поднял с земли маленький ассегай, вправленный в царское дерево, — тот самый ассегай, которым Чака убил свою мать Унанду, сына моего Мусу… Высоко поднял я его, отец мой, и снова, как в дни моей молодости, красная пелена заколебалась перед моими глазами. — Почему ты хочешь убить меня, Мопо? — спросил царь. — Чтоб отомстить за Балеку, сестру мою, которой я в том поклялся, и за всех моих родных! — вскричал я и пронзил его копьем. Умирающий упал на мятые бычьи кожи. Он произнес последние слова: — Жаль, что я не послушался совета Нобелы, которая предостерегала меня против тебя, собака! Я же стал рядом с ним на колени и на ухо называл ему имена всех моих близких, которые умерли от его руки: Македама, отца моего, моей матери, моей жены Анаиди, моего сына Мусы и всех остальных моих жен и детей, имя Балеки, сестры моей. Глаза и уши его были открыты, и я думаю, отец мой, что он видел и понимал, я думаю также, что ненависть на моем лице, когда я потрясал своей иссохшей рукой перед его глазами, была ему страшнее ужаса смерти. Наконец, он отвернулся, закрыл глаза и застонал. Вскоре глаза его открылись сами, он умер. Так, отец мой, умер царь Чака, самый великий человек, когда-либо живший в стране зулусов, и самый жестокий, погиб он от моей руки и ушел в те краали Инкозозаны, где нет сна. Он умер, как жил, в крови. Пловца всегда уносит течение. Он ушел по той тропинке, которую гладко проторили для него ноги убитых им, многочисленные, как трава на склоне гор. Но лгут те, которые говорят, что он умер, как трус, моля о пощаде. Чака умер, как и жил,мужественно. Да, отец мой, я хорошо это знаю, эти глаза видели его, а эта рука лишила его жизни. И вот царь мертвый, а отряд Пчел приближался, и я беспокоился о том, как он отнесется к происшедшему, хотя принц Умгланган и считался их вождем, но все же воины любили царя за то, что он был великим в битве, а подарки раздавал, не считая. Я оглянулся: принцы стояли в недоумении, девушка убежала, вождь Умксамама лежал убитый Мезилой, который также умер, а старый вождь Ингуацонка, убивший Мезилу, ранен. И никого больше не было в краале. — Проснитесь, цари! — закричал я братьям. — Войска у ворот! Скорее заколите этого человека! — я указал на старого вождя. — Остальное же предоставьте мне. Динган подскочил к Ингуацонке и сильным ударом копья пронзил его, тот свалился без звука. Но принцы опять остановились, молчаливые и недоумевающие. Между женщинами, слышавшими крики и видевшими взмахи копий над изгородью, распространилась весть об убийствах, от них она перешла к отраду Пчел, который с песнями подходил к воротам крааля. Внезапно воины перестали петь и бегом кинулись к хижине, перед которой мы стояли. Я бросился к ним навстречу, испуская крики печали, держа в руке маленький ассегай царя, окрашенный еще его кровью, и обратился к их вождям. — Плачьте, вожди и воины, плачьте и рыдайте, нет более нашего отца! Царь умер! Небо соединится с землей от ужаса, ибо царь умер! — Каким образом, Мопо? — спросил предводитель Пчел. — Каким образом умер наш отец? — Он умер от руки злого бродяги по имени Мезило, который, услыхав от царя повеление умереть, выхватил из рук Льва зулусов его ассегай и заколол его, потом, прежде чем кто-либо из нас мог его удержать, убил вождей Ингуацонку и Умксамаму. Подойдите и взгляните на того, кто был царем, чтобы весть о его гибели от руки Мезилы разошлась по всей стране! — Ты лучше умеешь делать царей, Moпo, чем защищать от удара бродяги того, кто был твоим царем! — сказал начальник Пчел, смотря на меня с подозрением. Но слов его никто не разобрал, некоторые из вождей прошли вперед, чтоб взглянуть на умершего великого царя, а другие с толпой воинов стали бегать взад и вперед, крича в ужасе, что теперь земля и небо соединятся, и род человеческий прекратится, потому что Чака-царь умер. Как рассказать тебе, отец мой, о том, что случилось после смерти Чаки? Рассказ об этих событиях составил бы много книг белых людей, а может быть, многое уже об этом написано в них. Потому-то я стараюсь говорить кратко и рассказывать тебе только некоторые события из царствования Чаки, предмет же моего повествования — жизнеописание людей, живших в те дни, из которых только Умелопогас и я живы, если только сын Чаки еще не умер. Поэтому в немногих словах расскажу о том, что случилось после кончины Чаки, до того времени, как царь Динган послал меня к тому, кого звали Убийцей, правителю народа Секиры. Если бы я знал, что Умелопогас жив, Динган вместе с Умланганом скоро бы последовали за Чакой, и Умелопогас стал бы править в стране зулусов. Но увы! Мудрость покинула меня. Я не обратил внимания на голос сердца, твердивший мне, что угрозы Чаке и желание отомстить за смерть Мопо шли от Умелопогаса. Узнал я истину слишком поздно. Так, отец мой, судьба играет нами. Мы воображаем, что управляем ею, а на деле судьба управляет нами, и ничто не случается без ее воли. Весь мир составляет большой узор, отец мой, разрисованный рукой Всемогущего на чаше, из которой Он пьет воды премудрости — наши жизни. То, что мы делаем и чего не делаем — крохотные части узора такого огромного, что только очи живущего наверху, в силах видеть его весь. Даже Чака, палач людей, и все убитые им составляют крохотную песчинку на пространстве этого узора. Как нам быть мудрыми, отец мой, если мы только камешки в стене? Как нам даровать жизнь, если мы младенцы во чреве судьбы? Или как нам убивать, если мы только копья в руках убийцы? Вот что случилось, отец мой! Сперва все шло гладко в стране после смерти Чаки. Люди говорили, что чужеземец Мезило заколол царя. Но вскоре все узнали, что Мопо, мудрец, врач и приближенный царя, убил его, и что его оба брата Умгланган и Динган, дети Сензангакона, также подняли копья против него. Но он умер, а земля и небо не соединились от ужаса, так не все ли равно? Кроме того, новые цари обещали править народом кротко и облегчить ярмо, надетое Чакой, а люди в беде всегда готовы верить в лучшие времена. Ничто не грозило принцам, но врагами они были друг другу. Ненавидели они Энгванде, брата Чаки. Я же, Мопо, ставший после царей первым человеком в стране, перестал быть врагом, а стал вождем отрядов Пчел и Убийц. Я пошел на Энгванде и убил его в его краале. Битва была отчаянная, я победил его и его племя. Энгванде убил восемь человек, пока не подоспел я и не заколол его. Я вернулся в свои краали с немногими оставшимися в живых. Цари стали все чаще ссориться, а я мысленно взвешивал все на своих весах, чтобы узнать, кто из них более расположен ко мне. Я убедился, что оба боятся меня, но Умгланган решил убить меня, а Дингану мысль эта не приходила в голову. Я опустил чашу весов Умглангана и поднял чашу Дингана. Умгланган последовал за своим братом Чакой по дороге, которую открывает ассегай. Некоторое время правил один Динган. Вот что случается с земными князьями, отец мой. Я человек маленький, и участь моя скромна, но не без моей участи настигла смерть всех трех братьев, двое из них пали от моей руки. Через две недели после смерти принца Умглангана вернулся назад в печальном состоянии наш большой отряд, посланный в болота Лимпопо. Половина его перемерла от лихорадок и стычек с неприятелем, остальные же умирали от голоду. Великое счастье для оставшихся, что Чаки не было в живых, иначе и вернувшиеся быстро последовали бы за товарищами, умершими в пути. Многие годы не случалось такого, чтобы зулусские войска возвращались побежденными и без отбитого у врага скота. Потому-то они с радостью признали царя, который щадил их жизнь, и пока судьба не изменила ему, Динган царствовал без помех. Был он, правду сказать, одной крови с Чакой, такой же величественный на вид и жестокий сердцем, но он не обладал силой Чаки. Кроме того, он был лжив и вероломен, брат его этих черт не имел. Он также слишком любил женщин и проводил с ними время, которое следовало бы посвящать государству. Несмотря на все это, он царствовал много лет. Дингану очень хотелось убить своего брата Панду, чтоб уничтожить окончательно все потомство Сензангакона, отца своего. Панда, человек с кротким сердцем, не любил войны, и за это его считали слабоумным, я же любил Панду, и когда Динган задумал умертвить его, я и вождь Маната убедили царя, что нечего опасаться такого глупца. Динган уступил. Панду назначили управителем царских стад. Но опасения Дингана оправдались: Панда скоро сверг его с престола. Но если Панда был собакой, укусившей его, то я был человеком, натравившим собаку.Глава 22
МОПО ОТПРАВЛЯЕТСЯ К УБИЙЦЕ
Динган вскоре покинул крааль Дугузы, вернулся обратно в страну зулусов и построил большой крааль, назвав его Жилищем слона. Всех самых красивых девушек в стране он взял себе в жены и, хотя их было очень много, все требовал новых. И дошел до царя Дингана слух, что в племени галакациев живет девушка поразительной красоты, которую зовут Лилией. Кожа ее белее, чем кожа нашего народа. Дингану страшно захотелось получить в жены эту девушку. Он снарядил послов к вождю галакациев, прося уступить ему Лилию. По истечении месяца послы вернулись и доложили царю, что в краале галакациев их встретили грубыми словами, избили и выгнали с презрением. А вождь галакациев велел еще сказать Дингану, царю зулусов: — Девушка, которую зовут Лилией, действительно чудно хороша и еще не вышла замуж, так как до сих пор не встретила человека, сумевшего ей понравиться, а любовь народа к ней так велика, что никто не желает насильно навязывать ей мужа! После этого начальник объявил, что он и его народ вызывают на бой Дингана и зулусов, как раньше их отцы вызывали Чаку, что они плюют на его имя, ни одна из их девушек не согласится стать женой собаки зулуса. После этой речи начальник галакациев приказал привести перед посланными Дингана девушку, называемую Лилией, и они были поражены ее удивительной красотой. Она высока, как тростник, и движения ее напоминают тростник, колеблемый ветром. Ее вьющиеся волосы скользят по плечам, глаза большие, карие, кроткие, как глаза лани, цвет ее лица подобен цвету густых сливок, улыбка напоминает легкую зыбь на воде, а когда она говорит, ее низкий голос приятнее, чем звук музыкального инструмента. Посланные рассказывали, что девушка хотела заговорить с ними, но начальник запретил ей и велел с великими почестями увести ее. Услыхав этот рассказ, Динган разъярился, как лев в сетях. Он желал овладеть этой девушкой, а ему, господину стольких людей, не удавалось получить ее! Он приказал собрать большое войско, выслать его против племени галакациев, уничтожить это племя и захватить девушку. Он созвал индунов, а я был старшим индуном, мы убедили его отказаться от этого плана, ведь племя галакациев многолюдное и сильное, война с ними вовлечет в войну свациев, живущих в пещерах, которыми завладеть очень трудно. Я прибавил, что не время теперь посылать целое войско за одной девушкой, немного лет прошло с тех пор, как погиб Черный, врагов у нас много, а количество воинов уменьшилось из-за постоянных походов, кроме того, половина войска погибла в болотах Лимпопо. Надо время, чтобы ряды их пополнились снова, теперь же наши войска похожи на маленького ребенка или на человека, истощенного голодом. Девушек у нас много, пусть царь возьмет их в утешение себе, но пусть он не начинает войны из-за женщины. Смело говорил я истину в лицо царю. Чаке так никогда никто не смел говорить. Моя решимость передалась другим индунам и вождям, и они повторили мои слова, хорошо сознавая, что из всех глупостей самая большая — война с племенем свациев. Динган слушал, лицо его омрачилось, но он не чувствовал себя настолько сильным, чтоб не обращать внимания на наши слова. Многие в стране оставались преданными памяти Чаки и помнили, что его и Умглангана убил Динган. С тех пор, как умер Чака, люди забывали, как жестоко поступал он с ними, и помнили только, что он был велик и создал народ зулусов из ничего подобно тому, как кузнец делает копье из кусочка железа. Изменился их правитель, но иго не стало легче. Как убивает Чака, так убивал и Динган, как притеснял Чака, так притесняет и Динган. Поэтому Динган уступил мнению своих индунов и не послал войска против галакациев за девушкой Лилией. Но в сердце своем он стремился к ней и с этой минуты возненавидел меня за то, что я восстал против его воли и помешал исполнению его желаний. Теперь скажу вам, отец мой, что мне и в голову не приходило, что девушка, называемая Лилией, — моя дочь Нада. Я знал, что никто, кроме Нады, не мог быть так прекрасен. Но я был уверен в том, что Нада и ее мать Макрофа умерли, тот, кто принес мне известие об их смерти, видел их обнявшиеся трупы, пронзенные одним ударом копья. Но как потом оказалось, он ошибался. Макрофа действительно погибла, возле нее в крови лежала другая девушка. Племя, куда я послал Макрофу и Наду, платило дань племени галакациев, вождь же галакациев, занявший место Галаци-волка, поссорился с ними, напал на них ночью и перебил их. Впоследствии я узнал, что причиной их гибели, как позднее и уничтожения галакациев, было не что иное, как красота Нады. Слава о ней распространилась по стране, и старый вождь галакациев приказал, чтобы девушку привели в его крааль, где она и должна жить. Красота ее могла сиять там, как солнце. Она могла выбрать себе мужа среди знатных галакациев. Начальник крааля отказался исполнить приказание потому, что взглянувший на Наду раз, не захочет потерять ее из виду, хоть в этой девушке была какая-то тайная власть, благодаря которой никто не пытался стать ее мужем насильно. Многие сватали ее и в том племени и среди галакациев, но она только качала головой и отвечала: — Нет, не хочу выходить замуж! В народе существовало мнение, что лучше ей вообще не выходить замуж, чтобы каждый мог любоваться ею. Нельзя такую красоту запереть вдали от всех в доме мужа. Они думали, что красота ее дана на радость всем, как прелести утреннего рассвета или вечернего заката. Красота же Нады послужила и причиной многих смертей, как увидишь сам. Многие готовы были умереть ради любви к ней и умирали. Сама же Лилия увяла рано: чаша многих ее горестей переполнилась, а сердце Умелопогаса-Убийцы, сына царя Чаки, стало печально, как черная пустыня, опаленная пожарами. Так было суждено, отец мой, и так случилось. Все люди, белые и черные, ищут красоты, когда же находят ее, она быстро гибнет сама и другим несет погибель. У великой радости и великой красоты есть крылья, и не хотят они долго гостить на земле. Они спускаются с неба, как орлицы, и тут же возвращаются опять на небо. И надо же было так случиться, отец мой, что я, Мопо, думал, что дочь моя Нада умерла, и не подозревал, что Лилия в краалях галакациев — это Нада, и что именно ее царь Динган хотел взять в жены. После того, как я отговорил его посылать войско, чтобы сорвать Лилию в садах галакациев, Динган стал ненавидеть меня. Я, кроме того был посвящен в его тайны: со мною он убивал брата своего Чаку и брата Умглангана, я удержал его от убийства третьего брата Панды. Вот почему он возненавидел меня, как ненавидят люди малодушные тех, кто возвысил их. Он еще не смел отказываться от меня: я пользовался большим влиянием в стране, и народ прислушивался к моему голосу. Он решил хоть на время освободиться от меня, пока не почувствует себя достаточно сильным, чтобы предать меня смерти. И он решил послать меня к Булалио-убийце, некогда оскорбившему Чаку через Мезилу, чтобы убедиться, что Булалио упорно отказывается платить дань. Я понимал, что Динган решил на время удалить меня, чтобы подготовить мое падение. То, что мелкий вождь, живущий далеко, осмелился когда-то сопротивляться Чаке, мало волновало его. И все же мне самому хотелось увидеть этого Булалио, который собирается мстить за какого-то Мопо и так похож на погибшего Умелопогаса. Поэтому я немедленно согласился. Итак, отец мой, на следующий день в сопровождении выбранных мною людей я, Мопо, отправился в путь к Горе Привидений. В дороге я вспоминал о том, как шел по этой же тропинке в давно минувшие дни. Тогда жена моя Макрофа, Нада, дочь моя, и Умелопогас, сын Чаки, которого все считали моим сыном, шли рядом со мной. Теперь же я думал с грустью о том, что никого из них более нет в живых, скоро умру и я. Да, люди жили плохо и недолго в те времена, впрочем, не все ли равно? По крайней мере, я отомстил Чаке и успокоил свое сердце. До пустынною места, где мы ночевали в тот злополучный час, когда Умелопогаса унесла львица, мы дошли вечером. Я взглянул на ту пещеру, откуда он похитил львенка, на страшное лицо Каменной колдуньи, сидящей высоко на горе долгие-долгие века. В ту ночь я спал плохо, печаль терзала меня, я сидел и смотрел на яркую луну, на серое лицо Каменной колдуньи и вглубь леса, растущего на ее коленях. Не в этом ли лесу лежат кости Умелопогаса? Во время нашего перехода много рассказов слышал я о Горе Привидений. Некоторые говорили, что на ней являются призраки, люди, принявшие вид волков, другие же рассказывали, что люди те — умершие, колдовством возвращенные к жизни. Они лишены речи, чтобы не могли поведать смертным страшные тайны умерших, поэтому они могут только плакать, как маленькие дети. Их можно слышать по ночам в лесу, когда они безутешно рыдают между молчаливыми деревьями. Ты смеешься, отец мой, но я не смеялся, размышляя над этими рассказами. Если у людей есть души, то куда же уходят они, когда тело умирает? Надо же им уйти куда-нибудь, и что ж тут странного, если они возвращаются в места, где родились? Я мало занимался такими вопросами, хотя я врач и знаю кое-что о жизни призраков. Сказать правду, отец мой, я так много занимался освобождением душ людей из тел, что мало заботился о них после освобождения. Успею подумать об этом, когда сам уйду к ним. Итак, я сидел и смотрел на гору и лес, который рос на ней, как волосы на женской голове, и вдруг услышал звук, идущий издалека, из самой середины леса, как мне показалось. Слабый звук родился очень далеко, как плач детей в краале по другую сторону долины. Потом звук стал громче, но все же я не различал, откуда он идет. Потом все громче и громче — и я понял, в чем дело: то мчались на охоту дикие звери. Их вой раздавался все ближе, скалы отвечали ему, и от этих голосов кровь стыла в жилах. По-видимому, на ночную охоту пустилась большая стая, вот она близко, там, на противоположном скате, и вой стал таким громким, что спутники мои проснулись. Внезапно появился большой буйвол, на мгновение ясно обозначился он на светлом небе, стоя на гребне горного хребта, и исчез во мраке. Он мчался по направлению к нам, и вскоре мы опять увидели его, несущегося вперед большим скачками. Потом мы увидели бесчисленное множество зверей, толстых и худых, бегущих вслед за ним. Они показались на хребте горы, исчезли в тени, появились на откосе, пропали в долине. Рядом с ними мчались два человеческих существа. Большой буйвол проскакал на близком расстоянии мимо нас, и за ним устремились бесчисленные волки с ужасным воем. Но кто эти рослые, сильные люди, несущиеся рядом? Они бежали молча, волчьи зубы сверкали на их головах, волчьи шкуры висели на их плечах. Один держал в руке топор, — месяц отражался на нем, другой — тяжелую дубину. Они бежали рядом, никогда еще я не видел так быстро бегущих людей. Вот они спускаются к нам по откосу, вот они поравнялись с нами и исчезли, а с ними их бесчисленная свора. Вой стал тише, вот он вовсе замер, охота удалилась. Ночь наполнилась тишиной. — Братья, — спросил я своих спутников, — что мы сейчас видели? Один из них отвечал: — Мы видели призраков, которые живут на коленях Каменной колдуньи, а эти Братья-волки — колдуны, цари призраков!Глава 23
МОПО ОТКРЫВАЕТСЯ УБИЙЦЕ
Всю ночь просидели мы без сна, но более не видели и не слыхали волков и людей, которые охотились с ними. На рассвете я послал гонца к Булалио, начальнику племени Секиры, сообщить ему, что посланный к нему от царя Дингана желает миролюбиво переговорить с ним в его краалях. Я велел не говорить моего имени, а назвать меня Ртом Дингана. Я же и мои спутники медленно последовали за гонцом, так как путь еще был далек, а я приказал вернуться и встретить меня с ответом Убийцы, владетеля секиры. Весь день, почти до заката солнца, мы огибали основание огромной Горы Привидений, держась берега реки. Мы никого не встречали, только раз наткнулись на развалины крааля со множеством человеческих костей. А рядом с ними валялись заржавелые ассегай и щиты из воловьих шкур, выкрашенные в белую и черную краски. Я по краскам узнал, что они принадлежали воинам, которых несколько лет тому назад послал Чака за Умелопогасом и которые не вернулись. Мы продолжали путь молча, и всю дорогу каменное лицо колдуньи, вечно сидящей наверху, смотрело на нас с горной вершины. За час до заката солнца мы вышли на открытое место и на хребте холма, за рекой, увидели крааль племени Секиры. Крааль был большой и хорошо построенный, многочисленные стада паслись на равнине. Мы сошли к реке и перешли брод, здесь мы сели в ожидании гонца, посланного вперед. Он подошел ко мне с поклоном, и сказал: — Я видел того, кого зовут Булалио. Это — огромный худой человек, лицо у него свирепое, в руках топор, такой, как у того, кто прошлой ночью охотился с волками. Когда меня привели к нему, я отдал ему честь и поведал слова, которые ты вложил в мои уста. Он выслушал меня, громко рассмеялся и сказал: «Скажи пославшему тебя, что я рад видеть Рот Дингана, и что он без страха может повторить мне слова своего царя, но мне жаль, что не пришла голова Дингана вместе со ртом. Тогда бы моя секира приняла участие в нашей беседе! Хотелось бы мне поговорить с Динганом о том Мопо, которого Чака умертвил. Но так как рот — не голова, пусть рот является без страха!» Я вздохнул, услыхав о Мопо, имя которого опять назвали уста Булалио-убийцы. Кто мог так любить Мопо, как не тот, кто давно умер? А может быть, Булалио говорил о другом Мопо, ведь не один я носил это имя. Чака предал смерти одного из своих вождей с этим именем во времена великой тризны, говоря, что двум Мопо не ужиться в стране. Он убил его, хотя тот Мопо плакал обильно, когда другие не могли выжать ни одной слезинки. Я ответил только, что Булалио очень заносчив, и мы направились к воротам крааля. Никто не встретил нас у входа и никто не стоял у дверей хижины. Но дальше, из середины крааля, где помещаются стада, поднималась пыль и слышался шум, как будто шли приготовления к войне. Некоторые из моих спутников испугались и хотели повернуть назад, опасаясь измены, испуг их еще усилился, когда при входе во внутренний крааль скота мы увидели человек пятьсот воинов, стоящих в боевом порядке, и двух высоких молодых людей, которые с громкими криками бегали по их рядам. Я обратился к своим испуганным спутникам. — Не бойтесь! Смелый взгляд покоряет сердца врагов. Если бы Булалио намеревался убить нас, ему для этого не нужно созывать стольких воинов. Он гордый вождь и хочет показать свои силы, не подозревая того, что царь, которому мы служим, может выставить целую роту на каждого из его воинов. Смело вперед! И мы пошли к войску, которое собиралось на противоположном конце крааля. Высокие молодые люди, начальники войска, заметили нас и пошли нам навстречу. Шедший впереди нес на плече секиру, а следовавший за ним раскачивал в руках огромную дубину. Я взглянул на первого… Отец мой!.. Сердце мое замерло от радости. Я узнал его, не смотря на истекшие годы. То был Умелопогас, мой питомец, ставший взрослым человеком — таким человеком, с которым никто не мог справиться во всей стране зулусов. Он был большого роста, с лицом свирепым, немного худ, но широк в плечах и узок в бедрах. Руки имел длинные, но не толстые, хотя мускулы выступали на них, как узлы на канате, ноги тоже были длинные и очень широкие под коленями. Глаза его смотрели, как глаза орла, нос немного крючковатый, и голову он держал слегка наклоненной вперёд, как человек, беспрерывно высматривающий скрытого врага. Казалось, движется он медленно, хотя шел он очень быстро, походка у него была плавная, как у волка или льва, пальцы его все время играли роговой ручкой секиры. Тот, кто шел за ним, был также очень высокого роста, хотя ниже Умелопогаса на полголовы, но более крупного телосложения. Его маленькие глаза мерцали, как звезды, выражение лица он имел совершенно дикое, и время от времени он улыбался, показывая белые зубы. Когда я увидел Умелопогаса, отец мой, внутри у меня все задрожало, мне хотелось броситься ему на шею. Но я сдержался, даже опустил угол своего плаща на глаза, пряча лицо, чтобы он не узнал меня. И вот он стоит передо мной, разглядывая меня своими зоркими глазами, а я кланяюсь ему. — Привет, Рот Дингана! — поздоровался он громко. — Ты маленький человек, чтобы служить ртом такому большому вождю! — Рот — небольшая часть лица даже у великого царя, вождь Булалио, правитель племени Секиры, колдун волков, живущий на Горе Привидений, а раньше называемый Умелопогасом, сыном Мопо, сына Македама! Услыхав эти слова, Умелопогас вздрогнул, как ребенок при шелесте во мраке, и пристально взглянул на меня. — Ты много знаешь! — произнес он. — Уши царя велики, хотя рот его и мал, вождь Булалио, — отвечал я, — я же, будучи только ртом, говорю то, что слышали уши! — Откуда знаешь ты, что я жил с волками на Горе Привидений? — спросил он. — Глаза царя видят далеко, вождь Булалио. Вчера они видели большую, веселую охоту. Говорят, они видели мчащегося буйвола, а за ним бесчисленных воющих волков, а с волками двух людей, одетых в волчьи шкуры, те люди похожи на тебя, Булалио, и на того, кто с дубиной следует за тобой! Умелопогас поднял секиру, как бы готовясь разрубить меня пополам, но опустил ее, пока Галаци-волк сверкал на меня широко открытыми глазами. — Откуда ты знаешь, что когда-то меня звали Умелопогасом? Имя это я утратил давным-давно. Говори, Рот, не то я убью тебя! — Убивай, если хочешь, Умелопогас, — отвечал я, — но помни, что когда голова разбита, рот немеет. Разбивающий головы лишается мудрости! — Отвечай! — повторил он. — Не хочу! Кто ты, что я должен отвечать тебе? Я знаю правду, и мне достаточно этого. Теперь к делу! Умелопогас заскрежетал зубами от ярости. — Я не привык к противоречиям здесь, в своем собственном краале! — сказал он. — Но к делу! Говори, маленький Рот! — Вот мое дело, маленький вождь. Когда еще жил теперь уже умерший Черный, ты послал ему вызов через человека по имени Мезило, — таких слов он никогда не слыхал до этого, и они могли бы стать причиной твоей смерти, о глупец, надутый гордостью, но смерть раньше посетила Черного и удержала его руку. Теперь Динган, тень которого лежит на всей стране, тот царь, которому я служу и который сидит на престоле Черного, говорит с тобой посредством меня, своего рта. Он хочет знать: правда ли, что ты отказываешься признать его власть, платить ему дань воинами, девушками и скотом и помогать ему в войнах? Отвечай, маленький начальник, отвечай немногими ясными словами! Умелопогас от гнева еле переводил дыхание и снова поднял свой большой топор. — Счастье твое, Рот, — сказал он, — что я обещал тебе безопасное пребывание у меня, иначе ты не ушел бы отсюда, с тобою я поступил бы, как с теми воинами, которые в давно прошедшие дни были посланы искать Умелопогаса. Но отвечу тебе немногими ясными словами. Взгляни на эти копья — это только четвертая часть всех моих воинов, вот мой ответ! Взгляни также на Гору Привидений и волков — неизвестную, непроходимую для всех, исключая меня и еще одного человека: вот мой ответ! Копья и гора войдут в союз, гора оживится копьями и пастями волков. Пусть Динган оттуда берет дань! Я сказал! Я резко расхохотался, желая испытать сердце Умелопогаса, моего питомца. — Дурак! — сказал я. — Мальчишка с разумом обезьяны. Против каждого твоего копья Динган, которому я служу, может выслать сотню, а гору сровнять с долиной, на твоих же призраков и волков, смотри, я плюю! — и я плюнул на землю. Умелопогас задрожал от бешенства, и огромный топор засверкал в его руке. Он повернулся к вождю, стоящему за ним, и спросил: — Может, Галаци-волк, убьем этого человека и всех спутников его? — Нет, — отвечал, улыбаясь, Волк, — не убивай их, ты ручался за их безопасность. Отпусти их обратно к их собачьему царю, чтобы он выслал своих щенков на сражение с нашими волками. Хороша будет битва! — Уходи отсюда, Рот, — велел Умелопогас, — уходи поскорей, пока с тобой не случилось беды! За оградой ты найдешь все, чтобы утолить свой голод. Поешь и уходи! Если же завтра в полдень тебя найдут поблизости, ты и твои спутники останутся там навеки, Рот Дингана! Я сделал вид, что ухожу, но, вернувшись внезапно, снова заговорил. — В твоем послании к умершему Черному ты говорил об одном человеке — как его имя — о каком-то Мопо? Умелопогас вздрогнул, как раненый копьем, и взглянул на меня: — Мопо! Что тебе за дело до Мопо, о Рот со слепыми глазами? Мопо умер, а я был его сыном! — Да, — сказал я, — да, Мопо умер, Черный убил Мопо. Но в самом деле ты его сын? — Мопо умер, — повторил Умелопогас, — он умер со всем своим домом, его крааль сровняли с землею, и по этой причине я ненавижу Дингана, брата Чаки, я лучше разделю участь Мопо, чем заплачу дань царю хотя бы одним быком! Я говорил с Умелопогасом измененным голосом, отец мой, но тут я заговорил своим. — Теперь ты говоришь от искреннего сердца, молодой человек, и я добрался до корня дела. Ты посылаешь вызов царю из-за этой мертвой собаки Мопо? Умелопогас узнал мой голос и теперь задрожал не от гнева, а скорей от страха и удивления. Не отвечая, он пристально смотрел на меня. — Нельзя ли, вождь Булалио, враг Дингана, поговорить мне с тобой наедине, я хочу заучить слово в слово твой ответ, чтобы не ошибиться, повторяя его. Не бойся оставаться наедине со мной в хижине, Убийца! Я стар и безоружен, а в твоей руке оружие, которого я могу опасаться! — и я указал на топор. Умелопогас, дрожа всем телом, отвечал: — Следуй за мной, Рот, а ты, Галаци, оставайся с этими людьми! Я пошел за Умелопогасом к большой хижине. Он указал на дверь, я прополз в нее, и он последовал за мной. Первое время казалось, что в хижине темно, солнце уже садилось. Я молчал, пока глаза наши не привыкли к темноте. Потом я откинул с лица плащ и взглянул в глаза Умелопогасу. — Посмотри-ка на меня теперь, вождь Булалио-убийца, когда-то называемый Умелопогасом, посмотри и скажи, кто я? Он взглянул на меня, и лицо его дрогнуло. — Или ты Мопо, ставший стариком, умерший отец мой, или призрак Мопо! — отвечал он вполголоса. — Я — Мопо, твой отец, Умелопогас! — сказал я. — Долго же ты не узнавал меня, я же узнал тебя сразу! Умелопогас громко вскрикнул и, уронив топор, кинулся ко мне на грудь и зарыдал. Я заплакал также. — О, отец мой, — сказал он, — я думал, что ты умер со всей нашей семьей, но ты снова пришел ко мне, а я в своем безумии хотел поднять на тебя секиру! Какое счастье, что я жив, и мне дана радость смотреть еще раз на твое лицо живое, хотя сильно изменившееся от лет и горя! — Тише, Умелопогас, сын мой! — сказал я. — Я тоже думал, что ты погиб в пасти льва, хотя, правду сказать, мне казалось невероятным, чтобы другой человек, кроме Умелопогаса, мог совершить те подвиги, которые мне рассказывали о Булалио, вожде племени Секиры, да еще осмелиться послать вызов самому Чаке. Но ни ты, ни я не умерли. Чака убил другого Мопо, умертвил же Чаку я. — А где Нада, сестра моя? — спросил он. — Твоя мать Макрофа и сестра Нада умерли, Умелопогас. Они убиты племенем галакациев, которые живут в стране свациев! — Я слыхал об этом народе, — отвечал он, — и Галаци-волк знает его. Он еще должен отомстить им, — они убили его отца, я также теперь жажду мщения за то, что они погубили моих мать и сестру. О, Нада, сестра моя! Нада, сестра моя! — и этот сильный человек закрыл лицо руками и стал качаться взад и вперед. Отец мой, настало время сказать всю правду Умелопогасу, и объявить, что Нада ему не сестра, что он мне не сын, а сын Чаки, которого рука моя умертвила. Но я ничего не сказал, о чем горячо жалею теперь. Я видел, как велика была гордость и высокомерно сердце Умелопогаса. Если бы он узнал, что трон страны зулусов принадлежит ему по праву рождения, ничто не удержало бы его, он открыто пошел бы на Дингана. Мне же казалось, что время еще не наступило. Если бы я знал за год до этого, что Умелопогас жив, он занимал бы место Дингана, но я не знал, и судьба распорядилась иначе. Теперь же Динган был царем и имел в своем распоряжении много войск, я его постоянно удерживал от войны. Случай прошел, но может вернуться, а до того я должен молчать. Лучше всего свести Дингана и Умелопогаса, чтобы Умелопогас стал известен во всей стране, как великий воин. Тогда я похлопочу, чтобы его избрали индуном и начальником войск, а кто командует войсками — уже наполовину царь! Итак, я смолчал обо всем этом, но пока не настала ночь, мы сидели и беседовали, рассказывая друг другу все случившееся с тех пор, как его унес лев. Я рассказал ему, как всех моих жен и детей убили, как меня пытали и показал ему мою иссохшую руку. Я рассказал о смерти Балеки, сестры моей, и всего племени лангени, о том, как я отомстил Чаке, как сделал Дингана царем и как стал сам первым человеком в стране после царя, хотя царь боится и не любит меня. Но я не сказал ему, что Балека была его матерью. Когда я закончил свою повесть, Умелопогас рассказал свою, о том, как Галаци спас его от львицы, как он стал одним из братьев-волков, как он победил Джиказу и сыновей его, стал вождем племени Секиры и взял в жены Зиниту. Я спросил, почему он все еще охотится с волками, как я видел прошлой ночью. Он отвечал, что в округе более не осталось врагов, и от безделия на него находит иногда тоска. Когда он чувствует, что должен встряхнуться, вместе с Галаци охотится, мчится с волками, и только так успокаивает свою душу. Я пообещал, что укажу ему лучшую дичь, и спросил его, любит ли он жену свою Зиниту. Умелопогас ответил, что любил бы сильнее, если бы она меньше любила его, она ревнива и вспыльчива и часто огорчает его. После того, как мы поспали немного, он вывел меня из хижины. Меня и моих спутников угостили на славу, во время пира я беседовал с Зинитой и Галаци-волком. Галаци очень мне понравился. Хорошо в битве иметь такого человека за спиной. Но сердце мое не повернулось к Зините. Высокая, красивая, но глаза у нее жесткие, вечно следящие за Умелопогасом, моим питомцем. Я заметил, что он, который ничего не боялся, видимо, боялся Зиниты. Я также ей не понравился, особенно когда она убедилась в дружеских чувствах Убийцы ко мне. Она немедленно стала ревновать, как ревновала его к Галаци. Будь то в ее власти, она быстро избавилась бы от меня. Итак, сердце мое не повернулось к Зините, но даже я не предчувствовал тех несчастий, причиной которых она стала.Глава 24
УНИЧТОЖЕНИЕ БУРОВ
Утром я отвел Умелопогаса в сторону и сказал ему: — Сын мой, вчера, когда ты еще не узнавал меня, ты дал мне поручение к царю Дингану. Если бы оно дошло до ушей царя, то навлекло бы смерть на тебя и весь народ твой. Дерево, стоящее одиноко в поле, думает, что оно огромно и что нет тени, равной той, которую оно дает. Но на свете есть другие большие деревья. Ты подобен этому одинокому дереву, Умелопогас, но верхние ветки того, кому я служу, толще твоего ствола, и под его тенью живут дровосеки, которые рубят слишком высоко выросшие деревья. Ты не можешь равняться с Динганом, хотя, живя здесь одиноко в пустой стране, и кажешься огромным в своих глазах и в глазах твоих приближенных. Умелопогас, помни одно: Динган ненавидит тебя за слова, которые ты велел дураку Мезиле передать умершему Черному, он слышал твой вызов и теперь мечтает погубить тебя. Меня прислал он сюда только для того, чтобы избавиться от меня, и какой бы ответ я ни принес, конец будет один: ты вскоре увидишь у своих ворот целое войско! — Так стоит ли говорить об этом, отец? — спросил Умелопогас. — Что суждено, то и случится. Я буду ждать здесь войска Дингана и сражаться на смерть! — Нет, сын мой, можно убить человека не только ассегаем, кривую палку можно выпрямить в пару. Я хотел бы, Умелопогас, чтобы Динган полюбил тебя, чтобы он не убил, а возвеличил тебя, и чтобы ты вырос великим в его тени. Слушай! Динган, конечно, не то, что Чака, но он жесток не менее. Динган — глупец, и весьма вероятно, что человек, выросший в его тени, сумеет заменить его. Я мог бы стать этим человеком, но я стар, изнурен горем и не желаю властвовать. Ты молод, Умелопогас, и нет тебе подобного во всей стране. Есть также другие обстоятельства, о которых нельзя говорить, но которые могут послужить тебе ладьей, чтоб доплыть до власти! Умелопогас зорко взглянул на меня, он был властолюбив в то время и мечтал стать первым среди народа. Могло ли быть иначе? Ведь в его жилах текла кровь Чаки! — Какие твои намерения, отец? — спросил он. — Каким образом можно осуществить твой план? — Вот каким образом, Умелопогас. В стране свациев, среди племени галакациев, живет девушка по имени Лилия. Говорят, она удивительная красавица, и Динган страстно желает получить ее в жены. Недавно Динган посылал посольство к вождю галакациев, прося руки Лилии, но вождь племени отвечал дерзкими словами, что красавицу свою они не отдадут в жены зулусской собаке. Динган разгневался и хотел собрать и послать свои войска против галакациев, чтобы уничтожить их и завладеть девушкой, я же удержал его под предлогом, что теперь не время для войны, и Динган возненавидел меня. Понимаешь ли теперь, Умелопогас? — Не совсем, — отвечал он. — Говори яснее. — Полуслова лучше целых слов в нашей стране. Слушай же! Вот мой план: ты нападешь на племя галакациев, уничтожишь его и отведешь девушку к Дингану в знак мира и дружбы. — План твой хорош, отец! — отвечал он. — Во всяком случае, можно будет посражаться, а после сражения поделить стада! — Сперва победи, потом считай добычу, Умелопогас. Он подумал немного, потом сказал. — Позволь мне позвать сюда Галаци-волка, моего военачальника. Не бойся, он человек верный и не болтливый! Вскоре вошел Галаци и стал рядом с нами. Я изложил ему все дело так: будто Умелопогас хочет напасть на галакациев и доставить Дингану девушку, которую тот жаждет получить, я же удерживаю его от этой попытки потому, что племя галакациев большое и сильное. Говорил я все это, чтобы оставить себе лазейку для объяснений, если бы Галаци выдал наше намерение, Умелопогас понял меня, но хитрость моя была излишняя: Галаци оказался человеком верным. Он молча слушал. Когда же я закончил, он отвечал спокойно, хотя в глазах его загорелся огонь: — По праву рождения я — вождь галакациев и хорошо их знаю. Это народ сильный и может сразу собрать два полка, а у Булалио в распоряжении всего один полк, да и то небольшой. Кроме того, галакации держат стражу день и ночь и шпионов, рассеянных по всей стране, а потому очень трудно захватить их врасплох: их крепость — огромная пещера, открытая в середине, и никто до сих пор не проникал в эту крепость, да и найти вход в нее может только знающий к ней дорогу. Таких немного, но я знаю, где вход, отец мой показал мне его, когда я был еще мальчиком. Да, за нелегкую работу — покорение галакациев — берется Булалио. Но для меня оно имеет и другое значение. Много лет назад, когда отец мой умирал от яда, данного ему колдуньей из их племени, я поклялся, что отомщу за него, что уничтожу совершенно галакациев, перебью их мужчин, уведу их женщин и детей в рабство! Год за годом, месяц за месяцем, ночь за ночью, лежа на Горе Привидений, я думал о том, как сдержать свою клятву, но не находил способа. Теперь я вижу возможность и радуюсь. Но все же это рискованное предприятие, и если оно увенчается успехом, племя Секиры перестанет существовать! — он замолчал и стал нюхать табак, следя через табакерку за нашими лицами. — Галаци-волк, — сказал Умелопогас, — для меня также дело это имеет особенное значение. Ты лишился отца по вине собак галакациев, хотя я до вчерашнего вечера того не знал. Их копья отняли у меня мать и ту, которую я люблю более всех на свете, — сестру Наду. Этот человек, — он указал на меня, — говорит, что если мне удастся уничтожить племя галакациев, взять в плен девушку Лилию, я добьюсь милости Дингана. Мало я расположен к Дингану, мне бы хотелось идти своей дорогой, жить, пока живется, и умереть, когда придется, может быть, от руки Дингана или кого-нибудь другого — не все ли равно? Но, узнав о смерти матери моей Макрофы и сестры Нады, я начну войну с галакациями и покорю их или они меня. Возможно, Рот Дингана, ты вскоре увидишь меня в краале царя и вместе с девушкой Лилией и скотом галакациев, если же ты не увидишь меня, то знай, что я умер и что воинов Секиры более не существует! Так сказал Умелопогас и на прощание обнял меня. Я быстро прошел путь от Горы Привидений до крааля царя и явился перед Динганом. Вначале он принял меня холодно, но когда я передал ему известие, что вождь Булалио-убийца вступил на путь войны, чтоб добыть ему Лилию, отношение его изменилось. Он взял меня за руку и похвалил, говоря, что напрасно не доверял мне, когда я убеждал его не посылать войска против галакациев. Теперь же он видит, что я хотел зажечь пожар другой рукой и уберечь его руку от ожогов, за что он благодарит меня. Если вождь Булалио, прибавил царь, приведет ему девушку, к которой стремится его сердце, он не только простит слова, сказанные Мезилой умершему Черному, но отдаст Булалио весь скот галакациев и возвеличит его перед народом. Я посоветовал ему поступать, как хочет, я же только исполнил свой долг перед царем и устроил все так, что при любом исходе войны гордый вождь будет унижен, враг побежден без потерь для царя, а Лилия вскоре, может быть, предстанет перед царем. И я стал ждать дальнейших событий. Это было как раз то время, отец мой, когда к нам явились белые люди, которых мы называли анабоонами, а вы — бурами. Невысокое мнение вынес я об этих анабоонах, хотя и помог им одержать победу над Динганом — я и Умелопогас! И раньше, правда, появлялись изредка в краалях Чаки и Дингана белые люди, но те приходили молиться, а не сражаться. Буры же умеют и сражаться, и молиться, а также красть, этого-то я и не понимаю: ведь молитвы белых людей запрещают воровать. Итак, со времени моего возвращения домой не прошло еще и месяца, как явились к нам буры, человек шестьдесят, под началом капитана, высокого молодца по имени Ретиф. Они были вооружены длинными ружьями, которые всегда носили с собой. Буров была, наверное, целая сотня со слугами и конюхами. Прибыли они, чтобы получить права на землю в Натале, лежащую между реками Тугелой и Умзимубу. Но я и другие индуны посоветовали Дингану потребовать от буров, чтобы они сперва покорили вождя Сигомейло, который похитил у царя скот, и вернули похищенное. Буры согласились и скоро вернулись. Они уничтожили племя Сигомейлы и пригнали похищенные стада. В ту же ночь Динган собрал совет и спросил нашего мнения о переуступке земель. Я заметил, что совершенно безразлично, уступит он земли или нет, так как еще умерший Черный отдал их англичанам. Вероятно, все кончится тем, что между англичанами и анабоонами вспыхнет война из-за этой земли. Начинают сбываться предсказания Черного: мы уже слышим топот бегущих белых людей, которые со временем завоюют всю нашу страну. От моего замечания сердце Дингана опечалилось, а лицо омрачилось, слова мои проникли в его грудь, как копье. Он ничего не ответил и распустил совет. Утром царь обещал подписать бумагу о передаче бурам земли. Все казалось гладким, как вода в тихую погоду. Перед тем, как подписать бумагу, царь устроил большой праздник, много собралось воинов в краале, три дня продолжались пляски. На третий день он распустил все войска, за исключением одного отряда, состоящего из юношей. Мне очень хотелось знать, что на уме у Дингана, я тревожился за безопасность анабоонов. Но он не открыл свою тайну никому, кроме предводителя отряда, даже члены совета ничего незнали. Я предчувствовал, что он готовит беду, мне хотелось предупредить капитана Ретифа. Но если я ошибаюсь в своих предположениях? Отец мой, если бы я исполнил свое намерение, сколько бы людей осталось в живых! Но, впрочем, не все ли равно? Многие из них теперь бы поумирали. Наступило четвертое утро. Динган послал гонцов к бурам, приглашая их явиться к нему в крааль, где он намерен подписать бумагу. Буры пришли и оставили свои ружья у ворот крааля, поскольку смертью карали и белых, и черных, появлявшихся вооруженными перед царем. Крааль Дингана был выстроен большим кругом, как строились у нас все царские краали. Снаружи тянулась высокая изгородь, между наружной и внутренней изгородью — тысячи хижин. За внутренним окном лежал о большое открытое пространство, в котором могли поместиться пять полков, а в конце его — против входа — крааль скота, отделенный от открытого места также изгородью, изогнутой, как лук. За нею помещались Эмпозени — жилище царских жен, караульня, лабиринт и Интункулу, жилище царя. Динган вышел и сел на скамью перед краалем скота, рядом с ним стоял человек, держащий щит над ею головой, чтобы предохранить его от солнечных лучей. Все члены совета были тут же, а вдоль изгороди, окружавшей всю площадь, стояли воины отряда, оставленного Динганом, вооруженные короткими палками, — а не дубинами, отец мой. Начальник отряда находился рядом с царем по его правую руку. Вскоре вошли буры и всей толпой приблизились к царю. Динган встретил их милостиво и пожал руку Ретифу, их начальнику. Ретиф вынул из кожаной сумки бумагу, по которой устанавливались уступка и границы земель, и переводчик перевел царю содержание. Динган сказал, что все в порядке, и приложил к бумаге руку, Ретиф и буры, видимо, были довольны и широко улыбались. Они стали прощаться, но Динган не отпустил их, говоря, что сперва положено угостить их и показать им пляску воинов. Тут же вынесли заранее приготовленные блюда с вареной говядиной и чашки с молоком. Буры отвечали, что они уже обедали, но все же выпили молока, передавая чашки из рук в руки. Воины начали плясать и завели воинственную песню зулусов, отец мой, а буры отодвинулись к центру площади, чтобы не мешать пляске воинов. Тут я услыхал, как Динган приказал одному из слуг отправиться к белому Доктору молитвы, находящемуся вне крааля, и попросить его не бояться ничего. Я не понял смысла приказания. Почему Доктору молитвы бояться танца, часто виденного им? В это время Динган в сопровождении свиты прошел сквозь толпу, подошел к капитану Ретифу и стал прощаться с ним, пожимая ему руку и желая ему счастливого пути. Затем он вернулся к воротам, которые вели к царскому дому, а у входа стоял начальник отряда как бы ожидая приказаний. Неожиданно для всех, отец мой, Динган остановился и закричал громко: «Билилини Абатакати!» («Бей колдунов!») и, закрыв лицо углом своего плаща, пошел за изгородь. Мы же, его советники, стояли пораженные, словно окаменевшие, но мы еще не успели промолвить и слова, как начальник отряда также громко прокричал: «Бей колдунов!» и возглас его был подхвачен со всех сторон. Раздался ужасный крик, отец мой, топот тысячи ног, сквозь облака пыли мы видели, как воины кинулись на анабоонов, и мы услыхали удары палок. Анабооны вытащили свои ножи и защищались храбро, но все было кончено очень быстро. Мертвых и многих еще живых выволокли из ворот крааля на Холм убийств и перебили всех. Их перебили и сложили в кучу, и этим окончились их танцы, отец мой. Я и другие советники молча направились к дому царя. Он стоял перед своей большой хижиной, подняв руки, мы поклонились ему, не говоря ни слова. Динган заговорил первым, слегка посмеиваясь, как человек, не вполне спокойный. — Что, вожди мои, — сказал он, — когда хищные птицы сегодня утром взывали к небу о крови, они не ожидали пира, приготовленного для них? И вы, вожди, не знали, какого великого правителя послало вам Небо и как глубок ум царя, вечно заботящегося о благе своего народа. Теперь страна очистилась от белых колдунов, о которых каркал Черный перед смертью, или, вернее, скоро очистится, так как это только начало. Слушайте, гонцы! — и он повернулся к людям, стоящим за нами. — Отправляйтесь немедленно к отрядам, собранным за горой, передайте их вождям мой приказ: пусть войско совершит набег на страну Наталя и перебьет всех буров, уничтожит всех — мужчин, женщин и детей. Ступайте! Гонцы прокричали привет царю и, как копья из рук бойцов, через секунду исчезли. Но мы, советники, стояли молча. Динган заговорил снова, обращаясь ко мне: — Успокоилось ли твое сердце, Мопо, сын Македама? Ты часто жужжал мне в уши о белых людях и о их победах над нами, а видишь, что случилось? Я только дунул на них, и они исчезли. Скажи, Мопо, все ли колдуны умерли? Если хоть один из них живой, я хочу поговорить с ним! Я взглянул Дингану прямо в лицо и ответил: — Они умерли, царь, но ты также умер! — Для тебя было бы лучше, собака, — сказал Динган, — если бы ты выражался яснее! — Да простит меня царь, — отвечал я, — вот что хочу я сказать. Ты не можешь уничтожить белых людей, у них племен много, море — их стихия, они являются из черных вод океана. Убей тех, которые находятся здесь, другие придут мстить за убитых, их будет все больше и больше! Ты убил сейчас, а вскоре начнут убивать они. Теперь они лежат в крови, но в скором будущем, царь, лежать в крови будешь ты. Тобой владело безумие, царь, когда ты совершал это злодеяние, и следствием этого безумия будет твоя смерть! Я сказал! Да будет воля царя! — Я стоял неподвижно, ожидая смерти, отец мой, но сердце мое так переполнилось гневом от совершенного злодеяния, что я не мог удержаться. Динган злобно поглядывал на меня, но его страх боролся с яростью, и я хладнокровно ждал, что же победит — страх или ярость. И он сказал: «Иди», а не: «Возьмите его». И я ушел, а со мной советники. Царь остался один. Ушел я с тяжелым сердцем, отец мой. Из всех ужасных событий, виденных мною, это мне показалось самым ужасным. Такое предательское избиение анабоонов! А приказ войскам так же предательски умертвить оставшихся в живых их женщин и детей?! Скажи, отец мой, почему Ункулункулу, который сидит на Небесах, позволяет совершаться на земле таким ужасам? Я слыхал проповеди белых людей, которые говорят, что все о нем знают, имена его — Власть, Милосердие и Любовь. Почему же он допускает все это? Зачем он позволяет людям, подобным Чаке и Дингану, мучить детей на земле, убивать, убивать и убивать? А наказывает их одной смертью за те тысячи смертей, в которых они повинны? Вы говорите, что все это происходит в наказание людям, которые злы. Но это неправда, страдают безвинные вместе с виновными, разве не погибают сотнями невинные дети? Может быть, на это есть другой ответ, но как могу я, слабый человек, постигнуть Необъяснимое? Может быть, все это часть целого, маленькая часть того узора, о котором я говорил, — узора на чаше, содержащей воды его премудрости. Я ничего не понимаю, я дикий человек, но не больше знания нашел я и в сердцах белых просвещенных людей. Вы знаете многое, но многого и не знаете. Вы не можете объяснить, где мы находились за час до рождения или чем станем после смерти, зачем родились и почему умираем. Вы можете только надеяться и верить — вот и все. Может быть, отец мой, скоро я стану мудрее всех вас. Я очень стар, огонь моей жизни угасает — он еще горит только в моем уме, там огонь еще ярок, но скоро и он угаснет. Тогда, может быть, я пойму.Глава 25
ВОЙНА С ПЛЕМЕНЕМ ГАЛАКАЦИЕВ
Я должен рассказать тебе, отец мой, как Умелопогас-убийца и Галаци-волк воевали с племенем галакациев. Когда я вышел из тени Горы Привидений, Умелопогас собрал всех своих вождей и произнес длинную речь: он желает, чтобы племя Секиры из незначительного народа, превратилось бы в великое и считало бы стада свои десятками тысяч. Вожди хотели знать, как этого можно достигнуть. Не задумал ли он для этой цели войну с царем Динганом? Умелопогас отвечал, что, напротив, стремится завоевать расположение царя. Он рассказал им о девушке Лилии, о племени галакациев, о том, как он собирается на них войной. Некоторые вожди согласились сразу, другие не хотели войны, и между ними возник спор, который затянулся до вечера. Когда начало смеркаться, Умелопогас встал и сказал, что он, начальник Секиры, приказывает всем подняться против галакациев. Если же найдется человек, не желающий исполнить приказ, пусть выйдет на поединок побороться с ним, победитель и будет повелевать. Но не нашлось охотников встретиться лицом к лицу с лезвием секиры. Так решился вопрос о войне между племенами Секиры и галакациев. Умелопогас через гонцов вызвал к себе всех подвластных ему воинов. Как разгневалась Зинита, его старшая жена, когда услыхала о приготовлениях к войне. Она стала осыпать Умелопогаса упреками, а меня, Мопо, проклятиями. Меня она знала только как посланного Дингана, проклинала же, считая зачинщиком. На третий день собрались все воины, храбрые, решительные люди, числом, вероятно, около двух тысяч. Умелопогас вышел к ним вместе с Галаци-волком и объявил о предстоящей войне. Воины слушали молча, они, как и их вожди, имели противоположные мнения. Галаци заявил им, что знает дорогу к пещерам галакациев и сколько у них скота, но они стояли в нерешимости. Тогда Умелопогас сказал: — Завтра на рассвете я, Булалио, владетель секиры, начальник всего племени Секиры, выступаю против галакациев вместе с братом моим Галаци-волком. Мы выступим, даже если только десять человек будут сопровождать нас. Воины, выбирайте! Или идти с нами, или оставаться дома с женщинами и детьми. Мощный крик вырвался у всех из груди: — Мы пойдем с тобой, Булалио, на смерть или победу! Утром мы выступили. И поднялся плач среди женщин племени Секиры. Одна Зинита не плакала, но смотрела грозно и мрачно, предсказывая беду, с мужем она не захотела проститься, но горько заплакала, когда он ушел. Долго шел Умелопогас со своим войском, терпя голод и жажду, пока не вступил во владения галакациев через узкое и высокое ущелье. Галаци-волк опасался, что в ущелье им окажут сопротивление, хотя они не причиняли никакого вреда краалям, лежащим на их пути, и брали скот только для питания. Они знали, что со всех сторон устремились гонцы, чтобы предупредить галакациев о приближении врага. Но в ущелье они никого не видели. Ночь надвигалась, поэтому они сделали привал. На заре Умелопогас оглядел далеко простирающиеся широкие равнины, Галаци указал ему на длинную низкую гору, к ней было часа два ходьбы. Там находился главный крааль галакациев. Они снова отправились в путь и вскоре дошли до холма, откуда услыхали звук рогов. Воины остановились на хребте и увидели издали бегущее по направлению к ним все войско галакациев, и войско то было многочисленным. Умелопогас сказал спутникам: — Вот там видны собаки сваци, дети мои, их много, а нас мало, но неужели мы допустим, чтобы дома сказали, что нас, зулусов, прогнала свора собак свациев? Неужели такую песню споют наши жены и дети, воины Секиры? Иные из воинов вскричали: «Нет!», но другие молчали. Умелопогас снова заговорил: — Пусть все, кто хочет, уходят обратно, еще есть время. Возвращайтесь, кто хочет, но настоящие воины пойдут вперед рядом со мною. Впрочем, если хотите, можете вернуться обратно все, предоставьте секире и дубине самим решить это дело! Тогда послышался мощный крик: — Умрем с теми, с кем жили! — Клянитесь! — вскричал Умелопогас, высоко держа секиру. — Клянемся секирой! — отвечали воины. Умелопогас и Галаци начали готовиться к битве. Они поставили всех молодых воинов на холмах над долиной так, чтобы уберечь их от врагов, командование над ними принял Галаци-волк, старые воины расположились на скатах, с ними остался Умелопогас. Галакации приближались, их было целых четыре полка. Равнина чернела ими, воздух дрожал от их криков, и копья их сверкали, как молнии… На противоположном скате холма они остановились и выслали гонца, чтобы узнать, чего народ Секиры требует от них. Убийца перечислил, что требует он: во-первых, голову их начальника, место которого займет Галаци, во-вторых, прекрасную девушку, которую зовут Лилией, и в-третьих, тысячу голов скота. Если эти условия будут выполнены, он пощадит галакациев, если нет — он уничтожит их и возьмет себе все сам. Гонец ушел обратно и, дойдя до рядов галакациев, громко прокричал ответ. Тогда по рядам воинов прокатился взрыв хохота, от которого задрожала земля. Лицо Умелопогаса-убийцы еще сильнее потемнело от прилившей к нему крови, когда он услыхал этот смех, и он потряс секирой по направлению к неприятелю. Галакации подняли крик и ринулись против молодых воинов, предводительствуемых Галаци-волком, но за подножием холма вытянулось торфяное болото, переход через него был труден. Пока неприятель медленно продвигался вперед, Галаци со своей молодежью напал на них. Удерживать их долго он не мог, их было слишком много, и потому битва загорелась вскоре вдоль всего ущелья. Под мужественным предводительством Галаци молодые воины дрались беспощадно, и вскоре все свои силы галакации направили против них. Дважды Галаци собирал уцелевших и останавливал наступление Галакациев, приводя их в замешательство, пока все их отряды и полки не перемешались. Но долго держаться и зулусы не могли, более половины их полегло, а остальных, отчаянно сражающихся, гнали на гору. В это время Умелопогас и старые воины сидели рядом на краю обрыва и следили за битвой, поглядывая друг на друга. Их лица все свирепели, пальцы нетерпеливо перебирали копья. Наконец один из вождей не выдержал и громко крикнул Умелопогасу: — Скажи, Убийца, не пора ли нам спуститься туда? Трава сырая, и мы окоченеем, сидя на ней! — Подождите немного, — отвечал Умелопогас. — Пусть они обессилят в игре. Пусть еще ослабеют! Пока он говорил, галакации собрались в кучу и сильным напором погнали назад Галаци и оставшихся в живых молодых воинов. Да, вот и им пришлось бежать, а за ними гнались сваци, возглавлял их вождь, окруженный кольцом храбрецов. Умелопогас видел все это и, вскочив на ноги, заревел, как бык: — Вперед, волки! Ряды воинов заволновались, будто на море начался прилив и их головные уборы из перьев походили на морскую пену. Подобно грозно поднимающейся волне, они встали внезапно и, как нахлынувшая волна, разлились вниз по откосу. Перед ними шел Убийца, высоко держа секиру, ноги несли его быстро. Как ни торопились воины, он далеко опередил их. Галаци услыхал шум их бега, оглянулся, и в тот же миг Убийца промелькнул мимо него, мчась, как олень. Тогда Галаци также кинулся вперед, и они радом помчались вниз с горы. Галакации старались собраться в рады, чтобы встретить натиск врага. Перед Умелопогасом предстал их вождь — высокий человек, окруженный изгородью ассегаев. Прямо на стену щитов мчался Умелопогас, лес копий вытянулся ему навстречу, стена щитов возникла перед ним — то была изгородь, через которую никто не мог пройти живым. Но Убийца решил стать исключением. Он прыгнул высоко в воздух, ноги его задевали головы воинов и верхушки их щитов. Он перескочил через них, он стоит на земле, и теперь изгородь из щитов оберегает двух вождей. Но недолго. Секира поднялась, падает — ни топор, ни щит не могут остановить удара, и у галакациев нет больше вождя! Волна разлилась по берегу. Слушай ее рев, — слушай рев щитов! Стойте, воины галакациев, стойте! Их ведь немного. Все кончено! Клянусь головой Чаки! Они не устоят — их оттесняют, — волна смерти разливается по береговому песку, и уносит врага, как сорную траву! Отец мой, я стар. Нет мне больше дела до битв и их восторгов! Но лучше умереть в такой битве, чем продолжать жить в ничтожестве. Да, я видал сражения, много я видал подобных сражений. В мое время умели драться, отец мой, но никто не умел драться так, как Умелопогас-убийца, сын Чаки, и названный брат его Галаци-волк. Итак, они разбили галакациев, они размели их, как девушка выметает пыль из своей хижины, как ветер гонит сухие листья. Некоторые бежали, другие поумирали, и окончилось сражение. Но война не окончилась. Многие галакации добежали до большой пещеры. Вскоре туда же направился Убийца со своими воинами. Увы! Многие были убиты, но нет смерти более славной, как в сражении. Оставшиеся стоили всего войска, они знали, что под защитой секиры и дубины их нелегко победить. Они стояли перед холмом, окружность основания которого равнялась приблизительно трем тысячам шагов. Холм был не очень высокий, но взобраться на него было невозможно. Один из воинов попытался, но бока холма оказались совершенно отвесными, на них нога человеческая не могла удержаться, тут пройти могли разве только горные кролики и ящерицы. Вокруг холма никого не было видно так же, как и в большом краале галакациев, лежащем на востоке от горы. Вся земля около холма была истоптана копытами коней, быков и ногами людей, а из середины горы слышалось мычанье стада. Тогда Галаци провел отряд немного в сторону, до места, где почва была вся изрыта и истоптана, как бывает у краалей скота. Там они увидели низкую пещеру, ведущую внутрь горы, подобную тем тоннелям, которые строят белые люди. Но вход в пещеру эту был заставлен огромными кусками скал, поставленными друг на друга таким образом, что снаружи сдвинуть их просто невозможно. По-видимому, загнав внутрь скот, галакации заложили вход в пещеру. Воины последовали за Галаци и дошли до северной стороны горы, но там, в двадцати шагах от них, стоял часовой. Увидя их, он внезапно исчез. Воины добежали до места, где виднелось в скале маленькое отверстие не больше норки муравьеда. Из отверстия слышались звуки и виднелся свет. — Нет ли между нами гиены, которая сможет пролезть в новую нору? — вскричал Умелопогас. — Сто голов скота тому, кто пройдет внутрь и очистит путь! Два молодых воина выскочили вперед, один опустился на колени и вполз внутрь, лежа на своем щите и вытянув вперед копье. На мгновенье свет в горе исчез, и ясно было слышно, как человек ползет вперед. Потом послышались звуки ударов, и в отверстии снова появился свет. Человека убили. — У него была неверная змея, — сказал второй воин, — она покинула его. Посмотрю, может моя змея надежней! Он также опустился на колени и вполз в нору, как первый воин, только голову он прикрыл щитом. Недолго он полз, потом снова раздались удары по воловьей коже щита, а за ними стоны. Он также был убит, но, по-видимому, тело его оставалось в норе, так как свет более не появлялся из нее. Очевидно, отец мой, когда на воина посыпались удары, он прополз немного назад и умер там, из врагов же никто не проник в проход, чтобы вытащить его. Галаци, Умелопогас и их воины задумчиво смотрели на отверстие норы и, по-видимому, никому не улыбалась мысль войти туда и умереть там так бесславно. — Меня зовут Волком, — сказал Галаци, — волк не должен бояться мрака, кроме того, галакации — мое родное племя, и я первый должен встретить их! — и он опустился на колени без дальнейших разговоров. Но Умелопогас, еще раз осмотревший нору, заметил: — Подожди, Галаци, я пройду вперед! Я знаю, как надо действовать. Следуй за мной. А вы, дети мои, кричите погромче, чтоб никто не слыхал, как мы там ползем, если же мы проберемся насквозь, следуйте быстро за нами, одни мы долго не продержимся при входе в эту пещеру. Слушайте еще! Вот вам мой совета если я погибну, выбирайте себе в начальники Галаци-волка, конечно, если он останется в живых! — Нет, Убийца, не называй меня своим преемником, — возразил Волк, — мы вместе жили, вместе и умрем! — Пусть будет так, Галаци. В таком случае, выбирайте другого вождя и не пытайтесь больше проникнуть в нору, если мы не пройдем, никто не сумеет пройти, поищите пищу и сидите здесь, пока шакалы не появятся, тогда будьте готовы. Прощайте, дети! — Прощай, отец! — отвечали воины. — Иди осторожно, чтобы мы не остались, как стадо без пастуха, покинутое и блуждающее! Умелопогас полез в нору без щита, но держа перед собой секиру, за ним последовал Галаци. Продвинувшись вперед шагов на двенадцать, Умелопогас вытянул руку и, как он того и ожидал, наткнулся на ноги воина, который проник туда перед ним. Умелопогас просунул голову под ноги убитого и пополз вперед, пока не подлез под труп. Он крепко ухватил обе руки мертвого человека в одну свою. Затем он продвинулся еще немного, пока не заметил, что достиг внутреннего выхода норы. Здесь было очень темно, так как огромными камнями был завален выход. Умелопогас прополз как можно скорее вперед, держа мертвого на спине, и внезапно выполз из норы на открытое место, в густую тень большой скалы. — Клянусь Лилией, — вскричал один из галакациев, — ползет и третий! Получай, зулусская крыса! — и он со всей силы ударил дубиной по убитому человеку. — Получи еще! — вскричал другой, пронзая его копьем так, что кольнул под ним Умелопогаса. — Еще, еще и еще! — повторяли остальные, ударяя и коля мертвое тело. Умелопогас тяжело застонал и тихо лег в густом мраке. — Не стоит тратить силы! — сказал первый из нападавших. — Этот некогда более не вернется в страну зулусов, вряд ли кто добровольно последует за ним. Кто-нибудь принесите камней, чтобы заложить нору, игра окончена! Он отвернулся, за ним последовали остальные. Этого только и ждал Убийца. Быстрым движением он освободился от трупа и вскочил на ноги. Воины услыхали шум и повернулись снова назад, но в то же мгновение секира мягко опустилась, и тот, кто клялся Лилией, уже не числился среди живых. Умелопогас прыгнул вперед на большую скалу, и стал на ней, подобно горному оленю. — Не так-то легко убить зулусскую крысу, ласки! — вскричал он, когда они с криками сразу со всех сторон набросились на него. Он разил направо и налево с такой быстротой, что едва можно было видеть, куда попадало лезвие топора. Враги, отец мой, как снопы, падали. Они окружили Умелопогаса, прыгали на него, как скачет вода на стены утеса, — всюду сверкали копья, со всех сторон нацелились в него. Спереди и по бокам секира могла удержать их, но один из воинов ранил Умелопогаса в шею, другой пытался поразить его в спину, но секира повергла его в прах. А тут и Волк выполз из норы, дубина его скоро нашла занятие, они вместе работали так усердно, что спине Убийцы более не угрожала опасность, пришлось опасаться тем, кто стоял за его спиной. Оба вождя дрались бесстрашно, убивая всех кругом, вскоре одна за другой показались из норы украшенные перьями головы воинов Секиры, и сильные руки приняли участие в битве. Они появлялись один за другим, окунались в сражение, как выдры в воду. Тогда галакации, не ожидавшие нападения, не выдержали и побежали. Остальные воины Секиры вышли беспрепятственно, и когда вечер постепенно перешел в ночь, все покинули нору.Глава 26
НАДА
Умелопогас, несмотря на темноту, собрал свои войска и попросил Галаци вести их. Они дошли до места, где под нависшей скалой находился вход в огромную пещеру. Здесь галакации еще раз оказали сопротивление. Но непродолжительное: мужество совершенно покинуло их. В одном углу пещеры Умелопогас заметил кучку людей, окруживших и как бы оберегающих кого-то. Он кинулся на них, за ним последовали Галаци и другие. Пробившись сквозь круг, Умелопогас при свете своего факела увидел высокого стройного человека, который прислонился к стене пещеры и держал щит перед лицом. Умелопогас моментально выбил щит из его рук. Но что-то необъяснимое, словно сладкое воспоминание детства, помешало ему ударить врага секирой. Он приблизил факел к тому, кто прижался к скале. Это была почти белая, красивая женщина, одетая воином. Она опустила руки, которыми закрывала лицо, и он мог разглядеть ее. Он увидел глаза, светящиеся, как звезды, вьющиеся волосы, рассыпавшиеся по плечам, и всю красоту ее, чуждую нашему народу. Ее облик возвращал ему что-то утраченное, так глаза ее, казалось, сияли сквозь мрак истекших лет, а красота ее напоминала что-то давно ему известное. — Как зовут тебя, прекрасная девушка? — спросил он. — Теперь зовут меня Лилией, но когда-то я носила другое имя. Когда-то я была Надой, дочерью Мопо, но имя и все, связанное с ним, погибло, я также умираю. Кончай скорей, убей меня. Я закрою глаза, чтобы не видеть блеска оружия. Умелопогас снова взглянул на нее, и секира выпала у него из рук. — Посмотри на меня, Нада, дочь Мопо, — сказал он тихо, — посмотри на меня и скажи, кто я! Ее лицо затуманилось, как у каждого, кто смотрит сквозь пелену воспоминаний, оно стало неподвижным и непроницаемым. — Клянусь, — сказала она, — ты Умелопогас, мой умерший брат, которого я, и мертвого и живого, одного только и любила! Факел потух, Умелопогас в темноте схватил свою сестру, найденную после долгих лет разлуки, прижал к себе и поцеловал, и она поцеловала его. После того, как воины утолили свой голод из запасов галакациев, после того, как поставили стражу для охраны скота и чтоб не бояться нападения, Умелопогас долго беседовал с Надой-Лилией, сидя с нею в стороне, и рассказал ей всю свою жизнь. Она также рассказывала ему то, что тебе уже известно, отец мой: как она жила среди маленького племени, подвластного галакациям, со своей матерью Макрофой, и о том, как весть о ее красоте распространилась по всей стране. Она рассказала, как галакации потребовали ее выдачи, как овладели ею силой оружия, убив жителей ее крааля и среди них ее родную мать. После этих событий она стала жить среди галакациев, которые назвали ее Лилией, с нею они обращались хорошо, оказывали ей уважение благодаря ее кротости и красоте и не принуждали ее выходить замуж. — А почему ты не хотела выходить замуж, Нада, сестра моя? — спросил Умелопогас. — Тебе давно пора быть замужем! — Я не могу сказать тебе причины, — ответила она, опуская голову, — я не расположена к замужеству. Я только прошу, чтобы меня оставили в покое! Умелопогас задумался на мгновение, а потом сказал: — Разве ты не знаешь, Нада, зачем я предпринял войну, в которой племя галакациев погибло и скот их стал добычей моего оружия? Слушай же: я знал о тебе только по слухам, знал, что тебя зовут Лилией, что ты самая прекрасная женщина в стране, и пришел сюда, чтобы добыть тебя в жены Дингану. Я начал войну с намерением завоевать тебя и помириться с Динганом, и я достиг своей цели! Услыхав эти слова, Нада-Лилия задрожала и заплакала, упала на колени и охватила с мольбой ноги Умелопогаса. — О, не будь так жесток со мной, твоей сестрой, — молила она, — лучше возьми этот топор и покончи со мной и с красотой, которая принесла столько горя всем, а в особенности мне! Зачем я оберегала свою голову щитом и не дала топору раскроить ее? Я оделась воином, чтобы подвергнуться участи его. Будь проклята моя женская слабость, которая вырвала меня у смерти, чтобы обречь на позор! Так молила она Умелопогаса тихим, кротким голосом, и сердце дрогнуло в нем, хотя он и не собирался больше отдавать ее Дингану, как Балеку отдали Чаке, чтобы она повторила судьбу Балеки. — Научи меня, Нада, — сказал он, — как мне выполнить взятое на себя обязательство? Я должен отправиться к Дингану, как обещал отцу нашему Мопо. Что же я отвечу Дингану, когда он спросит меня о Лилии, которую он жаждет получить, которую я обещал добыть ему? Что должен я сказать, чтобы уйти живым от гнева Дингана? Нада подумала и отвечала: — Поступи так, брат мой: скажи ему, что Лилия, одетая в походную одежду воина, убита во время сражения. Видишь ли, никто из твоего народа не знает, что ты нашел меня, в час победы и торжества воины твои не думают о девушках. Так вот каков мой план: поищем теперь, при свете звезд, тело какой-нибудь красивой девушки, без сомнения, найдутся убитые по ошибке во время сражения, на нее мы наденем мужскую одежду и положим рядом с ее трупом одного из убитых твоих воинов. Завтра, когда будет светло, ты соберешь своих вождей и, положив тело девушки в темном углу пещеры, покажешь ее воинам и скажешь, что это Лилия, убитая одним из твоих воинов, которого, рассердившись за убийство девушки, ты умертвил сам. Они не будут внимательно разглядывать ее, если же посмотрят и не найдут ее особенно красивой, то подумают, что смерть похитила у нее красоту. Таким образом, рассказ, который ты приготовил для Дингана, будет построен на прочном основании, и Динган совершенно поверит этому! — Разве это возможно, Нада? — спросил Умелопогас. — Ведь люди увидят тебя среди пленных и узнают тебя по твоей красоте. Разве в стране существуют две такие Лилии? — Меня не узнают потому, что не увидят, Умелопогас. Ты должен сегодня же освободить меня. Я уйду отсюда, переодетая юношей и покрытая плащом, если кто-нибудь и встретит меня, то разве догадается, что я Лилия? — Куда же ты пойдешь, Нада? На смерть? Неужели затем мы встретились после стольких лет разлуки, чтобы снова расстаться навеки? — Где находится твой крааль, брат? В тени Горы Привидений. Ее легко узнать по скале, которая имеет форму старухи, обращенной в камень, не так ли? Расскажи, какой дорогой можно дойти туда? Я отправлюсь к тебе! Тогда Умелопогас позвал Галаци-волка и рассказал ему всю правду, Галаци был единственным человеком, которому он мог довериться. Волк выслушал молча, любуясь красотой Нады, такой неясной и таинственной в свете звезд. А потом заметил, что не удивляется, что племя галакациев оказало сопротивление Дингану и накликало на себя смерть из-за такой девушки. Но он прибавил откровенно, что сердце его предчувствует беду, дело смерти еще не окончилось. «Вот светит Звезда смерти», указал он на Лилию. Нада задрожала при этих зловещих словах, а Убийца рассердился, но Галаци не отказался от своих слов и ничего не прибавил к ним. Они встали и отправились искать среди мертвых убитую девушку, подходящую для их намерений. Вскоре они нашли высокую и красивую девушку, и Галаци на руках донес ее до большой пещеры. Одев тело девушки в наряд воина, поместили рядом с нею копье и щит, и положили ее в темном углу пещеры и, найдя мертвого воина из племени Секиры, перенесли его поближе к ней. Окончив свое дело, они покинули пещеру, делая вид, что проверяют часовых. Умелопогас и Галаци переходили с места на место, а Лилия шла за ними, как вестовой, прикрывая лицо щитом, держа в руке копье и неся мешок с зерном и сушеным мясом. Они шли, пока не достигли выхода из горы. Камни, которые закрывали выход, были сняты, но у входа все-таки стояли часовые. Умелопогас окликнул их, и они отдали ему честь. Он заметил, что они сильно утомлены путешествием и битвой и мало понимают, что происходит вокруг. Он, Галаци и Нада вышли из пещеры в долину, лежащую перед горой. Здесь Убийца и Лилия простились, Галаци сторожил их. Вскоре Волк увидел медленно возвращающегося Умелопогаса, который шел как бы под бременем горя, вдали на равнине виднелась Лилия, несущаяся легко, как ласточка. Умелопогас и Галаци медленно вошли под своды горной пещеры. — Что это значит, предводитель? — спросил начальник стражи. — Вас вышло трое, а вернулось всего двое? — Глупец! — отвечал Умелопогас. — Ты пьян от пива галакациев или ослеп от сна! Двое вышли, двое вернулись. Того, кто был с нами, я услал обратно в лагерь! — Да будет так, отец! — сказал начальник. — Два вышли, два вернулись. Все в порядке!Глава 27
КОСТЕР
Настало утро. Умелопогас собрал выспавшихся, отдохнувших и сытых воинов и выразил им благодарность за мужество, с которым они завоевали славу и скот. Воины были веселы, мало думали о погибших и громко запели хвалу ему и Галаци. После пения Умелопогас снова обратился к ним с речью, в которой повторил, что победа их велика и завоеванные стада бесчисленны, но чего-то не хватает в этой победе: нет той, которая предназначалась в дар царю Дингану, из-за которой и разгорелась война. Где Лилия? Вчера еще она была здесь, одетая в плащ воина, со щитом в руках, об этом он слыхал от пленных. Так где же она теперь? Воины отвечали, что не видели ее. Тогда заговорил Галаци, так было условлено между ним и Умелопогасом. Галаци сообщил, что когда они приступом брали пещеру, он видел, как один из их воинов в пещере кинулся на воина Галаци с намерением убить его. Но при его приближении тот, кому угрожала смертельная опасность, бросил свой щит, прося о пощаде, и Галаци увидел, что то не галакаций, а красивая девушка. Он остановил воина, ведь был строгий приказ не убивать женщин. Но воин, опьяненный сражением, отвечал, что ему нет разницы — женщина или мужчина, враг должен умереть, и заколол ее. Видя это, он, Галаци, подбежал к этому человеку, ударил в ярости дубиной и убил его. — Ты хорошо сделал, брат! — отвечал Умелопогас. — Пойдемте посмотрим на мертвую девушку. Что, если это Лилия? Это будет несчастьем для нас. Не знаю даже, как об этом известить Дингана! Вожди последовали за Умелопогасом и Галаци туда, куда положили девушку и человека из племени Секиры. — Все, что рассказал Волк, брат мой, правда! — сказал Умелопогас, размахивая факелом над лежащими трупами. — Без сомнения, здесь лежит та, которую называли Лилией и которую мы хотели завоевать. Рядом с нею лежит тот глупец, который убил ее и сам пал от удара палицы. Некрасивое зрелище, печальная повесть, которую придется мне рассказать в краале Дингана. Но что случилось — то случилось, изменить мы ничего не можем. Девушка, которая была красавицей среди красавиц, не слишком хороша теперь. Пойдем! — и он быстро удалился, а потом приказал: — Завяжите эту мертвую девушку в воловью шкуру, засыпьте солью, мы унесем ее с собой! Вожди ему отвечали: — Вероятно, все случилось, как ты говоришь, и мы ничего изменить не можем. Динган обойдется и без невесты! С этим толкованием исчезновения Лилии согласились все, кроме того человека, который командовал стражей, когда Умелопогас, Галаци и третий их спутник вышли из пещеры. Этот вождь ничего не говорил и никого не посвящал в свои мысли. Ему казалось, что он ясно видел трех, а не двух людей, выходящих из пещеры. Ему казалось также, что плащ на третьем человеке немного приоткрылся, когда тот проходил мимо него, и под плащом он угадал облик прекрасной женщины и увидел блеск женских глаз — больших и темных, подобных глазам серны. Этот вождь заметил, что Булалио не привел никого из пленных, чтобы тот признал в убитой девушке Лилию, что факел колебался взад и вперед, когда освещал ее труп, хотя рука Убийцы никогда не дрожала. Все это вождь подметил и не забыл. Случилось же так, что во время обратного путешествия, отец мой, Умелопогасу пришлось сделать строгое замечание этому вождю, который хотел отнять у другого долю военной добычи. Он резко поговорил с ним, устранил от командования частью и назначил другого на его место. Кроме того, он отнял у него скот и отдал тому, которого тот хотел ограбить. Наказание было заслуженное, но вождь этот затаил обиду и настойчиво вспоминал о третьем человеке, прекрасной женщине, которая вышла из пещеры и больше в нее не вернулась. В тот же день Умелопогас решил посетить крааль, в котором жил Динган. С собою они вели большое количество скота в подарок царю и множество пленных молодых женщин и детей. Умелопогас хотел умилостивить сердце Дингана, раз не мог привести ту, которую обещал, — Лилию, цветок из цветков. Умелопогас был очень осторожным и мало верил в доброту царей, а поэтому как только достиг границ земли Зулу, он отослал лучший скот и самых красивых девушек и детей в крааль народа Секиры у Горы Привидений. Обиженный и наказанный бывший вождь заметил также и это. В то прекрасное утро я, Мопо, сидел около Дингана. Я продолжал служить ему, хотя он ни слова не сказал мне с той минуты, как я предсказал ему, что из крови белых людей, погубленных им, вырастет цветок его смерти. Умелопогас же вошел в крааль Дингана на следующий день после убийства анабоонов. Динган в мрачном настроении искал случая чем-нибудь развлечься. Он вспомнил о белом человеке, который с молитвой явился в крааль для того, чтобы научить зулусов поклоняться другим богам, непохожим на ассегаи и царей. Доктор молитвы был хороший человек, но учение его не привилось у нас, мы даже с трудом понимали его. Индунам также учение это не понравилось, им казалось, что оно ставит начальника над начальником, царя над царем и учит миру тех, чье ремесло — война. Динган послал за белым человеком, чтобы завести с ним беседу, считая себя самым умным из людей. Белый человек явился, он был бледен. Он видел, что случилось с бурами, и ему, сердцем кроткому, подобные зрелища были ненавистны. Царь пригласил его сесть и начал так: — Недавно ты рассказывал мне об огненном месте, куда отправляются после смерти люди, которые совершали злые поступки при жизни. Известно твоей премудрости, не там ли находятся мои предки? — Я не могу узнать этого, царь! — отвечал Доктор молитвы. — Я не могу судить о поступках людей. Я только говорю, что те, кто убивает, грабит, притесняет невинных и лжесвидетельствует при жизни, попадают после смерти в огненное место! — Насколько мне известно, предки мои совершали все эти проступки, и если они находятся в этом месте, то и я отправлюсь туда. Я хочу после смерти соединиться с отцом и дедами. Но я думаю, мне удастся избегнуть огня, если я попаду туда! — Каким образом, царь? Динган хотел подставить ловушку Доктору молитвы. В центре открытой площади, где совершались события с бурами, он велел сложить огромный костер, снизу которого положили хворост, а на хворосте — бревна и даже целые деревья. Таким образом, среди площади лежало возов шестьдесят сложенных сухих дров, отец мой. — Ты увидишь сам, белый человек! — отвечал он и приказал слугам поджечь кругом валежник. Затем он призвал полк юношей, который оставался в краале. Кажется, воинов была тысяча и еще полтысячи, тех самых, которые перебили буров. Огонь начал яростно разгораться, полк вошел и стал рядами перед Динганом. Хотя мы сидели в ста шагах от костра, жара была невыносимая, когда ветер дул в нашу сторону. — Скажи, Доктор молитвы, неужели огненное место жарче этого костра? — спросил царь. Белый человек отвечал, что ему неизвестно, но костер действительно горит жарко. — Я покажу тебе, как я выберусь из огненного места, если мне суждено будет лежать на таком огне, — даже если он в десять раз будет пылать жарче. Слушайте, дети мои! — вскричал он, вскакивая с места и обращаясь к воинам. — Вы видите этот костер? Бегите и затопчите его своими ногами. Где теперь бушует огонь, пусть останутся черная зола и уголья! Белый человек поднял в ужасе руки и стал молить Дингана отменить свое приказание, которое повлечет за собой смерть многих людей, но царь велел ему замолчать. Тогда тот поднял глаза вверх и стал молиться своим богам. С минуту воины в недоумении смотрели друг на друга, огонь бешено ревел, высоко поднимался к небу, а над ним и вокруг него плясал горячий воздух. Но начальник отряда громко закричал: — Велик наш царь! Слушайте царя, избравшего вас! Вчера мы уничтожили анабоонов, — но то был не подвиг, они были безоружны. Вот враг, более достойный нашей доблести. Дети, выкупаемся в огне — мы свирепее огня! Велик царь, избирающий нас! Окончив свою речь, он кинулся вперед. И ряд за рядом с громкими криками кинулись за ним воины. Они действительно были храбрецы, но они также знали, что смерть ждет их все равно, так лучше умереть с честью, чем со стыдом. И потому они пошли на костер весело, как на сражение, под предводительством своего вождя и запели «Ингомо» — воинственную песнь зулусов. Вот вождь приблизился к ревущему огню, мы видели, как он поднял щит, чтобы защититься от жара и исчез. Он прыгнул в самую середину костра. Едва ли потом нашли хотя бы кости. За ним последовал первый ряд воинов. Они шли, ударяя по огню щитами из воловьих шкур, вытаптывая его босыми ногами, вытаскивая пылающие бревна и разбрасывая их по сторонам. Ни один человек первой роты не уцелел, отец мой, они падали, как мотыльки, в пламени свечи. За ними шли другие роты, и в этой битве счастливы были те, кому последнему пришлось сразиться с врагом. Вскоре густой дым смешался с пламенем, огонь все уменьшался, а дым все увеличивался, люди, почерневшие, без волос, голые, обожженные, покрытые пузырями от ожогов, шатаясь выходили из костра и падали на землю. Пламя исчезло, воины шли и шли, валил только дым, в котором неясно двигались люди, они победили огонь! Последние семь рот почти не пострадали, хотя каждый воин прошел сквозь костер. Сколько их погибло? Не знаю, их не считали, но умершими и ранеными полк потерял половину людей; потом царь завербовал в него новых воинов. — Видишь, Доктор молитвы, — сказал, смеясь, Динган, — вот как я избегну огня этой страны, о которой ты рассказываешь. Я прикажу своим войскам затоптать огонь! Да существует ли эта страна для мертвых?! Белый человек ушел из крааля, отказавшись учить зулусов. Вскоре он покинул страну. После его ухода убрали сгоревшие дрова и мертвых людей, обожженных же стали лечить или добили их, смотря по ожогам, а те, которые мало пострадали, явились перед царем и славили его. — Надо дать вам новые щиты и головные уборы, дети мои, — сказал Динган. — Щиты почернели и съежились, а головных уборов из ваших собственных волос и перьев осталось очень мало! Да, — заметил он снова, смотря на оставшихся в живых воинов, — бриться будет легко и дешево в том огненном месте, о котором рассказывал белый человек! Он приказал принести пива для прошедших через костер, которых от сильного жара мучила жажда. Отец мой, ты догадываешься, что это событие имеет отношение к моей истории? Не успели еще высохнуть слезы женщин, как явились гонцы с докладом, что Булалио, вождь народа Секиры, разбил галакациев в земле Сваци и вернулся с богатой добычей. Он и его войска стоят у крааля. На мгновение воцарилось молчание, потом издалека, из-за высокой изгороди большой площади послышалось пение и сквозь ворота крааля вбежали два высоких человека. Они добежали до половины площади и внезапно остановились, горячая зола костра под их ногами взлетела маленьким облачком. За своими вождями вошли воины народа Секиры, вооруженные только короткими палками. Неожиданно для всех Умелопогас поднял топор и бегом кинулся вперед, а за ним устремилось его войско. Они мчались прямо на нас, перья на их головах трепетали по ветру, казалось, что они неизбежно растопчут нас. Но в десяти шагахот царя Умелопогас опять поднял секиру, Галаци вытянул вверх дубину, и, как один человек, воины остановились неподвижно на своих местах, пока пыль оседала вокруг них. Они остановились длинными прямыми рядами, вытянув вперед щиты и низко опустив головы, ни одна голова не поднималась выше небольшого копья над землей. Так они стояли одну минуту, потом в третий раз Умелопогас поднял топор, мгновенно воины выпрямились, высоко подкинули свои щиты и раздался единодушный громкий привет царю. Братья-волки выступили вперед и остановились перед царем. С минуту они внимательно смотрели друг на друга.Глава 28
ЛИЛИЯ ПЕРЕД ДИНГАНОМ
— Как вас зовут? — спросил Динган. — Нас зовут Булалио-убийца и Галаци-волк, царь! — отвечал Умелопогас. — Не ты ли оскорбил дерзкими словами умершего теперь Черного, Булалио? — Да, царь, я посылал гонца к брату твоему, но как я узнал впоследствии, Мезило, мой гонец, превысил свои полномочия и заколол Черного. Мезило был человек коварный! Динган потупился. Он хорошо помнил, что сам с помощью Мопо заколол Черного, но, предполагая, что далеко живущий вождь не слыхал об этом событии, он более не напоминал о Мезиле и данном ему поручении. — Как осмелились вы явиться предо мной с оружием в руках? Разве вы не знаете правила? Кто является вооруженным перед царем, должен умереть! — Мы не знали этого закона, царь, — отвечал Умелопогас. — Кроме того, я могу возразить тебе. Я один владею секирой, я один правлю своим народом. Не носи я топора, всякий желающий занял бы мое место, так как секира-владычица нашего народа, а тот, кто владеет ею, только ее слуга! — Странный обычай, — заметил Динган, — пусть будет так. А что скажешь ты, Волк, о своей большой дубине? — Вот что я скажу тебе о моей палице, царь! — отвечал Галаци. — Силой этой дубины я охраняю свою жизнь. Без дубины всякий охотно отнимет ее у меня, дубина мой хранитель, а не я ее! — Никогда еще не был ты так близок к тому, чтобы лишиться и дубины, и жизни! — сказал Динган сердито. — Очень возможно, царь! — отвечал Волк. — Я знаю, что когда наступит мой час, без сомнения, хранитель перестанет охранять меня! — Странные вы люди! — проговорил Динган. — Откуда пришли вы теперь, какое дело привело вас в жилище Слона? — Мы были в далекой стране, царь! — отвечал Умелопогас. — Мы бродили в чужих краях, чтобы отыскать цветок в дар царю, во время наших поисков мы истоптали большой сад свациев, а вот перед тобой люди, которые обрабатывали сад, — и он указал на пленных. — За краалем стоит скот, при помощи которого сад вспахивался! — Хорошо, Убийца! Я вижу садовников и слышу мычание стад, но где же цветок? Где Цветок, который вы пересадили из земли свациев? Может быть, то была Лилия? — Действительно, то была Лилия, царь! Но увы! Лилия завяла, остался один стебель, побелевший и увядший, как кости человека! — Что ты хочешь сказать? — спросил Динган, вскакивая на ноги. — Ты скоро узнаешь! — отвечал Умелопогас. Он тихо отдал приказание вождям, стоящим за ним. Из рядов его войск выбежало вперед четыре человека. На плечах они несли носилки, на которых лежал сверток их сырых воловьих шкур, туго стянутый ремнями. Воины отдали честь царю и положили перед ним свою ношу. — Разверните! — приказал Убийца. Они развернули шкуры. В них обсыпанное солью лежало тело девушки, когда-то высокой и стройной. — Вот лежит стебель Лилии, царь! — сказал Умелопогас, указывая на нее топором. — Если цветок ее еще существует, то во всяком случае, не здесь. Динган пришел в ярость, но беде помочь никто не мог. Лилия умерла, виновник ее смерти погиб также и не мог более искупить свою вину. — Уходите отсюда, вы и ваш народ! — сказал он братьям-волкам. — Я беру себе скот и пленных. Будьте благодарны за то, что я не отнимаю у вас жизни. А стоило бы! Ведь вы осмелились воевать без моего разрешения! А кроме того, вы повели войну неудачно и принесли мне только труп той, которую я желал получить! Когда царь сказал, что мог бы отнять жизни у всего народа Секиры, Умелопогас мрачно улыбнулся и взглянул на свои войска. Отдав честь царю, он повернулся, чтобы идти. Но в эту минуту из рядов его воинов выскочил человек и обратился к Дингану. — Разрешишь ли мне сказать правду, о царь, а затем отдохнуть в тени твоей? Это был вождь, который командовал стражей в ночь, когда три человека вышли из пещеры, а вернулись всего двое, тот, которого Умелопогас лишил почетного места. — Говори, тебе нечего бояться, — отвечал Динган. — Царь, уши твои выслушали ложь! — сказал воин. — Послушай меня, царь! Я был начальником стражи у выхода из пещеры в ночь избиения галакациев. Три человека подошли к выходу из горы — Булалио, Галаци-волк и еще один — высокий, стройный, он нес щит перед собою. Когда этот третий проходил сквозь ворота, плащ, надетый на нем, задел меня и открылся. Под плащом скрывалась не мужская грудь, царь, то была женщина, почти белая и очень красивая. Поправляя плащ, она опустила щит. За щитом скрывалось не мужское лицо, царь, но лицо девушки прекраснее луны, с глазами, блестящими, как звезды. Три человека вышли из пещеры, царь, но вернулись только двое, я смотрел им вслед, и мне казалось, что я вижу, как их третий спутник бежит по равнине, быстро, как бегают девушки, царь. Кроме того, Слон, Булалио солгал мне, когда я спросил его о третьем человеке, вышедшем из ворот. Он уверял, что выходило только двое. Также он не призвал пленных, чтобы опознать девушку, теперь, конечно, слишком поздно, человек же, лежащий рядом с нею в пещере, был убит не Галаци, он был убит перед пещерой ударом дубины воина-галакация. Я своими глазами видел, как он пал мертвым, и сам заколол его убийцу. Еще, царь мира, знай, что лучшие пленные и лучший скот не приведены тебе в подарок, — их послали в крааль Булалио, вождя племени Секиры. Все это я рассказал тебе, о царь, потому, что сердце мое не любит лжи. Я сказал правду и теперь прошу защитить меня от свирепых и жестоких братьев-волков! Пока говорил изменник, Умелопогас продвигался все ближе и ближе к нему, пока не остановился так близко, что мог прикоснуться к нему вытянутым копьем. Никто не замечал этого, исключая меня, Мопо, да еще, может быть, Галаци. Все следили за выражением лица Дингана, как люди следят за грозой, готовой разразиться. — Не бойся братьев-волков, воин! — проговорил Динган, страшно вращая красными глазами. — Лапа льва охраняет тебя, слуга мой! Еще царь не кончил своей речи, как Убийца подпрыгнул к изменнику, не говоря ни слова. Глаза его были страшны. Он подскочил к нему, схватил его руками, не поднимая оружия, и, используя свою необыкновенную силу, сломал его, как ребенок ломает палку, — не знаю как, все произошло слишком быстро. Он сломал его и, высоко подкинув мертвого, бросил к ногам Дингана и вскричал громко: — Вот твой слуга, царь! Действительно, теперь он отдыхает в твоей тени! Наступило молчание. В этой напряженной тишине послышался вздох удивления и испуга. Подобный поступок еще никогда не совершался в присутствии царя, никогда, со временем Сензангакона. Голос Дингана хрипел от ярости, он дрожал, когда прошипел: — Убейте его! Убейте собаку и всех пришедших с ним! — В эту игру и я умею играть! — отвечал Умелопогас. — Народ Секиры! Неужели вы будете ждать, чтобы вас перебили эти паленые крысы? — и своим топором он указал на воинов, невредимо вышедших из огня, но лица которых были опалены. Ответом на его слова был громкий крик, а за криком неудержимый смех. Воины Умелопогаса кричали: — Нет, Убийца, мы не станем ждать нападения! — они поворачивались направо и налево, чтобы встретить врага. Умелопогас отскочил назад, чтобы стать во главе своих людей, вперед кинулись воины Дингана, чтобы исполнить волю царя. Галаци-волк бросился к Дингану и, размахивая своей дубиной, закричал громким голосом: — Стой! Опять наступило молчание, все видели, что тень от дубины лежала на голове Дингана. Динган взглянул на великана, стоявшего над ним, почувствовал, как тень блестящей дубины холодком легла на его лоб, и опять задрожал, но на этот раз от страха. — Идите с миром! — сказал он. — Хорошее слово, царь! — заметил Волк, улыбаясь. Он медленно, спиной, стал отступать к своим войскам, говоря: — Хвалите царя! Царь приказал своим детям идти с миром! Но как только Динган перестал чувствовать тень смерти на своей голове, ярость вернулась к нему, он намерился приказать своим воинам напасть на народ Секиры, но я остановил его: — В этом приказании таится твоя смерть, царь. Убийца ногами растопчет твоих малочисленных воинов, и снова дубина взглянет на тебя! Динган понял, что я говорю правду, и не отдал опасного приказания: при нем остались только те воины, которые, избегли огня, все остальные были посланы в Наталь, чтобы истребить буров. Но он жаждал крови, а потому обратился ко мне. — Ты изменник, Мопо, как я давно предполагал, и я поступлю с тобой, как эта собака со своим неверным слугой! — и он бросил в меня ассегай, который держал в руке. Я видел его движение и предвидел удар. Подпрыгнув высоко в воздух, я увернулся от него и пустился быстро бежать, а за мной погналась часть царских воинов. Бежать пришлось недалеко, до последней роты народа Секиры. Шедшие сзади устремились мне навстречу. Воины, гнавшиеся за мною, чтобы убить, отстали. — Здесь, у царя, мне более нет места, сын мой! — сказал я Умелопогасу. — Не бойся, отец, я найду тебе место! — отвечал тот. Тогда я обратился к преследовавшим меня воинам: — Передайте царю: нехорошо сделал он, что прогнал меня! Я, Мопо, посадил его на царство и я один могу его удержать на этом месте. Так скажите ему, что будет еще хуже, если он станет разыскивать меня. День, когда мы еще раз встретимся лицом к лицу, будет днем его смерти. Так сказал Мопо-врач, который еще никогда не предсказывал так, что предсказанное не сбывалось! И мы удалились из крааля Дингана. Увидел я снова тот крааль, чтобы предать пламени все, чего Динган не уничтожил. Когда же я опять встретился с Динганом… но рассказ об этом впереди, отец мой. Мы удалились из крааля… Дингана отвлекла война с анабоонами, которая вспыхнула из-за уничтожения белых людей, и у него не оставалось свободных воинов, чтобы мстить незначительному вождю. Но ярость его была так велика после всего случившегося, что он по своему обыкновению отправил в лучший мир много пленных людей, чтобы удовлетворить жажду мщения.Глава 29
РАССКАЗ МОПО
В пути Умелопогас рассказал мне все, что случилось при нападении на галакациев и о своей встрече с Надой. Мы дошли до подножия Горы Привидений и взглянули в каменное лицо старой колдуньи, которая вечно сидит на высоте и ждет кончины мира. В ту же ночь мы дошли до крааля народа Секиры и с громким пением вступили в него. Галаци не вошел с нами, он отправился на гору собирать свою стаю волков. Мы слышали, как волки приветствовали его громким воем. Мы подошли к краалю, и все женщины и дети вышли нам навстречу во главе с Зинитой, старшей женой Умелопогаса. Встретили они нас радостно, но когда увидели, как много не хватает воинов, которые месяц назад выступили в поход, радость их сменилась печалью и рыдания вознеслись к небу. Умелопогас нежно приветствовал Зиниту, но мне показалось, что нежность эта была неискренняя. Сначала она кротко разговаривала с ним, но когда узнала все, что случилось, ее кротость превратилась в резкость, она начала бранить меня и гневно набросилась на Умелопогаса. Как много лет прошло… А недавно я слышал, что Умелопогас бежал на север и стал бездомным бродягой, и случилось это также из-за женщины, которая предала его и обвинила в убийстве Лусты, который был, как и Галаци, его названным братом. Не знаю, как все это случилось, но этот сильный и свирепый человек страдал той же слабостью, что и дядя его Динган. Слабость эта погубила его, и я более никогда не увижу своего питомца. Итак, отец мой, мы сидели вдвоем молча в хижине, как вдруг мне показалось, что на тростниковой кровле копошится крыса. Но я продолжал говорить: — Умелопогас, наконец настал час, когда я должен сообщить тебе тайну, которую я скрывал с самого дня твоего рождения! — Говори, отец! — отвечал он с удивлением. Я подкрался к двери хижины и выглянул. Ночь была темная, и никого я не заметил, хотя обошел вокруг хижины. Отец мой, если тебе захочется сообщить тайну, не дай подслушать себя. Недостаточно осмотреть все кругом и позади. Осмотри пол и крышу или уйди в другое место. Зинита была права, я — глупец, несмотря на свою мудрость и седые волосы. Если бы я не был глупцом, я бы выкурил крысу, забравшуюся на кровлю, прежде чем говорить. Крыса та была Зинита, которая влезла на кровлю и лежала в темноте, приложив ухо к дымовому отверстию, и прислушивалась к каждому нашему слову. — Слушай, — сказал я, — ты не сын мне, Умелопогас, хотя с детства называл меня отцом. Твое происхождение более знатное, Убийца! — Я был доволен своим отцом, старик, — возразил Умелопогас. — Происхождение мое казалось мне достаточно почетным. Скажи мне, чей же я сын? Я нагнулся вперед и прошептал, но, увы! Недостаточно тихо: — Ты сын умершего Черного, твои родители — Чака и Балека, сестра моя! — Но все же мы в родстве с тобой, Мопо, и я радуюсь этому. Кто мог подумать, что я сын этого человека-гиены? Может быть, поэтому я, подобно Галаци, люблю общество волков, хотя не чувствую в сердце никакой любви к отцу своему и его дому! — У тебя мало причин любить его, Умелопогас, ведь он убил твою мать Балеку, хотел убить также и тебя. Но все же ты сын Чаки! — Для того, чтобы узнать в толпе своего отца, надо иметь зоркие глаза, дядя. Припоминаю теперь, что когда-то слыхал этот рассказ, хотя давно забыл его! — От кого слыхал ты этот рассказ, Умелопогас? Еще недавно знал обо всем этом только один человек, остальные уже давно умерли. Теперь известно нам двоим! (Отец мой, я не подозревал о третьей). От кого же ты узнал всю правду? — Узнал я правду от мертвого, по крайней мере, Галаци-волк слыхал этот рассказ от мертвеца, который сидел в пещере на Горе Привидений. Мертвец сказал ему, что вскоре явится на гору и станет его братом человек по имени Умелопогас-Булалио, сын Чаки. Галаци повторил мне этот рассказ, но я давно забыл о нем! — Видно, мудрость живет среди мертвых, — отвечал я, — теперь тебя зовут Умелопогас-Булалио, а сегодня я открываю тебе, что ты сын Чаки. Но выслушай меня! И я рассказал ему все, начиная с минуты его рождения, повторил то, что сказала его мать Балека, когда я рассказал ей свой сон, описал ее смерть, и что убили ее по приказу Чаки, и описал достоинство и величие, с которым она умерла. Умелопогас заплакал, хотя плакать случалось ему редко. И тут я заметил, что слушает он невнимательно, как человек, в сердце которого зародился тревожный вопрос, и он прервал меня. — Дядя Мопо, если я — сын Чаки и Балеки, значит Нада-Лилия мне не сестра? — Умелопогас, она только твоя двоюродная сестра! — Все же близкое родство! — заметил он. — Впрочем, оно не будет препятствием к браку между нами! — и лицо его стало радостным. Тут я понял, что Умелопогас любит Наду, и сказал ему: — Нада еще не у твоих ворот и, возможно, никогда их не отыщет! Я хотел бы, Умелопогас, чтобы ты правил страной зулусов по праву рождения, хотя все складывается неблагоприятно, но мне кажется, можно найти способ осуществить мою мечту. — Каким образом? — спросил он. — Многие из великих вождей, моих друзей, боятся и ненавидят Дингана. Если бы они знали, что сын Чаки жив и что это — Убийца, они подставили бы ему свои плечи, чтобы, опираясь на них, он достиг власти. Воины чтят имя Чаки, он обращался с ними жестоко, но был щедрым и храбрым царем. Они не любят Дингана, жесток он не менее Чаки, но дары его не так щедры, поэтому они с радостью приняли бы сына Чаки, если бы убедились в его существовании. Но в том-то и трудность, что доказательство — всего лишь мое слово. Надо постараться убедить их! Вскоре после этого Умелопогас покинул меня и пошел в хижину Зиниты, своей Инкозикази. Она лежала, завернувшись в одеяла, и, похоже, спала. — Привет, супруг мой, — сказала она медленно, как бы пробуждаясь. — Мне снился странный сон, будто тебя называли царем, и все полки зулусов проходили перед тобой, приветствуя тебя, как царя! Умелопогас с удивлением взглянул на нее, раздумывая, слыхала она что-нибудь или то был вещий сон. — Подобные сны опасны, — отвечал он, — и тот, кому они снятся, хорошо делает, если молчит, пока они забудутся! — Или сбудутся! — возразила Зинита, и снова Умелопогас с удивлением взглянул на нее. После этой ночи я начал действовать: выслал шпионов в краали Дингана и от них узнавал все, что происходило у царя. Он хотел было собрать войско, чтобы напасть на народ Секиры, но получил весть, что буры — пять тысяч всадников — направляются к его краалю. Поэтому Динган не мог выслать войска к Горе Привидений, и мы, живущие в ее тени, чувствовали себя спокойно. Буров разбили: Богоза, шпион, завел их в засаду. Убитых было немного, остальные отступили только для того, чтобы собраться с силами, и Динган это понял. Одновременно белые люди из Наталя, англичане, напали на Дингана через Нижнюю Тугелу и были перебиты нашими воинами. При помощи колдунов я распустил по стране всякие слухи. Пророчествами и неясными предсказаниями старался я воздействовать на умы дружественных мне вождей, посылая неясные вести о том, что вскоре объявится некто. Они слушали внимательно, но дело двигалось медленно, племена жили далеко друг от друга, а многие вожди находились в походах со своими отрядами. Много дней пролетело с тех пор, как мы вернулись к Горе Привидений. Умелопогас более не ссорился с Зинитой, но она ревниво наблюдала за ним, а он ходил угрюмый. Он все ждал Наду, а та не приходила.Глава 30
ПОЯВЛЕНИЕ НАДЫ
Как-то ночью — на небе светила полная луна — мы сидели в хижине с Умелопогасом и обсуждали свои планы, потом разговор перешел на Наду-Лилию, и он в отчаянии повторял, что девушка уже не вернется. Вдруг в полной тишине залаяла собака. Мы выползли из хижины. Так поздно не мешало быть осторожным, собака могла лаять на шелохнувшийся лист, но и на отдаленные шаги идущего войска. Но вскоре стала ясна причина тревоги: перед нами стоял высокий, стройный человек, который осматривал хижины, как бы не решаясь окликнуть живущих в них. В одной руке он держал ассегай, а в другой — небольшой щит. Мы не могли разглядеть лица, оно было прикрыто изорванным плащом. Человек прихрамывал. Мы выглянули из-за хижины, тень которой скрывала нас. Он постоял немного, потом заговорил сам с собой, и мой чуткий слух уловил, что голос его удивительно нежный. То был голос Нады-Лилии, единственной живой из моих детей. Я затрепетал от радости, но, сделав знак Умелопогасу, чтобы он скрылся в тени, сам выступил вперед и потребовал назвать себя. Нада боязливо молчала. Тогда я сорвал плащ, прикрывавший ее. Нада, увидев, что я открыл ее тайну, бросила щит и копье, и угрюмо опустила голову. Но когда я сказал, что отведу ее к старому начальнику, она кинулась на землю и обняла мои колени, со слезами стала просить меня, чтобы я этого не делал. Я повернул голову к хижине: — Начальник, — сказал я, — судьба милостива к тебе сегодня, она дарит тебе девушку, прекрасную, как Лилия галакациев! Нада испуганно взглянула на меня. — Подойди же и возьми ее! Нада нагнулась, чтобы поднять с земли ассегай. Кого хотела она убить? Меня, вождя, которого так боялась, или себя? В своем отчаянии она назвала Умелопогаса по имени, подняла ассегай и снова выпрямилась. Перед нею стоял, опираясь на секиру, высокий вождь. Нада-Лилия подняла голову, протерла себе глаза и взглянула снова. — Мне показалось, девица, что голос Нады звал Умелопогаса? — сказал человек, опирающийся на секиру. — Да, я звала Умелопогаса, но где тот старик, который обошелся со мной так грубо? Впрочем, все равно, оставь его там, куда он ушел. Судя по твоему росту и секире, ты Умелопогас, мой брат. Узнать же тебя совершенно невозможно при слабом свете, но я узнаю секиру, которая когда-то близко промелькнула перед моими глазами! Так говорила она, чтобы выиграть время и рассмотреть Умелопогаса, пока не убедилась, что это действительно он. Тогда она замолчала, кинулась ему на шею и стала целовать его. — Надеюсь, Зинита спит крепко! — пробормотал Умелопогас, внезапно вспоминая, что Нада ему не сестра, как думала она. Несмотря на это, он взял ее за руку и сказал: — Входи, сестра. Из всех девушек мира ты здесь самая желанная, я думал, что ты умерла! Я, Мопо, вбежал в хижину раньше нее, и когда она вошла, я уже сидел у огня. — Видишь, братец, — сказала Нада, указывая на меня пальцем, — вот сидит тот старик, который (если то был не сон) еще так недавно оскорбил меня, да, брат, он поступил еще хуже: он поклялся, что отведет меня к какому-то вождю, он бы сделал это, если бы ты вовремя не пришел. Неужели ты не накажешь его? Умелопогас мрачно улыбнулся, а я отвечал: — Как ты назвала меня, Нада, когда просила защитить тебя? Отцом, не правда ли? — и я повернулся лицом к яркому пламени так, чтобы свет падал на меня. — Да, я назвала тебя отцом, старик. Ничего в этом нет страшного, ведь бесприютной девушке надо обращаться за помощью даже к незнакомым. Но… впрочем… Нет, быть не может. Такая перемена — и побелевшая рука… Кто ты? Когда-то жил человек по имени Мопо, у него была маленькая дочь — Нада. Отец, отец, теперь я узнаю тебя! — Да, Нада, я сразу узнал тебя, несмотря на мужскую одежду и истекшие годы, я узнал тебя! Лилия, рыдая, обняла меня, помню, что и я также заплакал. Когда она выплакала свои радостные слезы, Умелопогас принес ей кислого молока и каши из зерен кукурузы. Она выпила молоко, но к каше не притронулась, говоря, что слишком устала. После ужина она рассказала нам о своих скитаниях с той минуты, как она рассталась с Умелопогасом возле крепости галакациев. Я не стану повторять этот длинный рассказ, он сам по себе составляет отдельную повесть. Когда Нада умолкла, Умелопогас рассказал ей о ссоре с Динганом, о том, как передал царю тело чужой девушки под видом Лилии. Она одобрительно кивнула головой, когда же он рассказал об убийстве изменника, она захлопала в ладоши, хотя сердце имела кроткое, она не любила рассказы об убийствах и смерти. Она вдруг опечалилась и грустно заметила, что, должно быть, судьба преследует ее, и теперь народ Секиры из-за нее подвергнется большой опасности. — О брат мой! — воскликнула она, беря Умелопогаса за руку. — Лучше мне умереть, чем навлечь несчастье на тебя! — Это не поправит дела, Нада, — отвечал он. — Будешь ты жива или умрешь, мы уже заслужили ненависть Дингана. Кроме того, Нада, знай, что я не брат твой! Лилия дико вскрикнула и выпустила руку Умелопогаса, схватила мою и прижалась ко мне. — Что это за новость, отец? — спросила она. — Он был моим близнецом, нас вместе воспитывали, а теперь он говорит, что вся наша жизнь была обманом и он не брат мой! Кто же он такой, отец? — Он твой двоюродный брат, Нада! — Я рада и этому, — отвечала она. — Мне было бы больно знать, что тот, кого я любила, — чужой человек, жизнь которого меня не касается! — и она слегка улыбнулась глазами и углами губ. — Но расскажите мне и об этом! Я рассказал ей историю рождения Умелопогаса, так как доверял ей. — Да, — сказала она, выслушав, — да, ты из злого, хотя и царского рода. Я не стану более любить тебя, сын человека-гиены! — Недоброе намерение, — возразил Умелопогас, — а я бы хотел, Нада, чтобы ты любила меня больше прежнего, чтобы стала моей женой и полюбила бы меня, как мужа! Она протянула ему руку, и Убийца прижал ее к своей широкой груди и поцеловал. Но она выскользнула из его объятий и попросила его уйти. Она устала и хотела отдохнуть.Глава 31
ЖЕНСКАЯ ВОЙНА
На заре следующего дня Галаци, покинув волков, сошел с Горы Привидений и вошел в ворота крааля. У порога моей хижины он увидел Наду-Лилию и поклонился ей: они узнали друг друга. Потом он отправился к месту общих собраний и подошел ко мне. — Итак, над народом Секиры засияла Звезда смерти, Мопо! — сказал он. — Не в честь ли ее появления моя серая стая так страшно выла прошлую ночь? Я знаю только, что на меня первого пал свет звезды сегодня, и я обречен. Она так прекрасна, что может служить причиной многих смертей, Мопо! — он засмеялся и пошел дальше, размахивая палицей. Его слова хотя и глупые, смутили меня, я помнил, что красота Нады пленяла людей, и эти люди всегда становились добычей смерти. Я пошел к Наде, чтобы отвести ее на место собрания. Там собралось уже много народу: был день ежемесячного совета вождей. Все женщины краалей с Зинитой во главе также находились там. Между ними уже распространился слух, что девушка, из-за которой Убийца ходил в пещеры галакациев, явилась в крааль народа Секиры, и все глаза устремились на нее. Шепот одобрения пронесся среди мужчин, уста женщин произнесли завистливые замечания. Только Зинита молчала и смотрела на Наду из-под нахмуренных бровей. Одной рукой она держала свою маленькую дочь, а другой играла бусами. Лилия прошла, улыбаясь, и приветствовала Умелопогаса кивком. Он повернулся к своим вождям: — Вот та, которую мы ходили добывать для Дингана в пещеры галакациев. Вся правда теперь известна: тот, кто рассказал ее царю, более не повторит своего предательства. Лилия просила меня спасти ее от Дингана, что я и сделал. Все бы сошло благополучно, не будь среди нас изменника, с которым я рассчитался. Посмотрите на нее, друзья мои, и скажите, хорошо ли я сделал, что сохранил Лилию? Можно ли найти другую такую? Только она достойна стать радостью племени Секиры и женой моей. Все вожди отвечали сразу: — Ты поступил хорошо, Убийца! Чары Нады уже действовали на них, и они готовы были любить ее, как любили ее другие. Только Галаци-волк покачал головой, но не сказал ничего: слова бессильны против судьбы. Зинита, старшая жена Умелопогаса, знала, чей он сын и знала, что Нада ему не сестра. Но когда она услыхала, что он намерен взять Лилию в жены, она повернулась к нему и спросила: — Как это возможно, господин? — Что за вопрос, Зинита? — отвечал он. — Я что, не имею права взять новую жену, если пожелаю? — Без сомнения, господин, — возразила она, — но нельзя жениться на своих сестрах, а я слыхала, что ты спас эту Наду от Дингана потому, что она твоя сестра, этим навлек гнев Дингана на народ Секиры, гнев, который уничтожил наше племя! — Я и сам так думал, Зинита, — отвечал он, — но теперь узнал истину. Нада действительно дочь Мопо, но я не сын его. Мать Нады не была моей матерью. Вот вся правда, советники! Зинита взглянула на меня и прошептала: — О, старый глупец, не зря я ждала зла от тебя! Я слышал ее слова, но не обратил на них внимания, а она снова заговорила с Умелопогасом: — Так можешь ли ты сообщить нам, кто твой отец? — У меня нет отца, — ответил он, начиная раздражаться, — небо над нами было моим отцом. Я рожден из Крови и Огня, а Лилия рождена красавицей, чтобы стать моей подругой. А теперь, женщина, молчи! — он подумал немного и прибавил: — Впрочем, если хочешь знать, отцом моим был Индабазимби, колдун, сын Арпия! Это заявление Умелопогас сделал на всякий случай, так как, отказавшись от меня, он обязан был назвать имя своего отца, а назвать умершего Черного он не смел. Впоследствии в стране подхватили это заявление и утверждали, что Умелопогас сын Индабазимби, давно покинувшего наши края. Мой воспитанник от этого и не отказывался. Ему не хотелось, чтобы узнали, что он сын Чаки, он вовсе не стремился быть царем и опасался навлечь на себя гнев Панды. Нада встала и поднесла Умелопогасу вместо приданого цветок, который она держала в руке. Она была бедна и не могла принести ничего больше. Он взял цветок, но ему было неловко держать его — он привык носить топор, а не цветы. В этот же день по древнему обычаю владетель секиры должен был вызвать всех желающих на бой. Победитель становился обладателем секиры и вождем всего народа. Поэтому Умелопогас встал и произнес свой вызов, не ожидая, что кто-нибудь откликнется на него. Много лет никто не осмеливался выступить против его страшной силы. В тот день вышли три человека, двое из них были вожди, которых Умелопогас искренне любил. Весь народ и он с удивлением взглянули на них. — Что это значит? — тихо спросил он вождя, который стоял ближе к нему и хотел вступить с ним в бой. Вместо ответа тот указал на Лилию, стоящую тут же. Умелопогас понял, что красота Нады вызывает у всех мужчин желание овладеть ею. Тот же, кто завоюет секиру, возьмет и девушку. Умелопогасу предстояло бороться со многими соперниками. О битве кратко скажу тебе, отец мой. Умелопогас убил одного вождя, затем другого, третий, испугавшись, не вышел против него. С этого дня Умелопогас взял Наду-Лилию себе в жены, и на время наступил мир и тишина. Легко догадаться, отец мой, что Зините и другим женам все это не понравилось. Они переждали некоторое время, думая, что Умелопогас изменится, потом стали роптать, жаловаться не только своему мужу, но и посторонним. Город разделился на две партии: сторонников Зиниты и сторонников Нады. Партия Зиниты состояла из женщин и из мужчин, которые любили и боялись своих жен, но партия Нады была гораздо многочисленнее и вся состояла из мужчин с Умелопогасом во главе. Это разделение порождало недоразумения в народе и постоянные ссоры в хижинах. Ни Лилия, ни Умелопогас не обращали внимания на происходящее, так сильно были они поглощены и довольны своей обоюдной любовью. Однажды Зинита сказала собравшимся в поле женщинам: — Лилия смеется над нами, сестры. Выслушайте мой совет: надо устроить на новолуние женский праздник в отдаленном отсюда и скрытом месте. Все женщины и дети отправятся туда, за исключением Нады, которая не расстанется со своим возлюбленным. Необходимо найти человека, горячо любимого женщиной. Может быть, сестры мои, тому человеку лучше будет отправиться путешествовать во время новолуния. Могут произойти великие несчастья в городе племени Секиры, пока мы будем пировать на нашем празднике. — Что же может случиться, сестра? — спросила одна из женщин. — Откуда мне знать? — отвечала она. — Я знаю только, что мы хотим избавиться от Нады и таким образом отомстить человеку, презревшему нашу любовь, и тем, которые бегают за красотой Нады. Поэтому помолчим о наших планах и приготовимся к нашему празднику! Вскоре Зинита попросила Умелопогаса разрешения устроить женский праздник далеко от их краалей, и он с радостью согласился: ему очень хотелось отделаться хоть на время от Зиниты и ее сердитых взглядов. Он и не подозревал о заговоре. Он только объявил ей, что Нада не пойдет на праздник. И Зинита, и Нада отвечали, что их единственное желание — исполнить его волю.Глава 32
ЗИНИТА В КРААЛЕ ЦАРЯ
Однажды царь Динган сидел в краале, ожидая возвращения своих войск из мест, названных теперь Кровавой Рекой. Он выслал их туда с приказом уничтожить лагерь буров и надеялся вскоре увидеть их снова победителями. Праздный сидел он в краале, следя за полетом хищных птиц над Горой Убийств, окруженный отрядом воинов. — Мои птицы голодны! — сказал он одному из советников. — Скоро найдется пища для них, царь! — отвечал советник. Подошел слуга с докладом, что какая-то женщина просит разрешения говорить с царем по очень важному делу. Привели женщину, высокую и красивую. Она держала за руки двух детей. — Чего просишь ты? — спросил Динган. — Правосудия, царь! — отвечала она. — Проси крови, ее легче добыть. — Я прошу и крови, царь! — Чьей крови? — Крови Булалио-убийцы, начальника народа Секиры, крови Нады-Лилии и всех ее сторонников! Динган вскочил на ноги с гневным проклятием. — Что? — закричал он. — Неужели Лилия жива, как предполагал тот убитый воин? — Она жива, царь. Она стала женой Убийцы, заколдовала его, и он отстранил меня, свою старшую жену, вопреки закону и чести. Поэтому я хочу отомстить тому, кто был моим мужем! — Ты добрая жена! — заметил царь. — Да убережет меня мой добрый дух-хранитель от подобной жены. Слушай! Я с радостью исполнил бы твое желание, ибо ненавижу Убийцу и хотел бы уничтожить Лилию. Но, женщина, ты пришла в недобрую минуту. У меня остался всего один полк, я же думаю, что с Убийцей нелегко справиться. Подожди, вот вернутся мои войска, посланные уничтожить белых анабоонов, и тогда я исполню твое желание. Чьи это дети? — Это дети Булалио, который был моим мужем! — Дети того, кого ты собираешься предать смерти? — Да, царь! — Без сомнения, женщина, ты такая же хорошая мать, как и жена! — сказал Динган. — Я ответил тебе — иди! Но сердце Зиниты жаждало мщения скорого и ужасного против Лилии, занявшей ее место, и против мужа, устранившего ее ради Лилии. Она не хотела ждать и одного лишнего часа. — Слушай, царь! — вскричала она. — Я не все еще рассказала тебе. Булалио затевает заговор против тебя вместе с Мопо, сыном Македама, твоим бывшим советником. — Он затевает заговор против меня, женщина? Ящерица подкапывается под скалу, на которой греется? Пусть устраивает заговоры, а что касается Мопо, я его живым не выпущу! — Да, царь, и это еще не все. Этот человек носит другое имя, его зовут Умелопогасом, сыном Мопо. Но он не сын Мопо, он сын умершего Черного, могучего царя, твоего брата, и Балеки, сестры Мопо. От него я узнала это. Он по праву рождения наследник твоей власти, царь, ты занимаешь его место! Несколько минут Динган сидел пораженный. Потом он приказал Зините рассказать все, что она знает. Зинита передала Дингану повесть о рождении Умелопогаса и все, что случилось впоследствии. По многим признакам и многим поступкам Чаки, которые он припоминал, Динган убедился, что рассказ ее правдив. Он подозвал командующего отрядом, стоящего тут же. То был человек очень большого роста по имени Факу. Царь повелел: — Возьми три роты и проводников и ночью напади на город народа Секиры, лежащий у Горы Привидений. Сожги его и перебей всех колдунов, живущих в нем. Прежде всего, убей вождя народа, которого зовут Булалио-убийца, или Умелопогас. Пусть умрет в муках! Принеси мне его голову. Схвати жену его, известную под именем Нады-Лилии живой, если возможно, и приведи ко мне! Три роты выступили по направлению к Горе Привидений. Царь же приказал исполнителям своей воли взять детей Зиниты и убить их. Услыхав эти слова, Зинита, любившая своих детей, громко зарыдала. Динган же стал смеяться над нею. Таким образом, пришлось Зините испить чашу, которую она приготовила для других. Она обезумела от горя и, ломая руки, кричала, что раскаивается в содеянном. Она порывалась бежать из крааля, чтобы предупредить Умелопогаса и Лилию о грозившей им опасности. Но царь рассмеялся, кивнул головой, ее схватили и снова привели к нему. Она тут же упала мертвой. Вот как злоба погубила Зиниту, старшую жену Умелопогаса и его детей. Убийство Зиниты было последним в краале царя. Вскоре после описанных событий Динган снова заскучал. Он поднял глаза на холмы и увидел людей. Судя по одежде, то были его воины, которых он послал против буров. Они, словно женщины, повесили головы. Войско было разбито на берегах Кровавой Реки, тысячи воинов погибли в лагере, сраженные пулями буров, тысячи других утонули в реке, вода в ней покраснела. Тела убитых так заполнили ее, что живые могли свободно идти по трупам. Дингана охватил ужас, когда ему доложили, что анабооны спешно идут по следам побежденных. В тот же день он бежал в чащу леса, растущего по берегам Черной реки Умфолози. Ночью небо окрасилось ярким заревом от пожара в его краалях, и хищные птицы покинули Гору Убийств, испуганные ревом пламени. Галаци сидел на коленях Каменной колдуньи и бесцельно смотрел на крааль народа Секиры. Вдруг он заметил отблеск света, который как будто двигался в полосе тени, падающей от Горы Привидений, как скользит игла сквозь ткани то видимая глазом, то скрытая тканью. Он заметил небольшой отряд, человек двести — не более, которые бежали молча, но не готовились к битве, так как на них не было украшений из перьев. Цель их была другая — убийство. Они шли ротами, и каждый воин нес ассегай и щит. Тогда Галаци понял, что они хотят напасть на его друга Умелопогаса. Необходимо было предупредить его. Но как? Галаци мог переплыть быструю реку, чтобы сократить расстояние к городу народа Секиры. Воины успели пройти половину пути. Несмотря на это, он решил попробовать, зная, что во всей стране никто не умеет бегать так быстро, как он, за исключением Умелопогаса. А может быть, отряд остановится у реки напиться… Эти мысли, быстрые, как молнии, промелькнули в голове Галаци. Одним прыжком он спустился на склон горы. Он прыгал со скалы на скалу, как олень, он рассекал воздух, как ласточка. Гора осталась позади, перед ним лежала желтая река, пенившаяся в своем течении, такова была она, когда он переплывал ее впервые, отправляясь искать мертвеца. Он прыгнул в середину потока, одолел бурное течение. Вот он уже на другом берегу, стряхивает воду, как собака, вот он бежит в узкое каменное ущелье, к длинному оврагу, низко пригибаясь к земле, как бегают волки. Перед ним появился город. Одна часть его отливала серебром под заходящей луной, другая серела при слабом свете зари. Но и враги находились тут же, он заметил их, они осторожно пробирались в траве к восточным воротам. Он видел длинные вереницы убийц, ползущих вправо и влево. Только бы ему успеть проскользнуть мимо них, пока они не охватили город своим смертельным кольцом! Ему бежать еще далеко, а они подошли уже близко. В этом месте высокая кукуруза доходила почти до изгороди. Вверх по тропинке! Мог ли Умелопогас бежать быстрее, чем Волк, мчавшийся ему на помощь? Галаци продвигался вперед, скрытый стволами маиса, а там, у самой изгороди, направо и налево, пробирались убийцы! Вдруг послышался мощный голос: — Проснитесь, спящие, враг у ваших ворот!Глава 33
ГИБЕЛЬ НАРОДОВ ЧЕРНОГО И СЕРОГО
Галаци мчался по городу, громко крича. Просыпались и поднимались люди. Часовых не ставили, Умелопогас был так поглощен своей любовью к Наде, что забыл всякую осторожность и не думал более ни о войне, ни о смерти, ни о ненависти Дингана. Вскоре Волк добежал до новой большой хижины, которую Умелопогас велел выстроить для Нады-Лилии, он ворвался в нее, зная, что там найдет своего брата Булалио. В глубине хижины оба спали, голова Умелопогаса покоилась на груди Лилии, а рядом с ним сверкала огромная секира. — Проснись! — вскричал Волк. Умелопогас и Нада вскочили и, как во сне, исполняли его приказания. Пока они искали свою одежду и щит, Галаци выпил вина и отдышался немного. Они вышли из хижины. Небо серело, а с востока и запада, с севера и юга поднимались к небу красные языки пламени: город со всех сторон зажгли убийцы. Умелопогас увидел это и понял все. — В какую сторону идти, брат? — спросил он. — Сквозь пламя и строй врагов к нашему серому народу на гору! — отвечал Галаци. — Там, если удастся пробиться, мы найдем помощь. Они побежали к изгороди, и к ним присоединились с десяток воинов, полусонных, объятых ужасом, вооруженных кто копьем, кто ножом. Впереди мчались Умелопогас и Галаци, держа за руки Лилию. Они достигли изгороди, из-за которой слышались крики убийц, вся изгородь пылала… Нада в ужасе отпрянула назад, но Умелопогас и Галаци потащили ее вперед. Они кинулись сквозь пламя и вышли по другую сторону, не пострадав от огня. Убийцы увидели их и с криком: «Вот, Булалио, убивай колдуна!» подскочили к ним с поднятыми копьями. Воины Секиры окружили кольцом Наду, и впереди всех стали Умелопогас и Галаци. Затем они бросились вперед и встретились с воинами Дингана, раскидав и разбросав их во все стороны секирой и дубиной, как ветер разносит пыль, как серп срезает траву. Они пробились, потеряв только одного человека, но среди врагов распространился слух, что начальник колдунов и Лилия, его жена, бежали. Помня приказание во что бы то ни стало умертвить именно их, командующий отрядом отозвал своих воинов, которые подстерегали бегущих из города, и бросился в погоню за Умелопогасом. В это время братья-волки и их спутники были уже далеко, им легко было спастись от преследований, никто в стране не бегал так быстро, как они, но Нада не могла долго бежать рядом с ними. Они торопились изо всех сил и пробежали половину ущелья, а враг все приближался (этот конец ущелья, отец мой, узок, как горлышко бутылки), Галаци остановился и сказал: — Стойте, воины Секиры, поговорим с теми, кто преследует нас, пока же отдохнем немного. Ты же, брат, переплыви реку вместе с Лилией. Мы присоединимся к тебе в лесу. Если же вдруг мы не найдем тебя, ты знаешь, что надо сделать: доведи Лилию до пещеры, потом вернись и собери наше серое войско. Помни, брат мой, что мне необходимо будет найти тебя. Если воинам Дингана хочется драться, то на Горе Привидений состоится такая охота, какой еще никогда не видела старая колдунья. Теперь иди, брат! Умелопогас схватил Наду за руку и помчался к реке. Он еще не добежал до нее, как услыхал шум битвы, воинственный крик убийц, кинувшихся на воинов Секиры, и вой его брата Волка, которым он сопровождал меткие удары своей дубины. Они прыгнули в пенящуюся реку, к счастью, Лилия умела плавать. Им удалось переплыть реку, они стали подниматься на гору. Здесь они быстро продвигались между деревьями, пока наконец не достигли конца леса, где Умелопогас услыхал вой волков. Ему пришлось взять Наду на руки и нести ее, как когда-то Галаци нес мертвеца. Каждый человек, за исключением братьев-волков, вздумавший подняться на Гору Привидений, когда волки не спят, становится жертвой. Вскоре волки окружили Умелопогаса и начали прыгать от радости, сверкая жадными глазами на ту, которая сидела на его плечах. Увидев их, Нада едва не потеряла сознание от страха. Волков сбежалось много, онибыли страшны, и при их завывании кровь стыла в ее жилах. Но вот они у колен Каменной колдуньи и у входа в пещеру. Она пуста, если не считать одного-двух волков. Галаци редко приходил сюда, появляясь на горе, ночевал в лесу, ближе к краалю брата Убийцы. — Ты должна побыть здесь, милая, — сказал Умелопогас, — смотри, я покажу тебе, как двигать этот камень. Подвинуть его надо только до этого места, но не далее. Одного толчка достаточно, чтобы выбить его из желоба, но тогда только два очень сильных человека смогут снова поставить его на место. Поэтому двигай камень осторожно, чтобы он не принял такое положение, из которого при всем желании ты не сможешь его сдвинуть. Не бойся, ты здесь в безопасности, никто не знает об этом убежище, кроме Галаци, меня и волков. Теперь я должен присоединиться к Галаци, если он еще жив. Если же он погиб, я вместе с волками постараюсь отомстить за него убийцам! Нада заплакала. Она боялась оставаться одна. Ей казалось, что она никогда больше его не увидит. Горе сжало ей сердце. С тяжелым чувством Умелопогас обнял ее и задвинул камень. В пещере стало почти совсем темно, только узкая полоса света проникала сквозь отверстие немного шире человеческой руки, справа от камня. Нада села так, чтобы полоса света падала на нее, она любила свет и без него чахла, как цветок. Внезапно свет в отверстии исчез, и она услыхала тяжелое дыхание животного, чующего добычу. Она подняла голову и во мраке увидела острый нос и оскаленные клыки волка, который просовывал морду через небольшое отверстие рядом с нею. Нада громко закричала. В безрассудном страхе она ухватилась за камень и потянула его к себе, как показывал ей Умелопогас. Камень задрожал, сдвинулся с желоба, в котором держался, и пополз внутрь пещеры, как падает камешек через горлышко бутылки. …Закрыв пещеру, Умелопогас быстро спустился с горы, а с ним несколько волков. На одном из поворотов он услыхал продолжительный, длинный вой, раздававшийся из глубины леса, он узнал крик и приободрился — то звал Галаци, спасшийся от копий убийц. Умелопогас кинулся бежать, отвечая на зов. Наконец он достиг цели. Отдыхая на камне, сидел Галаци, а вокруг него толпились его многочисленные серые друзья. Умелопогас подошел и оглядел его, Галаци казался слегка утомленным, на его широкой груди и руках виднелись раны, его небольшой щит был изрублен почти в куски, а на палице виднелись следы крови. — Что произошло без меня, брат? — спросил Умелопогас. — Ничего особенного. Все те, которые остались со мной на дороге, погибли, но с ними и часть врагов. Я бежал один, как трус. Они трижды наступали на нас, но мы отбивали их, пока Лилия не очутилась в безопасности, тогда, потеряв всех своих людей, я бежал, Умелопогас, и переплыл поток. Мне хотелось умереть здесь, в моем лесу! Когда Галаци отдохнул, они встали и собрали свою стаю, хотя не такую многочисленную, как несколько лет назад, когда братья-волки впервые стали охотиться на Горе Привидений. Они спустились по лесным тропинкам и скрылись в чаще около темного ущелья, расположившись по сторонам прохода. Они спокойно ждали, пока не услыхали шаги отряда царских убийц, тихо продвигавшихся вперед в поисках Умелопогаса. Во главе отряда шли два воина, внимательно осматривая местность, чтобы не попасть в засаду. Они разговаривали между собой, оглядываясь по сторонам. Не замечая ничего опасного, воины остановились у входа в ущелье, чтобы подождать свой отряд. Их голоса долетали до Умелопогаса. Братьям-волкам стоило большого труда сдержать свою стаю. Волчьи пасти щелкали, глаза сверкали при виде людей. Недолго братья держали их — одна из волчиц с воем сорвалась с места и кинулась на грудь воина. Она более не выпустила его. Волк и человек упали, покатились по земле и затихли мертвые. — Оборотни, оборотни напали на нас! — вскричал второй разведчик и помчался обратно по направлению к отряду. Но он не добежал до него: с обеих сторон со страшным воем волки-оборотни выскочили из засады, кинулись за ним, и вскоре ничего не осталось от него, кроме копья. Крик ужаса поднялся из рядов отряда, воины хотели бежать, но Факу, их предводитель, высокий, храбрый человек, громко закричал: — Стойте, дети царя, стойте, то не оборотни, то только братья-волки и их свора! Неужели вы дрогнете перед собаками, ведь раньше вы умели смеяться над копьями людей? Становитесь в круг, стойте твердо! Воины услыхали голос своего предводителя и повиновались ему. Они стали в двойной круг, кольцом в кольце. Взглянув направо, они увидели мчащегося на них Булалио, подобно буре, с высоко поднятым топором, с волчьими клыками на лбу. За ним мчалась красноглазая стая. Взглянули налево и увидели слишком хорошо знакомую им дубину. Недавно еще слышали они ее удары на берегу реки и хорошо знали великана, царя волков, владеющего ею, как легкой палочкой, обладающего силой десяти человек. Как долго длился бой? Кто может сказать? Время летит быстро, когда сыпятся частые удары. Наконец, братья выбились из круга и исчезли, уводя волков, которые остались в живых. Но и отряд сильно пострадал: осталась всего одна его треть. Остальные полегли вперемешку с дикими животными. Факу начал подниматься в гору с оставшимися воинами. Всю дорогу волки делали на них набеги и загрызали то одного, то двух воинов. Братья-волки не нападали более на отряд, сохраняя свои силы для последнего, решающего боя. Умелопогас взглянул на каменное лицо той, которая сидела высоко над ними. Оно все светилось от заходящего солнца. Тропинка у подножья горы разделялась надвое, посередине, отец мой, торчал большой выступ скалы, и две небольшие тропинки вели с двух сторон к площадке на коленях колдуньи. Умелопогас стал наверху у левой тропинки, а Галаци — у правой. Они ждали врага, держа копья в руках. Вскоре из-за скалы показались воины и кинулись на них. Долго длилась битва. Наконец Галаци, сразив последнего врага, в изнеможении опустился на землю. Он не мог уже помочь другу, против которого оставался тоже всего один враг. Галаци-волк с усилием поднялся на колени, в последний раз потряс дубиной над головой, упал и умер. Умелопогас, сын Чаки, и Факу, вождь Дингана, смотрели друг на друга. Они стояли одни на горе, все остальные полегли. Умелопогас был весь покрыт ранами, Факу — невредим. То был сильный человек, вооруженный топором.Глава 34
ПРОЩАНИЕ С ЛИЛИЕЙ
Несколько минут оба воина описывали круги секирами, выжидая удобного момента для удара. Вскоре Факу опустил оружие на голову Умелопогаса, но Убийца поднял свою секиру, чтобы отбить удар. Факу согнул руку и так ловко направил топор, что острие поразило Умелопогаса в голову, рассекло его головной убор и череп. Обезумев от боли, Убийца как бы проснулся. Он схватил секиру обеими руками и нанес три удара. Первый срезал перья, рассек щит Факу и откинул его на несколько шагов назад, второй не попал в цель, от третьего, самого сильного удара, секира выскользнула из его мокрых от крови рук, и удар топора пришелся боком. Тем не менее он плашмя упал на грудь Факу, раздробил его кости и смел его с края скалы вниз, в ущелье. Он упал и не двигался, сжимая топор. — Дело окончилось еще засветло! — сказал Умелопогас, свирепо улыбаясь. — Динган, присылай еще убийц искать убитых! — и он повернулся, чтобы идти в пещеру к Наде. Но Факу, хотя рана его была смертельна, еще не умер. Он приподнялся и, собрав последние силы, метнул топор в того, чья сила одержала верх над ним. Топор был направлен точно, а Умелопогас не видел, как он летел. Лезвие глубоко врезалось в его левый висок. Метнув секиру, Факу умер, а Умелопогас, подняв кверху руки, грохнулся, как бык. Подобно мертвецу, лежал он в тени мрачной скалы. Наде надоело сидеть одной, она решила выйти из пещеры и хотела отвалить камень. Однако он не двигался. Она вспомнила, как, испугавшись волков, она сдвинула его с желоба, в котором он держался. Камень сполз на середину пещеры. Умелопогас предостерегал ее, чтобы она этого не сделала, но она забыла его совет в своем безрассудном страхе. Может быть, ей удастся сдвинуть камень? Нет, ни на волос… Она оказалась запертой без пищи и воды. Что ж, надо ждать прихода Умелопогаса. А если он не придет? Тогда ей придется умереть. Она громко закричала от ужаса, звала Умелопогаса. Стены пещеры повторили его имя и все смолкло. Безумие нашло на Наду, мою дочь. Много дней и ночей пролежала она в пещере, не сознавая, сколько времени прошло. Но потом начала сознавать, что два раза свет проникал в отверстие скалы — и наступал день, что два раза свет угасал — наступала ночь. В третий раз появилась полоса света и погасла. Тогда безумие покинуло ее, она очнулась и осознала, что умирает. И вдруг услышала голос, который она так любила. Голос был тихий, хриплый: — Нада? Жива ли ты, Нада? — Да, — глухо отвечала она. — Воды! Дай мне воды! Прошло несколько минут, затем сквозь отверстие в камне дрожащая рука просунула небольшую тыквенную бутылку. Она жадно напилась, ей стало легче, она могла теперь говорить, хотя ей казалось, что вода огненным потоком разлилась по ее жилам. — Неужели это ты, Умелопогас? — спросила она. — Или ты умер и явился мне во сне? — Это я, Нада! — сказал голос. — Слушай! Это ты сдвинула камень с места? — Увы, да! — отвечала она. — Может быть, соединив наши усилия, мы сможем отвалить его? — Да, если бы наши силы не иссякли, но теперь это невозможно! Впрочем, попытаемся! Они налегли на камень, но у обоих вместе сил было не более, чем у ребенка, и камень не двинулся с места. — Не стоит даже стараться, Умелопогас! — сказала Нада. — Мы теряем те краткие часы жизни, которые остались мне. Поговорим в последний раз! Недолго, однако, пришлось говорить им. Вскоре Нада стала слабеть и незаметно скончалась, сжимая руку Умелопогаса, который уже без чувств лежал по ту сторону камня. Я отправился на поиски пропавших и нашел их в таком положении. Благодаря моим стараниям Умелопогас не умер. Когда он совершенно выздоровел, я начал выяснять, хлопотать ли мне дальше, чтобы он стал царем всей страны. Но Умелопогас покачал головой. Ему по-прежнему хотелось уничтожить царя и его власть, но он не хотел занять его место, а жаждал только мщения. Я отвечал, что сам готов мстить. Соединив усилия, мы, может быть, вдвоем достигнем цели. Слушай, отец мой, рассказ подходит к окну. Мне пришло в голову противопоставить Дингану Панду. Я дал совет Панде бежать вместе со своими приверженцами в Наталь. Он последовал моему совету, а я вступил в переговоры с бурами через посредство бура по имени Длинная Рука. Я доказал бурам, что Динган коварен и не заслуживает доверия, а Панда добр и верен им. Дело окончилось тем, что буры, соединившись с Пандой, объявили войну Дингану. Я разжег эту войну, чтобы отомстить Дингану. Принимали мы участие в большой битве при Магонго? Да, отец мой, мы были там. Когда воины Дингана отбросили нас назад и все казалось потерянным, я подал мысль Нонгалаце, нашему вождю, сделать вид, что он ведет буров в атаку. Анабооны не принимали участия в битве, предоставляя драться нам, черному народу. Умелопогас с секирой в руке пробился сквозь один из полков Дингана, добрался до бурского начальника и закричал ему, чтоб он с фланга окружил Дингана. Таким образом, исход битвы был решен, отец мой, они побоялись сопротивляться белым и черным соединенным полкам. Они бежали, мы же преследовали и убивали их, а Динган хоть и не погиб, но перестал быть царем. А я должен был погубить его! Мы ловили царя несколько недель, как охотники преследуют раненого быка. Мы преследовали его до леса Умфалоци и прошли сквозь него. Наконец и нам улыбнулась удача. Динган вошел в кусты в сопровождении всего двух людей. Мы закололи его слуг, схватили его и повели на Гору Привидений. Возле пещеры я отослал всех наших спутников, мне хотелось остаться наедине с Динганом. Он сел на землю в пещере, вот тут я и сказал ему, что в земле, на которой он сидит, лежат кости Нады, которую он убил, и кости Галаци-волка. Сообщив ему это, мы завалили камнем вход в пещеру и оставили его с призраками Галаци и Нады. На третий день, перед зарей, мы вытащили стонущего Дингана из пещеры на край утеса, висящего на груди Каменной старухи-колдуньи. Там стояли мы, ожидая рассвета, того часа, когда умерла Нада. Мы прокричали ему в уши имя моей дочери и имена детей Умелопогаса и столкнули в пропасть. Таков был конец Дингана, отец мой, Дингана, обладавшего жестоким сердцем Чаки, но не его величием. Вот и вся повесть о жизни Нады-Лилии, отец мой, и о нашей мести. Печальная повесть, грустная повесть. Впрочем, все было печально в те дни. Все изменилось впоследствии, когда стал царствовать Панда — человек миролюбивый. Вот и весь рассказ. Я покинул страну, где жить стало опасно мне, убийце двух царей. Я перешел жить сюда, в Наталь, чтобы закончить свое существование в этом месте, где раньше стоял крааль Дугузы… Внезапно старик замолчал, его голова упала на высохшую грудь. Белый человек, которому он рассказывал свою повесть, приподнял его голову и взглянул на него. Старик был мертв…МАРИ (Эпизод из жизни покойного Аллана Квотермейна)
Первый по хронологии роман об Аллане Квотермейне, который рассказывает о трагической любви юного Аллана к девушке из бурской семьи Мари.
Посвящение
Дражайший сэр Генри! Минуло почти тридцать семь лет, сменилось целое поколение с тех пор, как мы с Вами впервые увидали берега Южной Африки, вырастающие из морской пучины. С того времени успело случиться многое: аннексия Трансвааля, война с зулусами, Первая англо-бурская война, обнаружение золота в горах Витватерсранда, присоединение владений Родса, иначе Родезии, Вторая англо-бурская война — и множество иных событий, каковые в наши быстротечные времена уже вполне могут считаться событиями древнейшей истории. Увы! Боюсь, нам придется возвратиться в те края, где ныне мы найдем лишь несколько знакомых лиц! Но все же есть причина — пускай всего одна — не поддаваться грусти. Те исторические события, в которых Вы, будучи правителем Наталя, играли важную роль и в которых мне выпало принять участие, принесли, насколько возможно судить, долгожданный и продолжительный мир в Южную Африку. Сегодня английский флаг веет над территорией от Замбези до Капа. Под его сенью непременно исчезнут все древние распри и застарелые кровные обиды. Туземцы будут жить счастливо и достойно под справедливым правлением — ибо нельзя отрицать, что когда-то эти земли принадлежали им. Таковы, я знаю, Ваши упования, и я эти упования разделяю. Впрочем, нам предстоит вернуться в Африку более ранних времен. В 1836 году отношения между правительством британской короны и ее подданными голландского происхождения были отравлены ненавистью и взаимными подозрениями. Вследствие освобождения рабов и отсутствия взаимопонимания Капская колония в ту пору находилась едва ли не на грани мятежа, и буры сотнями и тысячами отправлялись искать себе новые дома на неведомом, населенном дикарями севере. Об этих кровопролитных временах я и на мерен поведать далее; мое повествование будет о Великом треке и сопровождавших его трагедиях, наподобие коварного убийства прямодушного Ретифа[171] и его спутников по велению зулусского короля Дингаана[172]. Вы уже прочли мой рассказ и знаете, о чем пойдет речь. Что же я могу сказать в завершение? Только то, что в память о давно минувших днях я посвящаю свое повествование Вам, человеку, чей образ сразу встает перед моим мысленным взором, когда возникает желание представить истинного английского джентльмена. Вашу доброту я никогда не забуду; в память о ней искренне Ваш Г. Райдер Хаггард посвящает эту книгу сэру Генри Бульверу[173], рыцарю Большого Креста ордена Святого Михаила и Святого Георгия.Дитчингем, 1912 год
Предисловие
Автор выражает надежду, что читатель сочтет не лишенным исторического интереса повествование, изложенное на этих страницах, об убийстве бурского предводителя Ретифа и его товарищей по приказу зулусского короля Дингаана. Если не брать в расчет немногие привнесенные детали, автор полагает свое повествование достоверным и точным. То же самое, как представляется, можно сказать об описании жестоких страданий, выпавших на долю буров-трекеров, которые скитались по кишевшему заразой вельду и в конце концов сгинули в окрестностях залива Делагоа. Относительно этих страданий и испытаний, в особенности тех, с какими довелось столкнуться Тричарду[174] и его компаньонам, сохранились немногочисленные упоминания в редких современных трудах, что посвящены этой теме. Следует также отметить, что среди буров того поколения было широко распространено убеждение, будто трагическая гибель Ретифа со товарищи, равно как и многие другие несчастья, постигшие трекеров, явились следствием козней англичан, которые якобы злоумышляли против буров совместно с зулусским деспотом Дингааном.Примечание издателя
Нижеследующее объясняет, каким образом рукопись романа «Мари» (заодно с прочими, среди которых и текст, носящий название «Дитя Бури») попала к издателю. Далее цитируется отрывок письма, датированного 17 января 1909 года и написанного мистером Джорджем Куртисом, братом сэра Генри Куртиса. Последний, о чем следует напомнить, был одним из друзей покойного мистера Аллана Квотермейна и его спутником в том приключении, когда удалось отыскать копи царя Соломона; позднее сэр Генри вместе с мистером Квотермейном бесследно исчез в дебрях Центральной Африки. Отрывок гласит:Вероятно, Вы припоминаете, что наш общий дорогой друг, старина Аллан Квотермейн, назначил меня своим единственным душеприказчиком, о чем говорилось в его завещании, заверенном накануне того дня, когда они с сэром Генри отправились на поиски Зу-Вендиса — и погибли. Впрочем, суд счел недоказанным факт смерти мистера Квотермейна, вложил его средства в надежные ценные бумаги, а его поместье в Йоркшире передал, по моему совету, арендатору, который управлял этим поместьем на протяжении двух последних десятилетий. Ныне этот арендатор, увы, отошел в лучший мир, а потому, уступая настоятельной просьбе благотворительных учреждений, поименованных в завещании мистера Квотермейна, и моей собственной (пребывая в ослабленном здоровье, я уже давно стремился сложить с себя эту обязанность), суд наконец, восемь месяцев спустя, согласился разделить имущество старого охотника согласно условиям завещания. Оные условия, разумеется, предусматривали продажу недвижимости. Прежде чем поместье было выставлено на аукцион, я побывал там в компании солиситора, назначенного судом. На верхнем этаже, в той самой комнате, какую Квотермейн имел обыкновение занимать, мы нашли запертый на ключ сундук. Мы открыли сундук и обнаружили там множество предметов, совершенно очевидно связанных с событиями ранней жизни Квотермейна и потому для него ценных. Перечислять все эти предметы здесь я не стану, с Вашего разрешения, тем более что в случае моей смерти они перейдут в Ваше владение — таково мое распоряжение как остаточного легатария[175] старины Аллана. Однако среди этих реликвий нашлась крепкая шкатулка, изготовленная из древесины чужеземного красного дерева, и в ней лежали различные документы, письма, а также несколько рукописей. Причем под лентой, каковой была перевязана пачка бумаг, имелась записка от руки, в которой синими чернилами (и за подписью Аллана Квотермейна) указывалось, что в случае, если с ним что-либо произойдет, эти рукописи надлежит отправить Вам (смею напомнить, сколь высоко он Вас ценил), а Вы должны самостоятельно принять решение, как с ними поступить — сжечь или опубликовать, если сочтете возможным и подобающим. И потому, по прошествии всех этих лет, поскольку мы с Вами оба живы, я выполняю распоряжение нашего старинного друга и отсылаю Вам рукописи по его поручению. Надеюсь, Вы найдете их любопытными и заслуживающими внимания. Я прочитал текст, который называется «Мари», и остался в искреннем убеждении, что сей текст непременно следует опубликовать. Это поистине удивительная и трогательная история великой любви, изобилующая вдобавок забытыми историческими подробностями. Текст, носящий название «Дитя Бури», также показался мне достойным внимания как исследование обычаев туземной жизни, да и прочие тексты вызвали немалый интерес; увы, зрение подводит меня все сильнее, и потому я не смог прочесть эти рукописи целиком. Хочется надеяться, друг мой, что я проживу достаточно долго, чтобы увидеть их напечатанными. Бедняга Аллан Квотермейн… Поневоле возникает ощущение, будто он внезапно восстал из мертвых! Так, по крайней мере, чудилось мне, когда я листал эти рукописи, где говорилось о тех годах его жизни, о которых в беседах со мной он едва ли вспоминал. Что ж, я снял с себя ответственность за исполнение этого долга и возложил ее на Ваши плечи. Поступайте с рукописями, как Вам заблагорассудится.
Несложно себе вообразить, сколь я, издатель, был изумлен, когда получил это письмо и прилагавшуюся к нему пачку плотно исписанных листов бумаги. У меня тоже вдруг появилось чувство, будто наш старинный друг восстал из могилы и заглянул ко мне, чтобы поведать несколько историй о своей бурной, исполненной драматических событий жизни — как обычно, спокойным, размеренным голосом. Первая рукопись, которую я прочел, носила название «Мари». Она посвящена диковинным обстоятельствам, которые выпали на долю молодого мистера Квотермейна, когда он сопровождал злополучного Питера Ретифа и его товарищей-буров к зулусскому деспоту Дингаану. Следует напомнить, что этот поход, этот визит завершился кровавой резней, а мистер Квотермейн и готтентот по имени Ханс оказались единственными уцелевшими. Кроме того, в данном тексте излагаются подробности личной жизни старого (тогда еще совсем молодого) охотника, а именно — как он ухаживал за своей первой женой, Мари Марэ. Я никогда не слышал от него ни слова об этой Мари — за исключением одного случая. Помню, что по некоему поводу был устроен сельский праздник благотворительного характера и я стоял рядом с Квотермейном, когда ему представили юную девушку, что проживала по соседству и одарила всех нас своим прекрасным пением на этом празднике. Фамилию ее я запамятовал, но звали девушку Мари. Он вздрогнул, услышав это имя, потом спросил, француженка ли она. Девушка ответила, что французы были у нее в роду только по материнской линии, со стороны бабушки, которую тоже звали Мари. «Вот как? — сказал Квотермейн. — В былые годы я был знаком с молодой леди, француженкой по происхождению, которую звали Мари, как и вас. Да посчастливится вам в жизни больше, чем ей, дитя мое, пускай ее невозможно превзойти ни добротою, ни благородством!» После чего он поклонился девушке в своей обычной простой, но вежливой манере и отвернулся. Позднее, когда мы остались вдвоем, я спросил у него, о какой Мари он рассказывал нашей сельской красавице-певунье. Он помолчал немного, а потом ответил: «Это моя первая жена, и я очень прошу — не заговаривайте о ней ни со мной, ни с кем-либо еще, ибо ее имя до сих пор словно пронзает мне грудь. Возможно, когда-нибудь вы узнаете обо всем, что было». С этими словами, к моему великому смятению и смущению, он издал нечто вроде всхлипа и быстро вышел из помещения. Что ж, прочитав рукопись с названием «Мари», могу сказать, что отлично понимаю его чувства. Я решил напечатать текст практически без правок. В посылке также содержались другие рукописи, например «Дитя Бури», там излагалась трогательная история прекрасной и, как я, к сожалению, вынужден уточнить, коварной зулуски по имени Мамина, которая причинила немало зла окружающим в те времена и понесла заслуженное возмездие, но не раскаялась в содеянном. Нашелся и текст, где среди прочего перечислялись истинные причины поражения Кечвайо[176] и его полчищ от англичан в 1879 году, незадолго до встречи Квотермейна с сэром Генри Куртисом и капитаном Гудом. Эти три произведения так или иначе связаны друг с другом. В частности, во всех трех присутствует пожилой карлик-колдун по имени Зикали, гнусный и жестокий тип; впрочем, в романе «Мари» о нем лишь упоминают применительно к убийству Ретифа, к чему он, несомненно, был причастен, — если не сам все задумал и устроил. Поскольку роман «Мари» идет первым по хронологии (и поскольку его рукопись лежала сверху в упомянутой пачке), он первым же и будет опубликован. Что касается двух остальных произведений, я надеюсь издать их позже, когда появится возможность. Будущее, как известно, должно само заботиться о себе. Мы не в силах им управлять, грядущие события неподвластны нашему влиянию. Но все же я надеюсь и уповаю, что те, кто в юности читал о копях царя Соломона и путешествии в Зу-Вендис, а также читатели помоложе найдут и эти новые главы автобиографии Аллана Квотермейна столь же интересными и захватывающими, какими нашел их я сам.Джордж Куртис
Глава 1
АЛЛАН УЧИТ ФРАНЦУЗСКИЙ
Пускай в весьма почтенном возрасте я, Аллан Квотермейн, и пристрастился, можно сказать, к писательству, никогда прежде не доводилось мне хотя бы словом обмолвиться о своей первой любви, равно как и о приключениях, коими отмечена эта прекрасная и трагическая история. Полагаю, это все потому, что та история всегда представлялась мне поистине священной и далекой, столь же священной и далекой, сколь святы и далеки от нас благословенные Небеса, где нынче пребывает дух прелестной Мари Марэ. Но теперь, на склоне дней, Небо становится все ближе, и по ночам, вглядываясь во мрак среди звезд, порою я будто различаю распахнутые врата, сквозь которые мне предстоит однажды пройти, а за створками, простирая руки навстречу и взирая на меня своими темными, с поволокой, очами, стоит тень женщины, давно забытой всеми, кроме меня, — тень Мари Марэ. Это всего лишь фантазии старческого ума, не более того. Но все же я намерен наконец поведать историю, что завершилась столь великой жертвой, историю, вне всяких сомнений достойную предания гласности, хотя и уповаю, что никому на свете не доведется прочесть ее, покуда и мое имя не сотрется из людской памяти или покуда оно, по крайней мере, не окутается пеленою забвения. Не стану скрывать: я рад, что так долго откладывал попытки рассказать о случившемся, ибо только недавно мне стали ясны черты характера той, о ком я собираюсь говорить, и природа той страстной привязанности, которой она щедро оделяла столь недостойного человека, как ваш покорный слуга. Я спрашивал себя, что же удалось мне совершить, чтобы заслужить любовь таких женщин, как мои Мари и Стелла, увы, тоже покинувшая сей мир и единственная, с кем я мог поделиться этой историей? Помнится, я боялся, что Стелла плохо воспримет мой рассказ, но мои опасения оказались беспочвенными. На самом деле в короткие и счастливые дни нашего брака она часто вспоминала Мари и говорила о ней, а когда обратилась ко мне с последними словами, то сказала, что уходит искать Мари и что они вдвоем будут ждать меня в краю любви, чистоты и бессмертия… Так или иначе, после смерти Стеллы я совсем перестал думать о женщинах и больше никогда, ни разу за все эти долгие годы не прошептал ни единого нежного словечка другой женщине. Признаюсь, правда, что много лет спустя одна красивая зулуска своими нежными речами вскружила мне голову на добрый час — отдаю должное этой прелестнице, в своем искусстве она была великой мастерицей. Говорю об этом, поскольку намерен быть предельно честным, но не могу не добавить, что через час моя голова (а сердце и вовсе не удалось тронуть) пришла в полный порядок и рассудок вернулся ко мне. Эту зулуску звали Мамина, и связанную с нею историю я собираюсь изложить в другой раз. Что же касается Мари… Как мне уже доводилось упоминать, я провел юные годы вместе со своим пожилым отцом, священником англиканской церкви, в месте, которое ныне зовется округом Крэдок в Капской колонии. В ту пору в этой глуши лишь изредка можно было встретить белого человека. Среди наших немногочисленных соседей был фермер-бур по имени Анри Марэ, проживавший милях в пятнадцати от нас, на милой ферме, что звалась Марэфонтейн. Я называю его буром, но, как легко догадаться по имени и фамилии, он происходил из французских гугенотов, и его предок, тоже Анри Марэ (думается, раньше эту фамилию писали немного иначе), одним из первых хранителей этого вероисповедания эмигрировал в Южную Африку, спасаясь от преследований короля Людовика XIV после отмены Нантского эдикта[177]. В отличие от большинства буров того же происхождения, эти вот Марэ — а было и много других семейств, носивших ту же фамилию, — никогда не забывали о том, кем они были раньше. В их семье от отца к сыну передавалось знание французского языка, и между собой они часто говорили на нем, пусть и с ошибками. А сам Анри Марэ, который, насколько я знал, был истово религиозен, имел обыкновение читать отрывки из Библии (у буров было заведено, во всяком случае в то время, начинать таким образом каждое утро, если человек умел читать) не на таале, то есть на местном варианте голландского, а на старом добром французском. Та книга, по которой он читал, сегодня принадлежит мне благодаря причудливому стечению обстоятельств: много лет спустя, когда события, о которых я хочу рассказать, давно забылись, я купил ее, среди прочих вещей, на еженедельной распродаже всякого старого добра в Марицбурге. Помню, что, когда я раскрыл огромный фолиант, обтянутый воловьей кожей поверх исходного переплета, и выяснил, кто владел этой книгой ранее, на глаза навернулись слезы. Ошибки быть не могло, ведь в начале и конце книги, по привычке тех дней, были вшиты листы для записей о каких-то важных событиях. Первые пометки были сделаны рукой Анри Марэ-старшего и повествовали о том, как его с товарищами изгнали из Франции, а сам он лишился отца, погибшего за отказ изменить вере. Далее следовал длинный перечень дат — рождения, бракосочетания и смерти, поколение за поколением; еще мимоходом отмечался факт переезда семьи на новое место жительства, причем непременно по-французски. Ближе к концу списка появились имена того Анри Марэ, которого знал я, и его единственной сестры. Потом было сказано, что Анри женился на Мари Лабушань, тоже из гугенотов. Годом позже записано рождение Мари Марэ, моей Мари, а после долгого перерыва в датах (детей у пары больше не рождалось) было помечено, что умерла ее мать. Сразу после этого шла такая любопытная запись: «Le 3 janvier, 1836. Je quitte ce pays voulant me sauver du maudit gouvernement Britannique comme mes ancêtres se sont sauvés de ce diable — Louis XIV. A bas les rois et les ministres tyrannique! Vive la liberté!»[178] Отсюда легко заключить, каковы были характер и взгляды Анри Марэ и каковы были настроения среди буров-трекеров в те годы. На сем записи обрывались, история семейства Марэ завершалась; если судить по хранящейся у меня Библии, эта ветвь прекратила существование. Последнюю главу их истории я поведаю чуть позже. В обстоятельствах моего знакомства с Мари Марэ не было ничего примечательного. Я не спасал ее от нападения дикого животного, не вытаскивал, насквозь промокшую, из бурной реки, как любят живописать романисты. На самом деле мы с нею были представлены друг другу и затем вели юношеские беседы за большим и прочным обеденным столом, который в остальное время служил колодой для разделки туш. До сих пор, стоит закрыть глаза, я словно наяву вижу сотни зарубок на столешнице, особенно с той стороны, где мне обычно выпадало сидеть. Однажды, через несколько лет после того, как мой отец перебрался в Кап, хеер[179] Марэ пришел к нам в поисках, если я правильно помню, своих сбежавших волов. Этот худощавый и бородатый мужчина с близко посаженными темными глазами всегда разговаривал и вел себя нервозно и нисколько не походил на типичного бура — во всяком случае, мне так казалось. Мой отец встретил его радушно и пригласил отобедать с нами, на что гость согласился. Они говорили между собой по-французски, ибо мой отец хорошо знал этот язык, хотя уже давно в нем не практиковался; голландского он избегал, если представлялась такая возможность, а хеер Марэ предпочитал не общаться по-английски. Шанс вести беседу на французском привел его в восторг, и, пускай он изъяснялся на наречии двухсотлетней давности, а мой отец осваивал язык в основном по книгам, они прекрасно понимали друг друга, когда не спешили. Некоторое время спустя мистер Марэ замолчал, потом указал на меня, крепкого юнца с копной волос на голове и острым носом, и спросил моего отца, не желает ли тот обучить французскому своего сына. Отец выразил согласие с превеликим удовольствием. — Хотя, — добавил он сурово, — по опыту преподавания греческого и латыни могу сказать, что способности моего сына к обучению вызывают немалые сомнения. Словом, они договорились, что два дня в неделю я буду проводить в Марэфонтейне и оставаться там на ночь, дабы постигать премудрости французского языка от наставника, которому мистер Марэ уже платил за обучение своей дочери французскому и другим предметам. Помню, что мой отец согласился выплачивать часть жалованья этому наставнику; для прижимистого бура такая сделка была очевидно выгодной. Когда я в первый раз отправился в Марэфонтейн, мне позволили взять ружье, потому что в вельде между нашим жильем и фермой водились дрофы, большие и малые (их называли соответственно корхаанами и пау), не говоря уже об антилопах, а стрелял я уже тогда вполне прилично. Я выехал в дорогу на пони в назначенный день, и меня сопровождал слуга-готтентот по имени Ханс, о котором я еще расскажу. По пути мне выпало немало возможностей испытать свою удачу в стрельбе, и на ферму мы привезли одну пау, двух корхаанов и одного клипшпрингера[180], которого мне удалось убить, когда он выскочил из-за груды камней впереди. Ферму окружал персиковый сад, все деревья были усыпаны чудесными розовыми цветками, и я медленно ехал мимо в поисках пути к дому. Вдруг, откуда ни возьмись, передо мной появилась худенькая девочка в платье того же оттенка, что и цветки на деревьях. Я вижу ее как наяву — темные волосы ниспадают на плечи, большие черные глаза смотрят на меня из-под голландского каппи, то есть чепца. Они были такими большими, что, казалось, занимали все лицо, и это придавало незнакомке сходство с зуйком, которого буры зовут «диккоп»; так или иначе, ничто другое в ее облике мне в память не врезалось. Я остановил своего пони и уставился на девочку; меня обуяла робость, и я не знал, что следует сказать. Некоторое время она смотрела на меня, тоже пребывая, похоже, в растерянности, а потом сделала над собою усилие и заговорила. Голос у нее оказался нежный и приятный. — Ты тот маленький Аллан Квотермейн, который будет изучать французский вместе со мной? — спросила она по-голландски. — Он самый, — ответил я на том же языке, который хорошо знал. — Но почему ты зовешь меня маленьким, мисси? Я ведь выше тебя! Пускай я был юн, мой невысокий рост уже тогда заставлял меня страдать. — Думаю, что не выше, — сказала она рассудительно. — Слезай с лошади, и мы померимся вон тут, у стены. Делать нечего, я спешился, уверил девочку, что не ношу обуви на каблуке (на мне были башмаки из шкур, буры называют такие вельдскунами), и она приложила табличку для письма, которую держала в руках, — явно из той древесины, что идет на крыши, — к моим непокорным вихрам, торчащим вверх так, как торчат они и сейчас, и провела карандашом жирную черту на мягком песчанике стены. — Вот, — произнесла она, — это твой рост. А теперь, маленький Аллан, измерь меня. Я послушался, и оказалось, что она выше меня на добрых полдюйма! — Ты встала на цыпочки! — обвинил я ее от смущения. — Маленький Аллан, — ответила она серьезно, — вставать на цыпочки — значит обманывать Господа нашего, а когда ты узнаешь меня получше, то поймешь, что у меня, конечно, дурной нрав и много других грехов, но я никогда не обманываю. Должно быть, мое лицо выражало растерянность и терзавший меня стыд, потому что девочка продолжила тем же самым серьезным, взрослым тоном: — Почему ты злишься, что Господь сделал меня выше, чем тебя? Я ведь на несколько месяцев старше, как сказал мне мой отец. Давай напишем наши имена у этих меток, чтобы через год или два ты сам убедился, насколько меня перерос. Тем же самым карандашом, сильно надавливая, чтобы надпись не стерлась, она нацарапала «Мари» у своей метки, а потом я написал «Аллан» у своей. Увы! Несколько лет назад судьбе было угодно вновь привести меня в Марэфонтейн. Дом давно перестроили, но вот садовая стена стояла по-прежнему. Я подъехал к ней и присмотрелся: имя Мари еще угадывалось на камне, как и метка моего роста. Однако мое собственное имя и прочие метки, оставленные позднее, исчезли, ибо за сорок с лишним лет песчаник местами осыпался. Да, сохранился лишь «автограф» Мари, и когда я увидел эту надпись, мне стало, пожалуй, еще хуже, чем в тот день, когда я обнаружил, кому принадлежала старая Библия, купленная мной на рыночной площади Марицбурга. В общем, я поспешил уехать оттуда и даже не потрудился поинтересоваться, в чьи руки перешла ферма. Проскакал сквозь персиковый сад, деревья которого — те же или новая поросль — снова были в цвету, ибо стояло то самое время года, когда мы с Мари впервые встретились. И не думал останавливаться добрый десяток миль.Итак, пока мы росли, Мари всегда была на полдюйма выше, чем я, а насколько она превосходила меня силой духа и рассудительностью, о том и вовсе не скажешь словами. Когда мы закончили мериться ростом, Мари повела меня к дому. Она притворилась, будто только-только заметила красивую дрофу и двух корхаанов, свисавших с моего седла, а также тушу клипшпрингера, которую вез готтентот Ханс. — Это ты их застрелил, Аллан Квотермейн? — спросила она. — Да, — гордо ответил я. — Я убил их четырьмя выстрелами, а пау и корхааны вдобавок летели, а не сидели на земле. И тебе такого никогда не сделать, хоть ты и выше меня, мисс Мари. — Не знаю, — проговорила она задумчиво. — Вообще-то, я стреляю очень хорошо, отец научил меня, но выстрелить в живое существо я могу, только если голод вынудит, потому что убивать жестоко. Правда, мужчины думают иначе, — добавила она торопливо, — и ты наверняка однажды станешь великим охотником, Аллан Квотермейн, раз уже сегодня так метко стреляешь. — Надеюсь, — проворчал я, покраснев от похвалы. — Я люблю охотиться, а когда вокруг столько дичи, никому не повредит, если прикончить парочку-другую. Между прочим, я подстрелил эту добычу для тебя и твоего отца. — Тогда идем и отдадим дичь ему. Он поблагодарит тебя. Мари провела меня сквозь ворота в стене из песчаника на двор фермы. Там стояли загоны, куда загоняли на ночь лошадей и лучший племенной скот. Потом мы миновали торец длинного одноэтажного дома, сложенного из камня и побеленного, и приблизились к веранде — буры называют такие пристройки ступами. На широкой веранде, откуда открывался чудесный вид на холмистую, похожую на парк местность, где росли купами мимозы и другие деревья, сидели двое мужчин. Они пили крепкий кофе, хотя время только близилось к десяти утра[181]. Заслышав цокот копыт, один из мужчин, минхеер Марэ, с которым я уже познакомился, привстал со своего обтянутого шкурой кресла. Да, он нисколько не походил на буров, по обыкновению флегматичных, — ни повадками, ни темпераментом; скорее, выглядел и вел себя как типичный француз, пускай никто из членов его семейства не ступал ногой на французскую землю целых сто пятьдесят лет. Это сходство с французами бросилось мне в глаза позднее, тогда-то я, разумеется, о них лишь слышал. Его собеседник, тоже француз, по имени Леблан, был человеком совсем другого склада. Приземистый, он отличался широкими плечами и массивной головой; на макушке блестела лысина, однако ниже, над ушами, волосы стального отлива пушились этаким венчиком и падали на плечи, придавая Леблану сходство с монахом — правда, те, хотя и выбривали тонзуру, все-таки причесывались. У него были голубые водянистые глаза, безвольный рот, бледные дряблые щеки… Когда хеер Марэ встал, я, будучи наблюдательным юношей, заметил, как мсье Леблан протянул дрожащую руку и подлил себе в кофе жидкости из бутыли темного стекла; судя по запаху, там был персиковый бренди. Пожалуй, стоит признаться сразу, что бедняга пил, и это объясняет, почему, при всей его образованности и немалых талантах, он занимал скромный пост учителя на отдаленной бурской ферме. Многие годы назад во Франции он совершил преступление — под несомненным влиянием выпитого. Не знаю, что именно он сделал, и никогда не стремился это выяснить. После содеянного ему пришлось бежать в Кап, спасаясь от преследования. Здесь он поначалу сделался профессором в одном колледже, но как-то раз явился на лекцию в сильном подпитии, и его выгнали. То же самое случалось с ним в нескольких других городах, и в конце концов он осел в далеком Марэфонтейне, где наниматель снисходительно относился к его слабости, ибо ценил дух интеллектуального товарищества, которого жаждала душа фермера. Кроме того, он воспринимал Леблана как соотечественника, нуждающегося в помощи, а еще их объединяла взаимная и горькая ненависть к Англии и англичанам; для мсье Леблана, который в юности сражался при Ватерлоо и был лично знаком с великим императором Франции, подобное было, надо сказать, вполне естественным. У Анри Марэ имелись для ненависти свои причины, но о них я расскажу позднее. — Ах, Мари! — воскликнул он по-голландски. — Ты его все-таки нашла! Потом повернулся ко мне и кивнул: — Вы должны быть польщены, молодой человек. Видите ли, эта мисси просидела два часа на солнце, поджидая вас, хотя я объяснял, что раньше десяти вы вряд липоявитесь. Ведь ваш отец, предикант[182], упомянул, что вы отправитесь в путь после завтрака. Что ж, ее нетерпение понятно, ибо ей тут одиноко, а вы с нею ровесники, хоть и принадлежите к разным нациям… При этих словах его лицо помрачнело. — Отец! — укорила Мари, и личико ее вспыхнуло румянцем, который я мог различить даже под чепцом. — Я сидела вовсе не на солнце, а в тени дерева. И не просто сидела, а складывала цифры, которые мсье Леблан записал на моей табличке. Вот, смотрите. — И она предъявила табличку, всю покрытую вычислениями. Цифры кое-где немного стерлись от соприкосновения с моими волосами и с ее чепцом. Тут вмешался мсье Леблан, заговоривший по-французски; я понимал в общих чертах, о чем идет речь, потому что мой отец научил меня основам этого языка, а все, что касалось иностранных языков, я схватывал быстро. Так или иначе я понял, что он спрашивает, не тот ли я cochon d’anglais, то есть английская свинья, которую в наказание за его грехи ему предстоит обучать. И добавил, что это должен быть я, поскольку мои волосы (а я снял шляпу из вежливости) торчат, как щетина на хребте свиньи. С меня было достаточно; прежде, чем кто-то другой успел заговорить, я ответил по-голландски — и гнев сделал меня красноречивым и дерзким. — Да, это я. Знаете, минхеер, если вы будете меня учить, то, надеюсь, я больше ничего не услышу об английских свиньях. — Да неужели, gamin?[183] Молю, поведайте, что произойдет, если я осмелюсь повторить эту фразу? — Думаю, минхеер, — ответил я, побелев от ярости при этом новом оскорблении, — с вами случится то же самое, что случилось с этим животным. — И указал на тушу клипшпрингера на седле Ханса. — Если коротко, я вас застрелю. — Peste! Au moins il a du courage, cet nefant![184] — вскричал изумленный мсье Леблан. Следует признать, что после этой стычки он зауважал меня и никогда больше не оскорблял при мне мою родину. Марэ поспешил вмешаться. — Это вы свинья, Леблан, а не этот юнец, ибо вы уже пьяны, несмотря на ранний час! Глядите — бутылка с бренди наполовину пуста! — по-голландски, чтобы я понял, воскликнул он. — Вот какой пример вы подаете молодым! Еще раз скажете что-либо подобное, и я отправлю вас умирать от голода в вельде. Аллан Квотермейн, вы, верно, слышали о моей нелюбви к англичанам, однако я должен попросить у вас прощения. Надеюсь, вы простите мне слова, которые произнес этот негодяй, уверенный, что вы их не поймете! — Тут он снял шляпу и поклонился мне столь же величественно, как его предки, должно быть, кланялись королям Франции. Лицо Леблана вытянулось. Он поднялся и удалился нетвердым шагом, чтобы, как я узнал позже, окунуть голову в бочку с холодной водой и выпить пинту свеженадоенного молока; таковы были его излюбленные противоядия от чрезмерных возлияний. Примерно полчаса спустя, когда Леблан присоединился к нам и мы приступили к уроку, он был почти трезв и изысканно вежлив. После того как француз ушел, а мой юношеский гнев слегка остыл, я передал хееру Марэ теплые слова своего отца, а также попросил принять в дар антилопу и птиц; могу поклясться, что второе понравилось ему куда больше первого. Мои седельные мешки отнесли в приготовленную для меня комнату, крошечную, находящуюся по соседству с той, которую занимал мсье Леблан, а Хансу велели отвести наших лошадей на местное пастбище и строго наказали стреножить их, чтобы те не ускакали домой. Покончив с этим, хеер Марэ показал мне помещение для наших с Мари занятий — ситкаммер, или гостиную; в отличие от большинства бурских хозяйств, на этой ферме было сразу две гостиных. Помню, что пол в комнате был из даги — так называют смесь кусков термитника с коровьим навозом. Пока этот «раствор» еще не застыл, в него насыпают гальки, чтобы полы не изнашивались под ногами; получается не то чтобы красиво, но надежно и даже приятно глазу. Что касается остального, в помещении было одно окно, выходившее на веранду и пропускавшее достаточно затененного света, тем более что оно всегда было распахнуто настежь; потолок образовывали стебли тростника, которые не стали покрывать штукатуркой; в углу стоял большой книжный шкаф со множеством французских книг, в основном принадлежавших мсье Леблану, а середину комнаты занимал крепкий и грубый стол из местной светлой древесины, также служивший разделочной колодой. Еще припоминаю цветную литографию с изображением великого Наполеона — картину сражения, где он одержал очередную победу: император восседает на белом жеребце и машет фельдмаршальским жезлом, а у копыт коня высятся горы тел — убитые и раненые. Близ окна, прямо в тростнике потолка, свила гнездо пара краснохвостых стрижей; милые пичуги, они щебетали и порхали туда и сюда, и это неизменно развлекало нас с Мари в перерывах между занятиями. В тот же день я отправился исследовать это привлекательное место, посчитав, что никто мне не помешает, но внезапно был остановлен диковинным звуком, который доносился из темного угла у книжного шкафа. Гадая, что это за звук, я осторожно приблизился и увидел облаченную в розовое фигурку, стоявшую в углу, точно наказанный ребенок. Она прижималась лбом к стене и тихо плакала. — Мари Марэ, почему ты плачешь? — спросил я. Она обернулась, откинула длинные черные волосы, упавшие ей на лицо, и ответила: — Аллан Квотермейн, я плачу от стыда! Этот пьяница-француз опозорил нашу семью в твоих глазах! — Подумаешь! — воскликнул я. — Он всего-то назвал меня свиньей, а я показал ему, что и у свиньи бывают клыки. — Ты смелый, — сказала она, — но Леблан имел в виду не только тебя, а всех англичан, которых он люто ненавидит. И хуже всего то, что мой отец с ним заодно! Он тоже ненавидит англичан. О, я уверена, что эта ненависть навлечет беду, настоящую беду, и многие погибнут! — Даже если так, мы же ничего не можем поделать, правда? — спросил я с беззаботностью, столь свойственной юности. — Почему ты так уверен? — возразила Мари строгим тоном. — Тсс! Я слышу, мсье Леблан идет!
Глава 2
НАПАДЕНИЕ НА МАРЭФОНТЕЙН
Нисколько не намереваюсь описывать в подробностях годы, проведенные за изучением французского языка и прочих предметов, которые нам преподавал мсье Леблан. Он был человеком ученым, однако настроенным весьма предвзято. Вот уж действительно «было бы о чем говорить, сэр»! Когда мсье Леблан бывал трезв, казалось, что попросту не может быть наставника более мудрого и сведущего, пускай он нередко отвлекался от основной темы и принимался рассуждать о всяческих побочных вопросах, которые сами по себе были небезынтересны. Стоило же ему выпить, он воодушевлялся и мучил нас рассуждениями о политике и религии — точнее, о вреде последней, поскольку отличался изрядным свободомыслием; надо отдать ему должное, он знал за собой эту слабость и проявлял определенную осмотрительность, а потому ни разу на моей памяти не заводил подобных речей с хеером Марэ. Добавлю, что нечто вроде юношеского кодекса чести не позволяло нам рассказывать другим о вольномыслии француза. Когда же он напивался до беспамятства (а это случалось не чаще раза в месяц), то просто засыпал на занятиях, и мы могли делать что вздумается — опять-таки, соображения чести не позволяли нам выдавать учителя. В целом мы хорошо ладили, поскольку мсье Леблан после той, первой стычки при знакомстве был неизменно вежлив со мной. Мари он восхищался, как и все вокруг, начиная с ее отца и вплоть до ничтожнейшего раба. Признаюсь, что я был очарован ею сильнее всех прочих, вместе взятых; сначала вследствие той привязанности, которая нередко возникает у детей, а потом, когда мы повзрослели, по настоящей любви, что одновременно порождалась этим восхищением и проистекала из него. Пожалуй, было бы странно, не возникни рано или поздно такое чувство между нами, ибо мы проводили вдвоем и без присмотра половину каждой недели; вдобавок Мари, нравом светлая, как ясный день, никогда не скрывала своего расположения ко мне. Смею заметить, что внешне ее отношение было вполне приличным и достойным, почти сестринским или даже материнским, как будто она никогда не забывала, что выше меня на полдюйма и старше на несколько месяцев. Более того, с самого детства она была женщиной, как говорят ирландцы, и такой ее сделали обстоятельства жизни и собственный характер. Приблизительно за год до нашей встречи ее матушка, чьей единственной дочерью она была и кого она уважала и любила всем сердцем, скончалась от продолжительной болезни, и Мари пришлось взять на себя заботы об отце и о хозяйстве. Думаю, она казалась старше и серьезнее оттого, что на ее плечи легло бремя, слишком тяжкое для столь юного создания. Время шло, я тайно восхищался Мари и преклонялся перед нею мысленно, но ни словом не обмолвился о своих чувствах, а Мари разговаривала со мной так, словно я был ее ненаглядным младшим братом. Никто — ни наши отцы, ни мсье Леблан — не замечал этих удивительных отношений и, похоже, не догадывался, что они способны привести к трагическим осложнениям, весьма и весьма печальным для всех, по причинам, которые я изложу далее. Разумеется, со временем, как всегда бывает, эти осложнения не замедлили проявиться, и в условиях, что сопровождались немалой физической и душевной ажитацией, правда вышла наружу. Случилось все вот каким образом. Всякий, кому интересна история Капской колонии, наверняка слышал о великой Кафрской войне 1835 года[185]. Боевые действия развернулись тогда преимущественно в округах Олбани и Сомерсет, а нас, жителей округа Крэдок, война почти не затронула. Что естественно для обитателей глухих мест, мы воспринимали происходящее с оптимизмом и не задумывались об опасности, даже начали верить, что уж нам-то ничто не угрожает. Возможно, все бы и вправду обошлось, когда бы не глупость мсье Леблана. Если мне не изменяет память, в воскресенье — этот день недели я всегда проводил дома с отцом — мсье Леблан в одиночку отправился верхом в холмы, расположенные милях в пяти от Марэфонтейна. Француза неоднократно предупреждали, что это небезопасно, однако глупцу отчего-то втемяшилось в голову, будто в тех местах есть богатая медная жила, и он не хотел делиться ни с кем своим секретом. Потому по воскресеньям, когда занятий не бывало, а хеер Марэ, к отвращению француза, посвящал время молитвам, Леблан уезжал в холмы, собирал геологические образцы и пытался проследить, как залегает пресловутая жила. Конкретно в то воскресенье было очень жарко; завершив изыскания, он спешился, отпустил пастись свою смирную старую кобылу и перекусил прихваченным в дорогу запасом, где нашлась и бутылочка персикового бренди; а спиртное по жаре навевает сон. Проснувшись ближе к вечеру, Леблан понял, что лошадь пропала, и почему-то вдруг вообразил, что животное украли кафры[186], хотя на самом деле кобыла попросту убрела за гребень холма. В общем, он побегал туда и сюда в поисках лошади, взобрался наконец на холм и увидел, как двое красных кафров, вооруженных, по обычаю, ассегаями, уводят куда-то беглянку. Потом-то выяснилось, что эти кафры действительно наткнулись на лошадь, сразу сообразили, кто ее хозяин, и пошли его искать — тем утром они видели француза верхом и собирались вернуть ему пропажу. Но ни о чем подобном мсье Леблан даже не задумался, ибо его замутненное сознание по-прежнему пребывало под воздействием паров персикового бренди. Он поднял свою двустволку и выпалил в первого «похитителя», молодого кафра, который оказался старшим сыном и наследником вождя местного племени. Стрелял он едва ли не в упор и убил несчастного на месте. Второй кафр выпустил поводья лошади и кинулся бежать, спасая свою жизнь. Леблан выстрелил снова — и легко ранил беглеца в бедро; так или иначе тому удалось ускользнуть, он вернулся домой и поведал сородичам эту историю, которую в округе сочли жестоким и преднамеренным убийством. Что касается пьяницы-француза, тот взгромоздился на свою старую кобылу и неспешно поехал обратно на ферму. По дороге пары спиртного развеялись, он стал терзаться сомнениями, а потому решил ни о чем не рассказывать Анри Марэ, который, как хорошо знал мсье Леблан, всячески избегал ссор с местными кафрами. Этому решению Леблан и последовал, по приезде завалившись спать. На следующее утро, еще до того как француз проснулся, ни о чем не подозревавший хеер Марэ уехал на соседнюю ферму, милях в тридцати от его собственной, чтобы расплатиться с ее владельцем за недавно приобретенный скот, и оставил дом и дочь без защиты — на ферме были лишь Леблан и несколько слуг-туземцев, фактически рабов. Вечером я улегся в постель в обычное время, а спал я всю жизнь как бревно. Около четырех часов утра меня разбудил стук в окно. Приподнявшись на кровати, я нашарил в темноте свой пистолет, подкрался к окну и, держа голову ниже подоконника, чтобы незваный гость не мог нанести удар ассегаем, тихо спросил, кто там и что нужно. — Это я, баас! — ответил готтентот Ханс, слуга, который, напомню, сопровождал меня в мою первую поездку в Марэфонтейн. — У меня дурные новости. Слушай меня, баас. Я уходил искать рыжую корову, что сбежала. Я нашел ее и заснул рядом с нею под деревом среди вельда. А два часа назад знакомая женщина пришла к моему костру и разбудила меня. Я спросил, что она делает в вельде среди ночи, и она ответила, что пришла кое о чем мне рассказать. Оказалось, молодые воины из племени вождя Кваби, что живет вон в тех холмах, гостили у них в краале, а вечером прибежал гонец и велел им немедля возвращаться, потому что сегодня на рассвете племя нападет на Марэфонтейн и убьет всех, пощадит только скот. — Великие Небеса! — вскричал я. — За что? — За то, молодой баас, — отвечал мне готтентот с другой стороны окна, — что кто-то из Марэфонтейна убил в воскресенье сына Кваби за кражу лошади. Думаю, это был Стервятник. — (Так туземцы прозвали Леблана за его лысую макушку и нос с горбинкой.) — Великие Небеса! — повторил я. — Старый дурак, верно, опять напился! Когда, ты говоришь, они нападут? На рассвете? — Я посмотрел на звезды, прикидывая время. — Да это же через час! А баас Марэ в отъезде! — Да, — ответил Ханс. — На ферме одна мисси Мари. Подумай, что сделают злобные красные кафры с мисси Мари! Я ткнул кулаком в круглое, лягушачье лицо готтентота, бледным пятном маячившее в свете звезд. — Пес! — прошипел я. — Седлай мою кобылу и своего чалого жеребца и прихвати ружье. Выезжаем через две минуты. По торопись, или я убью тебя! — Иду, — ответил он и исчез в ночи, точно перепуганная змея. Я принялся одеваться и громко закричал, чтобы разбудить остальных. Когда мой отец и наши кафры вбежали в комнату, я быстро пересказал им новости. — Разошлите гонцов, — сказал я. — Известите Марэ, он на ферме Боты, и остальных соседей. Поспешите, если вам дорога жизнь! Соберите всех дружественных кафров и двигайтесь к Марэфонтейну. Не спорь со мной, отец, не надо! Делайте, что я говорю. Погодите-ка! Принесите мои ружья, наполните седельные мешки порохом и зарядами и привяжите к седлу. Теперь все. Ну же, шевелитесь! Слуги засуетились, забегали по дому, освещая себе дорогу свечами и фонарями. Две минуты спустя — вряд ли прошло больше времени — я стоял перед конюшней, а Ханс уже выводил гнедую кобылу, на покупку которой два года назад я истратил все свои деньги. Пока я затягивал подпругу, кто-то привесил к седлу мешки, а другой слуга вывел наружу крепкого чалого жеребца, который, как я знал наверняка, последует за моей кобылой куда угодно. Седлать его было некогда, так что Ханс взобрался на голую конскую спину, точно обезьяна, сжимая под мышкой два ружья; у меня при себе было третье — и еще двуствольный пистолет. — Пошли гонцов! — крикнул я отцу. — Если не желаешь мне смерти, отправь их прямо сейчас и поезжай следом за мной со всеми людьми, которых найдешь! Мы поскакали в ночь. Предстояло проехать пятнадцать миль, а до рассвета оставалось чуть больше получаса. — Не гони сразу, — посоветовал я Хансу. — Пусть лошади наберут ход, а там уж полетим, будто за нами черти гонятся. Первые две мили мы поднимались по склону не слишком быстро. Я думал, что подъем никогда не закончится, но все же не осмеливался подгонять свою кобылу, чтобы та не задохнулась. По счастью, она и ее приятель, конь весьма выносливый, пусть и не такой резвый, отдыхали последние тридцать часов и не ели и не пили с самого заката. Потому они как нельзя лучше подходили для моей затеи; кроме того, мы с Хансом оба весили немного. Я придержал кобылу на гребне холма, чтобы жеребец нас нагнал. Перед нами раскинулась широкая равнина, по которой предстояло проскакать одиннадцать миль, а потом еще две мили вниз, к Марэфонтейну. — Ну! — сказал я, обращаясь к Хансу и ослабляя поводья. — Догоняй, если сумеешь! Кобыла устремилась вперед, и ночной воздух словно запел у меня в ушах, а следом летел верный чалый жеребец с обезьяной-готтентотом на спине. О, что это была за скачка! Мне приходилось преодолевать верхом и более дальние расстояния, но никогда я не гнал лошадь на такой скорости, ибо знал силу своих животных и пределы их выносливости. Пожалуй, они выдержат с полчаса, а потом, если не остановить их, почти наверняка падут замертво. Однако терзавший меня страх был столь велик, что мне казалось, будто мы ползем по равнине как черепахи. Жеребец постепенно отстал, топот его копыт затих позади, и я остался наедине с ночью и со своими страхами. Моя лошадь покрывала милю за милей, звездный свет порою выхватывал из мрака то камень, то кости мертвых животных. Потом я ворвался в бегущее стадо антилоп, да столь неожиданно для себя и для них, что крупный самец, будучи не в силах остановиться, прыгнул прямо перед мордой моей кобылы. Далее кобыла угодила копытом в нору, оставленную муравьедом, и чуть не рухнула, но сумела устоять — хвала Господу, ничуть не пострадала! — а я кое-как вскарабкался обратно в седло, из которого едва не выпал. О, если бы это произошло!.. Мы приближались к месту, где начинался спуск к ферме, и кобыла начала задыхаться. Должно быть, я все-таки ее загнал, слишком уж быстро мы мчались. На невысоком подъеме к гребню, за которым лежал спуск, ее полет сменился обычным галопом. Зато за спиной я снова различил топот копыт чалого жеребца. Тот будто не ведал устали и неуклонно нас нагонял. На гребне мы очутились сразу друг за дружкой, нас разделяло не более пятидесяти ярдов, и жеребец тихо заржал. Наконец начался спуск. Утренняя звезда мало-помалу тускнела, небо на востоке серело в преддверии рассвета. Успеем ли мы добраться до фермы прежде, чем взойдет солнце? Успеем ли? Успеем ли? Эти слова чудились мне в стуке копыт моей лошади. Я различал деревья, окружавшие Марэфонтейн. И тут моя лошадь проскочила сквозь нечто, оказавшееся цепью чернокожих людей. Я понял это после того, как мы их уже миновали. Догадка озарила меня, когда в неверном утреннем свете блеснуло острие копья, принадлежавшего сбитому мной воину. Значит, Ханс не солгал! Кафры пришли мстить! Внезапно на меня обрушилась другая мысль, от которой захолодело сердце: а что, если они уже завершили свою злодейскую работу и теперь уходят? Минута — или несколько секунд — сомнений показалась мне вечностью. Но и она все же оборвалась. Я подскакал к калитке в высокой стене, окружавшей дворовые постройки фермы с задней стороны дома, и, словно по наитию, осадил кобылу (бедное создание явно несказанно обрадовалось), ибо мне пришло в голову, что, если я попробую подъехать спереди, меня, скорее всего, зарубят, и от ночной гонки не будет никакого проку. Я толкнул сделанную из крепкой лавровой древесины калитку. Случайно или намеренно ее оставили открытой! Я распахнул калитку настежь, и тут подоспел Ханс, цеплявшийся за шею чалого и прятавший лицо в его гриве. Жеребец замер рядом с кобылой, которую он так упорно преследовал, и в слабом утреннем свете я разглядел ассегай, торчавший в его боку. Пять секунд спустя мы ворвались во двор, не забыв запереть калитку на засов изнутри. Схватив седельные мешки, мы бросили лошадей во дворе, и я побежал к задней двери дома, Хансу же поручил разбудить туземцев, ночевавших в надворных постройках, и идти следом. А если выяснится, что среди них есть предатели, расстрелять их на месте. У меня в руках был ассегай, который я на бегу вырвал из бока жеребца. Я забарабанил по двери, которая была заперта. После тишины, что почудилась мне нескончаемо долгой, распахнулось окно, и нежный голосок Мари испуганно спросил, кто стучит. — Это я, Аллан Квотермейн! — ответил я. — Открывай скорее, Мари! Тебе грозит страшная опасность! Красные кафры собираются напасть на ферму! Она поспешила открыть дверь, как была, в ночной рубашке, и я наконец-то очутился под кровом Марэфонтейна. — Хвала Небесам, ты жива! — воскликнул я. — Одевайся, а я пойду разбужу Леблана. Нет, погоди! Давай ты его разбудишь, а я дождусь Ханса и ваших рабов. Она убежала, не задав ни единого вопроса. Тем временем явился Ханс, он привел восьмерых перепуганных туземцев, которые явно не могли сообразить, происходит ли все наяву или это им снится. — Больше никого? — уточнил я. — Тогда заприте дверь и идите за мной в ситкаммер, где баас держит оружие. Когда мы вошли в комнату, показался Леблан, в штанах и рубашке, а следом появилась Мари со свечой в руках. — Что стряслось? — спросил француз. Я взял у Мари свечу и поставил на пол, поближе к стене, чтобы огонек не стал мишенью для ассегая или пули. Даже в те дни у кафров уже имелось огнестрельное оружие, по большей части украденное или захваченное у белых. В нескольких словах я описал наше положение. — И когда вы все это выяснили? — спросил Леблан по-французски. — В миссии, с полчаса назад, — ответил я, взглянув на свои часы. — В миссии полчаса назад?! — повторил он. — Peste! Это невозможно! Вы бредите или просто пьяны! — Мсье, спорить будем потом. Кафры уже здесь, я проехал прямо через их шеренгу. Если хотите жить, хватить болтать, надо действовать. Мари, сколько в доме ружей? — Четыре, — ответила она. — Все принадлежат моему отцу. Два «рура»[187] и два калибром поменьше. — А кто из них, — я указал на местных туземцев, — умеет стрелять? — Трое стреляют хорошо, четвертый — плохо. — Отлично! — сказал я. — Пусть заряжают ружья луперами, то есть картечью, а не пулями, а остальные пускай встанут с ассегаями наготове, на случай, если воины Кваби решат выбить заднюю дверь. Во всем фермерском доме было шесть окон — по одному в каждой гостиной и в двух больших спальнях (все эти четыре окна выходили на веранду), а еще два помещались в торцах дома, пропуская свет и воздух в малые спальни, куда можно было попасть через большие. С задней стороны дома окна, по счастью, отсутствовали, там имелась всего одна комната, в конце ведущего через весь дом коридора длиной около пятнадцати футов. Едва ружья были заряжены, я расставил людей — по одному вооруженному человеку у каждого окна. К окну гостиной по правую руку я встал сам, с двумя ружьями, а Мари пристроилась рядом, чтобы перезаряжать — подобно всем девушкам в том диком краю, она хорошо умела это делать. Словом, мы подготовились к нападению, насколько могли, и даже слегка приободрились — все, кроме мсье Леблана, который, как я заметил, выглядел сильно обеспокоенным. Вовсе не хочу сказать, будто он и вправду струсил, ибо я знал его как чрезвычайно отважного и даже безрассудного человека; думаю, он вдруг сообразил, что именно его пьяная выходка навлекла смертельную опасность на обитателей фермы. Возможно, за его беспокойством скрывалось и нечто большее; он, вероятно, понимал, что подходит к своему завершению привычная жизнь, которую, при всех оговорках и опущениях, вряд ли можно было назвать потраченной с толком. Так или иначе, он переминался с ноги на ногу у своего окна и тихо бранился себе под нос. А вскоре я краем глаза заметил, что Леблан начал прикладываться к своей драгоценной бутылке с персиковым бренди, извлеченной из буфета. Туземцы тоже сперва хмурились — это свойственно любому кафру, если его разбудить среди ночи; но чем светлее становилось, тем сильнее они воодушевлялись. Лишь негодные кафры не любят воевать, особенно когда у них в руках ружья, а рядом белые люди, которые командуют. Мы закончили все эти поспешные приготовления — я вдобавок попросил придвинуть мебель к передней и задней дверям, — и наступила пауза, которая лично мне, совсем еще молодому парнишке, показалась поистине невыносимой. Я стоял у окна, держа сразу два ружья — двустволку и одноствольный «рур», или слоновое ружье, сокрушительной убойной силы; оба ружья, увы, были кремневыми — капсюли уже изобрели, но мы в Крэдоке слегка отставали от жизни. А на полу рядом со мной, готовая перезаряжать по команде, сидела, распустив по плечам свои длинные черные волосы, Мари Марэ, совсем взрослая молодая женщина. В наступившей тишине она прошептала: — Зачем ты приехал сюда, Аллан? Тебе ведь ничто не грозило, а теперь ты рискуешь жизнью. — Чтобы спасти тебя, — ответил я не задумываясь. — Разве не этого ты от меня ждала? — Спасти меня? О, благодарю от всего сердца, но тебе следовало бы позаботиться о себе. — Я бы все равно думал о тебе, Мари. — Почему, Аллан? — Потому что ты значишь для меня больше, чем я сам. Если с тобой что-нибудь случится, во что превратится моя жизнь? — Я не понимаю, Аллан, — проговорила она, глядя в пол. — Объясни, что ты имеешь в виду. — Глупая девчонка! — не выдержал я. — Что я имею в виду? Да то, что я люблю тебя! Думал, ты давно об этом догадалась. — О! — прошептала она. — Теперь поняла… — Потом она встала на колени, подставила мне лицо для поцелуя и добавила: — Вот мой ответ, первый и, возможно, последний. Благодарю тебя, мой милый Аллан; я рада это слышать, пускай одному из нас или нам обоим предстоит умереть. Едва она произнесла эти слова, ассегай влетел в окно и проскочил точно между нами. Так что нам пришлось забыть об объяснении в любви и сосредоточиться на войне. Становилось все светлее, небо на востоке сделалось жемчужно-серым, однако нападение задерживалось, хотя о его неизбежности зримо напоминал ассегай, торчавший в стене за нашими спинами. Возможно, кафров напугали лошади, что прорвались сквозь их ряды в темноте, — туземцы просто не успели разглядеть, сколько человек прискакало на выручку. Или они ждали рассвета, чтобы решить, как лучше нападать. Такие вот мысли приходили мне в голову, но оба предположения оказались ошибочными. Кафры мешкали, дожидаясь, покуда в низине, где располагалась ферма, не развеется туман, скрывающий от их глаз загоны. Они хотели увести домашний скот до начала сражения. Этот скот воины уже считали своей добычей и не желали ее лишиться. Вскоре со стороны загонов, или краалей, куда загоняли на ночь коров и овец хеера Марэ (примерно полторы сотни голов рогатого скота и примерно две тысячи овец, не считая лошадей, — он ведь был крупным и зажиточным фермером), донеслись разные звуки: мычание, блеяние, ржание. Также слышались людские голоса. — Они угоняют наши стада! — воскликнула Мари. — О мой бедный отец! Он разорен! Это разобьет ему сердце! — Да, дело плохо, — согласился я, — но бывает и хуже. Слышишь? Нашего слуха коснулся топот ног, зазвучала дикая и воинственная песня. Из тумана, висевшего над загонами для скота, стали появляться темные человеческие фигуры, выглядевшие призрачными, почти нереальными. Кафры выстраивались для атаки. Минуту спустя строй пришел в движение. Они наступали вверх по склону длинными неровными рядами, и было их несколько сот человек; они вопили и свистели, потрясали копьями, волосы и украшавшие голову перья развевались на ветру, а выпученные глаза сверкали ненавистью и жаждой убийства. У двоих или троих были ружья, из которых они палили на бегу; куда летели пули, сказать не могу — наверное, выше дома. Я велел Леблану и нашим туземцам не стрелять прежде меня, потому что понимал: мои вынужденные соратники — стрелки не очень-то опытные, а от нашего первого залпа зависит слишком многое. Когда предводитель наступавшего воинства очутился ярдах в тридцати от веранды — стало уже достаточно светло, для того чтобы я отличил его от других по облику и по ружью в руках, — я прицелился из «рура», выстрелил и сразил его наповал. Тяжелая пуля насквозь пробила его тело и смертельно ранила другого воина Кваби. Эти двое были первыми людьми, которых я убил. Когда они повалились наземь, Леблан и наши туземцы тоже открыли огонь, и картечь нанесла немалый урон нападавшим на таком близком расстоянии. Дым немного рассеялся, и я увидел не менее десятка поверженных врагов; остальные в смятении остановились. Продолжи они свое наступление, пока мы перезаряжали ружья, вряд ли что-либо помешало бы им захватить ферму; однако, будучи непривычными к жутким последствиям ружейного огня, они замешкались и растерялись. Человек двадцать или тридцать сгрудились над телами погибших и раненых кафров, и я разрядил в эту группу оба ствола двустволки; воздействие оказалось поистине поразительным — весь отряд опрометью кинулся прочь, бросив сородичей на земле. Наши туземцы за улюлюкали им вслед, но я прикрикнул на них и приказал поскорее перезарядить оружие, ибо прекрасно понимал, что враг непременно вернется. Некоторое время ничего не происходило, доносились лишь голоса кафров — со стороны краалей, ярдах в ста пятидесяти от дома. Помнится, Мари воспользовалась этим затишьем, чтобы принести еды и разделить ее между нами; лично я перекусил с немалым удовольствием. Взошло солнце, за что я горячо возблагодарил Небеса: уж теперь-то нас точно не застанут врасплох. Солнечное утро вдобавок развеяло часть моих страхов, ибо мрак всегда удваивает опасность — равно для человека и для животного. Мы подкрепились сами, затем укрепили наши позиции, насколько это было возможно, чтобы затруднить врагу доступ в дом, и тут появился одинокий кафр. Он держал над головой палку с привязанным к ней белым воловьим хвостом в знак перемирия. Я распорядился ни в коем случае не стрелять; когда этот отважный малый достиг того места, где лежало тело убитого предводителя, я окликнул посланца и спросил, зачем он пришел (скажу не чинясь, что уже тогда хорошо говорил на местных наречиях). Он ответил, что принес весть от Кваби. Смысл послания заключался в следующем: старшего сына вождя Кваби безжалостно убил толстый белый человек по прозвищу Стервятник, живущий в доме хеера Марэ; Кваби требует возмездия. Но вождь не желает убивать юную белокожую госпожу (речь шла о Мари) или прочих обитателей фермы, с которыми он не ссорился. Если мы выдадим ему толстого белого человека, который должен «умереть медленно», Кваби этим довольствуется, заберет скот, который и так уже присвоил, и пощадит нас и ферму. Стоило мне перевести суть предложения, Леблан совершенно обезумел от страха и ярости и принялся вопить и браниться по-французски. — Молчите! — сказал я ему. — Хоть вы и навлекли на нас беду, мы не собираемся вас выдавать. Ваша жизнь столь же ценна, как и наши собственные. Неужто вам не стыдно вести себя вот так на глазах у чернокожих дикарей? Наконец он более или менее успокоился, и я крикнул посланцу кафров, что среди белых нет привычки бросать своих, а потому мы будем держаться вместе — и вместе умрем, если придется. Еще я попросил передать Кваби, что наша гибель обернется для него самого и для племени страшной местью, их будут преследовать и истребят до последнего человека, так что ему стоит подумать, готов ли он пролить нашу кровь. В доме засели три десятка человек (конечно, я намеренно приврал), припасов и оружия у нас в избытке, поэтому, если Кваби не уйдет, его и все племя ожидает суровая кара. Выслушав мои доводы, посланец крикнул в ответ, что все мы, будь его воля, были бы мертвы прежде полудня. Однако он передаст мои слова Кваби, как положено, и доставит ответ вождя. После чего развернулся и пошел прочь. В тот же миг прогремел одиночный выстрел из дома, и дерзкий кафр повалился ничком; затем он поднялся и побрел дальше, его правое плечо было в крови, а рука явно утратила подвижность. — Кто стрелял? — спросил я, поскольку в пороховом дыму стрелка было не разглядеть. — Parbleu![188] Я! — воскликнул Леблан. — Sapristi![189] Этим черным дьяволам вздумалось пытать меня! Меня, Леблана, друга великого Наполеона! Что ж, одному я уже растолковал, как все будет! — Глупец! — озлился я. — Нас всех замучают из-за вашего коварства! Вы ранили посланца, который пришел со знаком перемирия, и этого племя Кваби ни за что не простит. Да вы все равно что целились в нас, когда стреляли в него, и теперь вас наверняка не пощадят. Свою речь я произнес негромко и по-голландски, чтобы наши туземцы могли понять, а внутри у меня все кипело и бурлило. Но Леблан и не подумал понизить голос. — Да кто ты такой?! — завопил он. — Ты, треклятый английский молокосос! Кто ты такой, чтобы поучать меня, Леблана, друга великого Наполеона! Я взял пистолет и сделал шаг в направлении француза. — Заткнитесь, вы, несносный пьянчуга! — прошипел я, справедливо предположив, что он не забывал прикладываться к бутылке все это время. — Если вы не замолчите и не будете слушаться меня, раз уж я тут командую, то я либо вышибу вам мозги, либо попросту отдам вот этим людям. — Тут я указал на Ханса и прочих туземцев, которые собрались вокруг и что-то злобно бормотали. — Догадываетесь, что они с вами сделают? Они выкинут вас из дома, чтобы вы могли уладить свои разногласия с Кваби в одиночку! Леблан посмотрел на пистолет, затем оглядел туземцев. Не знаю, что заставило его утихомириться, — то ли вид ствола, то ли разъяренные физиономии, а может, все сразу. — Прошу прощения, мсье, — проговорил он. — Я вышел из себя и не соображал, что говорю. Вы, конечно, молоды, но в мужестве и уме вам не откажешь, и я готов подчиняться. Затем он занял место у окна и стал перезаряжать ружье. В этот миг со стороны краалей донесся многоголосый, исполненный ярости вопль. Раненый посланец добрался до своих, и воины Кваби воочию убедились в лживости белых людей.Глава 3
СПАСЕНИЕ
Вторую попытку нападения воины Кваби предприняли лишь около половины восьмого. Даже дикари ценят собственную жизнь и способны догадаться, что раны причиняют боль; напавшие на ферму туземцы хорошо усвоили горький урок. Теперь изувеченные и умирающие люди метались в муках по земле под жарким солнцем в нескольких ярдах от веранды, не говоря уже о некотором числе тех, кому впредь не суждено было хотя бы пошевелиться. Вокруг дома не наблюдалось каких-либо укрытий, поэтому не подлежало сомнению, что новая атака обернется еще бо́льшими потерями. Чтобы сохранить численность армии, при подготовке к наступлению солдаты роют окопы, но воины Кваби знать не знали о подобной тактике, да и копать им было нечем. Зато они могли взять нас хитростью, и нужно признать, что их затея, учитывая обстоятельства, обеспечила некоторый успех. Стены загонов для скота были сложены из камня без какого-либо раствора. Кафры разобрали эти камни, взяв по два или три, и ринулись вперед, почти мгновенно обустроив этакую цепочку укрытий, высотой от восемнадцати дюймов до двух футов. За каждым укрытием немедленно расположились воины, столько, сколько могло поместиться, причем они попросту ложились друг на друга. Разумеется, те первые кафры, что бежали с камнями, были уязвимы для нашего огня, и многие из них пострадали, однако их место сразу занимали другие, ибо в атаке участвовала тьма дикарей. Всего они наделали с дюжину подобных укреплений, а у нас было всего семь ружей; прежде чем мы успели перезарядиться, первая «баррикада», все строители которой угодили под пули, вознеслась на такую высоту, что картечь уже не могла повредить тем, кто прятался за сооружением. Вдобавок боеприпасов у нас было в обрез, а постоянная стрельба привела к тому, что теперь у стрелков оставалось от силы по шесть выстрелов на человека. В конце концов я приказал прекратить огонь. Следовало дождаться массового нападения, которое вот-вот должно было начаться. Сообразив, что наши ружья перестали нести смерть и увечья, воины Кваби двинулись вперед более решительно. Они выбрали целью южный торец дома, где было всего одно окно и где по атакующим невозможно было вести огонь сквозь множество различных отверстий в стене под верандой. Поначалу я никак не мог понять, почему они лезут именно туда, но Мари объяснила, что эта часть дома крыта тростником, тогда как остальная часть, недавней постройки, подведена под черепицу. Словом, дикари собирались поджечь тростник. Когда им удалось разместить очередное укрытие на подходящем расстоянии (это было около половины одиннадцатого), они принялись метать в дом ассегаи, к рукоятям которых были привязаны пучки подожженной травы. Многие пролетели мимо, но достаточно было попасть одному… Судя по громким крикам радости, это и произошло. Спустя десять минут южную часть дома объяло пламя. Наше положение стало поистине отчаянным. Мы отступили вглубь дома, опасаясь, что горящие стропила могут обрушиться на наших туземцев, которые явно пали духом и порывались сбежать. Зато воины Кваби, куда более отважные, проникли внутрь сквозь южное окно и напали на нас у порога большой гостиной. Так начался наш последний бой. Дикари напирали, мы стреляли, груда тел в коридоре росла… Патроны неумолимо заканчивались, но вот кафры на мгновение ослабили натиск — и в этот миг на них обрушилась крыша. О, сколь ужасным было это зрелище! Густые клубы дыма, истошные вопли угодивших в ловушку и горящих заживо людей, смятение и смерть… Внезапно передняя дверь дома рухнула! Дикари обошли нас с тыла. Леблана и раба, стоявшего рядом с ним, схватили могучие черные руки. Не ведаю, что стало с французом; я только видел, как его уволокли, но боюсь, что его участь была весьма печальной, ведь его забрали живым. Раба же закололи на месте, и он умер сразу. Я выпустил последний патрон, сразив дикаря, что размахивал боевым топором, а затем ударил прикладом в лицо того малого, который бежал следом. Потом схватил Мари за руку, увлек ее в самую северную из комнат — ту самую, где обыкновенно ночевал, — и крепко запер дверь. — Аллан! — выдохнула она. — Мой милый Аллан, все кончено. Я не желаю попасть в руки этих дикарей. Убей меня, Аллан. — Хорошо, — мрачно согласился я. — Я это сделаю. Мой пистолет при мне. Одна пуля тебе, другая мне. — Нет-нет! Ты сумеешь сбежать, знаю, но я-то женщина, я не смогу… Давай же! Я готова. — Она опустилась на колени, раскинула руки, как бы принимая смерть, и посмотрела на меня любящим и всепонимающим взором. — Не годится убивать любимую, а самому жить дальше, — хрипло возразил я. — Мы уйдем вместе. — С этими словами я взвел оба курка. Готтентот Ханс, укрывшийся в спальне вместе с нами, понял, к чему идет дело. — Так, баас! Правильно! — сказал он, отвернулся и прикрыл лицо ладонями. — Повремени, Аллан, — попросила вдруг Мари. — Дверь еще держится. Быть может, Господь пошлет нам спасение. — Всякое бывает, — ответил я с сомнением в голосе, — но, думаю, не стоит полагаться на чудо. Никто уже нас не спасет, разве что кто-то подоспеет на выручку, и на это надежды мало. Тут мне в голову пришла мысль, которая заставила меня криво усмехнуться. — Интересно, где мы будем через пять минут? — Милый, мы будем вдвоем, непременно вдвоем, в новом, прекрасном мире. Ведь ты любишь меня, верно, а я люблю тебя не меньше! Так даже лучше, чем влачить жизнь, в которой мы обречены на испытания и, может быть, на разлуку. Я утвердительно кивнул. Да, я любил жизнь, но мою Мари я любил сильнее. Что ж, мы обретем достойную смерть в отчаянной схватке! Дикари все пытались выломать дверь, но семейство Марэ, хвала Небесам, строило прочно, и она пока держалась. Чуть погодя дерево треснуло, и в трещину просунулось лезвие, но Ханс ткнул в щель своим ассегаем, который держал в руках, — тем самым, что я вытащил из бока чалого жеребца. Раздался крик, вражеское оружие упало. В проем, ломая доски, потянулись черные руки, и готтентот принялся рубить и колоть. Рук, впрочем, становилось все больше, и сам дверной косяк опасно зашатался. — Готовься, Мари, — проговорил я, поднимая пистолет. — Прими меня, Иисус! — пылко воскликнула она. — Больно не будет, правда, Аллан? — Ты ничего не почувствуешь, — отозвался я. Холодный пот заливал мне глаза. Я поднес пистолет к ее прекрасному челу и надавил пальцем на спусковой крючок. Господи Боже! Я в самом деле начал нажимать на крючок, твердо и спокойно, не желая допустить роковой ошибки… В этот миг, среди жуткого рева пламени, воплей дикарей, криков и стонов раненых и умирающих, я внезапно различил сладчайший звук, когда-либо достигавший моего слуха, — звук выстрелов, настоящую пальбу, причем совсем близко! — Святые угодники! — вскричал я. — Буры пришли нас спасти, Мари! Я буду держать дверь, сколько смогу. Если я упаду, прыгай в окно вон с того сундука, а потом беги, беги туда, где стреляют. Ты сумеешь уцелеть, ты будешь жить! — А как же ты? — простонала она. — Я хочу умереть с тобой! — Сделай, как я прошу, молю тебя! — И я бросился к двери, которая уже подавалась под натиском. Но не успел. Дверь упала, и в проеме появились два могучих дикаря с копьями в руках. Я вскинул пистолет, и пуля, предназначавшаяся Мари, разнесла череп первому кафру, а та, которую я оставлял себе, поразила второго. Оба рухнули замертво на пороге. Я схватил копье одного из мертвецов и отважился оглянуться. Мари карабкалась на сундук; я смутно видел очертания ее фигуры сквозь густеющий дым. Тут показался следующий дикарь. Мы с Хансом приняли его на наши копья, но бег кафра был столь стремительным, что наконечники копий пронзили тело насквозь, а мы сами, будучи малого веса, оказались на земляном полу. Я поспешил подняться, сообразил, что остался без оружия, которое торчало из тела кафра, и стал ждать неминуемой смерти. Еще один быстрый взгляд назад убедил меня, что Мари либо не смогла выбраться в окно, либо оставила эту попытку. Она стояла рядом с сундуком, опираясь на него правой рукой. В отчаянии я вырвал копье из тела поверженноговрага: нельзя, чтобы кафры накинулись на девушку, я убью ее сам. Подумав так, я шагнул к Мари. Тут послышался хорошо знакомый мне голос: — Мари, ты жива? И в дверном проеме возник не очередной дикарь, а сам Анри Марэ! Я медленно попятился. Язык отказывался служить, в горле пересохло; последнее усилие воли толкнуло меня к Мари. Я вскинул руку, в которой по-прежнему стискивал окровавленное копье, и обнял девушку за плечи. Потом накатила темнота. Мари воскликнула: — Не стреляй, отец! Это Аллан! Аллан спас мою жизнь! Тут сознание окончательно покинуло меня — и Мари тоже; как мне рассказывали, мы оба повалились наземь без чувств. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что лежу на полу дома-фургона, стоящего, как выяснилось позднее, на заднем дворе фермы. Кое-как приоткрыв глаза — и чувствуя, что все еще не способен издать ни звука, — я разглядел Мари, бледную как полотно, с растрепанными волосами и в помятом грязном платье. Она сидела на одном из тех ящиков, которые ставят на передки фургонов, чтобы править с них лошадьми (буры зовут их фуркиссами), и не сводила с меня взгляда. Значит, она цела и невредима. Рядом с фургоном стоял высокий и смуглый молодой человек. Я никогда раньше не встречал его. Он держал Мари за руку и обеспокоенно посматривал на девушку; даже в моем тогдашнем состоянии я на него рассердился. Кроме того, здесь был и мой старый отец, он склонился надо мной и смотрел на меня тревогой. Поскольку в фургоне отсутствовал полог на входе, я увидел во дворе группу вооруженных людей, в том числе незнакомых. В тени у стены понурилась моя кобылка, бока у нее ходили ходуном. Неподалеку вытянулся на земле чалый жеребец с окровавленным боком. Я попытался встать, но не сумел этого сделать; боль пронзила левую ногу, я посмотрел вниз и увидел, что штанина красна от крови. Кафрский ассегай рассек мне бедро едва ли не до кости. В горячке боя я этого не ощутил; должно быть, рану нанес тот воин Кваби, которого мы с Хансом приняли на наши копья, — ударил, когда падал. Ханс, к слову, тоже уцелел, хотя тот воин рухнул прямо на него, и последствия такого столкновения легко себе вообразить. Готтентот сидел на земле, глядя в небеса, и тяжело дышал, разевая рот, точно рыба, — печальное и одновременно забавное зрелище. На каждом вдохе его губы произносили, насколько я мог судить, слово «Allemachte», то есть «Всемогущий», любимое присловье буров. Мари первой заметила, что я пришел в сознание. Высвободив свою ладонь из руки молодого незнакомца, она нетвердым шагом приблизилась ко мне и пала на колени рядом. Она бормотала какие-то слова, которых я не мог разобрать, ибо они мешались с рыданиями. Спохватился и Ханс; он взобрался в фургон, пристроился с другой стороны, взял меня за руку и поцеловал пальцы. — Хвала Господу, он жив! — воскликнул мой отец. — Аллан, сын мой, я горжусь тобой! Ты выполнил свой долг, как подобает англичанину! — Пришлось спасать собственную шкуру, — прохрипел я. — Спасибо, отец. — Почему вы ставите англичан выше всех прочих, а, минхеер предикант? — спросил высокий незнакомец по-голландски (притом что он явно понимал наш язык). — Сейчас неуместно затевать спор, сэр, — ответил мой отец, выпрямляясь. — Но если правда то, что я слышал, в этом доме был француз, и вот он свой долг не выполнил. Если вы принадлежите к той же нации, примите мои извинения. — Благодарю вас, сэр. Так уж случилось, что мы с ним соотечественники. Остальное же во мне от португальцев, а не от англичан, слава богу. — Господа восхваляют за многое, что Его наверняка изумляет, — колко произнес мой отец. На сем этот язвительный обмен мнениями, который меня одно временно рассердил и позабавил, завершился, поскольку появился хеер Марэ. Как и следовало ожидать от человека с возбудимым характером, он пребывал в чрезвычайном волнении. Благодарность за спасение единственной и горячо любимой дочери, гнев на кафров, которые пытались ее убить, горькое сожаление об утраченном имуществе — все эти чувства кипели, как говорится, в его груди, тесня друг друга, точно противоборствующие элементы в алхимическом тигле. Итогом же было неподдельное смятение, отражавшееся на лице Марэ, в словах и поступках. Он бросился ко мне, благословил и многократно поблагодарил (ему, похоже, успели кое-что рассказать об обороне дома), назвал меня юным героем и прибавил, что Господь непременно меня вознаградит. Затем принялся поносить Леблана, который навлек все эти страшные беды на его ферму, и сказал, что Небеса покарали того — Марэ имел в виду себя, — кто столько лет предоставлял кров и стол безбожнику и пьянице, просто потому, что тот был французом и образованным человеком. Тут кто-то — сдается мне, это был мой отец, обладавший, при всех своих предрассудках, обостренным чувством справедливости, — напомнил хееру Марэ, что бедняга-француз уже искупил или вот-вот искупит все свои прегрешения. Это замечание обратило гнев отца Мари на кафров вождя Кваби, которые сожгли часть дома и угнали почти весь скот, за короткий срок превратив хеера Марэ из обеспеченного человека в бедняка. Он кричал, что отомстит «черным дьяволам», и звал всех помочь ему вернуть скот и поубивать воров. Большинство из тех, кто находился во дворе — а там было около тридцати человек, не считая туземных слуг и готтентотов, — ответили, что готовы проучить Кваби. Поскольку все они жили, так или иначе, по соседству, случившееся дало им повод к размышлению. Да что там, прямо говорилось, что подобное уже завтра может случиться и с ними самими. Поэтому они готовы были отправиться в карательный поход немедля. Тут в разговор вмешался мой отец. — Господа, — сказал он, — мне кажется, что, прежде чем искать отмщения, каковое, как говорится в Священном Писании, в руках Всевышнего[190], следовало бы возблагодарить Небеса. Особенно это касается хеера Марэ, которому Господь сохранил самое ценное. Я разумею его дочь, которая вполне могла умереть или подвергнуться еще более жуткой участи. Далее он заявил, что блага земные приходят и уходят по воле случая, но жизнь человеческую, ежели она оборвана, уже не вернешь. Сегодня жизнь той, кто так дорог хееру Марэ, спасена, и сделал это не человек — здесь отец покосился на меня, — а сам Всемогущий, который направил руку смертного. Быть может, не все присутствующие знали, о чем сообщил готтентот Ханс ему, предиканту: его сын собирался убить Мари Марэ и себя самого, и только выстрелы тех, кто поспешил на помощь ферме, откликнувшись на предупреждение, отправленное из миссии, остановили его и не позволили состояться смертоубийству. Закончил же отец тем, что попросил названных Ханса и Мари поведать о случившемся, поскольку его сын еще слишком слаб, чтобы говорить долго. После этого встал маленький готтентот, с ног до головы измазанный кровью. Простым, но не лишенным драматизма языком, свойственным его расе, он рассказал обо всем, что произошло, начиная со встречи с женщиной в вельде больше дюжины часов назад и до прибытия спасательной партии. Никогда ранее я не видел, чтобы рассказчика слушали с таким вниманием. Когда Ханс указал на меня — мол, вот он, человек, который совершил «деяния, достойные мужчины, хотя он всего лишь мальчик», — даже флегматичные голландцы оживленно загалдели. Я понял, что пора вставить слово, и приподнялся на локтях. — Что бы я ни сделал, этот маленький готтентот был рядом со мной, и без него я бы не справился — без него и без двух отличных лошадей. Снова послышались одобрительные крики, а Мари, привстав, добавила: — Да, отец, этим двоим я обязана жизнью. Предикант вознес благодарственную молитву — на самом дурном голландском, какой мне доводилось слышать; он начал изучать этот язык на склоне лет и потому не смог им овладеть в полной мере. Крепкие буры, стоя на коленях вокруг, повторяли за ним: «Аминь». Читателю будет несложно вообразить, сколь это зрелище, которое я не стану описывать далее в подробностях, было восхитительным и умиротворяющим. Что было потом, я помню не слишком отчетливо, ибо потерял сознание от утомления и от потери крови. Думаю, что наши спасители, потушив огонь, вынесли мертвых и раненых из уцелевшей части дома, а меня положили в той самой комнатушке, где мы с Мари прятались от кафров и где я был готов убить свою возлюбленную. Затем буры и туземные слуги (точнее, рабы) Марэ со всех уголков фермы, числом от тридцати до сорока человек, отправились в погоню за убежавшими кафрами, а десятерых оставили охранять ферму. Пожалуй, стоит упомянуть, что из тех семи или восьми туземцев, которые спали в надворных постройках, а потом сражались бок о бок с нами, двое погибли, а еще двое были ранены. Остальные не пострадали, не считая мелких царапин, так что в этой жуткой стычке, в ходе которой нам удалось разгромить воинственных кафров, мы потеряли убитыми всего троих — вместе с французом Лебланом. О событиях последующих трех дней я знаю лишь то, о чем мне рассказывали, поскольку сам почти все это время провел в бессознательном состоянии из-за потери крови; вдобавок мое положение усугубляла лихорадка — следствие чудовищного перевозбуждения и изнеможения. Помню только смутные видения: вот Мари наклоняется надо мной и заставляет меня поесть — то ли поит молоком, то ли кормит супом; позднее мне говорили, что я отказывался принимать пищу из других рук. А вот высокая фигура моего седовласого отца, который, подобно большинству миссионеров, немного разбирался в полевой хирургии и в медицине, а потому менял повязки на моем бедре. Впоследствии он сказал, что копье задело важную артерию, однако, на мое счастье, ее не рассекло. Еще бы доля дюйма, и я бы истек кровью за десять минут! На третий день меня вырвал из полузабытья громкий шум в доме. Слышались яростные крики хеера Марэ, мой отец что-то отвечал фермеру, явно его успокаивая. В комнату вошла Мари, задернула за собой африканскую кароссу, накидку, что служила занавеской, — дверь, как помнит читатель, выломали кафры во время нападения на дом. Увидев, что я очнулся и нахожусь в сознании, девушка с радостным возгласом бросилась к моему ложу, встала рядом на колени и поцеловала меня в лоб. — Ты был очень болен, Аллан, но я верила, что ты поправишься. Теперь нас вряд ли оставят в одиночестве, но, пока мы тут одни, — она понизила голос и сделалась серьезнее, — хочу поблагодарить тебя от всего сердца за то, что ты спас меня. Если бы не ты… Ах, если бы не ты… — Она посмотрела на пятна крови на земляном полу и закрыла лицо руками, по ее телу пробежала дрожь. — Ерунда, Мари, — ответил я, нащупывая ее ладонь, слишком слабый для уверенных движений. — Любой поступил бы так же, пускай никто не любит тебя сильнее, чем я. Восславим Всевышнего за то, что мои усилия не были напрасными. Но что это за шум? Неужто Кваби снова решил напасть? Она покачала головой: — Нет, это буры вернулись из погони за его племенем. — Поймали? Скот назад привели? — Нет, Аллан. Они нашли только нескольких раненых, которых тут же застрелили, и тело мсье Леблана. Ему отрубили голову, а другие части тела, наверное, забрали на лекарства, от которых воины будто бы становятся храбрее. Сам Кваби сжег свой крааль и бежал вместе с остальным племенем к кафрам Больших гор. Охотникам не попалось ни единой коровы, ни единой овцы, разве что несколько туш с перерезанным горлом; видно, животные обессилели, и их убили. Мой отец хотел идти дальше и напасть на красных кафров в горах, но прочие отказались. Сказали, что кафров там тысячи, что это уже настоящая война, с которой никому не возвратиться живым. Отец обезумел от горя и ярости. Аллан, милый, мы почти разорены, ведь британское правительство повсюду освобождает рабов и дает за наших смехотворную цену, едва ли треть от настоящей. Ой, отец зовет меня! Постарайся не разговаривать много, иначе утомишься и тебе снова будет плохо. Спи, ешь, набирайся сил. Потом поговорим, милый. Она вновь наклонилась, благословила меня и поцеловала, а затем встала и ускользнула прочь.Глава 4
ЭРНАНДУ ПЕРЕЙРА
Минуло несколько дней, прежде чем меня наконец выпустили из той крохотной комнатушки, напоминавшей о недавней бойне; признаться, я от души ее возненавидел. Я уговаривал своего отца позволить мне подышать свежим воздухом, но он возражал: мол, стоит пошевелиться, и кровотечение начнется снова, а то и вовсе разорвется задетая артерия. Вдобавок сама рана заживала не очень-то хорошо: то ли на острие копья, которое нанесло эту рану, была грязь, то ли этим копьем свежевали убитых животных — так или иначе, случилось заражение, как говорят доктора, гангрена, а в те дни подобное обычно означало неизбежную смерть. По счастью, моя молодая кровь оказалась сильнее; пусть меня лечили только холодной водой — поскольку антисептиков мы еще не знали, — угроза гангрены сошла на нет. И без того скучные дни, проводимые в бездействии, становились еще скучнее и тягостнее оттого, что мы с Мари теперь почти не виделись. Она навещала меня исключительно в компании отца. Однажды я не вытерпел и все-таки спросил, почему она приходит так редко и всегда не одна. — Мне не разрешают, Аллан, — шепнула в ответ Мари, и по ее милому личику скользнула тень. А потом ушла, не сказав больше ни слова. Интересно, кто ей не разрешает и почему? В тот же миг меня словно озарило. Наверняка это как-то связано с тем высоким и смуглым юношей, который спорил с моим отцом подле фургона. Мари никогда мне об этом человеке не рассказывала, однако из разговоров с готтентотом Хансом и моим отцом я смог составить некоторое представление о нем самом и роде его занятий. По всей видимости, он был единственным ребенком сестры Анри Марэ, которая вышла замуж за португальского торговца с берегов залива Делагоа; португальца звали Перейрой, и он приехал в Капскую колонию много лет назад. Он и его жена умерли, а их сын Эрнанду, приходившийся Мари кузеном, унаследовал все немалое семейное состояние. Мне припомнилось, что я кое-что слышал об этом Эрнанду, или Эрнане, как именовали его буры, от хеера Марэ — дескать, ему досталось значительное богатство, поскольку его отец изрядно нажился на торговле вином и прочими спиртными напитками по правительственной лицензии. Эрнанду частенько приглашали погостить в Марэфонтейн, но его родители, которые тряслись над своим отпрыском, а сами проживали в укрепленном поселении недалеко от Кейптауна, всякий раз отвергали приглашение, не желая, чтобы их сын уезжал так далеко в африканскую глушь. После их кончины все, похоже, изменилось. Судя по всему, после смерти старика Перейры губернатор Капской колонии отобрал у семьи лицензию на торговлю спиртным. Вышел громкий скандал, и Эрнанду Перейра, пускай он не нуждался в деньгах, страшно разозлился; гнев побудил его примкнуть к заговору недовольных буров. В итоге теперь он входил в число тех хитроумных людей, что замыслили Великий трек и составляли планы этого переселения, которое, между прочим, уже началось. Поисковые партии продолжали изучать те земли за границами колонии, где фермеры-буры рассчитывали обзавестись собственными владениями. Такова история Эрнанду Перейры, которому суждено было стать — и увы, это сбылось — моим соперником в борьбе за руку и сердце прекрасной Мари Марэ. Как-то вечером мы с отцом остались одни в моей крохотной комнатке. Я дождался, когда отец дочитает вслух отрывок из Священного Писания, и, набравшись храбрости, сказал, что полю бил Мари Марэ и хотел бы жениться на ней. А потом прибавил, что мы обменялись клятвами, пока кафры Кваби осаждали ферму. — Вот уж и вправду — любовь и война! — произнес мой отец. Взгляд его был строгим, но на лице не проскользнуло и тени удивления, будто сказанное мной вовсе его не удивило. Как выяснилось позднее, я в горячке и беспамятстве беспрерывно повторял имя Мари и выказывал свои нежные чувства к ней. Да и сама Мари, когда мне сделалось совсем плохо, разрыдалась в присутствии моего отца и призналась, что любит меня. — Любовь и война… — повторил отец. — Бедный мой мальчик, сдается мне, ты попал в серьезные неприятности. — Почему? — удивился я. — Что плохого в нашей любви? В ней нет ничего дурного, сын. Учитывая обстоятельства, такое вполне естественно, и мне следовало это предвидеть. К несчастью, ваши чувства, скажем так, несвоевременны и неуместны. Прежде всего, мне бы не хотелось, чтобы ты женился на иностранке и породнился с этими мятежными бурами. Я надеюсь, что когда-нибудь, много лет спустя — не забудь, Аллан, ты совсем еще юн, — ты женишься на достойной англичанке. О, как я на это надеюсь! — Никогда! — воскликнул я. — «Никогда» — чересчур громкое слово, сын. Поверь, то, что сейчас мнится тебе невозможным, рано или поздно произойдет. Его слова тогда немало меня разозлили, однако позже я не раз их вспоминал. — Даже если оставить в стороне мои упования и мою предубежденность, — продолжал отец, — вашим чувствам вряд ли суждено воплотиться в браке. Ты нравишься Анри Марэ, он признателен тебе за спасение жизни дочери, но не забывай, что он ненавидит англичан, в особенности бедных англичан вроде нас с тобой. Если только тебе не случится разбогатеть, Аллан, ты будешь бедняком — ведь мой достаток невелик. — Я смогу разбогатеть, отец! Буду добывать ту же слоновую кость. Ты знаешь, я меткий стрелок. — Аллан, я не верю, что ты разбогатеешь. У тебя не та кровь. Даже если деньги на тебя свалятся, ты вряд ли сумеешь сохранить их или приумножить. Наш род восходит, сын мой, к временам Генриха Восьмого, если не дальше. И никто, никто из наших предков не преуспел в коммерции. Подожди! Предположим, ты станешь исключением из правила. Это случится не в одночасье, верно? Состояния не вырастают за ночь, словно грибы после дождя. — Пожалуй, ты прав, отец. Но я уверен, что мне повезет… — Возможно. Но пока тебе предстоит соперничать с человеком, которому уже повезло. Точнее, с человеком, у которого карманы полны денег. — О ком ты говоришь? — уточнил я и даже привстал с места. — Об Эрнанду Перейре, Аллан. Он двоюродный брат Мари и, как говорят, один из богатейших людей колонии. Мне известно, что он хочет жениться на Мари. — Откуда ты это знаешь, отец? — Анри Марэ рассказал мне сегодня днем — думаю, намеренно. Перейра влюбился в нее с первого взгляда. Это случилось в тот день, когда он примчался вместе с остальными на ферму. Прежде он видел Мари лишь в детстве и не подозревал, какой красавицей она стала. Словом, он остался сторожить дом, пока все прочие поехали искать кафров, и… Об остальном можешь догадаться сам. У этих южан все происходит быстро. Я опустился на ложе и вжался лицом в подушку, закусил губу, чтобы сдержать стон, который так и рвался наружу. Что ж, положение и вправду казалось безнадежным. Как мне соперничать с этим богатым и удачливым типом, которому отец моей нареченной наверняка отдаст предпочтение? Но затем мрак моего отчаяния вдруг осветился проблеском надежды. Пускай я ничего не могу сделать, но Мари-то может! Она всегда верна своему слову, а нрав у нее решительный… Ее ни за что не подкупить, и сомневаюсь, чтобы ее можно было запугать. — Отец, — сказал я, — быть может, мне не суждено жениться на Мари, но сдается, что у Эрнанду Перейры тоже ничего не выйдет. — Почему же, сынок? — Потому что Мари любит меня, отец, и она не из тех, кто готов поступаться чувствами. Скорее уж она умрет. — Тогда ты нашел себе весьма необычную женщину, Аллан. Как бы там ни было, сын, будущее принадлежит тем, кто до него доживает. Я буду молиться, чтобы любой исход оказался благом для вас обоих. Мари — милая девушка, она мне очень нравится, несмотря на бурскую кровь и французское происхождение. Хватит, что-то мы заболтались, тебе нужно отдыхать. Спи, не надо волноваться, Аллан, иначе разбередишь рану. — Спи, не надо волноваться, Аллан… — Эти слова я бормотал, казалось, часы напролет, пытаясь избавиться от малоприятных мыслей. Наконец слабость взяла свое, и я провалился в забытье. Что за жуткие сны мне снились! Хвала Небесам, теперь они стерлись из памяти, однако отдельные события, случившиеся позднее, заставляли меня — и, не стану скрывать, заставляют по сей день — думать, что это мои дурные сны нежданно воплотились наяву. На следующий день после этого разговора меня, закутанного в чрезвычайно грязное одеяло, наконец-то вынесли на веранду и положили на туземную лежанку-римпи. Наконец я увидел солнце! Насладившись первыми за несколько дней глотками свежего воздуха, я принялся оглядываться по сторонам. Перед домом (точнее, перед тем, что от него осталось) стояли бурские фургоны, крайние — вплотную к веранде; понизу вдоль них тянулся свеженасыпанный земляной вал, кое-где торчали связанные вместе ветки мимозы. По всей видимости, эта цепочка фургонов, на которой несли дозор вооруженные буры и туземцы, должна была служить преградой и линией обороны на случай повторного нападения воинов Кваби или других кафров. По ночам цепочку смыкали, а в светлое время суток центральный фургон чуть отодвигали в сторону, и получалось что-то вроде калитки. Сквозь эту калитку, или проход, виднелась полукруглая изгородь, которой обнесли довольно большое пространство, где теперь держали оставшийся скот и лошадей хеера Марэ, а также лошадей его друзей — тем явно не хотелось, чтобы их скакуны тоже сгинули без следа в вельде. Посреди этого поставленного на скорую руку крааля виднелся длинный и приземистый бугор; под ним, как мне сказали позднее, лежали тела тех, кто погиб во время нападения на ферму. Двух рабов, что пали, защищая дом, похоронили в маленьком садике, за которым ухаживала Мари, а обезглавленное тело Леблана удостоилось погребения в обнесенном стенами закутке рядом с домом: там покоились прежние владельцы фермы и несколько родичей хеера Марэ, в том числе его жена. Пока я изучал окрестности, на веранду вышла Мари. Она появилась из сгоревшей половины дома, и за нею по пятам следовал Эрнанду Перейра. Завидев меня, Мари подбежала ко мне, раскинула руки, будто собираясь обнять. Потом, похоже, опомнилась и чинно подошла к моей лежанке. Вся зардевшись от смущения, она проговорила: — О хеер Аллан… — (Никогда прежде она не обращалась ко мне столь чопорно!) — Я так рада, что вы с нами! Как вы себя чувствуете? — Неплохо, благодарю вас, — ответил я и не удержался от колкости: — Вы бы и раньше узнали об этом, Мари, если бы навестили меня. В следующее мгновение я пожалел о своих словах, ибо глаза Мари наполнились слезами, а из ее груди вырвалось сдавленное рыдание. Но ответила мне не Мари, которая попросту не могла выдавить ни слова, — нет, вмешался Перейра. — Юноша, — изрек он покровительственным тоном по-английски (этот язык он хорошо знал), — моей кузине выпало немало хлопот в эти дни, так что у нее не было времени заботиться о вашей ноге. Ваш почтенный отец уверял, что рана почти зажила и что скоро вы снова сможете забавляться и развлекаться, как подобает молодым людям вашего возраста. Теперь уже я утратил дар речи от этакой дерзости, и на мои глаза тоже навернулись слезы — слезы ярости и бессилия. Мари ответила наглецу за меня. — Верно, кузен Эрнан, — сказала она холодно. — Хвала Господу, хеер Аллан Квотермейн скоро снова сможет развлекаться и устраивать игры, например оборонять Марэфонтейн с восемью мужчинами против орды туземцев. И да помогут Небеса тем, кто окажется на мушке его ружья! — Тут она покосилась на бугор, насыпанный над телами кафров — многих я застрелил собственноручно. — Прости меня, Мари, умоляю! — вскричал Перейра, нисколько не уязвленный этой отповедью. — Я вовсе не потешался над твоим юным другом, который, несомненно, храбр, как и все англичане, если верить всему, что о них говорят, и который доблестно сражался, когда ему выпал случай защитить мою дорогую кузину. Но позволь напомнить, что не он один умеет держать ружье в руках, и я буду счастлив это по-дружески ему доказать, когда он окрепнет. — Перейра сделал шаг вперед, внимательно оглядел меня и прибавил со смешком: — Allemachte! Сдается мне, до выздоровления еще далеко. Кажется, ветер вот-вот унесет его как перышко! Я по-прежнему хранил молчание, разглядывая этого высокого и ладного, дорого одетого молодого человека, явно следившего за своим внешним видом. Он был широкоплеч и мускулист. Его лицо светилось здоровьем и самоуверенностью. Мысленно я сравнивал себя с ним. Вот я, изнуренный лихорадкой и потерей крови, бледный измученный паренек, можно сказать, крысеныш, с руками-палочками, копной всклокоченных волос, едва проклюнувшейся щетиной на подбородке, в грязном одеяле вместо одежды… Да разве можно нас сравнивать? Что мне противопоставить этому безупречному наглецу, ненавидящему лично меня и весь мой народ, человеку, в глазах которого я, даже полностью выздоровевший, все равно буду лишь бестолковым мальцом? И все же, все же… Покуда я лежал там, униженный и осмеянный, меня посетила воодушевляющая мысль: пускай мой облик смущает и пугает, зато духом, мужеством, решительностью и способностями — словом, всеми истинно важными чертами — я уже настоящий мужчина. Не просто ровня Перейре, а нечто большее. Пускай я беден, пускай хрупок и слаб телом, но я непременно возьму над ним верх и сохраню для себя то, что сумел завоевать, — любовь Мари! Таковы были мои мысли и чувства, и могу предположить, что в те мгновения они частично передались Мари, которая давно обрела способность читать в моем сердце, не дожидаясь, пока слова сорвутся с уст. Так или иначе, она гордо выпрямилась, ее лицо посуровело, ноздри раздулись, черные глаза засверкали; она кивнула — и произнесла столь тихо, что, по-моему, я единственный ее услышал: — Так! Ничего не бойся! Между тем Перейра не умолкал. Он было отвернулся, чтобы чиркнуть по кресалу, а теперь раздувал искру, желая раскурить свою большую трубку. — Кстати, хеер Аллан, — сказал он, — чудесная у вас кобылка. Похоже, она преодолела расстояние от миссии до Марэфонтейна за удивительно короткий срок. И чалый тоже. Я вчера прокатился на ней, просто чтобы она размялась, и мне эта лошадь приглянулась. Мой вес, конечно, великоват для нее, но решено — я у вас ее покупаю. — Кобыла не продается, хеер Перейра, — ответил я, подав голос впервые на протяжении нашей беседы. — И не помню, чтобы я разрешал хоть кому-то на ней кататься. — Ваш отец позволил. Или тот уродливый готтентот?.. Честно сказать, запамятовал. А насчет того, что она якобы не продается… Знаете, в этом мире продается все, важна лишь цена. Я даю вам… Дайте-ка прикинуть… Да какая разница, когда денег не счесть?! Даю вам сотню английских фунтов за эту кобылу, и не считайте меня глупцом. Я намерен вернуть эту сумму и заработать больше на южных скачках. Согласны? — Я же сказал, хеер Перейра, кобыла не продается. — Тут меня посетила мысль, и я продолжил не задумываясь, по привычке: — Но, если угодно, я готов предложить вам состязание. Когда я окрепну, давайте посоревнуемся в стрельбе. Я поставлю свою кобылу, а вы — сотню фунтов. Перейра расхохотался. — Друзья, только послушайте! — крикнул он бурам, что шли к дому на утренний кофе. — Этот юный англичанин желает состязаться со мной в стрельбе и ставит свою замечательную кобылку против моих ста британских фунтов! Он вызывает меня, Эрнанду Перейру, который завоевал все на свете призы за стрельбу! Нет, приятель, я не вор! Я не стану забирать вашу кобылу просто так! Среди буров случилось быть знаменитому Питеру Ретифу, весьма благородному и достойному человеку, гугеноту по происхождению, как и Анри Марэ. Этого человека, который находился в самом расцвете сил, правительство направило улаживать приграничные распри, однако из-за недавней ссоры с губернатором провинции сэром Андрисом Штокенштромом он вышел в отставку и сейчас занимался подготовкой к Великому треку. Лично я увидел тогда Ретифа воочию впервые в жизни. Увы, я и не мог предположить, где и когда увижу его в последний раз… Впрочем, не стану забегать вперед и поведу свое повествование в должном порядке. Перейра продолжал потешаться надо мной и похваляться своими умениями, а Ретиф пристально посмотрел на меня, и наши взгляды встретились. — Allemachte! — воскликнул он. — Так это тот юноша, который с жалкой кучкой готтентотов и рабов удерживал ферму против воинства Кваби? Кто-то ответил, что так и было, и прибавил, что, когда подоспела помощь, я собирался застрелить Мари Марэ и застрелиться сам. — Что ж, хеер Аллан Квотермейн, дайте мне свою руку. — С этими словами Питер Ретиф взял мои вялые пальцы в свою ладонь и громко сказал: — Ваш отец наверняка гордится вами сегодня, как гордился бы я, будь у меня такой сын! Господи Иисусе, далеко же вы пойдете, если уже успели столько совершить в столь юном возрасте. Друзья! Я приехал только вчера, а потому узнал о случившемся от кафров и от муи мейзи[191]. — Он кивнул в сторону Мари. — Я также прошелся по двору и заглянул в дом, посмотрел, где гибли нападавшие — эти места легко обнаружить по пятнам крови. Большинство убитых застрелил вот этот англичанин, лишь последних он убил копьем. Скажу как на духу, никогда прежде за всю свою богатую событиями жизнь я не видывал обороны упорнее и надежнее против превосходящего противника. А достойнее всего, пожалуй, то, как этот юный лев стал действовать, получив известие о намерениях врага, и его стремительная скачка от миссии к ферме. Повторю — отец может и должен им гордиться! — Раз уж на то пошло, минхеер, я и горжусь, — сказал мой отец, присоединившийся к нам после утренней прогулки. — Но умоляю, ни слова более, иначе он возгордится без меры. — Ба! — отозвался Ретиф. — Такие парни, как он, не пыжатся попусту! Зато любители поболтать так и норовят возгордиться. — Тут он сурово покосился на Перейру. — Как ни жаль, хватает павлинов, обожающих распушить хвост. Сдается мне, этот паренек ничуть не уступит мужеством вашему славному моряку, как его там… Нельсону? Ну, тому, который разгромил французов в пух и прах и геройски погиб, заслужив посмертную славу. Говорят, он тоже был мал ростом и маялся животом… Должен признаться, что никакая другая похвала не была приятнее для моего слуха, чем слова комманданта Ретифа, прозвучавшие именно тогда, когда я ощущал себя буквально втоптанным в грязь. По лицам Мари и моего отца я видел, что и им эти слова показались слаще музыки. Да и остальные буры, люди храбрые и честные, не остались равнодушными. — Ja! Ja! Das ist recht![192] — загомонили они. — Да, да, правильно! А вот Перейра повернулся к нам своей широкой спиной и притворился, будто заново раскуривает погасшую трубку. Ретиф еще, как выяснилось, не закончил. — Так над чем вы приглашали нас посмеяться, минхеер Перейра? Над тем, что хеер Аллан Квотермейн вызвал вас на состязание? А почему бы нет, собственно? Если он стрелял в кафров, что бежали на него с копьями, значит вполне способен попасть в мишень. Вы говорите, что не желаете его грабить, забирать даром эту чудесную кобылу. Мол, вы выиграли столько призов в стрельбе по мишеням, верно? Но вам когда-нибудь доводилось стрелять в кафра, который летит на вас с ассегаем, минхеер? Или в ваших краях такого не случается? Что-то я не припомню таких новостей… Перейра ответил, что я, кажется, предложил стрелять не по кафрам с ассегаями, а по другим целям, каким именно, еще не решили. — Вот как? — уточнил Ретиф. — Ну, минхеер Аллан, и каковы же будут мишени? — Мы оба встаем вон в том большом овраге между холмами. Хеер Марэ объяснит, он знает это место. Перед закатом там пролетают дикие гуси. Кто подстрелит шесть птиц наименьшим числом выстрелов, тот и победил. — Если зарядить ружья дробью, это будет несложно, — заметил Ретиф. — Дробью гуся редко собьешь, минхеер, — возразил я. — Они летят на высоте от семидесяти до ста футов. И я имел в виду нормальные патроны. — Allemachte! — вскричал какой-то бур. — Вы изведете кучу патронов, чтобы подстрелить хоть одного гуся на такой высоте! — Тогда сделаем так, — предложил я. — Каждому дается по двадцать выстрелов. Тот, кто собьет больше птиц, победит, даже если их будет меньше шести. Принимает ли вызов хеер Перейра? Если да, я готов сразиться с ним, пусть он завоевал столько призов. Эрнанду Перейра явно медлил с ответом, и сомнения, его одолевавшие, были столь очевидными, что другие буры принялись смеяться над ним. В конце концов он разозлился и бросил в сердцах, что готов стрелять на пару со мной по антилопам, ласточкам и даже мухам, если мне и такое взбредет в голову. — Пусть будут гуси, — подытожил я, — ведь иначе придется ждать, покуда я не окрепну для езды верхом, чтобы охотиться на антилоп и прочую дичь. После этого Мари собственноручно записала условия поединка (мой отец, не скрывавший своей заинтересованности в результате состязания, не пожелал становиться участником этого, как он выразился, «спора из-за денег», а помимо Мари и меня самого, никто другой не был достаточно грамотен, для того чтобы перенести наше соглашение на бумагу). Затем мы оба подписались, причем Эрнанду Перейра, по-моему, поставил свою подпись не слишком охотно; если мое выздоровление пойдет быстро, состязание договорились устроить ровно через неделю. На случай возможных разногласий хеера Ретифа, который собирался задержаться в Марэфонтейне и окрестностях, назначили судьей и распорядителем. Кроме того, по условиям никому из нас не разрешалось посещать место поединка или стрелять по гусям до назначенной даты. При этом дозволялось сколько угодно практиковаться в стрельбе по другим целям и использовать любые ружья, на свой вкус. Когда с этим было покончено, меня отнесли обратно в мою комнату, ибо после всех утренних треволнений я ощутил изрядное утомление. Туда же принесли обед, приготовленный Мари. Пребывание на свежем воздухе разожгло мой аппетит, и я съел все, что было на тарелке. Тут появился мой отец в компании хеера Марэ и затеял со мной беседу. Фермер довольно вежливо спросил, чувствую ли я себя достаточно хорошо, чтобы выдержать дорогу до миссии в повозке, запряженной волами. Дескать, повозка на рессорах, а меня удобно положат на «картель», матрац из шкур. Я ответил утвердительно, как поступил бы даже на грани смерти, поскольку понимал, что хееру Марэ не терпится избавиться от меня. — Не сердитесь, Аллан, — смущенно проговорил он. — Я вовсе не такой дурной хозяин, каким вы можете меня счесть, особенно если вспомнить, скольким я вам обязан. Но мне кажется, что вы с моим племянником Эрнаном не очень-то поладили, а в моем теперешнем положении, когда я почти разорен, мне совершенно не хочется ссориться с единственным по-настоящему богатым членом семьи. Я ответил, что все понимаю и ни в коем случае не желаю доставлять ему неудобств. Впрочем, промелькнула мысль, что фермер действует по наущению хеера Перейры, который решил хотя бы так объяснить мне, насколько ничтожное я существо в сравнении с ним — просто мальчишка, каких в Африке пруд пруди. — Знаю-знаю, — грустно прибавил Марэ, — моему племяннику до сих пор слишком везло в жизни, и потому он порой бывает несносен. Он не в состоянии понять, что битву необязательно выигрывает сильнейший, а в гонках не всегда побеждает самый быстрый. Сами посудите, он молод, богат и привлекателен… Словом, испорченный, избалованный ребенок. Мне жаль, но тут я ничего не могу поделать. Приходится с этим мириться. Если не получается приготовить еду, надо есть ее сырой, верно? И еще, Аллан… Вы, наверное, слышали, что ревность делает людей грубыми и жестокими? Его взгляд был весьма многозначительным. Я промолчал; когда не знаешь, что сказать, лучше помалкивать. — Признаться, я возмущен этим состязанием в стрельбе, в которое вас втянули без моего одобрения. Если он одержит верх, то станет потешаться над вами пуще прежнего; а если победите вы, он разозлится. — Тут нет моей вины, минхеер, — ответил я. — Он хотел заставить меня продать мою кобылу, на которой ездил без моего разрешения, и не умолкая похвалялся своей меткостью. В итоге я не стерпел и вызвал его на поединок. — Я не виню вас, Аллан, честное слово. Но все же вы поступили глупо. Для него не имеет значения, если он потеряет даже такую сумму. Но эта чудесная кобыла — ваше сокровище, и я сильно расстроюсь, если вам придется расстаться с животным, которое послужило доброму делу. Ладно, не стану вас долее мучить. Быть может, обстоятельства сложатся так, что поединок не состоится. Надеюсь на это. — А я надеюсь, что состоится, — упрямо проворчал я. — Не сомневаюсь, мальчик мой, в вашем-то состоянии, когда вы рассержены больше, чем лошадь, у которой спину натерло седлом. Но послушайте меня оба — и вы, Аллан, и вы, мсье проповедник. Есть и другие причины, помимо этой мелкой ссоры, по которым я буду рад, если вы уедете на время. Я должен посоветоваться со своими соотечественниками относительно неких тайных дел, насчет нашего благосостояния и нашего будущего, и, к сожалению, им не понравится, если рядом будут двое англичан… Очень скоро в вас заподозрят шпионов… — Ни слова больше, хеер Марэ, — поспешил вмешаться мой отец. — Нам тем паче нет смысла задерживаться там, где мы оказались нежеланными гостями и где на нас смотрят с подозрением только потому, что мы родились англичанами. Милостью Божьей мой сын сослужил вам службу и принес пользу вашему дому, но теперь все это в прошлом и уже забылось. Велите запрячь ту повозку, о которой вы упомянули. Мы отправляемся немедля. Анри Марэ, в глубине души джентльмен, пусть и подверженный, даже в те дни, приступам ярости и глупости в мгновения чрезмерного волнения (или под влиянием расовых предрассудков), принялся извиняться и уверять моего отца, что он ничего не забыл и нисколько не собирался нас оскорбить. В общем, кое-как они помирились, но около часа спустя мы все-таки покинули ферму. Все буры пришли нас провожать и наговорили мне множество добрых слов; каждый неизменно прибавлял, что ждет не дождется, когда вновь увидит меня в следующий четверг. Перейра тоже был среди провожавших и вел себя вежливо и высокомерно, умолял обязательно поправляться, иначе победа над увечным не доставит ему ни малейшей радости, пусть даже это всего лишь стрельба по гусям. Я ответил, что приложу все усилия и что не привык проигрывать в состязаниях, больших или малых, а особенно в тех, которые задевают меня за живое. После этого, продолжая лежать на спине, я повернул голову и посмотрел на Мари, которая выскользнула из дома и тоже пришла на двор. — Прощай, Аллан, — сказала она, протянула руку и одарила меня таким взором, какой, уверен, женщины лишь изредка дарят мужчинам. Потом притворилась, будто поправляет шкуру, которой меня накрыли, наклонилась и тихо прошептала: — Победи в этом поединке, если ты меня любишь! Я буду молиться за тебя каждую ночь, и пусть Господь даст мне знак. По-моему, Перейра что-то заподозрил, хоть и не разобрал ее слов. Во всяком случае он закусил губу и сделал такое движение, словно хотел вмешаться в наше прощание. Однако Питер Ретиф довольно грубо встал перед ним, оттеснив Эрнанду в сторону, и сказал с добродушным смешком: — Allemachte! Друзья, позвольте же мисси пожелать доброго пути юноше, который спас ее жизнь! В следующий миг готтентот Ханс прикрикнул на волов, как заведено у туземцев, и повозка выкатилась за ворота. Что я могу сказать? Раньше хеер Ретиф мне просто нравился, а теперь я его обожал!Глава 5
ПОЕДИНОК
Возвращение в миссию разительно отличалось от недавней моей поездки, вернее, бешеной скачки. Несколько дней назад я несся сквозь мрак, резвая кобыла подо мной летела, точно птица, сердце стискивал страх опоздать, а глаза отчаянно высматривали бледнеющие звезды и серую полоску рассвета на востоке. Теперь же подо мной поскрипывала повозка, вокруг простирался привычный вельд, ярко и мирно светило солнце, душа полнилась признательностью Небесам, и отравляло мое блаженство лишь то обстоятельство, что завоеванную такими усилиями чистую и святую любовь у меня пытаются отнять то ли силой, то ли мошенничеством. Впрочем, как бы ни суетились люди, судьбы всего сущего — в руце Господней, и потому следовало смиренно принимать предначертанное. Первое испытание обернулось кровопролитием и гибелью. Чем завершится второе? Эти размышления словно клубились в моем сознании, и откуда-то возникла связная фраза, которой я точно не произносил. «В победе кроется смерть». Если вдуматься, эта фраза была совершенно бессмысленной. Я не понимал, почему победа означает смерть, во всяком случае, не понимал тогда, что, согласитесь, простительно неопытному мальчишке. Повозка на рессорах катилась ровно, поскольку дорога была довольно гладкой, и нога почти не доставляла мне мучений. Я спросил отца, что, как ему кажется, имел в виду хеер Марэ, когда сказал, будто у буров есть в Марэфонтейне какие-то дела, в которые нам, англичанам, лучше не соваться. — Что он имел в виду? Ох, Аллан, это значит, что треклятые бунтовщики-голландцы строят козни против своего государя и опасаются, как бы мы не раскрыли их измену! Либо они намерены восстать из-за недовольства справедливейшим из деяний, то есть освобождением рабов, и потому, что мы не перебили всех кафров, с которыми они имели глупость поссориться, либо собираются покинуть колонию. Лично я думаю, что причиной является второе — ты сам слышал, что какие-то поисковые партии куда-то ушли; если не ошибаюсь, очень скоро вслед за ними отправятся переселенцы. Марэ, Ретиф и этот чванливый Перейра будут среди них. Пусть уезжают; по мне, так чем скорее, тем лучше. Не сомневаюсь, что наш английский флаг быстро их догонит. — Надеюсь, они не станут торопиться, — ответил я с хриплым смешком. — Мне бы хотелось вернуть лошадь. — (Свою кобылу я оставил Ретифу как распорядителю поединка в залог своего участия в состязании.) Остаток пути, все два с половиной часа, мой отец возвышенно и патриотично делился со мной рассуждениями о недостойном поведении буров, которые якобы ненавидели и преследовали миссионеров, отвергали британское правление и ни во что не ставили правительственных чиновников, обожали рабовладение и стремились убивать кафров при любой возможности. Я вежливо слушал и помалкивал, ибо знал, что нет ни малейшего смысла возражать моему родителю, когда на него нисходило подобноенастроение. Кроме того, я успел немало пообщаться с голландцами и потому сознавал, что отцовские обвинения вполне можно обратить против нас. Те же миссионеры, к примеру, нередко изводили буров своим религиозным пылом, а британское правительство — точнее, колониальные власти — порою вытворяло странные штуки с интересами отдаленных владений. Правительственные чиновники, равно постоянные и временные, вроде губернаторов, обладавших на протяжении своего срока всей полнотой власти, нередко превышали и извращали отведенные им полномочия. Кафры, сбитые с толку этой противоречивой политикой нашего правительства и его чиновников, частенько воровали у буров скот, а если выпадала такая возможность — убивали голландцев, не щадя ни женщин, ни детей. Совсем недавно я наблюдал воочию, как они попытались учинить нечто подобное в Марэфонтейне. Правда, здесь не обошлось, если угодно, без провокации: британская добродетель побудила освободить рабов, но не позволила заплатить их прежним хозяевам справедливую цену за освобождение… Честно сказать, скромного юнца, каким я тогда был, больше занимали вовсе не размышления о высокой политике. Я не мог отделаться от душевных терзаний по поводу того, что, если Анри Марэ и его приятели в самом деле уедут, Мари будет вынуждена отправиться вместе с отцом; мне же, «коварному англичанину», в их компании искателей приключений места не найдется, зато Эрнанду Перейра наверняка пожелает к ним присоединиться. На следующий день после возвращения домой благодаря свежему воздуху, вкусной еде (у меня вдруг разыгрался аппетит) и обильному поглощению понтака — это отличное капское вино, нечто среднее между портвейном и бургундским, — я почувствовал себя настолько лучше, что принялся прыгать по дому на самодельных костылях, которые верный Ханс смастерил для меня из кафрских палок. На другое утро я уже так окреп, что наконец-то всерьез озаботился поединком, до которого оставалось всего пять дней. Случилось так, что несколькими месяцами ранее молодой англичанин достойного происхождения, достопочтенный Вавассер Смайт, сопровождавший родственника в Капскую колонию, прибыл в нашу миссию в поисках охотничьих забав, и я показал ему наши скромные развлечения. Среди прочего оружия он привез с собой великолепное (для того времени) мелкокалиберное ружье со слабым нажатием, снабженное бойком для капсюлей, которые только-только вошли в употребление. Изготовили это ружье в лондонской мастерской Джеймса Парди, и стоило оно очень дорого из-за совершенства своей конструкции. Когда достопочтенный Смайт, о котором я больше никогда не слышал, прощался с нами перед возвращением в Англию, он, будучи человеком широкой души, подарил мне на память это ружье[193], и я сохранил его щедрый подарок. Это произошло примерно за полгода до событий, о которых идет речь, и в те месяцы я нередко брал это ружье поохотиться на дичь, будь то бонтбоки[194] или дрофы. Оружие оказалось исключительно точным на расстоянии до двухсот ярдов. Спешно собираясь, чтобы помчаться в Марэфонтейн, я не взял его с собой, подумал, что одностволка малого калибра там вряд ли пригодится. Однако в поединке с Перейрой я намеревался использовать это ружье, и никакое другое; более того, не владей я этим ружьем, я бы вряд ли отважился бросить вызов «кузену Эрнану». Так получилось, что мистер Смайт вместе с ружьем оставил мне немалый запас пуль особой отливки и с новыми капсюлями, не говоря уже об изрядной толике отличного заграничного пороха. Посему, располагая таким количеством боеприпасов, я принялся практиковаться: попросил поставить для меня стул в глубокой лощине недалеко от дома и стал стрелять по сизым голубям и горлицам, что пролетали надо мной на значительной высоте. В моем нынешнем возрасте я, не боясь прослыть хвастуном, смело могу говорить, что от природы наделен даром — умением метко стрелять. Этим я обязан, полагаю, причудливому сочетанию рассудительности, остроты зрения и крепости рук. В свои лучшие дни, готов поклясться, я не встречал человека, способного превзойти меня в точности стрельбы по живым мишеням (заметьте, о неподвижных целях я не говорю, тут у меня опыта немного). Кроме того, как ни удивительно, этим своим умением, в котором практиковался всю жизнь, я обладал уже в молодости — и, не стану скрывать, тогда стрелял гораздо лучше, чем стреляю сейчас. Возможность убедиться в собственной меткости представилась быстро; усевшись на стул в лощине, я после небольшой пристрелки выяснил, что способен подбить на лету достаточное количество резвых сизых голубей, причем, позвольте напомнить, стрелял я не дробью, а пулями — подобное упражнение многие сочли бы попросту невозможным. День за днем я практиковался в стрельбе и каждый вечер убеждался в том, что это чрезвычайно трудное ремесло дается мне все лучше и лучше. Благодаря упражнениям я точно выяснил возможности моего ружья и допуски, которые нужно учитывать, — скажем, скорость полета птиц, расстояние, силу ветра и яркость света. При этом выздоравливал я настолько быстро, что к концу назначенного срока поправился почти полностью и мог ходить самостоятельно, опираясь на палку. Наконец настал тот судьбоносный четверг. Около полудня — я встал поздно и утром стрельбой не занимался — мы с отцом выехали из ворот миссии на повозке, запряженной двумя лошадьми; правил ими Ханс. Наш путь лежал в место под названием Груте-Клуф, или Большой овраг. Над ним пролетали дикие гуси, стремясь от своих гнездовий и мест кормежки в горах к землям, лежавшим несколькими милями ниже, а оттуда, думается, добирались до морского побережья и возвращались к гнездам на рассвете. Прибыв к горловине Груте-Клуф около четырех часов дня, мы с отцом изумились: нас ожидала многочисленная компания буров, и среди них были вдобавок молодые женщины, приехавшие верхом или в повозках. — Святые угодники! — воскликнул я. — Знай я, что из нашего поединка устроят этакое зрелище, крепко подумал бы, прежде чем бросать вызов. — Гм… — протянул отец. — По-моему, дело тут не только в твоем поединке. Если не ошибаюсь, конечно, его использовали как предлог собраться в уединенном месте, чтобы власти не забеспокоились. Должен заметить, что мой отец был совершенно прав. Еще до нашего приезда на этом собрании буров состоялось продолжительное и жаркое обсуждение, и большинство решило, так сказать, отряхнуть прах колонии со своих ног и отыскать новый дом в неизведанных землях на севере. Когда мы подъехали ближе, я увидел на лицах собравшихся растерянность и озабоченность. Питер Ретиф краем глаза заметил, как отец и Ханс помогают мне выбраться из повозки, и в его взгляде промелькнуло удивление. Его мысли явно были где-то далеко. Потом он, очевидно, вспомнил о поводе для встречи и громко окликнул нас. — Ого! Наш юный англичанин приехал состязаться в стрельбе! Он человек слова! Друг Марэ, хватит оплакивать свои потери… — Тут он понизил свой звучный голос. — Да поздоровайтесь же с ними! К нам направлялся Анри Марэ, за ним следовала Мари. Она краснела и улыбалась, но мне почудилось, что она сделалась совсем взрослой женщиной, которая оставила в прошлом всю детскую непосредственность и приготовилась стойко переносить удары судьбы. За нею по пятам, совсем близко, что сразу бросилось мне в глаза, шел Эрнанду Перейра. Он вырядился богаче обычного и держал в руке красивое новое одноствольное ружье, приспособленное для стрельбы капсюлями, но, как я заметил, калибра куда большего, чем требуется для охоты на диких гусей. — Значит, вы поправились, — произнес он радушным тоном, который никого не мог обмануть. (Думаю, он был бы только рад, если бы мне стало хуже.) — Что ж, минхеер Аллан, как видите, я готов отстрелить вам голову. — (Конечно, он выражался образно, но, сдается мне, таково было его затаенное желание.) — Можете считать, что кобылка уже не ваша. Смею вас заверить, я набил руку в стрельбе, верно, Мари? Поспрашивайте у аасфогелей[195] вокруг фермы, они подтвердят. — Верно, кузен Эрнан, — сказала Мари. — Вы много стреляли, но, думаю, Аллан тоже не отлеживался. К этому времени все буры собрались вокруг нас и принялись живо выяснять подробности поединка, что было ничуть не удивительно для людей, которые редко выпускают оружие из рук и считают меткую стрельбу священнейшим из искусств. Однако следовало поторапливаться, поскольку, как уверяли кафры, дикие гуси должны были пролететь над оврагом где-то через полчаса. Поэтому зрителей попросили расположиться под обрывистым склоном, чтобы птицы не заметили их издалека, и по возможности хранить молчание. Затем мы с Перейрой — меня сопровождал заряжающий Ханс, а мой соперник шел один (заявил, что помощник будет его отвлекать) — заняли позиции приблизительно в полутора сотнях ярдов от обрыва. Рядом с нами встал распорядитель поединка Питер Ретиф. Мы постарались укрыться за высокими кустами, что росли на дне оврага. Я уселся на раскладной стульчик, который прихватил с собой, ибо моя нога была еще слишком слаба для долгого стояния. Пока мы ждали, Перейра передал через Ретифа просьбу: мол, он желал бы стрелять первым, потому что от ожидания обычно волнуется. Я не стал возражать, хотя и понимал, что он затевает: первыми наверняка появятся гуси-«дозорные», как мы их называем, и они, скорее всего, будут лететь медленно и низко, а вот основная стая, почуяв опасность, может подняться выше и прибавить скорости. К слову, так все и вышло, ибо нет птиц умнее гусей, которых почему-то обвиняют в глупости. Мы прождали около четверти часа. Вдруг Ханс сказал: — Тсс! Гуси летят! В тот же миг я услышал гусиную перекличку и шорох могучих крыльев, но самих птиц пока видно не было. Но вот показался одинокий косокрылый гусь, наверное вожак стаи, и летел он так низко, что от кромки обрыва его отделяло от силы двадцать футов. С земли до него было ярдов тридцать — отличное расстояние для выстрела. Перейра не промахнулся, и гусь довольно медленно опустился в овраг, в сотне ярдов от стрелка. — Один, — открыл счет Ретиф. Перейра перезарядил ружье, и тут появились еще три гуся, заодно с выводком уток; они тоже летели низко и прямо над нашей головой, к чему их вынуждал рельеф местности, то бишь овраг, рассекавший вельд. Перейра снова выстрелил, и, к моему изумлению, наземь рухнула вторая, а не первая птица из цепочки. — Племянник, ты стрелял именно в этого гуся или в другого? — спросил Ретиф. — Конечно в этого, — ответил тот со смешком. — Он врет, — пробормотал готтентот Ханс. — Он целился в первого, а убил второго. — Тихо, — шикнул я. — Кто будет врать из-за такой мелочи? Эрнанду вновь перезарядил ружье. Над оврагом показался клин из семи птиц, причем их вожак предусмотрительно набрал высоту. Выстрел — и на землю упали сразу две птицы: вожак и гусь, летевший справа и чуть позади. — Эгей, дядя! — позвал Перейра. — Видели, как эти два гуся столкнулись в воздухе? Мне повезло, конечно, но можете не засчитывать второго, если хеер Аллан возражает. — Нет, племянник, не видел, — отозвался Ретиф, — но явно это и произошло, иначе ты бы не сбил двух одной пулей. Мы с Хансом переглянулись и дружно усмехнулись, но вслух ничего говорить не стали. Со стороны зрителей, что укрывались под обрывом, донесся одобрительный гул, причем к одобрению примешивалось удивление. Перейра перезарядил и выстрелил в одинокого, высокого летящего гуся. До цели было, полагаю, ярдов семьдесят. Пуля достигла цели, несколько перьев закружилось в воздухе, однако птица сперва нырнула, будто вот-вот упадет, но выправила полет и скрылась из виду. Я не поверил своим глазам. — Крепкие птицы эти гуси! — воскликнул Перейра. — Свинца на них нужно не меньше, чем на морскую корову! — И вправду крепкие, — проговорил Ретиф с сомнением. — Никогда прежде не видел, чтобы птица улетала, получив пулю в грудь. — Где-нибудь свалится замертво, — отмахнулся Перейра, насыпая новую порцию пороха. Четыре минуты спустя он произвел последние два выстрела, выбирая, как я уже говорил, низко и медленно летящих молодых гусей. Оба раза оказались удачными, хотя один подранок, упав в высокую траву, поковылял прочь. Кто-то из зрителей захлопал в ладоши, и Перейра церемонно поклонился. — Вам придется потрудиться, чтобы его превзойти, минхеер Аллан, — сказал Ретиф, обращаясь ко мне. — Если даже я не засчитаю птицу, сбитую вместе с другой одним выстрелом, — а я, пожалуй, так и поступлю, — получится пять из шести. Вряд ли вы сможете одолеть Эрнана. — Понимаю, — ответил я. — Прошу вас, минхеер, велите собрать этих гусей и сложить в сторонке. Не хочу перепутать их со своими, если, конечно, сумею подстрелить хоть одного. Он кивнул, и несколько кафров отправились подбирать птиц. Я заметил, что парочка подранков еще била крыльями; им пришлось свернуть шеи. Стоило потом взглянуть на них поближе. Когда землю очистили, я окликнул Ретифа и обратился к нему с просьбой осмотреть мои порох и пули. — Зачем? — спросил он, с любопытством глядя на меня. — Порох есть порох, а пуля — это пуля. — Как скажете, минхеер. Но все-таки посмотрите, прошу. По моему кивку Ханс положил на ладонь Ретифу шесть пуль, а я попросил распорядителя передавать эти пули мне по мере надобности. — Они намного меньше, чем пули Эрнана, — сказал Ретиф. — Он вас сильнее, и ружье у него тяжелее. — Да, — коротко ответил я. Ханс тем временем вложил в оружие заряд пороха и забил пыж. Затем взял пулю с ладони Ретифа, поместил ее в дуло, вставил капсюль и протянул оружие мне. Гуси летели гуще — оврага достигла основная стая. Должно быть, передние заметили кафров, которые собирали тушки подбитых птиц, и потому поднялись выше, а их примеру уже издалека последовали остальные. Впрочем, возможно, птицы на самом деле ничего не видели, просто некое врожденное чувство опасности заставляло их теперь лететь выше и быстрее. — Не повезло вам, Аллан, — сочувственно проговорил Ретиф. — Придется стрелять наудачу. — Может быть, — согласился я. — Ничего не поделаешь. Я встал со стула, сжимая ружье в руках. Долго ждать не пришлось — на высоте около сотни ярдов показался гусиный клин. Я прицелился в первую птицу, взял поправку примерно в восемь ярдов на ее скорость и надавил на спусковой крючок. Ружье громыхнуло, но увы! Пуля лишь задела клюв, от которого оторвала кусок, а сама птица, трепыхнувшись, заняла свое место в стае и полетела дальше, словно ничего не произошло. — Баас, баас, — прошептал Ханс, хватая ружье и принимаясь перезаряжать, — ты слишком далеко целился. Эти большие водяные птицы летят медленнее, чем голуби. Я молча кивнул, чтобы не сбить дыхание. Затем, дрожа от возбуждения (если промахнусь снова, состязание закончится), я забрал оружие у готтентота. Едва я успел это сделать, над моей головой, высоко в небе, появился одинокий гусь, махавший крыльями столь усердно, будто «его лягнул черный дьявол», как выразился Ретиф. На сей раз, прежде чем стрелять, я сделал поправку на скорость. Птица камнем рухнула вниз и упала недалеко за моей спиной. Голова у гуся отсутствовала. — Баас, — снова прошептал Ханс, — все равно слишком далеко. Зачем целиться в глаз, когда перед тобой вся тушка? Я опять кивнул — и не сдержал вздох облегчения. Что ж, поединок продолжается. В очередном клине, кроме гусей, были дикие утки и свияги. Я выбрал крайнюю птицу справа, чтобы никто не мог сказать, что я, как говорят в Англии, «поджариваю кучку», то есть стреляю в выводок, а не в отдельную птицу. Моя пуля угодила точно в грудь гуся, и тут я окончательно успокоился и перестал ощущать страх. Если коротко и не хвастаясь, то скажу, что подстрелил трех следующих птиц одну за другой, хотя две летели очень высоко, приблизительно в ста двадцати ярдах над моей головой, да и с третьей пришлось постараться. Пожалуй, я бы тогда снял еще дюжину без единого промаха, ибо стрелял так, как никогда раньше. — Скажите, племянник Аллан, — спросил Ретиф в паузе между пятым и шестым выстрелом, обращаясь ко мне так, как заведено у буров, — почему ваши гуси падают иначе, чем гуси Эрнана? — Его спросите, а меня не отвлекайте, — ответил я и тут же сбил своего пятого гуся. Пожалуй, это было самое удачное мое попадание за сегодняшний день. Зрители удивленно загудели и захлопали в ладоши, а Мари помахала мне белым платочком. — Все, — объявил Ретиф. — Погодите немножко, хорошо? — попросил я. — Хочу сделать еще выстрел, просто так, чтобы понять, смогу ли я сбить двух птиц одной пулей, как хеер Перейра. Ретиф кивком одобрил эту просьбу и взмахом руки остановил зрителей, готовых выбежать из-под обрыва, а также Перейру, который хотел вмешаться. Еще во время поединка я заметил двух соколов размером с британского сапсана; они кружили в небе, высоко над оврагом, где у них, похоже, были гнезда, и выстрелы ничуть не пугали хищников. Либо они высматривали, как бы половчее стащить сбитого гуся. Я взял ружье и застыл в ожидании. Ждать пришлось долго, но все же миг настал. Я увидел, что более крупный сокол вот-вот пересечет незримый круг полета своего товарища. Разделяло птиц, должно быть, ярдов десять. Я прицелился, оценил обстановку — на мгновение мой разум словно превратился в счетную машину, — прикинул кривизну полета и скорость птиц, решил, что нижняя от меня ярдах в девяноста. А затем, шепча про себя что-то вроде молитвы, выстрелил. Все взоры были устремлены в небо. Нижний сокол пал наземь. Минуло полсекунды, и следом свалился верхний, причем упал прямо на своего мертвого собрата. Теперь даже те буры, которые вовсе не желали победы англичанину, разразились восторженными криками. Никогда прежде они не видели своими глазами подобного выстрела. Сказать по правде, я тоже не видел. — Минхеер Ретиф, — сказал я, — ведь я говорил, что собираюсь подстрелить двух птиц одним выстрелом? — Да, говорили. Allemachte! И вы это сделали! Скажите-ка, Аллан Квотермейн, кто вы? Человеческий глаз и человеческая рука на такое не способны! — Спросите моего отца, — отшутился я, пожимая плечами, а потом опустился на стул и вытер мокрый от пота лоб. Прибежали возбужденные буры. Мари опередила всех, стройная, как ласточка, крепкие бурские женщины не могли за ней угнаться. Нас обступили со всех сторон и принялись бурно восхищаться. Я не вслушивался в похвалы, однако разобрал слова Перейры, который будто затеял с Мари игру в гляделки. — Да, разумеется, было очень красиво, но знаете, дядюшка Ретиф, победа-то за мной! Я подстрелил шестерых гусей, а он — пятерых. — Ханс, — позвал я, — собери моих гусей. Готтентот принес птиц, в тушках которых виднелись аккуратные отверстия, и положил их рядом с добычей Перейры. — А теперь, хеер Ретиф, — продолжил я, — осмотрите этих птиц и обратите внимание на ту, которую хеер Перейра сбил второй, когда попал в двух гусей одной пулей. Думаю, не составит труда установить, что она раскололась. Ретиф внимательно осмотрел птичьи тушки поочередно. Потом с проклятьем кинул наземь последнюю и громко воскликнул: — Минхеер Перейра, как вы посмели покрыть нас позором перед этими двумя англичанами? Вы использовали луперы, пули, надрезанные по четвертям и соединенные ниткой! Глядите все! Он указал на раны. В одном случае на тушке обнаружилось сразу три отверстия. — И что? — холодно справился Перейра. — В условиях оговаривалось, что стрелять будем пулями, но никто не запрещал использовать разрывные. Вы проверьте птиц хеера Аллана, у него наверняка то же самое. — Нет, — возразил я. — Когда я предлагал стрелять пулями, то имел в виду цельные пули, а не те, что надрезаны и собраны заново, из-за чего, вылетая из дула, они рассыпаются картечью. Но довольно, я не желаю это обсуждать. Пусть решает хеер Питер Ретиф, раз он согласился быть судьей. Буры горячо заспорили между собой, а Мари, стоявшая рядом, прошептала мне на ухо, чтобы никто не услышал: — Я так рада, Аллан! Что бы они ни решили, ты победил, и это добрый знак! — Уж не знаю, какой там знак, милая, — ответил я. — Разве что древних римлян некогда спасли гуси. По-моему, наши дела плохи, нас явно хотят надуть… В этот миг Ретиф вскинул руку и произнес: — Тихо! Я принял решение. В условиях поединка не было сказано, что пули не должны быть разрывными, поэтому все птицы Эрнана Перейры засчитываются. Зато оговаривалось, что птица, убитая случайно, в счет не идет, и потому из птиц Перейры одну надо вычесть. Значит, очков поровну. Либо оставим все как есть, либо, раз гуси уже пролетели, перенесем поединок на другой день. — Э-э-э… позвольте кое-что предложить? — Перейра явно ощутил, что собравшиеся настроены против него. — Пусть англичанин забирает деньги. Ему они очевидно нужны, ведь, насколько мне известно, миссионеры — люди небогатые. — Тут не о чем спорить, — ответил я. — Богатые мы или бедные, я и за тысячу фунтов не стану снова состязаться с человеком, не гнушающимся грязных фокусов. Деньги ваши, минхеер Перейра, а кобыла — моя. Судья сказал, что поединок завершен, на том и сойдемся. — Верно, — буркнул кто-то из буров. — Минхеер Перейра, — снова заговорил Ретиф, — все мы знаем, что вы отличный стрелок, но я полагаю, что, ведись игра по-честному, вы бы проиграли. Так или иначе вы сохранили свою сотню фунтов. Однако, минхеер Перейра, — и его голос загремел раскатом грома, — вы выставили себя обманщиком! Вы опозорили нас, буров, и, что касается меня, я никогда впредь не пожму вашу руку! Едва прозвучали эти слова — признаться, я даже испугался, ибо Ретиф в гневе совершенно не выбирал выражений, — смуглое лицо Перейры сделалось белым как бумага. — Mein Gott[196], минхеер! — воскликнул он. — Я заставлю вас заплатить за это оскорбление! Его рука скользнула к ножу на поясе. — Что?! — вскричал Ретиф. — Хочешь устроить еще один поединок? Давай, я готов! С цельными пулями или с разрывными — все равно! Никто не упрекнет Питера Ретифа в трусости, а уж менее всего тот, кто не постеснялся украсть победу у соперника, как гиена крадет кость у льва. Давай, Эрнан Перейра, выходи! Не могу даже предположить, что случилось бы в итоге. Впрочем, ничуть не сомневаюсь, что у Перейры не хватило бы мужества на дуэль с прославленным Ретифом, с человеком, чья храбрость вошла у колонистов в поговорку, наряду с его несгибаемым характером. Но хеер Марэ, который прислушивался к перепалке с нарастающей тревогой, понял, что события принимают дурной оборот, и поспешил вмешаться: — Минхеер Ретиф! Племянник Эрнан! Вы оба мои гости, и я запрещаю вам ссориться из-за подобной ерунды. Я более чем уверен, что Эрнан не намеревался мошенничать. Он просто делал то, что было разрешено. Эрнану ни к чему уловки, ведь он один из лучших стрелков колонии, пускай юный Аллан Квотермейн, возможно, его и превосходит! Прошу вас, друг Ретиф! Только не сейчас! Вы же лучше всех знаете, что теперь мы должны быть как братья! — Ни за что! — прогремел Ретиф. — Я не стану лгать ради вас или кого бы то ни было! Поняв, что коммандант упорно не желает внимать гласу рассудка, хеер Марэ подошел к своему племяннику и о чем-то с ним пошептался. О чем шла речь, не имею ни малейшего понятия. Но в итоге, одарив нас обоих — меня и Ретифа — кривой усмешкой, Перейра развернулся и пошел прочь. Вскочил на свою лошадь и скрылся из виду, сопровождаемый двумя готтентотами. С тех пор я долго не видел Эрнанду Перейру. И как бы мне хотелось, чтобы это была наша последняя встреча! Увы, судьба распорядилась иначе.Глава 6
РАССТАВАНИЕ
Буры, которые прибыли к оврагу якобы для того, чтобы собственными глазами увидеть состязание в стрельбе, хотя на самом деле собрались там совсем по иной причине, начали разъезжаться. Одни ускакали сразу, другие направились к фургонам, оставленным неподалеку, и тоже двинулись в обратный путь. С радостью припоминаю, что лучшие из этих людей, а таковых нашлось немало, перед отъездом поблагодарили меня и моего отца за оборону Марэфонтейна и поздравили с победой в поединке. А многие вдобавок весьма нелестно, не выбирая выражений, отзывались о поведении Перейры. Нам с отцом предложили переночевать под кровом хеера Марэ, а уже на следующее утро отправиться домой. Однако мой отец, молчаливый, но весьма наблюдательный свидетель последних событий, счел, что теперь мы вряд ли будем желанными гостями на ферме Марэ, а компании Перейры следует всячески избегать. Поэтому он подошел к хееру Марэ и попрощался с фермером, прибавив, что пошлет кого-нибудь забрать мою кобылу. — Постойте! — вскричал тот. — Я приглашаю вас к себе этим вечером. Не беспокойтесь, Эрнана с нами не будет. Ему пришлось спешно уехать по делам. — Видя, что мой отец колеблется, Марэ прибавил: — Друг мой, прошу, не отказывайтесь. Мне нужно кое-чем с вами поделиться, а это настолько важно, что здесь даже заговаривать не следует. Отец согласился, к моему немалому облегчению. Если бы он продолжал упорствовать, я бы лишился возможности обменяться еще более важными — для нас, конечно, — словами с Мари. Кафры подобрали гусей и двух соколов, из которых я вызвался самостоятельно сделать чучела для Мари; мне помогли влезть в повозку, и мы покатили к ферме, куда и прибыли как раз с наступлением темноты. Тем же вечером, после ужина, хеер Марэ пригласил нас с отцом в гостиную. Свою дочь, которая убирала со стола и с которой мне до сих пор не выпало подходящего случая перемолвиться, он, словно спохватившись, тоже позвал, а когда она пришла, попросил поплотнее прикрыть дверь. Когда все расселись и мужчины раскурили свои трубки (признаться, из-за волнения ввиду предстоящего разговора я совершенно не ощущал вкуса табака), Марэ взял слово. Несмотря на то что фермер не слишком хорошо знал английский, он говорил на нашем языке из уважения к моему отцу. Тот, кстати, даже гордился тем, что не понимает по-голландски, хотя, бывало, отвечал Марэ на этом языке, когда фермер притворялся, будто не может разобрать английскую речь. Ко мне Марэ всегда обращался по-голландски, а к Мари — неизменно по-французски. В общем, со стороны наша беседа могла показаться диковинным образчиком многоязычия. — Юный Аллан, — сказал фермер, — и ты, Мари, моя дочь… До меня дошли кое-какие слухи касательно вас двоих. Мне стало известно, что вы любите друг друга, — притом что я никогда не разрешал вам уединяться. (Для простоты передам его речь так, но на самом деле он употребил слово, которым буры называют посиделки влюбленных при свечах.) — Это правда, минхеер, — ответил я. — Я лишь дожидался случая сообщить вам, что мы обменялись клятвами верности во время нападения кафров на вашу ферму. — Allemachte! Вот уж вовремя, верно, Аллан? — Марэ потеребил бороду. — Клятва, принесенная на крови, чревата кровопролитием. — Пустое суеверие, с коим я не могу согласиться, — вставил мой отец. — Возможно, — отозвался я. — Не нам судить, это ведомо одному Господу. Я знаю только, что мы дали друг другу клятву, ожидая скорой гибели, однако не намерены отступаться от своих слов до самой кончины! — Так и есть, отец, — сказала Мари, подаваясь вперед. Она сидела, подперев кулачками подбородок, и не сводила с Марэ своих черных глаз. — Так и есть, и я тебе об этом уже говорила. — А я ответил тебе, Мари, и повторю, чтобы и юный Аллан услышал: этому не бывать! — И фермер стукнул кулаком по иссеченному зарубками столу. — Ничего не имею против вас, Аллан. Более того, я безмерно вас уважаю, вы оказали мне неоценимую услугу, но… благословения на брак я не дам. — Почему же, минхеер? — спросил я. — По трем причинам, Аллан, и каждой из них более чем достаточно. Во-первых, вы англичанин, а я не желаю, чтобы моя дочь выходила замуж за англичанина. Во-вторых, вы бедны, и хотя вас самого это нисколько не унижает, я не собираюсь выдавать дочь за несостоятельного человека, поскольку сами мы разорены. В-третьих, вы живете здесь, а мы с дочерью собираемся покинуть эти места, и потому вы не можете пожениться. Он умолк, и я поспешил кое-что уточнить: — Нет ли у вас четвертой причины, самой главной? Быть может, вы хотите, чтобы ваша дочь вышла замуж за кого-то другого? — Что ж, Аллан, раз вы меня вынуждаете к откровенности, не стану скрывать, что четвертая причина тоже имеется. Моя дочь помолвлена со своим кузеном, Эрнанду Перейрой, человеком взрослым и обеспеченным. Он отлично знает, чего хочет, и сумеет должным образом позаботиться о своей жене. — Понимаю, — ответил я спокойно, хотя в душе у меня разверзся ад. — Но скажите мне, минхеер, помолвка действительно состоялась? Нет, погодите, пусть Мари скажет сама. — Да, Аллан, я помолвлена, — произнесла Мари ровным голосом. — Помолвлена с тобой — и ни с кем больше. Я повернулся к фермеру: — Вы слышали, минхеер? Марэ, по своему обыкновению, мгновенно утратил самообладание. Он негодовал, спорил и грозил нам обоим всевозможными карами. Мол, мы никогда не получим его согласия, и вообще, он скорее умертвит собственную дочь своими руками. Оказывается, я предал его доверие и злоупотребил его гостеприимством, и он застрелит меня, если я осмелюсь близко подойти к его дочери. Мари еще несовершеннолетняя, и по закону он имеет полное право решать, за кого именно ей выходить. Она должна сопровождать своего отца, куда бы тот ни поехал, а у меня и подавно нет никаких прав, и так далее в том же духе. Когда он наконец утомился от крика и расколотил о стол свою любимую трубку, подала голос Мари: — Отец, ты знаешь, что я люблю тебя всем сердцем. С того дня, когда умерла мама, мы всегда были с тобой едины, верно? — Конечно, Мари! В тебе вся моя жизнь, даже не сомневайся. — Тогда послушай меня, отец. Я признаю твою власть надо мной, что бы там ни говорил закон. Ты вправе запретить мне выйти замуж за Аллана. Если ты это сделаешь, я, пока не наступит совершеннолетие, не нарушу запрета и не стану ему женой. Но… — Тут она встала из-за стола и посмотрела в глаза хееру Марэ. О, сколь величественной она выглядела, представ на миг воплощением юной красоты и истинной силы духа! — Но есть то, отец, чего я никогда не признаю, и это твое право заставить меня выйти за другого мужчину. Я самостоятельная женщина и потому отвергаю такое право! Отец, мне больно тебе возражать, но я лучше умру, чем подчинюсь. Я дала клятву Аллану, пообещала делить с ним горе и радость, и если мне не суждено быть с ним, я сойду в могилу не венчанной. Если мои слова тебя уязвляют, молю, прости меня, но постарайся понять, что таково мое решение и я от него не отступлюсь! Марэ вперился в свою дочь, та отвечала ему столь же пристальным взором. Мне даже подумалось, что он в гневе ее проклянет, но, если у него и было подобное намерение, что-то во взгляде дочери заставило фермера передумать. — Бесстыдница! — пробормотал он. — Все вы, молодые, одинаковы. Что ж, судьба ведет тех, кто не желает слушать голос разума, и я оставляю вас судьбе. Пока ты не достигла совершеннолетия, которое случится лишь через пару лет, ты не можешь выйти замуж без моего согласия. Только что ты пообещала в этом меня слушаться. Значит, мы с тобой уедем отсюда в дальние края. Кто знает, что случится там? — Верно, — торжественно проговорил мой отец, до сих пор хранивший молчание. — Всеведущ лишь Господь, Которому подвластно все на свете и Который непременно уладит это дело, так или иначе. Согласны вы со мной, Анри Марэ? — Поскольку фермер ничего не ответил и мрачно уставился на столешницу, отец продолжил: — Послушайте, вы не хотите, чтобы мой сын женился на вашей дочери, по целому ряду причин, и одна из них та, что он беден. А некий богатый кавалер сделал предложение, которое видится вам даром судьбы после того, как от вас фортуна отвернулась. Другая, настоящая причина состоит в том, что в жилах моего сына течет ненавистная вам английская кровь, и потому, хотя, по милости Всевышнего, мой сын спас жизнь вашей дочери, вы отказываете ему в праве разделить с нею жизнь. Так? — Да, так, минхеер Квотермейн! — вскричал фермер. — Вы, англичане, все негодяи и мошенники! — И вы намерены выдать дочь за человека, показавшего себя честным и достойным, за этого ненавистника англичан и заговорщика против короны по имени Эрнанду Перейра, который вам дорог, ибо принадлежит к тому же народу, что и вы сами? Все мы вспомнили утренние события, и неприкрытый отцовский сарказм заставил Марэ промолчать. — Что ж, — заключил мой отец, — хотя Мари мне нравится и я всегда считал ее милой и благородной девицей, я тоже против того, чтобы она стала женой моего сына. Я бы желал, чтобы он женился на англичанке и никоим образом не связывался бы с вашими бурами и их заговорами. Однако ясно, что эти двое любят друг друга всем сердцем, и совершенно очевидно, что от своей любви они не откажутся. Посему говорю вам, что попытки их разделить и принудить вашу дочь к замужеству с другим будут преступлением в глазах Господа, за которое, не сомневаюсь, Он не замедлит воздать и покарать. В тех диких краях, куда вы отправляетесь, случиться может всякое, уж поверьте, хеер Марэ. Быть может, разумнее оставить вашу дочь в безопасном месте — здесь? — Никогда! — вскричал Марэ. — Она поедет вместе со мной на поиски нового дома, подальше от вашего треклятого британского флага! — Тогда мне больше нечего сказать. Вам, и только вам отвечать за все последствия, — подвел итог мой отец. Не в силах долее сдерживаться, я вмешался в их спор: — Зато мне есть что сказать, минхеер! Разлучать нас с Мари — это грех, разлука разобьет ей сердце. Что же до моей бедности, у меня есть кое-какие средства, больше, чем вы думаете. В этой богатой стране достаток приходит к тем, кто упорно трудится, — а я для Мари готов горы свернуть! Человек, которому вы хотели бы отдать руку дочери, этим утром уже показал свою истинную натуру, затеяв низкий обман, чтобы победить в поединке, и сдается мне, хеер Перейра охотно будет лгать и далее, добиваясь своих целей. И потом, ваши намерения бессмысленны, ведь Мари сказала, что за него не пойдет! — Пойдет, — возразил Марэ. — В любом случае, она отправится вместе со мной и не останется здесь. Она не будет женою юнца-англичанина! — Отец, я поеду с тобой и разделю все тяготы и испытания, которые нам выпадут. Но замуж за Эрнанду Перейру не пойду, — тихо сказала Мари. — Минхеер, — добавил я, — быть может, вам однажды снова понадобится помощь юнца-англичанина. Эти слова сорвались с моих уст словно сами собою; они шли из глубины сердца, уязвленного жестокостью и оскорблениями Марэ; они прозвучали, будто вскрик раненого животного. Я и не догадывался, сколь правдивыми окажутся мои слова спустя некоторое время! Порой наши души как бы приобщаются к неким тайным знаниям из неведомого источника истины… — Если мне потребуется ваша помощь, я непременно сообщу! — процедил Марэ. Он понимал, конечно, что не прав, и потому пытался скрыть свои чувства за намеренной грубостью. — Сообщите или нет, я всегда к вашим услугам, минхеер Марэ, как было совсем недавно! И пусть Господь простит вам то зло, какое вы причинили Мари и мне. Мари заплакала. Не в силах вынести этого зрелища, я прикрыл глаза ладонью. Марэ, когда его не обуревали сильные чувства и он не подпадал под власть своих предрассудков, был, в сущности, человеком добросердечным, и он тоже был растроган, однако попытался спрятать душевные терзания за напускной суровостью. Он выбранил Мари и велел ей отправляться к себе. Она, вся в слезах, подчинилась. Мой отец поднялся и произнес: — Анри Марэ, мы не можем уехать прямо сейчас, ибо наших лошадей отвели в крааль и отыскать их во мраке будет непросто. Поэтому просим разрешения остаться под вашим кровом до утра. — Обойдусь! — бросил я. — Посплю в повозке! С этими словами я схватил палку и поковылял наружу, оставив взрослых мужчин вдвоем. О том, что было между ними далее, я мог лишь догадываться. Должно быть, мой отец, который в минуты волнения тоже отличался несдержанностью и вдобавок превосходил своего собеседника силой духа и рассудка, отчитал Марэ за жестокость и за склонность поддаваться приступам гнева. Вряд ли фермер забудет эту отповедь. Думаю, отец заставил Марэ признать, что тот вел себя предосудительно и что извинить его может только принесенный ранее Небесам обет не отдавать дочь за англичанина. Кроме того, Марэ сказал, что обещал руку Мари Перейре, сво ему племяннику, которого горячо любил, и не может нарушить данное слово. Потом отец вкратце описал мне эту сцену. — Понятно, — сказал он Марэ. — Значит, обуянный яростью, каковая предшествует безумию, вы готовы разбить сердце Мари и, быть может, принять на себя вину за ее кровь. — И ушел, оставив фермера сидеть в гостиной. …Мрак снаружи был настолько густым, что мне пришлось брести едва ли не на ощупь. Повозка стояла на некотором расстоянии от дома, и я не сразу нашел ее. Разговор с отцом моей возлюбленной так огорчил меня, что мне хотелось, чтобы кафры выбрали эту темную ночь для нового нападения и покончили со мной! Когда я наконец добрался до повозки и разжег фонарь, который мы всегда возили с собой, то с немалым удивлением обнаружил, что повозку кое-как приспособили для ночлега: убрали сиденья, закрепили задний полог и так далее. Еще поставили торчком шест, к которому крепилось ярмо для волов, и освободилось место, куда можно было лечь. Пока я размышлял, кто мог все это устроить и зачем, готтентот Ханс взобрался на облучок; в руках у него были две накидки из шкур — кароссы, которые он то ли одолжил, то ли украл. Он спросил, удобно ли мне. — О да! — воскликнул я. — Но скажи, ты что, собирался ночевать в повозке? — Нет, баас, — ответил он, — я приготовил место для тебя. Откуда я узнал, что ты придешь? Да просто сидел на веранде и слушал разговоры в ситкаммере, ведь то окно, которое вышибли воины Кваби, никто так не вставил. Господи боже, баас, что вы там наговорили! Я никогда не думал, что белые могут столько болтать, обсуждая всякую ерунду. Ты хочешь жениться на дочери бааса Марэ, баас хочет отдать ее за другого мужчину, который готов заплатить больше скота. Вот мы бы решили все быстро: отец взял бы палку и ее толстым концом выгнал бы тебя из хижины. Потом он поколотил бы девушку тонким концом, и она согласилась бы пойти за другого, и все остались бы довольными. А вы, белые, все треплете языком, но ничего не решаете. Ты по-прежнему хочешь жениться на девушке, а девушка по-прежнему не хочет выходить за мужчину, у которого много коров. А ее отец и вовсе не добился ничего, только разбил себе сердце и навлек беду на свою голову. — О какой беде ты говоришь, Ханс? — спросил я; признаться, рассуждения маленького туземца слегка меня заинтересовали. — Почему беда придет? — О баас Аллан, по двум причинам. Так сказал твой отец, достойный человек, который сделал меня христианином, а если кого проклинает такой проповедник, на того проклятия Небес обрушиваются, как молния в грозу! Хеер Марэ прячется от грозы под деревом, а нам с тобой хорошо известно, что бывает, когда в дерево ударяет молния. Вторая причина очевидна для чернокожего, ибо эта примета всегда сбывалась, сколько чернокожие живут на свете. Эта девушка — твоя по крови. Ты заплатил за ее жизнь своей кровью, — тут готтентот указал на мою ногу, — и потому купил ее навсегда, ведь кровь дороже скота. Значит, всякий, кто захочет разлучить тебя с этой девушкой, заведомо прольет ее кровь и кровь того, кто попробует ее украсть. Кровь, кровь! И на себя тот человек тоже навлечет беду. Ханс всплеснул руками и поглядел на меня. Должен сказать, во взгляде его маленьких черных глаз сквозило что-то неприятное. — Чепуха! — отмахнулся я. — Зачем ты говоришь такие глупости? — Потому что это не глупости, баас Аллан. Вот ты смеешься над бедным Хансом, а я узнал это от своего отца, а он от своего, и так велось испокон веку, аминь! Сам увидишь. Да, сам увидишь, как увидел когда-то я и как увидит хеер Марэ, который, если Всевышний не сведет его совсем с ума — он же безумен, баас, и черные это знают, а вы, белые, не замечаете, — доживет до старости и обзаведется хорошим зятем, и зять похоронит его, как положено, в одеяле, когда придет срок. Я решил, что с меня достаточно этого бестолкового разговора. Конечно, нам-то легко посмеиваться над дикарями и их причудливыми суевериями, однако теперь, по своему богатому жизненному опыту, я убедился, что толика истины в этих суевериях присутствует. Туземцы обладают своего рода шестым чувством, каковое человек цивилизованный полностью утратил — во всяком случае, так мне кажется. — К слову, об одеялах, — сказал я, желая сменить тему. — У кого ты забрал эти кароссы? — У кого? Баас, мне дала их мисси! Когда я услышал, что ты будешь спать в повозке, то пошел к ней и одолжил у нее одеяла. Ой, совсем забыл. Она дала мне записку для тебя. — Готтентот сунул руку под грязную рубашку, потом под мышку, потом пошарил в густых волосах и извлек из последнего «потайного места» листок бумаги, скатанный в шарик. Я развернул послание и прочел записку, написанную карандашом по-французски:Буду в саду за полчаса до восхода. Приходи, если хочешь попрощаться. М.— Ответ будет, баас? — спросил Ханс, когда я сунул листок бумаги в свой карман. — Если да, я отнесу, и меня никто не увидит. — Тут его словно посетила некая мысль, и он уточнил: — А почему ты не отнесешь сам? Окошко мисси легко открыть, и она обрадуется тебе, вот увидишь. — Тихо! — цыкнул я. — Я иду спать. Разбудишь меня за час до петухов. Погоди, проверь, чтобы лошадей вывели из крааля и найти их было непросто, на случай, если преподобному вздумается уехать пораньше. Но смотри, не упусти их, мы здесь гости нежеланные. — Хорошо, баас. А знаешь, баас, хеер Перейра, который пытался обмануть тебя на гусиной охоте, спит в пустом доме, в паре миль отсюда. Когда проснется утром, потребует кофе, а его слуга, который будет кофе варить, мой добрый друг. Если хочешь, я могу что-нибудь туда подсыпать. Не убивать, это ведь против закона, как говорится в Библии, а просто чтобы хеер Перейра спятил, об этом-то в Библии ничего не сказано. Я знаю отличные снадобья, белые о них и не догадываются; от них кофе только вкуснее, и они избавят тебя от многих бед. Вот придет хеер Перейра на ферму безодежды, точно кафр, и хеер Марэ, хоть он тоже безумен, увидит его и поймет, что такой зять ему не нужен. — Ступай к дьяволу, Ханс! Или сам ты дьявол? — Я отвернулся и сделал вид, что засыпаю. Наставлять своего верного слугу, преданного, но безнравственного Ханса, чтобы он разбудил меня рано утром, как наставляла леди свою мать в одном стихотворении, вовсе не требовалось; по-моему, в ту ночь я вовсе не сомкнул глаз. Не стану описывать свои терзания, ибо их несложно вообразить, — только представьте себе муки влюбленного юноши, которого норовят разлучить с его первой любовью. Задолго до рассвета я уже был в саду, в том самом саду, где мы встретились впервые, и ждал Мари. Наконец она появилась, скользя между стволами этаким бледным призраком, ибо куталась в какое-то светлое одеяние. О! Мы снова были вдвоем, я и она, одни в этом безмолвии, что предшествует африканскому рассвету, ведь все обитатели ночи удалились в свои логова и укрытия, а те, которые живут на свету, еще спали крепким сном. Она увидела меня и замерла, потом распахнула объятия и молча прижалась к моей груди. Мгновение спустя она прошептала: — Аллан, мне нельзя задерживаться. Если отец застанет нас вместе, он обезумеет и застрелит тебя. Как всегда, она беспокоилась не о себе, а обо мне. — А как же ты, любимая? — спросил я. — Ему не будет до меня дела! Грешно так думать, но я бы желала, чтобы меня он тоже застрелил, и тогда я бы избавилась от этих мучений. Говорила я тебе, Аллан, в тот момент, когда кафры на нас наседали, что умереть было бы лучше. Сердце меня не обманывало. — Значит, надежды нет? — проговорил я. — Он и вправду разлучит нас и увезет тебя в глушь? — Разумеется. Он не передумает. Но надежда есть, Аллан. Через два года, коль Бог даст дожить, я стану совершеннолетней и смогу выйти замуж по своему желанию. Клянусь, что мне не нужен никто, кроме тебя, и мои чувства не изменятся, даже если ты погибнешь завтра. — Благослови тебя Небо за эти слова, — прошептал я. — Что в них особенного? — не поняла она. — Разве я могла сказать что-то другое? Или тебе хочется, чтобы я предала свое сердце и жила дальше униженной и неверной? — Тогда и я клянусь в том же! — Нет, не клянись. Я буду жить, зная, что ты любишь меня. Если меня похитят, прошу, женись на другой доброй и достойной женщине, ибо не пристало, не подобает мужчине жить одному. У нас же, девушек, бывает иначе. Послушай меня, Аллан. Петухи уже подают голос, и скоро станет светло. Оставайся здесь, со своим отцом. Если получится, я буду писать тебе время от времени, рассказывать, куда мы уехали и как живем. А если писем не будет, значит писать нет возможности, либо я не нашла, с кем передать весточку, либо письма затерялись по дороге. Ведь мы уезжаем в те края, где живут одни дикари. — Куда точно вы едете? — спросил я. — По-моему, куда-то на побережье, к заливу Делагоа, где правят португальцы. Мой кузен Эрнан едет вместе с нами. — Она передернула плечами в моих объятиях. — Он наполовину португалец. Он уверяет буров, что переписывается со своими родственниками, и те много чего ему наобещали — дескать, они подыскали нам отличные места для проживания, где нас не достанут англичане. Сам знаешь, Эрнан ненавидит англичан не меньше моего отца. Я негромко застонал. — Я слыхал, что там бродит лихорадка, а земли у залива полны свирепых кафров. — Может быть. Я не знаю, и мне, если честно, все равно. Я просто пересказываю тебе намерения своего отца, но все может измениться, если обстоятельства сложатся иначе. Постараюсь послать тебе весточку, а коль не удастся, я верю, Аллан, что ты разыщешь меня сам. Если мы оба будем живы и ты не разлюбишь меня — ту, кто всегда будет любить тебя, — потом, когда я стану совершеннолетней, ты приедешь, и, кто бы что ни говорил, я выйду за тебя замуж. А если я умру, что вполне может случиться, тогда мой дух будет присматривать за тобой и дожидаться, пока ты не присоединишься ко мне под кровом Всевышнего. Ой, смотри, светает! Я должна идти. Прощай, любовь моя, моя первая и единственная любовь. В жизни или в смерти, мы непременно встретимся снова. Мы крепче обнялись и поцеловались, бормоча ненужные слова, а затем она высвободилась из моих объятий и убежала. Прислушиваясь к шороху ее шагов по покрытой росою траве, я чувствовал себя так, будто мое сердце взяли и вырвали из груди. Да, на мою долю за долгие годы жизни выпало немало страданий, но вряд ли мне доводилось испытывать муки горше, чем в тот час расставания с Мари. Ибо когда все слова сказаны и все дела сделаны, что может быть радостнее чистого восторга первой любви — и что может быть мучительнее ее утраты? Полчаса спустя цветущий сад Марэфонтейна остался позади, а перед нами раскинулся выжженный огнем вельд, черный, как ожидавшая меня впереди жизнь.
Глава 7
АЛЛАНА ЗОВУТ НА ПОМОЩЬ
Две недели спустя Марэ, Перейра и их товарищи-буры, небольшой группой из двадцати мужчин, трех десятков женщин и детей и приблизительно пяти десятков полукровок и слуг-готтентотов, покинули свои дома и отправились в глушь. Я верхом добрался до плоской вершины близлежащего холма и наблюдал оттуда, как длинная вереница фургонов, в одном из которых ехала моя Мари, тянется на север по бескрайнему вельду. Не стану скрывать, меня подмывало пуститься вдогонку и потребовать разговора с моей нареченной и с ее отцом. Но гордость не позволяла так поступить. Хеер Марэ выразился ясно: если я посмею приблизиться к его дочери, он велит выпороть меня шамбоком, то есть длинным кнутом. Быть может, он что-то заподозрил насчет нашего с Мари прощания в саду фермы, не знаю. Зато я знал, что отвечу пулей наглецу, который осмелится замахнуться на меня шамбоком. Тогда между нами встала бы кровь, а эту пропасть преодолеть куда сложнее, чем перейти вброд реки гнева и ревности. Потому я просто смотрел, как фургоны исчезают вдали, а затем направил лошадь вниз по усыпанному валунами склону, втайне надеясь, что она споткнется, я упаду и сломаю себе шею. Впрочем, когда я вернулся в миссию, то порадовался, что обошлось без подобных происшествий. Мой отец сидел на веранде и читал письмо, доставленное верховым-готтентотом. Письмо было от Анри Марэ, и в нем говорилось:Достопочтенный хеер, мой друг Квотермейн! Пишу, чтобы попрощаться с Вами. Пускай Вы англичанин и мы с Вами порою ссорились, но я Вас безмерно уважаю. Друг мой, сейчас, когда мы готовы отправиться в путь, мне вдруг вспомнились Ваши предостережения. Не знаю почему, но они видятся мне путеводной звездой. Увы, что сделано, то сделано, и я уповаю на Небеса. А если с нами все-таки случится нечто дурное, значит такова воля Всевышнего.Отец поднял голову и сказал: — Когда люди страдают от собственных страстей и причуд, они почему-то всегда пытаются возложить вину на Провидение. И продолжил читать письмо вслух:
Боюсь, Ваш сын Аллан, отважный парень, в чем я имел возможность сполна убедиться, и человек честный, наверняка счел, что я обошелся с ним жестоко и отплатил ему черной неблагодарностью. Однако я лишь поступил так, как следовало. Да, Мари, очень похожая на свою мать силой духа и упрямством, поклялась, что никогда не выйдет замуж за другого мужчину, но природа скоро возьмет свое и заставит ее позабыть об этой чепухе, ведь тот, кого я прочу ей в мужья, будет рядом, и он ждет ее согласия. Попросите Аллана от моего имени забыть о Мари; когда подрастет, он встретит какую-нибудь милую английскую девушку. Я принес великую клятву пред Господом и повторяю снова: Аллану не бывать мужем моей дочери, я этого не допущу. Друг мой, еще я хотел бы кое о чем Вас попросить. Вам я доверяю больше, чем всем этим пронырам-агентам. За свою ферму я выручил весьма скромную сумму, и ее половина до сих пор причитается мне от Якоба ван дер Мерва, который с нами не поехал и который скупил все освободившиеся земли. Через год он должен заплатить мне 100 английских фунтов, и я прошу Вас быть моим поверенным и получить с него эту сумму. Кроме того, британское правительство задолжало мне 253 фунта за освобожденных рабов, настоящая цена которых, кстати, составляет около тысячи фунтов. Этим письмом я уполномочиваю Вас, если Вы согласны, получить указанные деньги. Что касается моих претензий к этому вашему треклятому правительству по поводу разорения, учиненного кафрами Кваби, чиновники отказали мне в компенсации под тем предлогом, что нападение было спровоцировано французом Лебланом, моим домочадцем.— Правильно сделали, — заметил мой отец, прерывая чтение.
Когда получите эти средства, молю Вас изыскать подходящий безопасный и надежный случай переправить их мне, где бы я ни находился. О моем местоположении Вам непременно сообщат. Надеюсь, к тому времени я снова разбогатею и уже не буду столь отчаянно нуждаться в деньгах. Засим прощайте, и да пребудет с Вами Всевышний, Чьей милости предаемся мы с Мари, равно как и все прочие буры. Податель сего письма нагонит нас с Вашим ответом на нашей первой стоянке.— Что ж, — проговорил мой отец со вздохом, — полагаю, я должен выполнить его поручение, хотя искренне не понимаю, почему он просит об этом «проклятого англичашку», с которым постоянно ссорился, а не кого-то из своих сородичей. Надо сочинить ответ. Аллан, присмотри, чтобы гонца и его лошадь накормили. Я кивнул. Гонец оказался из числа тех кафров, вместе с которыми мы защищали Марэфонтейн. Это был отличный малый, правда большой любитель выпить. — Хеер Аллан! — воскликнул он и огляделся по сторонам, как бы убеждаясь, что нас не подслушивают. — Для вас тоже есть весточка. — И достал из своего кошеля лист бумаги без имени адресата. Я поспешно развернул письмо. Оно было написано по-французски, чтобы ни один бур не понял, если послание угодит не в те руки:Анри Марэ
Будь храбрым и верным и помни меня, как помню я. До свидания, любовь моя, до скорого свидания!Подпись отсутствовала, но кому, скажите на милость, нужна подпись, если и без того все понятно? Я быстро написал ответ, о содержании которого несложно догадаться; что конкретно говорилось в нем, сейчас уже не припомню, точные слова стерлись из памяти по прошествии лет. Как ни странно, сказанное мной вслух почему-то вспоминается гораздо лучше, нежели написанное, — возможно, причина в том, что, когда я что-либо писал, выражения и мысли словно отлетали прочь и не задерживались более в сознании. Довольно скоро готтентот ускакал, увозя письмо моего отца и мое собственное послание; это был последний раз за целый год, когда мы напрямую переписывались с Анри Марэ и его дочерью. Полагаю, те долгие месяцы стали для меня тяжелейшим испытанием. Я тогда вступал в пору жизни, чреватую немалыми осложнениями; вдобавок в Африке переход от юности к полноценной и осознанной зрелости обыкновенно начинается раньше, чем в Англии, где мне нередко казалось, что двадцатилетние юнцы ведут себя как сущие мальчишки. Обстоятельства же, которые я опишу далее, в моем случае изрядно ускорили и усугубили мое взросление, и потому место веселого паренька быстро занял мучимый беспокойством мужчина, чьи душевные терзания сопровождались типичными страданиями переходного возраста. Сколько ни старался, я не мог забыть Мари, и ее образ вставал перед моим мысленным взором наяву и во сне — особенно во сне, из-за чего меня начала преследовать бессонница. Я сделался угрюмым, чрезмерно чувствительным и чрезвычайно вспыльчивым, а еще подхватил кашель, и мне чудилось — окружающие тоже так думали, — будто я сгораю заживо. Помнится, Ханс однажды спросил, не хочу ли я выбрать и пометить колышками то место, где желаю быть похороненным, дабы убедиться, что не произойдет никакой ошибки, когда я утрачу дар речи. Тогда я крепко его поколотил (насколько могу судить, это был один из тех редких случаев, когда я поднимал руку на туземца). На самом деле, разумеется, я вовсе не собирался умирать. Я хотел жить дальше и жениться на Мари, и участь быть похороненным заботами Ханса меня отнюдь не прельщала. Вот только возможности осуществить заветную мечту и даже просто повидаться с Мари у меня не было, и потому я пребывал в угнетенном состоянии. Да, порою к нам приходили вести об уехавших бурах, но все эти новости были очень и очень невнятными. В трек отправилось великое множество партий, сообщения часто путались и изобиловали, должен признать, жуткими преувеличениями; лишь немногие буры умели писать, надежные гонцы среди кафров попадались крайне редко, а расстояния, нас разделявшие, были поистине едва преодолимы. По слухам, партия, которая увезла Мари, добралась до земель, ныне известных как Трансвааль, а именно до местности под названием Рустенберг, откуда выдвинулась в направлении залива Делагоа — и сгинула без следа в вельде. От Мари за все это время не было ни словечка… Озабоченный моим плачевным состоянием, отец предложил мне для исцеления поехать в богословский колледж в Кейптауне и заняться подготовкой к посвящению в сан. Однако церковная стезя меня ничуть не привлекала, быть может, потому, что я не ощущал себя достаточно благочестивым, — или потому, что понимал: сан священника не позволит мне поспешить на север, едва прозвучит долгожданный призыв. Скажу честно, я нисколько не сомневался, что дождусь этого дня. Отец, желавший, чтобы я рано или поздно внял призыву иного рода, вел со мной наставительные беседы. Ему хотелось, чтобы я избрал тот же путь, которому следовал он сам, иного он не видел — как, впрочем, и я сам. Конечно, он был отчасти прав, утверждая, что в своем упорстве я рискую остаться без профессии, ведь таковой никак нельзя назвать охоту на крупную дичь и торговлю с кафрами. Я вяло отнекивался. Пусть это занятие не принесло мне несказанного богатства, ныне, приближаясь к порогу смертного существования, я, признаться, радуюсь, что не нашел другого. Ремесло охотника подходило мне как нельзя лучше; та незначительная роль в мировой истории, которую мне выпало сыграть, была всецело обусловлена, как выяснилось, моим умением метко стрелять (вкупе с куда более распространенным даром наблюдательности и склонностью к доморощенному философствованию). Наши споры по поводу церкви становились порою весьма жаркими — не составит труда догадаться, что я упорствовал в своих заблуждениях, как говаривал мой отец, особенно когда речь заходила об обращении кафров в христианство. Неудивительно, что я ощутил глубочайшую признательность Небесам, когда случилось событие, побудившее меня покинуть дом. История обороны Марэфонтейна разошлась широко, а сплетни о стрелковом поединке в Груте-Клуф, наряду со слухами о моей небывалой меткости, — и того шире. И в итоге власти сочли, что меня стоит привлечь к участию в пограничных стычках с кафрами, которые происходили постоянно; я получил даже звание лейтенанта в пограничном корпусе. Та война не имеет никакого отношения к настоящей истории, потому я не намерен на ней останавливаться. В пограничном корпусе я прослужил год и пережил множество приключений, пару раз добивался успеха и испытал немало неудач. Однажды меня легко ранили, дважды мне едва удалось избежать гибели. Я был наказан за бессмысленный риск, обернувшийся смертью нескольких человек. Дважды удостоился награды за проявленное мужество, как говорилось в приказе, — во-первых, вынес с поля боя раненого товарища под дождем стрел и ассегаев, во-вторых, под покровом ночи в одиночку проник во вражеское укрепление и застрелил тамошнего вождя. Наконец после череды стычек было заключено шаткое перемирие, и мой корпус распустили. Я вернулся домой уже не юнцом, а взрослым мужчиной, понюхавшим пороху. Изрядный опыт я приобрел в тесном общении с кафрами — освоил их наречия, изучил историю, повадки и образ мыслей. Кроме того, свел знакомство со многими британскими офицерами и узнал от них немало того, чему попросту не имел возможности обучиться ранее, — прежде всего, нормы и правила поведения английского джентльмена, кои, смею надеяться, впредь исправно соблюдал. Не прошло и трех недель после возвращения в миссию (я как раз начал изнывать от безделья и скуки), когда наконец-то прозвучал тот призыв, который я так жаждал услышать. К нам заглянул шмуз, то есть белый из низов общества; обычно так называли евреев, что торгуют с невежественными бурами и кафрами и обманывают их налево и направо. Он прикатил на повозке с товарами. Я не собирался якшаться с подобными типами и хотел его прогнать, однако он спросил, не я ли буду Аллан Квотермейн. Я ответил утвердительно, и тогда он сказал, что у него есть для меня письмо, и достал пакет, обернутый в парусину. Я стал расспрашивать, где он это взял, и он сообщил, что получил пакет от человека, которого встретил в Порт-Элизабет, торговца с Восточного побережья. Тот, узнав, что шмуз направляется в округ Крэдок, попросил доставить послание по адресу. Торговец уверял, что поручение крайне важное и получатель достойно вознаградит гонца. Пока шмуз — думаю, он точно был еврей — разглагольствовал, я разорвал парусину. Внутри находился кусок холста, пропитанный маслом от промокания. Красными чернилами или краской на нем были выведены мое имя и имя моего отца. Этот холст я тоже разорвал, приложив некоторые усилия, ибо его крепко прошили, и обнаружил листок бумаги, тоже с нашими именами, исписанный убористым почерком Мари. Великие Небеса! Сердце мое чуть не выскочило из груди. Я велел Хансу присмотреть за евреем и накормить его, а сам ушел в свою комнату и стал читать письмо, которое гласило:
Милый Аллан! Не знаю, получил ли ты другие мои письма, которые я отправляла, и дойдет ли эта весточка. Но все же я отсылаю ее с португальцем-полукровкой, который идет к заливу Делагоа, милях в пятидесяти от нашего местопребывания. Мы живем близ Крокодильей реки[197]. Мой отец назвал это место Марэфонтейном в память о старой ферме. Здесь я и пишу тебе это письмо. Если ты получал предыдущие, то тебе известно обо всех опасностях, с которыми нам довелось столкнуться на пути: о нападении кафров под Зутпансбергом, о гибели одной из наших партий и так далее. Если же нет, эту историю можно поведать и потом, она слишком длинная, а бумаги у нас в обрез, да и карандаш стачивается. Довольно будет сказать, что мы, числом в тридцать пять белых людей, считая мужчин, женщин и детей, выдвинулись в начале лета, когда трава начала расти, из округа Лиденбург. Нас ожидала жуткая дорога через горы и разлившиеся реки. После многочисленных задержек, занимавших порою месяцы, приблизительно восемь недель назад мы достигли вот этого места; я пишу тебе в начале июня, если мы, конечно, не сбились со счета и правильно ведем календарь. Места здесь очень красивые: ровный и обильный вельд, высокие деревья. В паре миль — большая река, которую называют Крокодильей. Отыскав источник воды, мой отец и Эрнанду Перейра, которому теперь все подчиняются, решили остановиться именно тут, хотя кое-кто хотел осесть поближе к заливу Делагоа. Вышла крупная ссора, но в конце концов мой отец — точнее, Эрнанду — настоял на своем, ведь волы уже едва волочили ноги, а многие и вовсе умерли от укусов ядовитой мухи цеце. Поэтому мы распределили участки — а земли здесь хватит на сотни семей — и принялись строить примитивные дома. Затем начались неприятности. Кафры похитили большинство наших лошадей, но на поселение напасть не осмелились; остальные лошади, кроме двух коней Перейры, поумирали от болезни — последняя сдохла вчера. Волы тоже все перемерли, от укусов мухи цеце или от иных хворей. А хуже всего то, что эта местность, такая чудесная на вид, заражена лихорадкой; по-моему, ее приносят туманы с реки. Из тридцати пяти белых десятеро уже мертвы — двое мужчин, три женщины и пятеро детей; другие пока болеют. Милостью Господа мой отец, кузен Перейра и я сама не заразились, но, хотя все мы отличаемся отменным здоровьем, трудно сказать, сколько еще нам отпущено. По счастью, патронов и пороха у нас в избытке, а эти края так и кишат дичью, и те мужчины, что способны стоять на ногах, добывают пропитание, а мы, женщины, запасаем билтонг, засаливая мясо и вывяливая его на солнце. Голодать нам явно не придется, даже если вдруг дичь пропадет. Увы, милый Аллан, как ни жаль, мы наверняка умрем, если к нам не подоспеет помощь. Лишь Господу ведомо, какие муки мы претерпеваем и сколь ужасные картины болезни, смерти и запустения нас окружают! Сейчас рядом лежит маленькая девочка, умирающая от лихорадки… О Аллан, если сможешь, помоги нам, пожалуйста! Из-за больных мы не в состоянии двинуться к заливу Делагоа. Даже если мы доберемся туда, у нас нет денег на какое-либо полезное приобретение, потому что фургон, где лежали все денежные запасы, утонул в разлившейся реке. Сумма была велика, с учетом золота Эрнанду, которое он забрал из Капской колонии. И двигаться дальше мы тоже не можем, поскольку лишились лошадей. Мы пробовали договориться с жителями побережья насчет покупки тягловых животных в кредит, там они будто бы в избытке. Однако родственники кузена Эрнанду, о которых он столько говорил, то ли умерли, то ли уехали, а никто другой нам на слово не верит. С живущими по соседству кафрами, у которых достаточно домашнего скота, мы поссорились, ибо мой кузен в компании других буров попытался забрать у них несколько животных безо всякой платы. Словом, наше положение выглядит безнадежным, и остается лишь дожидаться смерти. Аллан, мой отец говорит, что просил твоего отца получить какие-то деньги, которые ему причитались. Если бы ты или кто-то из твоих друзей доставил эту сумму морем в Делагоа, мы смогли бы, наверное, купить волов, чтобы запрячь несколько фургонов. Тогда мы двинулись бы обратно и присоединились к той партии буров, которая, насколько нам известно, пересекла горы Кватламба[198] и ушла в Наталь. Или добрались бы до залива и нашли корабль, чтобы уплыть подальше от этого жуткого места. Если сможешь приехать, туземцы покажут тебе, где мы живем. Понимаю, глупо надеяться, что ты бросишь все и приедешь — или что застанешь нас по-прежнему в живых. Аллан, мой ненаглядный, позволь добавить кое-что еще. Придется писать коротко, бумага почти закончилась. Надеюсь, ты жив и здоров, и не знаю, помнишь ли ты меня — ту, что оставила тебя давным-давно, будто много лет назад, — но мое сердце хранит верность тебе, как я и обещала, и будет хранить до самой смерти. Конечно, Эрнанду настаивал, чтобы я вышла за него, и мой отец с ним соглашался. Но я упорно отказывалась, а теперь, в нашем нынешнем положении, разговоров о свадьбе уже не заводят, и это единственная хорошая новость, какой я могу поделиться. Аллан, мое совершеннолетие совсем близко, если Бог даст дожить до этого дня. Но ты, верно, не помышляешь более о браке со мной и женат, должно быть, на другой женщине. К тому же ныне я и мои спутники сделались шайкой нищих бродяг. Все равно я должна была, как мне кажется, это написать. И зачем только Всевышний вселил в сердце моего отца желание покинуть колонию из ненависти к британскому правительству? Зачем он послушался Эрнанду Перейру и других? У меня нет ответа, но я вижу, как он страдает. Печально видеть его таким, и мне чудится, что порой он словно теряет рассудок. Все, бумага закончилась, гонец готов ехать, а маленькая больная девочка умирает, и мне нужно позаботиться о ней. Попадет ли это письмо в твои руки хоть когда-нибудь? За доставку мне пришлось заплатить некоторую сумму — четыре английских фунта. Если письмо не дойдет, мы обречены. Если не сможешь приехать сам или кого-то прислать, хотя бы помолись за нас. Ты мне снишься ночами, думаю о тебе дни напролет, и просто не передать словами, как я тебя люблю.Таково было это страшное письмо. Я сохранил его, оно лежит передо мной — потрепанный клочок бумаги, покрытый убористым почерком, с пятнами от слез — слез Мари, которая плакала, когда писала письмо, и моих собственных, которые я пролил, когда читал и перечитывал послание. Не знаю, возможно ли более тягостное напоминание о жестоких страданиях буров-переселенцев, в особенности об участи тех из них, кто добрался до отравленного вельда в окрестностях залива Делагоа, подобно партии Марэ и людей, последовавших за Тричардом. Лучше уж, как сталось со многими из них, найти смерть под копьями Мзиликази[199] и прочих дикарей, чем медленно и неумолимо угасать от лихорадки и истощения. Когда я закончил читать письмо, в дом вошел мой отец, вернувшийся после обхода кафров-христиан по соседству. Я побрел в гостиную ему навстречу. — Аллан, что с тобой?! — воскликнул он, увидев мое залитое слезами лицо. Я молча протянул ему листок — ком в горле мешал говорить. Отец медленно прочел письмо, запинаясь на некоторых французских фразах. — Боже милосердный, какие печальные вести! — произнес он. — Вот бедолаги! О чем они только думали? Чем мы можем им помочь? — Отец, мне приходит в голову только одно. Я поеду туда. Во всяком случае, попробую. — Ты спятил? — резко спросил он. — Да разве способен человек в одиночку добраться до залива Делагоа, купить скот и спасти этих людей? Они почти наверняка к тому времени умрут! — Ну, добраться и купить вполне возможно. Корабль доставит меня до залива. У тебя есть деньги Марэ, отец, а у меня припасены пятьсот фунтов, которые оставила мне в прошлом году покойная тетушка из Англии. Хвала Небесам, они лежат нетронутыми в банке в Порт-Элизабет, ведь на службе мне не на что было их тратить. Значит, всего получается около восьмисот фунтов, на это можно купить немало голов скота и прочих вещей. Что касается жизни и смерти, это зависит не от нас. Не исключено, что переселенцев и вправду уже не спасти, все они погибли. Но я должен попытаться. — Эх, Аллан, Аллан!.. Ты же мой единственный сын! Если ты уедешь, мы можем никогда больше не увидеться. — Отец, не так давно я пережил немало неприятностей, но по-прежнему жив и здоров. И потом, если Мари умерла… — Я помолчал, затем заговорил снова, с юношеским пылом: — Не пытайся остановить меня, отец! Говорю тебе, это бесполезно. Подумай о том, что написано в этом письме. Да лучше мне сделаться помойным псом, чем отсиживаться здесь, пока Мари умирает! Ты бы сам как поступил, будь на месте Мари моя мать? — Ты прав, — с грустью ответил отец. — Я бы не стал отсиживаться. Ступай, Аллан, и да пребудет с тобой Господь! И прости меня, если сможешь, ибо я боюсь, что более тебя не увижу. — Тут он отвернулся. Чуть погодя мы занялись приготовлениями. Позвали шмуза и расспросили о корабле, который привез письмо с берегов залива Делагоа. Выяснилось, что это, похоже, принадлежащий англичанину бриг под названием «Семь звезд», а капитан корабля, некий Ричардсон, вроде бы собирался отплыть обратно утром 3 июля, то есть через двадцать четыре часа. Ровно сутки! А до Порт-Элизабет сто восемнадцать миль! К тому же бриг может отплыть раньше, если закончит погрузку, а ветер и погода будут благоприятствовать. А если корабль уйдет, следующей оказии придется ждать недели, если не месяцы, — пакетботов в ту пору еще не было. Я посмотрел на часы. Четыре пополудни; судя по календарю, что висел на стене и показывал приливы в Порт-Элизабет и в других южноафриканских гаванях, бриг вряд ли выйдет в море ранее восьми утра. Значит, предстоит проскакать почти сто двадцать миль по пересеченной местности часов, скажем, за четырнадцать. С другой стороны, дороги у нас в основном хорошие и сухие, реки не разливались (разве что одну придется переплыть), а луна как раз полная… Едва можно успеть, но все-таки шанс есть. И как тут не порадоваться, что моя резвая гнедая кобылка не досталась Эрнанду Перейре! Я окликнул Ханса, который возился по хозяйству снаружи, и тихо сказал ему: — Мне нужно в Порт-Элизабет. Я должен быть там к восьми часам завтра утром. — Allemachte! — вскричал готтентот, которому доводилось несколько раз проделывать этот путь. — Ты едешь со мной, сначала в Порт-Элизабет, потом к заливу Делагоа. Оседлай кобылу и чалого жеребца и возьми еще гнедого про запас. Накорми как положено, но воды не давай. Выезжаем через полчаса. — Затем я перечислил, какое оружие надо взять, напомнил насчет седел, одежды и одеял и велел не мешкать. Ханс нисколько не испугался. Он вместе со мной нес службу на границе и потому был привычен к внезапным отъездам. Думаю, скажи я ему, что отправляюсь на луну, он лишь повторил бы свое излюбленное словечко «Allemachte» и послушно поскакал бы следом. Следующие полчаса прошли в суете. Деньги Анри Марэ извлекли из надежного домового хранилища и поместили в пояс из шкуры, которым я обвязался. Мой отец составил письмо к управляющему банком в Порт-Элизабет, указав меня получателем суммы, хранящейся на мое имя в этом банке. Мы перекусили и собрали кое-какую еду в дорогу. Проверили лошадиные копыта и подковы, упаковали смену одежды в седельные мешки. Наверняка были и другие срочные дела, которые пришлось переделать и о которых я уже позабыл. Так или иначе, спустя тридцать пять минут высокая сухопарая кобыла стояла у дверей дома. За нею восседал на спине чалого жеребца верный Ханс, с журавлиным пером в волосах. Он держал в руке повод гнедого четырехлетки, которого я прикупил по случаю еще жеребенком, вместе с кобылой. С ранних лет его откармливали зерном, и он вырос крепким и статным конем, хоть и уступал резвостью своей матери. Мой опечаленный старый отец, совершенно растерявшийся из-за спешности сборов, крепко обнял меня. — Благослови тебя Бог, мальчик мой, — сказал он. — У меня было мало времени, чтобы поразмыслить как следует, но я уповаю, что все в этом мире к лучшему и мы скоро увидимся снова. Если же нет, вспомни, чему я тебя учил; а если мне суждено пережить тебя, я буду помнить, что ты погиб, исполняя свой долг. О, сколько бед навлекла на всех нас беспримерная глупость этого Анри Марэ! А я ведь его предупреждал! Прощай, мой дорогой мальчик, прощай, я стану молиться за тебя, а что до всего остального — что ж, кому какое дело, отчего седовласый старик сойдет в могилу?.. Я расцеловал отца и с тяжестью на сердце вскочил в седло. Пять минут спустя миссия осталась далеко позади. Через тринадцать с половиной часов я натянул поводья на набережной Порт-Элизабет, как раз вовремя, чтобы перехватить капитана Ричардсона. Тот спускался в шлюпку, чтобы плыть на бриг, который уже распустил паруса. Я еле ворочал языком от усталости, однако сумел объяснить капитану, как обстоят дела, и уговорил его дождаться следующего прилива. Затем, не уставая восхвалять Небеса за резвость и выносливость моей кобылы — чалый сдался в тридцати милях от города, и Хансу пришлось пересесть на гнедого, но готтентот все равно отстал, — я направил бедное животное на близлежащий постоялый двор. Она справилась отлично, и никакая другая лошадь во всей стране не смогла бы ее опередить. Примерно через час появился Ханс, нахлестывая гнедого; позволю себе заметить, что оба коня, гнедой и чалый, позднее оправились. Много лет они верно служили мне, пока совсем не состарились. Я через силу поел и немного отдохнул, а затем отправился в банк. Добился, чтобы меня отвели к управляющему, рассказал тому, что мне нужно, и, с некоторыми сложностями, поскольку золота в Порт-Элизабет не слишком много, получил на руки три сотни фунтов золотыми соверенами[200]. Остаток мне выдали чеком на имя какого-то агента с берегов Делагоа, заодно с рекомендательными письмами к этому агенту и к португальскому губернатору, который, как выяснилось, задолжал сему финансовому учреждению. Поразмыслив, я оставил себе письма, а чек возвратил и на эти недополученные две сотни фунтов закупил всевозможное снаряжение, которое не стану перечислять, но которое пригодилось бы для торговли с кафрами Восточного побережья. Вышло так, что я почти полностью опустошил лавки Порт-Элизабет; даже с помощью Ханса и лавочников мне едва хватило времени на то, чтобы переправить покупки на борт «Семи звезд». Если коротко, через двадцать четыре часа после выезда из ворот миссии мы с Хансом наблюдали, как тает за кормой брига Порт-Элизабет и как раскидывается впереди бурливый морской простор.В жизни и в смерти твоя Мари
Глава 8
ЛАГЕРЬ СМЕРТИ
Путешествие проходило благополучно, вот только подводило самочувствие… Я не бывал в море с детских лет и потому, вовсе не будучи прирожденным моряком, начал страдать от морской болезни, едва мы вышли из гавани; с каждым днем пучина становилась все неспокойнее, и мои страдания усиливались. Сколь бы ни был я крепок физически, качка меня попросту извела. А к физическим неудобствам добавлялись еще душевные терзания, каковые, думаю, легко будет вообразить всякому, по этому я не стану снова их описывать. Порою мне и вправду хотелось, чтобы наш бриг, переваливая через очередную волну, вонзился носом в воду на полном ходу, до самого клотика, и мои муки окончились бы вместе с жизнью. Впрочем, мои мытарства — так казалось мне в редкие мгновения, когда я преодолевал изнурение и обращал внимание на окружающих, — не шли ни в какое сравнение со страданиями моего слуги Ханса. Он никогда прежде не ступал на борт корабля, даже на лодках не плавал. Можно сказать, ему до сих пор везло. Я уверен: знай готтентот заранее обо всех ужасах морского путешествия, он нашел бы тот или иной способ отказаться от плавания на бриге, несмотря на всю привязанность ко мне. Бедняга, изнемогая от страха, распростерся на полу моей крохотной каюты и перекатывался туда-сюда, когда корабль давал крен то на один, то на другой борт. Ханс не сомневался, что нам суждено утонуть, и в промежутках между приступами морской болезни оплакивал нашу скорбную участь по-голландски, по-английски и на разных туземных наречиях, пересыпая причитания молитвами и проклятиями самого низменного, самого, если угодно, реалистического пошиба. Спустя сутки плавания Ханс уведомил меня, сопровождая свои слова громкими стонами, что все его внутренности от качки вывалились наружу и теперь он внутри совершенно пуст, как тыква. Еще он заявил, что все эти беды обрушились на него, поскольку он имел глупость отказаться от веры предков (интересно, что это была за религия) и позволил «отмыть себя набело» — то есть согласился окреститься у моего отца. Я ответил, что он действительно сделался из смуглокожего белым и разумнее ему таким и оставаться, ведь ясно же, что боги готтентотов не желают иметь дела с тем, кто им изменил. Ханс состроил обиженную физиономию, и это было столь уморительно, что, вопреки одолевавшим меня мучениям, я не мог не рассмеяться; он же издал протяжный стон и замолчал так резко, что я испугался, как бы готтентот и вправду не умер. Однако матрос, приносивший еду, — о, что это была за еда! — уверил меня, что с Хансом все в порядке, и помог крепко привязать его к ножкам койки, за руку и за ногу, чтобы мой слуга не поранился, катаясь по полу. На следующее утро Ханс очнулся, и его напоили бренди; на пустой желудок мой слуга быстро опьянел и с того мгновения начал смотреть на жизнь веселее. Особенно веселым он становился тогда, когда наступала пора принимать «жгучее лекарство». Подобно большинству готтентотов, Ханс любил спиртное и ради рюмочки-другой готов был примириться со многим, даже с яростными обличениями моего отца. Так или иначе, на четвертый день плавания по бурным волнам мы достигли отмели у Порт-Наталя и на короткий срок очутились в безопасной гавани, под прикрытием мыса, за которым раскинулась чудесная бухта — на ее берегах ныне стоит город Дурбан. В те дни поселение на берегу смотрелось жалко, состояло из нескольких кособоких домишек, позднее сожженных зулусами, и десятка кафрских хижин. Последнее неудивительно, потому что белые, которые там проживали, держали при себе туземных слуг, а также, не стану отрицать, обзаводились женами-туземками. Мы провели в Порт-Натале два дня, поскольку капитан Ричардсон доставил какой-то груз английским поселенцам — кое-кто из них завел торговлю с дикарями и с бурами, что начали партиями прибывать в те края по суше. Я поспешил сойти на берег, но Ханса оставил на корабле, чтобы ему не взбрело в голову сбежать. Не тратя времени впустую, я постарался раздобыть сведения о текущем положении дел, в особенности относительно намерений и передвижений зулусов, народа, с которым мне было суждено свести вскоре близкое знакомство. Вряд ли стоит уточнять, что я расспрашивал равно туземцев и белых насчет партии Марэ, но выяснилось, что о такой никто даже не слышал. Зато я узнал, что мой знакомец Питер Ретиф с большим отрядом пересек горы Кватламба, что ныне зовутся Драконовыми, и отправился в Наталь. Ретиф и его спутники собирались поселиться в тех местах, если им разрешит вождь зулусов Дингаан, туземный царек, воины которого наводили панику на окрестности. На третье утро стоянки — к моему несказанному облегчению, ибо я опасался, что мы можем задержаться в Порт-Натале, — бриг поднял паруса и отплыл с попутным ветром. Через три дня мы вошли в залив Делагоа, обширное водное пространство, протянувшееся на много миль в длину и в ширину. Несмотря на отмель при входе, это лучшая естественная гавань Юго-Восточной Африки, ныне, увы, не принадлежащая Англии[201]. Шесть часов спустя мы бросили якорь у песчаного острова, на котором высился полуразрушенный форт; под стенами форта ютилось грязное поселение Лоренсу-Маркиш, где португальцы держали малочисленный гарнизон, в основном из цветных. Пришлось проходить таможню, если можно, конечно, так выразиться. В итоге мне позволили выгрузить свои пожитки, пошлина на которые была поистине чудовищной — я пожертвовал двадцатью пятью английскими соверенами, что разошлись по рукам местных чиновников, начиная от исполнявшего обязанности губернатора и заканчивая вечно пьяным чернокожим трубочистом, сидевшим в сторожевой будке на набережной. Рано утром бриг снова отправился в путь: у капитана случилась ссора с чинушами, которые вознамерились задержать корабль, уж не знаю почему. Курс лежал к портам Восточной Африки и, сдается мне, на Мадагаскар, где велась прибыльная торговля скотом и рабами. Капитан Ричардсон заметил, что, возможно, вернется в Лоренсу-Маркиш через пару-тройку месяцев — или не вернется. К слову, последнее предположение оказалось верным: бриг «Семь звезд» сел на мель где-то выше по побережью, а команда после многих тяжких испытаний добралась до Момбасы. Что ж, меня этот бриг и вправду выручил; позднее стало известно, что целый год после прибытия «Семи звезд» ни один другой корабль не входил в залив Делагоа. Не перехвати я бриг в Порт-Элизабет, мне оставалось бы одно: идти к своей цели по суше. Подобное путешествие растянулось бы на многие месяцы, да и в одиночку такую дорогу не одолеть. Но вернусь к своему рассказу. В Лоренсу-Маркиш не было постоялого двора. Благодаря любезности местного жителя и его полукровки-жены, немного понимавшей по-голландски, я сумел найти пристанище в полуразрушенном строении, которое принадлежало беспутному типу, именовавшему себя доном Жозе Хименешем (на деле он тоже был полукровкой). Здесь мне улыбнулась удача. Дон Жозе, когда бывал трезвым, вел торговлю с дикарями и годом ранее прикупил у них по случаю два отличных фургона, обшитых воловьими шкурами. Быть может, кафры украли эти фургоны у каких-то скитальцев-буров, или имущество досталось им в качестве добычи, после того как владельцы погибли или умерли от лихорадки. Дон Жозе охотно продал мне фургоны. Помнится, я заплатил ему двадцать фунтов за оба и еще тридцать — за дюжину волов, которых он приобрел одновременно с фургонами. Животные африкандерской породы выглядели спокойными и выносливыми, после долгого отдыха они окрепли и отъелись. Разумеется, дюжины волов было недостаточно даже для одного фургона, не говоря уже о двух. Поэтому, прослышав о живущих неподалеку туземцах, у которых много скота, я немедленно пустил слух, что готов покупать животных и буду расплачиваться одеялами, тканями, бусами и прочим добром. Всего через два дня мне привели четыре или пять десятков голов на выбор — приземистых зулусских животных, причем отборных, крепких, привычных к местному вельду и стойких к местным болезням. Вот тут-то и пригодилась купленная у дона Жозе дюжина обученных волов. Мы с Хансом разделили их поровну на оба фургона (два впереди, два позади, два посредине) и добавили к ним зулусских; в итоге каждая упряжка составляла шестнадцать животных, которыми теперь было сравнительно просто управлять. Великие Небеса, сколько дел мы переделали за ту неделю, что пришлось провести в Лоренсу-Маркиш! Мы готовили фургоны, загружали снаряжение, покупали животных и приучали к ярму, запасались провизией, нанимали туземцев — среди них мне посчастливилось отыскать восьмерых зулусов, желавших вернуться в родные края, откуда они когда-то ушли с переселенцами-бурами. По-моему, на сон у нас оставалось от силы два-три часа в сутки. Наверняка возникнут вопросы, какова была моя цель, куда я направился и о чем говорил с местными. Начну с последнего, пожалуй. Я старательно искал любые сведения, которые могли оказаться полезными, но мои поиски были безуспешными. Мари писала, что буры разбили лагерь на берегу Крокодильей реки, приблизительно в пятидесяти милях от залива Делагоа. Я расспрашивал при встрече каждого португальца — увы, таких встреч было немного, — доводилось ли тому слышать о таком поселении буров. Никто, похоже, ничего не знал, разве что мой хозяин дон Жозе что-то припоминал, однако весьма смутно. Беда была в том, что немногочисленные жители Лоренсу-Маркиш чересчур предавались возлияниям и другим пагубным порокам, чтобы интересоваться происходящим вокруг. А ту земцы, с которыми тут обращались грубо, словно те были рабами, или воевали, если те противились, мало что сообщали, да и в сказанном была лишь толика правды; обе расы разделяла застарелая ненависть, переходившая по наследству от поколения к поколению. Словом, от португальцев я не узнал ровным счетом ничего. Тогда я обратился к кафрам, прежде всего к тем, у которых покупал скот. Они слышали, что какие-то буры вышли к берегам Крокодильей реки несколько месяцев назад (когда именно, точноустановить не удалось). Но в тех землях, говорили мне кафры, правит враждебный вождь, который убивает всех чужих туземцев, туда забредающих. Поэтому достоверно мало что известно. Один кафр, правда, сказал, его рабыня проходила теми местами несколько недель назад и уверяет, будто, по слухам, эти буры все умерли от болезни. Дескать, она видела издали верхушки фургонов, так что фургоны-то пока целы, даже если хозяева их мертвы. Я попросил привести эту женщину, но туземец наотрез отказался. После долгих уговоров он предложил мне ее купить — мол, она его утомила. Я сторговался с этим типом и согласился отдать за рабыню три фунта медной проволоки и восемь ярдов синего холста. На следующее утро мне привели чрезвычайно уродливую туземку с большим и приплюснутым носом, явно уроженку глубинных африканских земель; должно быть, в свое время ее схватили арабы, а потом несколько раз перепродавали. Звали женщину Джил — если я правильно воспроизвел дикарское произношение. Пришлось немало потрудиться, чтобы ее разговорить. В конце концов выяснилось, что один из тех кафров, которых я недавно нанял, отчасти понимает ее наречие. Вдобавок Джил боялась меня, потому что никогда прежде не видела белого человека и была убеждена, что я купил ее то ли для жертвоприношения, то ли для чего-то не менее жуткого. Но когда женщина уверилась в том, что никто ее не обидит, то сразу стала общительной и поведала мне ту же историю, какую я уже слышал от ее бывшего хозяина, почти слово в слово. Конечно, я не преминул спросить, может ли она отвести меня туда, где видела фургоны. Она ответила утвердительно. Дескать, она ходила многими дорогами, но хорошо помнит каждую из них. Ничего другого и не требовалось от этой женщины, которая, скажу, забегая вперед, стала источником многих неприятностей. Бедняжка, видимо, до сих пор не сталкивалась с проявлениями доброты, и ее признательность за мою малую ласку была столь велика, что туземка сделалась для меня помехой. Она преследовала меня буквально повсюду, пыталась мне помогать — по-своему, по-дикарски, даже пробовала разжевывать для меня еду, стоило отвернуться, — и всячески оберегала. Пришлось выдать ее замуж, отчасти против воли, за одного из нанятых мной кафров. Он стал для Джил очень хорошим мужем, однако, когда его служба завершилась, она пожелала расстаться с ним и последовать за мной. В общем, мы поручили этой Джил быть проводником. Предстояло одолеть около пятидесяти миль, такое расстояние по хорошей дороге любая крепкая лошадь пройдет за восемь часов или быстрее. Но ни лошадей, ни дорог не было — впереди лежали болота, буш и каменистые склоны. Необученные волы путались в постромках, и на первые двенадцать миль ушло три дня, хотя затем дело наладилось. Можно спросить, почему я не послал никого вперед. Но кого было посылать, если никто не знал, куда идти, за исключением Джил, с которой я боялся расставаться, предполагая, что она сбежит? И потом, разве гонец сумеет помочь? Как уверяла молва, в лагере никого не осталось в живых, а мертвым ничем не поможешь. А если есть выжившие, можно было лишь надеяться, что они протянут еще немного. Джил, повторюсь, я от себя отпускать не хотел — и не осмеливался бросить фургоны и уехать с нею вперед. Я ведь знал, что если так поступлю, то никогда больше своих фургонов не увижу: только страх перед белым человеком, который отличается от португальцев, удерживал кафров от грабежа и угона. Дорога была поистине ужасной. Сперва я хотел идти по течению Крокодильей реки и, скорее всего, исполнил бы свое намерение, не повстречайся мне туземка Джил. И это оказалось к лучшему, ибо впоследствии я выяснил, что русло реки очень извилистое, в нее впадает множество непреодолимых притоков, берега же густо заросли лесом. А Джил повела нас по старой дороге работорговцев, которая, не отличаясь укатанностью, все-таки обходила стороной заболоченные низины и места обитания племен, свирепость которых опробовали на своей шкуре многие поколения гнусных торговцев живым товаром. Минуло девять дней этого тяжкого пути. Мы заночевали близ вершины длинного склона, усеянного крупными валунами, причем пришлось на подъеме откатывать кое-какие глыбы вручную, чтобы фургоны могли проехать. Волы улеглись на землю; мы их не распрягали, чтобы они в ночи не убрели прочь от стоянки. Вдобавок в отдалении порыкивали львы; однако дичи вокруг встречалось в изобилии, поэтому хищники вряд ли заинтересовались бы нами. Едва рассвело, мы распрягли волов и пустили их пастись на густой траве, а сами занялись приготовлением пищи для себя. Взошло солнце, и я увидел внизу широкую равнину, утопающую в тумане, а к северу, справа от нас, в густой его пелене скрывалась Крокодилья река. Но вот показались макушки высоких деревьев. Постепенно туман рассеивался и вскоре превратился в легкую дымку, которая растаяла на солнце. Я любовался этой картиной, и тут туземка Джил подкралась ко мне в своей привычной манере, тронула меня за плечо и указала на группу деревьев вдалеке. Присмотревшись, я разглядел между деревьями нечто, принятое мной поначалу за белые камни. Но стоило туману развеяться, как мне стало ясно, что это вполне могут быть крыши фургонов. Тут подошел зулус, понимавший лепет Джил. Я обратился к нему, кое-как изъясняясь по-зулусски, и попросил узнать, что хочет сказать Джил. Он расспросил туземку. По ее словам, перед нами были передвижные дома амабуна, то есть буров, и она видела их на том же самом месте два месяца назад. Мое сердце замерло, когда я услышал эти слова, и добрую минуту язык отказывался повиноваться мне. Те самые фургоны! Но что — и кого — я среди них найду? Я окликнул Ханса и велел ему собираться как можно скорее, пояснив, что внизу виден лагерь Мари. — Пусть волы пасутся, баас, — сказал готтентот. — К чему торопиться? Раз фургоны там, значит люди давно мертвы. — Делай что велят, ты, глупый негодник! — воскликнул я. — И нечего пророчить смерть, как старая ведьма! Я пойду вперед, а ты запрягай фургоны и следуй за мной, когда соберетесь. — Нет, баас, нельзя идти одному. Это опасно. На тебя могут напасть кафры или дикие звери. — Я все равно пойду. Если боишься за меня, позови парочку зулусов, пусть идут со мной. Несколько минут спустя я уже торопился вниз по склону, а за мной следовали двое зулусов с копьями. До лагеря было семь миль. Не думаю, что когда-либо мне удавалось преодолеть такое расстояние быстрее, чем в то утро, хотя в юности я неплохо бегал, будучи легок на ногу и крепок телом. Мои сопровождающие отстали, и, когда я достиг деревьев, зулусов еще не было видно. Я перешел с бега на шаг, убеждая себя, что делаю это, чтобы восстановить дыхание. А на самом деле меня так пугало зрелище, которое мне предстояло увидеть, что я нарочно медлил. Пока в душе жила слабая надежда, но не исключено, что в лагере она сменится полнейшим отчаянием. Теперь я мог видеть за фургонами какие-то постройки — несомненно, те самые «примитивные дома», о которых писала Мари. Ни одной живой души! Не видно ни волов, ни дымков, ни иных признаков жизни! И звуков никаких не доносится… Выходит, треклятый Ханс был прав. Они все умерли. Дурные предчувствия обернулись ледяным спокойствием. Я смирился с утратой. Все кончено, я спешил напрасно. Миновав ближайшие деревья, я прошел между двумя фургонами. Мне бросилось в глаза (мы всегда замечаем подобное в такие мгновения), что именно в одном из них хеер Марэ увез от меня свою дочь. К этому фургону, любимой повозке Марэ, я когда-то помогал приделывать новое дышло… Передо мной появились грубые постройки из веток, обмазанных глиной. Я подходил с востока, а дома смотрели на запад. Я постоял, набираясь мужества, и тут мне послышался слабый звук, как будто кто-то негромко молился или произносил что-то нараспев. Я осторожно обошел первый дом, отер холодный пот со лба и с опаской выглянул из-за угла — мне вдруг при шло в голову, что в лагере могут хозяйничать дикари. И обнаружил источник звука. Оборванный, дочерна загорелый, бородатый человек стоял у длинной неглубокой ямы и читал молитву. Это был Анри Марэ, хотя тогда я его не узнал — настолько он изменился. Вереница холмиков справа и слева от него подсказала мне, что яма — это могила. К ней приближались двое мужчин; они волокли тело женщины, очевидно слишком ослабевшие, чтобы нести усопшую как полагается. Судя по очертаниям тела, это была высокая молодая женщина; черт я не разглядел, поскольку покойницу тащили лицом вниз. Ее длинные волосы были темными, как у Мари. Мужчины подбрели к яме и уронили туда свою ношу, а я — я не мог даже пошевелиться! Наконец я овладел собой, на негнущихся ногах шагнул вперед и тихо спросил по-голландски: — Кого вы хороните? — Йоханну Мейер, — ответил один из мужчин, даже не потрудившись оглянуться. Едва отзвучали эти слова, как мое сердце, замершее в груди в ожидании ответа, забилось снова, да так громко, что я отчетливо расслышал его стук. Я вскинул голову. От порога дома ко мне очень медленно шла Мари, Мари Марэ! Она, должно быть, обессилела от голода, и ее держал за руку тощий, как скелет, ребенок, который на ходу жевал какие-то листья. Она исхудала до полупрозрачности, но я безошибочно узнал ее глаза, эти черные глаза, столь неестественно большие и яркие на ее бледном, осунувшемся личике! Она тоже увидела меня и на мгновение застыла. Потом отпустила ребенка, раскинула руки, сквозь кожу которых солнце просвечивало, как сквозь пергамент, и опустилась на землю. — И она ушла, — безразлично произнес кто-то из мужчин. — Так и думал, что она долго не протянет. Только теперь бородатый человек, стоявший у могилы, обернулся. Он вскинул руку и указал на меня, что заставило повернуться и двух других. — Боже всемогущий! — проговорил он сдавленным голосом. — Наконец-то я сошел с ума. Глядите! Вот призрак юного Аллана, сына английского проповедника, что живет возле Крэдока. Услышав этот голос, я узнал бородача. — Минхеер Марэ! — воскликнул я. — Я не призрак! Я настоящий Аллан и приехал вас спасти! Марэ промолчал, явно пребывая в растерянности. Зато один из его товарищей прохрипел с безумным смешком: — И как ты намерен нас спасти, юнец? Хочешь, чтобы мы тебя съели? Разве не видишь, что мы умираем от голода?! — Я привел фургоны с едой, — ответил я. — Allemachte! Анри! — позвал бур, продолжая посмеиваться. — Слыхал, что болтает твой английский призрак? Он привел фургоны с едой! С едой! Тут Марэ залился слезами и бросился мне на грудь, едва не опрокинув меня наземь. Я высвободился и подбежал к Мари, которая лежала на траве с закрытыми глазами. Она услышала мои шаги, открыла глаза и попыталась сесть. — Это правда ты, Аллан, или я вижу сон? — прошептала она. — Это я, я! — вскричал я, помогая ей подняться. По ощущениям, она весила не больше малого ребенка. Ее головка легла мне на плечо, и Мари тоже расплакалась. Продолжая ее обнимать, я обернулся к мужчинам и спросил: — Почему вы голодаете, когда кругом полно дичи? В этот миг среди деревьев, не далее ста пятидесяти ярдов от нас, мелькнули две антилопы. — Сам попробуй забить дичь камнем, — проворчал один из буров. — Порох мы извели месяц назад. Эти твари, — он опять захихикал, — приходят потешаться над нами каждое утро. К ловушкам они не приближаются, отлично зная, где те расположены, а копать новые у нас нет сил. Отправляясь сюда, я прихватил с собою то самое ружье, с которым одержал победу над Перейрой в поединке; я выбрал именно его, потому что оно было легче прочих. Я поднял руку, призывая к тишине, осторожно усадил Мари на землю и двинулся в сторону антилоп. Укрываясь за кустарником, я подобрался почти на сотню ярдов, и вдруг животные встрепенулись, напуганные появлением моих зулусов, которые только-только добрались до лагеря. Антилопы метнулись прочь и исчезли за деревьями. Я прикинул направление их движения и сообразил, что они должны появиться между зарослями кустарника, приблизительно в двухстах пятидесяти ярдах от меня. Я поспешно установил целик на дуле на двести ярдов, поднял ружье и приготовился стрелять, мысленно моля Господа не лишать меня привычной меткости. Первым из-за кустов выскочил большой самец — шея вытянута, длинные рога закинуты на спину. Расстояние было слишком большим, а животное — слишком крупным, чтобы сразить его наповал одной маленькой пулей. Я прицелился правее и выше, как говорят, с упреждением, на уровне хребта антилопы, и надавил на спусковой крючок. Ружье выстрелило, пуля вылетела из ствола, а антилопа опрометью понеслась дальше. Я промахнулся! Но что это? Внезапно самец развернулся и устремился к нам. Когда нас разделяло не более пятидесяти ярдов, его ноги вдруг подкосились, он дважды перекатился с боку на бок, точно подстреленный кролик, и замер. Пуля угодила ему прямо в сердце. Подбежали зулусы, все в поту, едва дыша от усталости. — Отрежьте мясо с бока. Свежевать не надо! — велел я на ломаном зулусском, подкрепляя слова жестами. Они поняли меня и мгновение спустя принялись за дело, споро работая своими ассегаями. А я огляделся по сторонам и заметил груду сухих веток для растопки. — Огонь есть? — спросил я у изможденных буров. — Нет, — отвечали они, — наш огонь погас. Я достал трутницу, которую всегда носил при себе, и высек искру. Через десять минут вовсю горел костер, а через три четверти часа был готов сытный суп — ведь чугунков в новом Марэфонтейне хватало, отсутствовала лишь еда. По-моему, до самого вечера несчастные люди только и делали, что ели, прерываясь лишь на краткий сон. О, с какой же радостью я их кормил, особенно когда прикатили мои фургоны и появились соль — в лагере давным-давно не видели соли! — сахар и кофе.Глава 9
ОБЕЩАНИЕ
Из тридцати пяти человек, которые вместе с туземцами отправились в злополучную экспедицию, возглавляемую Анри Марэ, в новом Марэфонтейне осталось всего девять: сам хеер Анри, его дочь, четверо Принслоо, рослых и статных как на подбор, и трое Мейеров — муж и дети покойной Йоханны. В этой семье из шести выжили двое ребятишек. Остальные буры, кроме Эрнанду Перейры, умерли. Сначала людей косила лихорадка, а когда она отступила со сменой сезона, начался голод. Выяснилось, что буры держали весь свой порох в сарае, или, правильнее сказать, в амбаре, подальше от жилых построек. Однажды, когда никого не было поблизости, амбар отчего-то загорелся — и порох взорвался. После этой катастрофы переселенцы некоторое время добывали пропитание благодаря сохранившимся боеприпасам. Когда порох весь вышел, буры стали копать ловушки для диких животных. Однако те очень быстро усвоили, где расположены ямы, и обходили их стороной. Закончился и билтонг, и бурам пришлось испытать настоящий голод: они выкапывали из земли луковицы растений, варили траву, листья и побеги, пытались ловить ящериц, и так далее. Сдается мне, несчастные и вправду дошли до того, что употребляли в пищу гусениц и червей. Но когда в лагере погас костер, за которым не уследили бездельники-кафры, а огнива ни у кого не нашлось и не получилось добыть искру трением, даже этот способ пропитания оказался недоступен. К моему появлению люди уже трое суток ничего не ели, не считая зеленых листьев и травы (именно траву жевал тот ребенок, которого я увидел рядом с Мари); думаю, через семьдесят часов все переселенцы были бы мертвы. Что ж, оправились они довольно скоро, ибо все эти люди, переболевшие лихорадкой, сделались для нее неуязвимыми. Не передать словами ту радость, что охватывала меня, когда я смотрел, как Мари оживает на глазах. А ведь недавно она была на пороге смерти! Но теперь здоровье и красота постепенно возвращались к ней. В конце концов, если уж говорить прямо, мы не очень-то далеко ушли от первобытного человечества, у которого первейшей обязанностью мужчины считалось накормить женщин и детей; полагаю, этот инстинкт в нас по-прежнему жив. Лично я, не стану скрывать, ощущал подлинное удовольствие и удовлетворение, глядя, как та, кого я любил, — бедная изголодавшаяся женщина, — поглощает всю еду, какую я способен ей дать, ведь до того она на протяжении недель питалась лишь травами и насекомыми. Первые несколько дней после встречи мы почти не разговаривали, разве что обсуждали насущные потребности, которые занимали все наши мысли. Когда же хеер Марэ и его дочь достаточно окрепли, долго откладывавшийся разговор состоялся. Фермер начал его с вопроса, как я их отыскал. Я объяснил, что получил письмо Мари. Похоже, это изумило Марэ, ибо он строго-настрого запретил дочери писать мне. — Хвала Небесам, что вас не послушались, минхеер, — сказал я. Он промолчал. Затем я поведал, как это письмо попало в миссию на территории Капской колонии благодаря шмузу, и рассказал о своей отчаянной скачке в Порт-Элизабет, где мне посчастливилось перехватить бриг «Семь звезд» перед самым отплытием. Также я перечислил те удачные стечения обстоятельств, что позволили купить фургоны и отыскать проводника до лагеря, куда мы попали, повторю, весьма своевременно. — Вот подвиг, достойный долгой памяти, — проговорил Анри Марэ, раскуривая трубку — в доставленных припасах был и табак. — Но скажите, Аллан, неужто вы совершили все это ради меня, хотя я обошелся с вами столь грубо? — Я сделал это, — ответил я, — ради той, кто всегда была добра ко мне. — И кивком указал на Мари, возившуюся неподалеку с кухонной утварью. — Я так и подумал, Аллан. Но вы же знаете, она помолвлена с другим. — Она помолвлена со мной, минхеер, — возразил я решительно. — А кстати, где этот другой? Если он выжил, почему его тут нет? — Он… — Голос Марэ дрогнул, слова будто давались фермеру с трудом. — Эрнан Перейра покинул нас примерно за две недели до вашего появления. У нас оставалась единственная лошадь, принадлежавшая ему, и вместе с двумя слугами-готтентотами он уехал обратно по нашей колее. Сказал, что найдет и пришлет помощь. С тех пор мы ничего о нем не слышали. — Понятно. А как он собирался добывать себе пищу? — У него было ружье. Вообще-то, у всех троих были ружья. И около сотни зарядов, уцелевших после пожара. — С сотней зарядов пороха, если тратить их разумно, ваш лагерь можно было кормить месяц, если не два, — сказал я задумчиво. — А он все забрал и уехал за помощью? — Так и есть, Аллан. Мы умоляли его остаться, но он отказался, а заряды… ну, это же была его собственность. Он действовал из лучших побуждений, как мне кажется, несмотря на то что Мари не желала иметь с ним дела… — Голос хеера Марэ снова задрожал. — Что ж, — проговорил я. — Значит, это я привел к вам подмогу, а никак не Перейра. Между прочим, минхеер, я привез вам деньги — те, что мой отец получил за вас, и еще пятьсот фунтов моих личных сбережений, вернее, то, что от них осталось, — золотом и товаром. И Мари, смею напомнить, никогда меня не отвергала. Позвольте же спросить, кто из нас больше ей подходит? — Судя по всему, это должны быть вы, — ответил Марэ с запинкой. — Вы показали себя верным другом, и если бы не ваша помощь, моя дочь сейчас лежала бы вон там. — Он ткнул пальцем в ряд холмиков, под которыми покоились умершие участники экспедиции. — Да, это должны быть вы — человек, дважды спасший жизнь ей и однажды избавивший меня от страшной участи. — Наверное, он заметил на моем лице радость, которую я и не думал скрывать, потому что поспешил добавить: — И все же, Аллан, много лет назад я поклялся на Библии и дал слово Господу, что никогда по своей воле не выдам дочь за англичанина, пусть этот англичанин будет наилучшим человеком на свете. А перед тем как мы покинули колонию, я также поклялся, в присутствии Мари и Эрнана Перейры, что никогда не выдам дочь за вас. Разве я могу нарушить эти клятвы? Если я так поступлю, Господь покарает меня за мою слабость. — По правде сказать, со стороны кажется, будто Всевышний уже карает вас — за эти необдуманные клятвы, — сказал я, в свою очередь косясь на могилы. — Может быть, Аллан, может быть, — отозвался Марэ. В его голосе не было гнева: пережитые испытания вернули фермеру здравомыслие, хотя бы на короткий срок. — Но пути Всевышнего неисповедимы, верно? Зато мой гнев наконец вырвался на волю, и, поднявшись, я отчеканил: — Правильно ли я вас понимаю, минхеер Марэ? Вопреки нашей с Мари любви, которая, как вам известно, неподдельна и глубока, вопреки тому, что я, а не кто-то другой вырвал вас с дочерью и ваших товарищей из когтей смерти, вы не разрешаете Мари стать моей женой? И вы готовы отдать ее тому негодяю, который подло бросил вас в час величайшей нужды? — Если так, Аллан, что тогда? — Вы уже убедились, что я, невзирая на молодость, способен мыслить и действовать самостоятельно. Вдобавок сейчас у меня все преимущества: я располагаю и волами, и оружием, и слугами. Поэтому я просто заберу Мари, а если кто попытается меня остановить, докажу, что сумею защитить нас обоих! По-моему, эта дерзкая речь нисколько не удивила хеера Марэ и не уронила меня в его глазах. Он некоторое время молча глядел на меня и теребил свою длинную бороду, явно размышляя о чем-то, а потом произнес: — Пожалуй, я бы в вашем возрасте повел себя точно так же. Да, вы сейчас хозяин положения. Но как бы ни любила вас Мари, она ни за что не уедет с вами и не оставит отца голодать. — Тогда поезжайте с нами, хеер Марэ, и станьте мне тестем. В любом случае, я не уеду отсюда один и не брошу Мари умирать с голоду. Должно быть, что-то в моем взгляде убедило его, что я нисколько не шучу и не преувеличиваю. Он сменил тон и начал то ли спорить, то ли умолять: — Будьте же благоразумны, Аллан! Как вы можете жениться на Мари, если поблизости нет священников, чтобы вас обвенчать? Если вы любите ее настолько сильно, как утверждаете, вы же не станете позорить мою дочь и пятнать ее доброе имя, даже в этой глуши? — Не думаю, что она сочтет это позором, — возразил я. — Многие мужчины и женщины обходятся без священников, заключая брак обоюдным согласием и с ведома людей вокруг, а их дети считаются законными отпрысками. Я знаю наверняка, потому что читал уложение о браках. — Возможно, это так, Аллан, однако лично для меня брак не будет действительным, пока не принесены священные обеты. К слову, почему вы не даете мне закончить мою историю? — Разве вы еще не закончили, минхеер Марэ? — Нет, юноша, нет. Я сказал, что поклялся не выдавать дочь замуж за вас по собственной воле. Но когда она станет совершеннолетней, что произойдет через несколько месяцев, точнее, через полгода, мое мнение больше не будет иметь значения, ибо Мари сделается свободной женщиной и будет вольна распоряжаться собою. Тогда моя клятва утратит свою силу, ибо мою душу ничто не потревожит, если случится то, чему я не в силах помешать. Довольны? — Не знаю, — с сомнением проговорил я. Доводы Марэ казались мне сплошной софистикой, и почему-то чудилось, что он со мной не вполне искренен. — Не знаю. Полгода — долгий срок, всякое может случиться. — Конечно. Например, Мари может передумать и выйти замуж за другого. — Или я куда-нибудь денусь, верно, минхеер? Ведь порою с теми, кого не хотят видеть, происходят неприятности, особенно в глухих местах. Я правильно понимаю? — Allemachte! Аллан, вы хотите сказать, что я… — Нет, минхеер, — перебил я. — Кроме вас, в этих краях хватает других людей. Например, где-то тут болтается Эрнанду Перейра. Но что мы все обо мне да обо мне? Не следует ли спросить Мари? Давайте я ее позову. Он утвердительно кивнул, предпочитая, видимо, чтобы я разговаривал с девушкой в его присутствии. Я окликнул Мари, которая, занимаясь хозяйством, то и дело обеспокоенно поглядывала на нас. Она сразу же подошла. Святые угодники, насколько она отличалась сейчас от того голодного призрака, которого я увидел несколькими днями ранее! Было очевидно, что худоба и изможденность благодаря обильному питанию и обретенному спасению скоро уступят место юной свежести и красоте. — Что такое, Аллан? — спросила она тихо. Я пересказал ей нашу беседу с ее отцом и повторил, стараясь не путаться, все доводы, которые мы приводили, каждый со своей стороны. — Все верно? — уточнил я у Марэ, завершив пересказ. — Да, все верно, у вас отменная память. — Отлично. Что скажешь ты, Мари? — Милый Аллан, зачем ты спрашиваешь? Моя жизнь принадлежит тебе, человеку, который спас меня от смерти. Моя душа и моя любовь — с тобой. Потому я вовсе не сочту позором, если наши руки соединят здесь и сейчас, на глазах у всех, а обвенчаться мы сможем позднее, когда ты отыщешь священника. Однако мой отец принес клятву, которая лежит на его плечах тяжким бременем, и поведал тебе, что через полгода — а это уже не срок, Аллан! — клятва утратит силу, потому что по закону он лишится опеки надо мной. Аллан, я не хочу расстраивать отца, не хочу, чтобы он говорил и делал какие-нибудь глупости. Давай подождем эти шесть месяцев, последние шесть месяцев разлуки. А отец пообещает, что не станет препятствовать нашему браку. — Ja, ja. Обещаю не мешать твоему счастью! — воскликнул Марэ с облегчением, будто он внезапно узрел спасение из положения, мнившегося безвыходным. И добавил, словно разговаривая сам с собою: — Зато Всевышний сможет помешать, если сочтет необходимым. — Все в руках Господа, — ответила Мари своим ангельским голоском. — Аллан, ты слышал обещание моего отца? — Да, Мари. Он дал обещание, если можно так сказать, — отозвался я мрачно. Почему-то от последних слов фермера у меня по спине пробежал холодок. — Послушайте, Аллан! Я обещаю вам и клянусь перед Богом никоим образом не вредить вашим намерениям и препоручить дальнейшее Его заботам. Но вы тоже должны дать слово, что, пока Мари не достигнет совершеннолетия, не станете брать ее в жены, даже если вы двое останетесь одни среди пустынного вельда. До назначенного срока вы будете вести себя как обрученные, не более того. Деваться было некуда, и я с тяжелым сердцем дал такое обещание. Затем, должно быть, для того, чтобы о нашем соглашении стало известно, Марэ подозвал буров, что бродили по лагерю, и изложил им условия заключенного нами договора. Буры посмеялись, многие пожали плечами. Зато фру Принслоо, помнится, сразу сказала, что, по ее мнению, все это глупости, поскольку если кто и вправе притязать на руку Мари, то это я, а потому я могу забрать ее, когда мне вздумается. Эрнанду Перейру она назвала пронырой и трусом, который удрал, спасая собственную шкуру, и бросил остальных умирать. На месте Мари, случись им повстречаться снова, она бы окатила его ведром грязной воды — и сама так сделает, если ей представится случай. Тут следует заметить, что фру Принслоо славилась невоздержанностью на язык, но была исключительно честной женщиной. Итак, мы заключили соглашение. Я пишу об этом подробно, потому что оно имело важное значение для последующих событий. Но теперь я жалею — о, как жалею! — что не настоял на своем праве жениться на Мари там и тогда. Прояви я решительность, думаю, все бы сладилось, ибо я был «владыкой многих легионов»[202], то бишь скота, провизии и скарба, а потому, чтобы не ссориться со мной, буры заставили бы Марэ уступить. Но мы с Мари были молоды и лишены жизненного опыта, да и Небеса уготовили нам иное. Кто посмеет оспаривать непреложные законы, прописанные, вероятно, задолго до нашего рождения в вечной книге судеб? Впрочем, стоило мне избавиться от первоначальных страхов и подозрений, жизнь рядом с Мари показалась мне истинным раем, особенно по сравнению с долгим периодом разлуки и молчания. Как ни крути, теперь мы считались законно обручившимися, и малое общество, в котором мы проживали, в том числе отец Мари, не усматривало ничего предосудительного в наших частых свиданиях наедине. Это означало, что мы встречались на рассвете и расставались лишь с наступлением ночи (поскольку у нас почти не было искусственного освещения, в лагере ложились спать на закате или чуть позже). Наши отношения были исполнены чистоты, доверия и любви; они были столь радостными и чудесными, что даже по прошествии всех прожитых мной лет я не осмеливаюсь воскрешать в памяти те блаженные месяцы. Спасенные люди постепенно обретали здоровье благодаря привезенным мной припасам и лекарствам, а также благодаря дичи, которую я добывал в изобилии, и среди буров начались жаркие споры относительно дальнейших планов. Сперва кто-то предложил отправиться в Лоренсу-Маркиш и сесть на корабль, который доставит нас в Наталь; никто из буров не желал возвращаться нищим в Капскую колонию, признаваться в провале своей затеи и рассказывать об ужасных испытаниях, выпавших на их долю. На это предложение я заметил, что корабли в Лоренсу-Маркиш заходят крайне редко, раз в год или даже в два года, а само поселение и его окрестности не являются теми местами, где стоило бы задерживаться. Тогда прозвучала мысль остаться там, где мы были. С этим лично я охотно бы согласился, ибо с радостью прожил бы полгода до совершеннолетия Мари рядом с нею. Впрочем, в конце концов эту мысль отвергли по множеству разумных причин. Десятка белых, четверо из которых были членами одной семьи, явно недостаточно, для того чтобы основать поселение, особенно если вспомнить, что кафры по соседству могут в любой миг перейти к враждебным действиям. Кроме того, скоро здесь начнется сезон лихорадки, и рисковать в любом случае не стоит. Наконец, у нас нет племенного скота и лошадей, они в этом вельде попросту не выживают, а из снаряжения и припасов мы располагаем только тем, что лежит в моих фургонах. Стало ясно, что нам остается лишь одно: попытаться вернуться в земли, которые ныне считаются территорией Трансвааля, а лучше — в Наталь, поскольку такой маршрут избавит нас от необходимости перебираться через горы. В Натале мы сможем отыскать других буров-переселенцев — например, того же Ретифа (я не преминул сообщить бурам, что он и его отряд перевалили через Драконовы горы). Когда решение было принято, мы занялись приготовлениями к отъезду. Перво-наперво следовало разобраться с тягловыми животными: моих волов едва хватало на две упряжки, а в путь надлежало отправляться минимум на четырех фургонах. Поэтому через своих наемников-кафров я наладил отношения с окрестными племенами, которые, узнав, что я не бур и что мы готовы платить за желаемое, выразили согласие торговать. Очень скоро в лагере появился рынок, куда туземцы приводили свой скот. Я торговался и покупал, расплачиваясь тканями, ножами, мотыгами и прочим добром, столь ценимым среди кафров. Помимо того, туземцы приносили на рынок зерно и муку. О, сколько восторга вызвала у наших упрямых буров, долгие месяцы питавшихся одним мясом, эта простая, но сытная еда! Никогда не забуду, как Мари и ребятишки впервые за много дней отведали каши, обильно приправленной свежим подсахаренным молоком (заодно с волами мне удалось прикупить двух молочных коров). Этой перемены в питании оказалось вполне достаточно, для того чтобы дети полностью поправились, а Мари стала еще красивее, чем была. Раздобыв волов, мы стали приучать их к ярму. Задача была непростой, несмотря на то что эти животные сами по себе смирные, — ведь новоприобретенные волы никогда прежде не таскали фургонов. Пришлось изрядно потрудиться, и мы совершили множество пробных поездок. Что до отобранных фургонов, один из которых, кстати, принадлежал Перейре, их следовало починить перед дорогой, причем теми инструментами, какие были в нашем распоряжении, и без кузницы. Если бы не готтентот Ханс, некогда изучавший ремесло мастера-фургонщика, мы бы вряд ли справились с такой работой. Пока мы занимались приготовлениями, пришли вести, оказавшиеся довольно неприятными для всех, за исключением, пожалуй, Анри Марэ. Как-то под вечер я пытался заставить шестнадцать кафрских волов идти вместе под ярмом, а не сбиваться ку чей и не пробовать перевернуть фургон. Вдруг помогавший мне Ханс воскликнул: — Смотри, баас! Вон идет мой брат! — Он имел в виду сородича-готтентота. Бросив взгляд туда, куда указывал Ханс, я увидел худого, изможденного туземца, облаченного в лохмотья. На голове несчастного, который брел среди деревьев в нашу сторону, красовалась вывернутая наизнанку большая шляпа. — Ба! — изумленно вскричала Мари, как обычно державшаяся рядом со мной. — Это же Клаус, слуга моего кузена Эрнана! — Раз это не сам кузен Эрнан, мне плевать, — проворчал я. Между тем бедолага-готтентот доковылял до нас, простерся у наших ног и взмолился, чтобы его накормили. Ему дали холодного мяса антилопы, и он обеими руками вцепился в кусок, отрывая мясо зубами, будто дикий зверь, пока все не съел. Когда он насытился, Марэ, прибежавший вместе с другими бурами, стал расспрашивать, откуда он пришел и что сталось с его хозяином. — Я пришел из буша, — сказал готтентот, — а мой баас наверняка умер. Когда я оставил его, он уже едва дышал. — Почему ты бросил его, если он был жив? — спросил Марэ. — Он так велел, баас. Меня послали за помощью. Мы голодали, у нас кончились патроны. — Значит, он остался один? — Да, баас. Один, со львами и стервятниками. Моего товарища-слугу тоже сожрал лев. — Далеко до вашего лагеря? — уточнил Марэ. — Далеко, баас, пять часов верхом по хорошей дороге. По моим прикидкам, это было около тридцати пяти миль. Готтентот продолжил свой рассказ. Перейра верхом с двумя пешими сопровождающими благополучно преодолел около ста миль по холмистой местности, но как-то ночью на них напал лев. Зверь задрал одного слугу и напугал лошадь, которая убежала и потерялась. Перейра и Клаус двинулись дальше пешком и достигли большой реки. На берегу они повстречали кафров — судя по всему, зулусов, что несли дальний дозор. Те потребовали оружие и боеприпасы в дар своему вождю, а когда Перейра отказался подчиниться, пригрозили убить обоих путников поутру, после того как побоями заставят Перейру научить их стрелять из ружей. Той ночью разразилась гроза, и Перейре с Клаусом удалось сбежать. Вперед они идти побоялись, опасаясь снова угодить в руки разъяренных зулусов, а потому повернули обратно на север и бежали всю ночь, но с рассветом поняли, что заблудились в буше. Это произошло приблизительно месяц назад — во всяком случае, так думал Клаус, потерявший счет дням. Все это время Перейра с готтентотом скитались по бушу, стараясь ориентироваться по солнцу, с целью отыскать покинутый лагерь. Люди им больше не встретились, ни белые, ни чернокожие, а силы они поддерживали мясом дичи, которую стреляли и ели сырой или подвяленной на солнце. Но потом порох кончился, и путники попросту выбросили тяжелые «руры», ставшие бесполезными. В тот день с макушки высокого дерева Клаус разглядел вдалеке знакомые очертания холма, от которого до лагеря Марэ было около пятнадцати миль. Перейра со своим слугой уже много дней голодали, но Клаус из них двоих был крепче, к тому же подкрепился падалью — насколько я понял, мясом мертвой гиены. Перейра тоже попытался проглотить эту омерзительную пищу, но он не обладал желудком готтентота и от первого же куска ему стало «очень плохо». Путники нашли укрытие в пещере на берегу ручья, где поблизости росли водяной салат и другие травы вроде дикой спаржи. Вот тогда Перейра и велел Клаусу идти в лагерь за помощью, если, конечно, найдет там кого живого. Клаус отправился в путь, прихватив с собой ляжку дохлой гиены, и к полудню второго дня сумел добраться до лагеря.Глава 10
О ЧЕМ ГОВОРИЛА ФРУ ПРИНСЛОО
Когда готтентот закончил свой рассказ, развернулось обсуждение. Марэ сказал, что кто-то должен съездить и проверить, жив ли еще его племянник, на что другие буры ответили разноголосым, но дружным «Ja». А затем взяла слово фру Принслоо. Она повторила свои слова — мол, Эрнан Перейра проныра и трус, он бросил их в минуту опасности, и лично она считает, что всеведущий Господь воздал ему по заслугам. Жаль, что лев задрал не этого непутевого юнца, а достойного готтентота; впрочем, случившееся заставляет ее думать, что львы разумнее, чем принято считать, потому что иначе зверь мог бы отравиться. В общем, она за то, чтобы предоставить предателя его собственной судьбе, все равно он наверняка умер, так что ни к чему поднимать переполох и кого-то куда-то посылать. Похоже, ее доводы подействовали на буров. Я слышал с разных сторон: — Ja, правильно, правильно. — Неужели мы бросим в беде товарища? — воскликнул Марэ. — Человека нашей крови? — Mein Gott! — фыркнула фру Принслоо. — Этот дурно пахнущий португалец уж точно не моей крови! Это вы с ним родня, хеер Марэ, раз он сын вашей сестры. Сами за ним, значит, и отправляйтесь. — Я бы так и поступил, фру Принслоо, — ответил Марэ спокойным тоном, что было обычно для него, когда он не волновался и не раздражался. — Но у меня дочь, о которой я должен позаботиться. — Ага, он тоже заботился, покуда не сообразил, что его драгоценная шкура может пострадать, и сбежал на нашей единственной лошади, прихватив с собою весь порох! А Мари и всех остальных оставил умирать с голоду! Что ж, вы не поедете, Принслоо тоже не поедет, я его никуда не отпущу; выходит, ехать кому-то из Мейеров. — Нет-нет, добрая фру, — возразил старший Мейер. — У меня дети, за которыми некому присмотреть. — Вот и все! — торжествующе проговорила фру Принслоо. — Никто не поедет, и забудем об этом трусе, как он забыл о нас. — Скажите, хеер Марэ, — вмешался я, перехватив умоляющий взгляд фермера, — с какой стати мне — да, мне! — искать хеера Перейру? Ведь он, помните, обошелся со мной не слишком хорошо. — У меня нет ответа, Аллан. Но Библия учит нас подставлять другую щеку и прощать обиды. Разумеется, решать вам, не мне, но помните, что всех нас ждет последний суд, на котором Всевышний будет взвешивать дурные и благие дела. Будь я в вашем возрасте и не имей на руках дочери, за которую несу ответственность, я бы поехал. — Зачем вы меня уговариваете? — продолжал упорствовать я. — Езжайте сами, вы же знаете, что я в состоянии приглядеть за Мари. — (Тут фру Принслоо и прочие буры захихикали.) — И почему не пытаетесь уговорить своих товарищей, они ведь дружили с вашим племянником и делили с ним тяготы пути? Старшие Мейер и Принслоо вдруг вспомнили, что у них важные дела, и поспешно удалились. — Как я уже сказал, Аллан, решать вам, но спросите себя, готовы ли вы предстать перед Творцом с кровью товарища на руках? Если вы, подобно другим жестокосердным мужчинам из нашего лагеря, откажетесь, я поеду сам, пусть я немолод и слаб от перенесенных испытаний. — Вот и славно, — вмешалась фру Принслоо, — сразу бы и вызывались. Вам быстро надоест его искать, хеер Марэ, и мы окончательно избавимся от этого подлеца. Марэ высокомерно вскинул голову, но отвечать не стал, понимая, что с фру Принслоо ему не тягаться. Вместо этого он обратился к дочери: — Прощай, Мари. Если я не вернусь, помни о моих пожеланиях, а мое завещание ты найдешь между первыми страницами Священного Писания. Пошли, Клаус, веди меня к своему хозяину. Бедняге-готтентоту, по-прежнему лежавшему на земле, достался увесистый пинок. Мари, которая молча слушала все эти пререкания, тронула меня за плечо: — Аллан, разве можно отпускать отца одного? Поезжай с ним, пожалуйста. — Конечно, — весело ответил я. — Но двух человек будет мало, надо взять кафров, чтобы помогали нести Перейру, если он еще жив. Закончилась эта история следующим образом. Поскольку готтентот Клаус был слишком истощен, чтобы выдвигаться в ночь, выступить решили с восходом солнца. Я встал еще до рассвета и доедал свой завтрак, когда к моему фургону подошла Мари. Я поднялся, приветствуя ее, и, поскольку рядом никого не было, мы обменялись несколькими поцелуями. — Хватит, любовь моя, — выдохнула она наконец, отталкивая мои руки. — Меня прислал отец. Он страдает животом, но хочет тебя видеть. — Сдается мне, я поеду за твоим кузеном в одиночку, — проворчал я раздраженно. Мари покачала головой и повела меня к крохотному домику, в котором ночевала вместе с отцом. В тусклом утреннем свете я сквозь дверной проем (окон в домике не было) разглядел Марэ, который сидел на деревянном табурете, прижимая руки к животу. — Доброе утро, Аллан, — проговорил он со стоном. — Я заболел, серьезно заболел. Наверное, что-то съел — или застудил живот. Так часто бывает перед лихорадкой и дизентерией. — Возможно, вам станет лучше по пути, минхеер, — сказал я. Признаться, эта внезапная хворь вызывала у меня сильные подозрения: ел он ровно то же самое, что все остальные, то есть полезную и вкусную еду. — По пути?! Один Господь ведает, как я поеду, когда мои внутренности словно зажаты в тиски фургонщика! Но я не отступлюсь, ведь нельзя допустить, чтобы бедняга Эрнан умер в одиночестве. А если я не поеду за ним, никто другой, похоже, не соберется. — Почему бы не послать кафров вместе с Клаусом? — спросил я. — О Аллан! — отозвался Марэ таким тоном, будто говорил с несмышленышем. — Если бы вам выпала участь погибать, лежа в пещере без всякой помощи, что бы вы подумали о тех, кто прислал вместо себя неверных кафров? Неужто вы не решили бы, что туземцы позволят вам умереть, а сами возвратятся и что-нибудь этакое наплетут? — Не знаю, о чем бы я подумал, хеер Марэ. Зато знаю, что, поменяйся мы местами, будь я в той пещере, а Перейра в лагере, он и сам не поехал бы за мной, и дикарей бы не послал. — Может быть, Аллан, может быть. Но если у другого человека черное сердце, неужели и ваше должно быть таким же? О, я иду, пускай мне суждено умереть по дороге! — С этими словами он поднялся и испустил чрезвычайно горестный стон, а затем принялся снимать одеяло, в которое прежде кутался. — Аллан, мой отец не может идти, он же умрет! — воскликнула Мари, воспринимавшая, мнимую, как я полагал, хворь отца всерьез. — Как скажешь, милая, — откликнулся я. — Ладно, мне пора в путь. Скоро увидимся. — У вас доброе сердце, Аллан, — сказал Марэ, опускаясь на табурет и снова кутаясь в одеяло. Мари между тем в отчаянии глядела то на отца, то на меня. Полчаса спустя я тронулся в путь, пребывая в отвратительнейшем настроении. — Помни, за кем идешь! — крикнула мне вслед фру Принслоо. — Спасать врага — сущая глупость; я хорошо знаю этого типа, и будь уверен, он тяпнет тебя за палец в благодарность за спасение.Слушай, паренек, на твоем месте я бы отсиделась несколько дней в буше, а потом вернулась бы и сказала, что никакого Перейры не нашла, видела только дохлых гиен, что отравились его ядовитой плотью. Но удачи тебе, Аллан, и пусть судьба пошлет мне такого же друга в трудную минуту! По-моему, ты просто рожден помогать другим. Кроме готтентота Клауса, со мной отправились трое наемников-зулусов, поскольку Хансу я поручил в мое отсутствие присматривать за скотом и припасами. Еще я взял с собой вьючного вола, животное крепкое и резвое, хоть и не слишком послушное; обычно на нем перевозили грузы, но он вполне способен был везти человека. Весь день мы двигались по крайне неровной местности, а вечер застал нас в глубокой лощине, где мы, остановившись на ночлег, развели сторожевые костры, чтобы отпугнуть львов. На следующее утро, едва рассвело, мы продолжили путь и около десяти часов утра пересекли вброд ручей, близ которого находилась та самая пещера, где, по уверениям Клауса, скрывался его хозяин. В пещере было очень тихо, и, когда я на мгновение замешкался у входа, мне пришло в голову, что, если Перейра все еще внутри, он наверняка умер. Конечно, я сразу попытался подавить это чувство, но не буду отрицать, что в первый миг испытал облегчение и даже удовлетворение. Я прекрасно понимал, что живой Перейра для меня опаснее всех дикарей и зверей Африки, вместе взятых. Кое-как справившись с упомянутым недостойным чувством, я вошел в пещеру — один, поскольку туземцы, опасавшиеся осквернить себя прикосновением к трупу, остались ждать снаружи. Пещера представляла собой мелкую полость, вымытую водой в нависавшей сверху скале; когда мои глаза привыкли к полумраку, я рассмотрел, что у дальней стены лежит человек. Он был совершенно неподвижен, и я почти уверился в том, что все его беды и невзгоды позади. Я подошел, дотронулся до его лица; кожа была холодной и влажной. Окончательно убедившись в том, что спасать некого, я развернулся, чтобы уйти. Если навалить у входа крупные камни, эта пещера послужит отличным склепом. В тот самый миг, когда я выступил на солнечный свет и уже готов был окликнуть туземцев, чтобы дать им задание собирать камни, мне послышался едва различимый стон позади. Признаться, я поначалу приписал сей звук разыгравшемуся воображению, но все же вернулся, убеждая себя, что это необходимо, встал на колени у неподвижного тела, положил руку на сердце Перейры и принялся ждать. Я просидел в таком положении несколько минут и совсем собрался уходить, когда стон прозвучал снова. Перейра не умер, но пребывал на самом пороге смерти! Я бросился ко входу в пещеру, подозвал кафров, и все вместе мы вынесли Перейру наружу, под лучи солнца. Он выглядел поистине ужасно — изжелта-бледный, кожа да кости, весь в грязи и крови, видимо натекшей из раны. У меня при себе был бренди, и я капнул малую толику в горло умирающему, отчего его сердце забилось сильнее. Потом мы приготовили суп и накормили несчастного, дали еще бренди — и он заметно ожил! На протяжении трех суток я выхаживал этого человека; скажу не чинясь, что, если бы я позволил себе отвлечься от забот о нем хотя бы на пару часов, он вполне мог бы ускользнуть, как говорится, на ту сторону, потому что ни Клаус, ни мои зулусы в лекари не годились. Так что я продолжал возиться с ним, и на третье утро он очнулся. Мы уложили его у входа в пещеру — там было достаточно светло, а скала сверху защищала от прямого солнца. Перейра долго смотрел на меня и наконец прохрипел: — Allemachte! Кого-то ты мне напоминаешь, парень. А, вспомнил! Того треклятого английского юнца, что одолел меня в стрельбе по гусям и поссорил с дядюшкой Ретифом. Да, того молодчика, в которого втрескалась Мари. Слава богу, кто бы ты ни был, ты не он. — Ошибаетесь, хеер Перейра, — ответил я. — Я тот самый английский молодчик, Аллан Квотермейн, который победил вас в поединке. Если послушаетесь моего совета, благодарите Господа за что-нибудь другое, например за спасение вашей жизни. — И кто меня спас? — Если настаиваете, это был я. Пронянчился с вами три дня. — Вы, Аллан Квотермейн?! Вот уж странно! Я бы вас спасать не стал. — И он криво усмехнулся, потом отвернулся и заснул. С этого мгновения его выздоровление пошло гораздо быстрее, и два дня спустя мы двинулись в обратный путь к лагерю Марэ. Еще слабого Перейру несли на носилках четверо туземцев. Они ворчали и жаловались, ибо тащить этакую ношу то в гору, то под гору было непросто, а Перейра всякий раз разражался бранью, когда носильщики спотыкались или чуть его не роняли. На самом деле он ругался почти не переставая, и в конце концов старый зулус, человек вспыльчивый, сказал ему, что если бы не инкози[203], то есть я, он бы заколол Перейру ассегаем и бросил стервятникам. После этого случая Перейра сделался чуть вежливее. Когда туземцы выбивались из сил, мы перекладывали спасенного на спину нашего вьючного вола, и двое вели животное в поводу, а еще двое шагали с боков для страховки. Именно так мы на следующий вечер вступили в лагерь. Но прежде нам встретилась фру Принслоо. Она стояла на звериной тропе приблизительно в четверти мили от фургонов, широко расставив ноги и уперев руки в могучие бока. Ее фигура издали выглядела столь внушительно и даже угрожающе, что я подумал, будто она заранее узнала о нашем возвращении — быть может, увидела дым наших костров — и вышла навстречу. Ее приветствие было вполне ожидаемым: — А вот и ты, Эрнан Перейра! Едешь себе на воле, а приличные люди идут пешком! Давай-ка поболтаем, дружок. Как же это вышло, что ты удрал среди ночи, забрав нашу единственную лошадь и весь порох? — Я поехал искать помощь, — угрюмо откликнулся Перейра. — Неужели, право слово?! Похоже, это тебе помощь понадобилась. Интересно, чем ты отплатишь хееру Аллану Квотермейну за спасение своей жизни? Я ведь не сомневаюсь, что так все и было. Ты столько хвастался своими богатствами, но у тебя не осталось и крупинки твоих товаров, они на дне реки вместе с деньгами. Придется платить добротой и службой. Он пробормотал, что никто не требует платы за христианское милосердие. — Ты прав, Эрнан Перейра, Аллану не нужно платы, ибо он из настоящих мужчин, но ты-то не забудешь о своем долге — и при случае отплатишь злом. Я нарочно вышла сюда, чтобы сказать тебе в глаза все, что думаю. Ты трус и проныра, слышишь? Да на тебя даже шелудивый пес не кинется, если его натравить! Ты завел нас в эти гиблые места, где будто бы живут твои родичи, готовые поделиться с нами богатствами и землей, а потом, когда пришел голод и напала лихорадка, ты сбежал и бросил нас умирать, лишь бы спасти свою мерзкую шкуру! А теперь вернулся, нате-ка, спасенный тем самым пареньком, которого ты обманул в Груте-Клуф, тем, чью любовь ты пытался украсть. Mein Gott! И почему Всевышний оставляет негодяев вроде тебя жить, а люди честные, чистые и отважные ложатся в могилу из-за таких трусов, как ты?! Так продолжалось долго: фру шагала рядом с волом и осыпала Перейру перлами своего красноречия. Не выдержав, он заткнул уши пальцами и метал на нее в бессильной ярости испепеляющие взгляды. Всей компанией мы вошли в лагерь, где нас встретили остальные буры. Их никак нельзя было назвать весельчаками, но это зрелище — Перейра на спине вьючного вола, на котором мало кто смотрится горделиво, а рядом без умолку бранящаяся, разъяренная матрона — заставило их расхохотаться. Тут Перейра наконец дал волю своему гневу и принялся ругаться почище самой фру Принслоо: — Вот как вы встречаете меня, паршивые псы из вельда, ничтожества, недостойные общаться с человеком моего образования и положения? — начал он. — Так объясни, почему ты до сих пор был с нами, Эрнан Перейра! — крикнул дородный Мейер. Он выпятил подбородок так, что его ньюгейтская бородка[204], которой он выделялся среди прочих, казалось, вздыбилась от ярости. — Когда мы голодали, ты не захотел нашего общества, удрал и бросил нас, прихватив с собою весь порох. Зато теперь, когда мы оправились благодаря этому юному англичанину, ты вернулся и просишь о помощи. Будь моя воля, я бы выдал тебе ружье и провизии на шесть дней и отправил одного в вельд! — Не беспокойся, Ян Мейер! — крикнул Перейра с воловьей спины. — Как только я окрепну, то уйду сам. Оставайтесь со своим английским вождем, — он ткнул пальцем в меня, — а я всем расскажу, что вы за сброд! — Мудрые слова, — вставил Принслоо, пожилой коренастый бур, который стоял рядом, посасывая трубку. — Поправляйся же поскорее, Эрнан Перейра. Тут примчался Марэ, которого сопровождала дочь. Откуда он прибежал, не знаю, но почему-то уверен, что он некоторое время прятался за чужими спинами, чтобы увидеть, какой прием окажут Перейре прочие буры. — Тихо, братья! — воскликнул он. — Разве так подобает встречать моего племянника, вернувшегося с порога смерти? Вы бы лучше пали на колени и возблагодарили Господа за его спасение. — Сам падай и благодари, Анри Марэ! — выкрикнула неугомонная фру Принслоо. — А я вознесу молитву за благополучное возвращение юного Аллана, хотя мои молитвы были бы еще горячее, оставь он этого проныру подыхать с голоду. Allemachte! Скажи, Анри Марэ, чем тебе так дорог этот португалец? Он тебя околдовал? Ты квохчешь над ним, потому что он сын твоей сестры, или просто хочешь заставить Мари выйти за него? А может, он знает нечто такое о твоем прошлом, что приходится его подкупать, дабы он держал рот на замке? Уж не знаю, было ли последнее предположение всего лишь очередной стрелой, выхваченной фру Принслоо наугад из бездонного колчана оскорблений, или же добрая женщина, сама того не ведая, ухитрилась обнажить некую неприглядную истину. По мне, оба объяснения одинаково возможны. Многие творят глупости в молодом возрасте, а потом стыдятся этого и не желают, чтобы об этом узнали; Перейра вполне мог пронюхать о какой-то семейной тайне, которую скрывала его мать. Так или иначе воздействие слов фру Принслоо на Анри Марэ было поистине примечательным. С ним нежданно случился очередной припадок безумного гнева. Он в запале проклял фру Принслоо и всех вокруг, обвинил их, по отдельности и вместе взятых, в том, что они охальники и разбойники, живущие вопреки Господним заветам. Дескать, они затеяли заговор против него самого и против его племянника, и в сердце этого заговора находится тот самый юнец с отвратительной круглой физиономией, по которому так тосковала его дочь. Я запамятовал, о чем еще кричал Марэ, однако его нападки были столь омерзительны, что Мари начала плакать, а потом убежала. Буры тоже стали расходиться, пожимая плечами; один из них сказал довольно громко, что Марэ окончательно спятил, мол, все к тому и шло. Марэ удалился, продолжая размахивать руками и браниться на ходу, а Перейра, соскользнув со спины вьючного вола, направился за ним. Мы с фру Принслоо остались одни, ибо цветные слуги тоже разбежались, как поступали всегда, когда белые принимались ссориться. — Что ж, Аллан, мальчик мой, — изрекла торжествующая фру, — я нашла, чем его уязвить. Видал, как он запрыгал? А ведь обычно он такой тихий да мирный, особенно в последнее время. — Вы и вправду его задели, фру, — ответил я, — но я бы предпочел, чтобы вы пощадили хеера Марэ. А то получается, что удовольствие вам, а тумаки мне. — Не говори ерунды, Аллан! — бросила она. — Он всегда был твоим врагом, и хорошо, что ты увидел его мыски да пятки прежде, чем он тебя пнул. Мой бедный мальчик, думаю, ты угодил в западню между трусом Перейрой и упрямым мулом Марэ, хотя столько сделал для них обоих. Радует, что у Мари любящее и верное сердце. Она никогда не пойдет ни за кого, кроме тебя, Аллан. — И после паузы прибавила: — Даже если тебя не будет рядом. — Фру Принслоо опустила голову, помолчала, а затем сказала: — Мой милый Аллан, — она и вправду почему-то души во мне не чаяла и порой обращалась ко мне именно так, — ты не прислушался к моему совету не искать Перейру. Что ж, я дам тебе другой совет, на сей раз будь мудрее и прими его. — Каков будет совет? — спросил я хмуро. Несмотря на то что ей нельзя было отказать в искренности и прямоте, фру Принслоо взирала на мир под каким-то особым углом. Подобно многим другим женщинам, она оценивала моральные правила по зову сердца и при необходимости была готова толковать их сколь угодно широко, в зависимости от обстоятельств, а также добиваться целей, каковые полагала значимыми для себя. — А вот такой. Уходите с Мари на два дня в буш. Я дождусь, пока суматоха уляжется, последую за вами и прямо там вас обвенчаю. У меня есть молитвенник, и я смогу провести службу, если мы заранее пройдем все по порядку. Перед моим мысленным взором сразу же возникла картина — фру Принслоо венчает нас с Мари в бескрайнем диком вельде. Эта картина была столь нелепой, что я не удержался от смеха. — Почему ты смеешься, Аллан? Всякий может венчать других, если священника нет поблизости. Более того, люди могут венчаться и сами. — Вы уж скажете, — покладисто отозвался я, не желая вступать с языкатой фру в богословский спор. — Но дело в том, что я поклялся отцу Мари не жениться на ней, покуда она не достигнет совершеннолетия. Если я нарушу клятву, то перестану быть честным человеком. — Честным человеком! — вскричала она едва ли не с презрением. — Честным человеком! По-твоему, Марэ и Эрнан Перейра — честные люди? Почему бы не отплатить им той же монетой, а, Аллан Квотермейн? Поверь, твоя verdomde[205] честность приведет тебя к гибели. Ты еще припомнишь мои слова! — И фру зашагала прочь, всей своей пышной фигурой выражая негодование. Когда она ушла, я отправился к своим фургонам, где ожидал Ханс с подробным и дотошным отчетом обо всем, что случилось в мое отсутствие. Вести были радостными: не считая смерти одного больного вола, все прочие животные оказались здоровы. Когда наконец Ханс завершил свой долгий рассказ, я перекусил тем, что мне прислала Мари, ибо слишком устал, чтобы искать компании буров. Едва я покончил с едой и задумался, не лечь ли мне спать, сама Мари появилась в круге света от горевшего поблизости костра. Я поспешно вскочил и, подбежав к ней, объяснил, что не ожидал увидеть ее этим вечером, а в дом идти не хотелось. — Ничего страшного, — сказала она, увлекая меня обратно в тень, — я все понимаю. Мой отец кажется сильно расстроенным, он словно обезумел, честное слово. Даже будь у фру Принслоо змеиное жало вместо языка, она не смогла бы ужалить его больнее. — А где Перейра? — спросил я. — О, мой кузен спит в другой комнате. Он слаб и утомился с дороги. Но знаешь, Аллан, он все равно попытался поцеловать меня. Я ему тут же объяснила, о чем мы договорились, и сказала, что мы с тобой поженимся через полгода. — И что он? — справился я. — Он повернулся к моему отцу и спросил: «Это правда, дядя?» Отец ответил: «Да, это лучшая сделка, какую я мог заключить с англичанином в наших обстоятельствах, раз уж ты отсутствовал». — А что было дальше, Мари? — Эрнан посидел, о чем-то подумал, а потом сказал: «Понимаю, дела пошли плохо. Я пытался найти лучший выход, поехал искать помощи. И потерпел неудачу. Тем временем явился англичанин и всех спас. А потом и меня отыскал, привез в лагерь. Дядя, во всем этом я вижу руку Божью; не окажись тут этот Аллан, никого из нас не было бы в живых. Не иначе, Господь надоумил его всех нас спасти. Значит, Квотермейн пообещал, что не женится на Мари в ближайшие шесть месяцев? Знаешь, дядя, среди этих англичан попадаются круглые дураки, которые держат слово даже в ущерб себе. За полгода может произойти что угодно, сам понимаешь». — Они говорили так при тебе, Мари? — уточнил я. — Нет, Аллан, я была в огороде. В дом я вошла при этих словах и с порога сказала: «Отец, кузен Эрнан, пожалуйста, запомните: кое-что не случится никогда». «И что же?» — спросил мой кузен. «Я никогда не выйду замуж за тебя, Эрнан», — ответила я. «Кто знает, Мари, кто знает?» — усмехнулся он. «Я знаю, — возразила я. — Даже если Аллану суждено умереть завтра, я не пойду за тебя, ни тогда, ни двадцать лет спустя. Я рада, что он спас тебе жизнь, но отныне и впредь мы с тобой брат и сестра, и не более». — «Ты слышал ее слова, — сказал мой отец. — Почему бы тебе не бросить свою затею? Какой смысл и дальше колоться об иголки?» — «В прочных сапогах никакие иголки не страшны, — ответил Эрнан. — Полгода — долгий срок, дядя». — «Ты прав, кузен, — вмешалась я, — но запомни вот что: ни через шесть месяцев, ни через шесть лет, ни через шесть тысяч лет я не выйду ни за кого, кроме Аллана Квотермейна, который только что спас тебя от смерти. Ты понял меня?» — «Понял. За меня ты не пойдешь ни за что и никогда. Но и ты запомни: я клянусь, что тебе не бывать женой Аллана Квотермейна или любого другого мужчины». — «Все в воле Божьей», — ответила я и ушла прочь, оставив их с отцом сидеть за столом. А теперь, Аллан, расскажи мне обо всем, что произошло с тех пор, как мы расстались. Я выполнил ее просьбу, не забыв упомянуть о совете фру Принслоо. — Ты совершенно прав, Аллан, — сказала Мари, когда я закончил свой рассказ. — Но я не уверена, что фру Принслоо, при всей ее резкости, так уж ошибалась. Я опасаюсь своего кузена. Эрнан явно подчинил себе моего отца и дергает за нужные ниточки. Впрочем, мы дали обещание и должны держать слово.Глава 11
ВЫСТРЕЛ В ОВРАГЕ
Думаю, на юг мы тронулись недели через три после того разговора с Мари и всего, что ему предшествовало. Не могу не сказать вот о чем: на следующее утро после нашего возвращения в лагерь Перейра подошел ко мне, у всех на глазах взял меня за руку и во всеуслышание поблагодарил за спасение своей жизни. Отныне, по его словам, я стал ему дороже брата, ведь нас объединила пролитая кровь. Я ответил, что не понимаю, о чем он толкует, и никакой крови не проливал. Я лишь выполнил свой долг по отношению к нему, не более того, и говорить тут больше не о чем. Однако немедленно выяснилось, что поводов для разговоров предостаточно, ибо Перейра захотел у меня одолжиться — не деньгами, а товарами. Он пояснил, что из-за глупых предрассудков невежественных буров, а в особенности из-за несдержанной на язык фру Принслоо, они с дядей пришли к выводу, что ему следует как можно скорее покинуть лагерь. Поэтому он намеревается путешествовать далее самостоятельно, отдельно от прочих. Я ответил, что, на мой взгляд, он уже довольно напутешествовался в одиночку, если вспомнить, чем завершился его последний выезд. Он согласился со мной, но сказал, что все в лагере настроены против него, так что выбирать не приходится. — Allemachte! — вскричал он с нескрываемой горечью. — Неужто вы думаете, минхеер Квотермейн, что мне приятно видеть, как вы с утра до вечера любезничаете с девушкой, с которой я прежде был помолвлен, а она отвечает вам взаимностью?! По слухам, она дарит вам свою благосклонность и глазами, и губами. — Помнится, минхеер, вы оставили умирать от голода ту, кого зовете бывшей нареченной, хотя она никому, кроме меня, не отдавала своей руки и сердца. С какой же стати вы злитесь, коль я, скажем так, подобрал то, что вы отвергли, хотя, безусловно, я взял свое, а не ваше? Заметьте, если бы не мое вмешательство, не было бы и повода для ссоры, да мне и не пришлось бы ссориться из-за девушки с вами. — Вы что, мните себя Богом, англичанин, раз распоряжаетесь судьбами мужчин и женщин? Это Господь спас нам жизнь, а не вы! — Он спас вас, поскольку привел меня сюда. Это я отыскал несчастных буров, которых вы бессовестно бросили, и это я вернул вас к жизни. — Я вовсе их не бросал! Я уехал за помощью! — Забрав весь порох и единственную лошадь? Ладно, что было, то было. Значит, вы хотите одолжить товары на покупку скота — у меня, у человека, которого вы ненавидите. А вы способны забыть о гордости, минхеер Перейра, когда вам это нужно, не знаю уж для чего. Я посмотрел на него в упор. Чутье подсказывало мне: не стоит доверять этому лживому и коварному человеку. Он, несомненно, даже в тот миг злоумышлял против меня. — Было бы чем гордиться. И к чему мне гордость, если я намерен возместить вдвое любую сумму, которую вы мне одолжите? Я погрузился в размышления. Конечно, дорога в Наталь будет куда приятнее, если Перейра не станет нам докучать. Кроме того, если он все-таки отправится с нами, то, уверен, прежде чем мы доберемся до цели, кто-то из нас двоих сложит голову. Короче, я опасался, что он отыщет способ так или иначе избавиться от меня и завладеть Мари. Ведь мы были в диких местах, где не сыскать свидетелей и не найти судов, а потому всевозможные зло деяния здесь совершаются снова и снова, ибо виновные легко ускользают от правосудия. Поэтому я решил удовлетворить его просьбу, и мы начали торговаться. В итоге я согласился уступить ему изрядную долю из моих товаров, достаточную для покупки скота у окрестных племен. Нельзя сказать, что я сильно продешевил; в здешних нецивилизованных краях вола можно было приобрести за нож и две-три низки бус. Еще я продал Перейре нескольких обученных животных из своего поголовья, ружье, некоторое количество боеприпасов и прочего необходимого снаряжения, а взамен он выдал мне расписку — начертал ее собственноручно в моей записной книжке. Более того, я сделал следующее: поскольку никто из буров не желал даже видеть Перейру, я помог ему поставить под ярмо закупленных животных и дал двоих наемников-зулусов. Все эти приготовления растянулись надолго. По-моему, минула добрая дюжина дней, прежде чем Перейра наконец-то уехал, уже вполне здоровый и окрепший. Мы собрались его проводить, и Анри Марэ предложил прочесть молитву за благополучие его племянника и за нашу последующую встречу с ним в Натале, в лагере Ретифа, где мы условились увидеться, если, разумеется, тот не уехал. Никто из буров не поддержал Марэ, зато фру Принслоо не преминула вслух пожелать Перейре доброго пути — в своем духе. Ее пожелания сводились к тому, что не приведи ему Господь вернуться снова или попасться ей на глаза в Натале, будь то лагерь Ретифа или какое другое место. Буры засмеялись, захихикали даже дети Мейеров, ибо к тому времени ненависть фру Принслоо к Эрнанду Перейре сделалась притчей во языцех. Сам Перейра притворился, будто ничего не слышал, добросердечно попрощался со всеми, уделив особое внимание фру Принслоо, и мы уехали. Я пишу «мы», поскольку мне снова, как говорится, повезло: его волы были еще не до конца приучены к ярму, и потому мне поручили сопровождать Перейру до первой стоянки, то есть до источника воды приблизительно в двенадцати милях от нашего лагеря; там путник собирался заночевать. Выехали около десяти утра. Местность была на удивление ровной, и, по моим расчетам, к трем-четырем пополудни мы должны были прибыть на место, из чего следовало, что я успею вернуться в лагерь до заката. На самом же деле по дороге возникло множество мелких неприятностей — и с фургоном, древесина которого рассохлась от долгого пребывания на солнце, и с животными, непривычными к ярму и норовившими сбиться в кучу при любой возможности. Словом, до источника мы добрались на пороге ночи. Последняя миля нашего пути пролегала по узкому оврагу, прорытому водой в скале и, судя по следам, служившему излюбленным маршрутом для диких животных. По склонам оврага росли деревья и большие папоротники, однако его дно было довольно гладким, если не считать редких валунов, которые приходилось объезжать. Когда мы достигли места стоянки, я вдруг обнаружил, что Перейра куда-то запропастился, и спросил готтентота Клауса, помогавшего мне править волами, где его хозяин. Клаус ответил, что тот пошел обратно в низину — мол, что-то выпало из фургона, то ли болт, то ли шкворень. — Ясно. Тогда передай ему, что я вернулся в лагерь. Может, мы с ним столкнемся по пути. Когда я двинулся обратно, солнце уже скрывалось за горизонтом, но это меня не сильно тревожило: при мне было ружье, то самое, с которым я победил в стрелковом поединке. К тому же я знал, что скоро взойдет полная луна и будет достаточно светло. Солнце закатилось, овраг погрузился во тьму. Внезапно мне сделалось страшно, должно быть под влиянием мрака и этого пустынного места. Куда все-таки подевался Перейра и чем он сейчас занят? Я подумывал даже возвратиться и поискать обходной путь, вот только вспомнил, что хорошо изучил окрестности за свои многочисленные охотничьи вылазки и убедился: другой дороги через холмы нет. Поэтому я взял ружье на изготовку и пошел дальше, насвистывая, чтобы приободриться; в тех обстоятельствах это было полнейшей глупостью, однако я не прислушивался к смутным подозрениям, тяготившим сердце. Что ж, с Перейрой мы наверняка разминулись, и он присоединился к кафрам на стоянке. Взошла луна, великолепная африканская луна, свет которой превращает ночь в день; длинные черные тени деревьев и валунов пролегли по дну оврага. Прямо впереди я заметил особенно густую тень, которую отбрасывал скалистый выступ на склоне, а за ней снова серебрился лунный свет. Что-то заставило меня насторожиться; нет, ничего подозрительного в глаза не бросилось, но чуткий слух уловил странный шорох. Я замедлил шаг. Должно быть, это какое-то ночное животное; даже если оно опасно, то все равно сбежит при приближении человека. Я смело двинулся вперед. За спиной осталась полоса тени шириной в восемнадцать или двадцать шагов, и мне пришло в голову, что для затаившегося врага я буду легкой мишенью на ярком свету. Потому, почти инстинктивно (не помню, чтобы тратил время на раздумья), после первых двух шагов я отклонился левее, где тоже была тень, пусть и не столь глубокая. Это мое движение стало поистине судьбоносным, ибо в тот же миг что-то скользнуло вдоль моей щеки и я услышал хлопок выстрела за своей спиной. Разумнее всего было бы побежать, пока тот, кто стрелял, перезаряжает оружие. Но меня охватила ярость, и спасаться бегством я не пожелал. Вместо этого я развернулся и с криком устремился обратно в тень. Противник услышал мое приближение и опрометью кинулся прочь. Спустя несколько секунд мы пересекли пятно лунного света. Я ожидал увидеть впереди человека — и увидел. И сразу узнал его. Это был Перейра! Он остановился и обернулся, ухватив ружье за ствол, точно дубинку. — Слава богу, это вы, хеер Аллан! — крикнул он. — Я думал, за мной гонится тигр. — Это твоя последняя мысль, убийца! — воскликнул я, вскидывая ружье. — Не стреляйте! — взмолился он. — Моя кровь будет на ваших руках, зачем вам это? И почему вы хотите убить меня? — А кто только что пытался убить меня? — процедил я. — Убить вас? Вы с ума сошли? Послушайте, не валяйте дурака! Я сидел вон там, на склоне, дожидаясь луны, и заснул от усталости. Потом вдруг проснулся от странных звуков, решил, что это тигр, и выстрелил, чтобы его отпугнуть. Allemachte, дружище! Целься я в вас, я бы не промахнулся с такого расстояния. — Ну, вы не то чтобы совсем промахнулись. Не отступи я влево, мне бы разнесло голову. Молись, собака! — Аллан Квотермейн, да послушайте же! — вскричал он, будто впадая в отчаяние. — Вы думаете, я лгу, но я говорю правду! Стреляйте, если хотите, но помните, что вас повесят за убийство. Мы оба ухаживаем за одной женщиной, это всем известно, и кто поверит вам, когда вы приметесь доказывать, что я пытался вас убить? Скоро за мной придут мои кафры, возможно, они уже меня ищут. Что ж, они найдут мое тело — с вашей пулей в сердце. Они отнесут мой труп в лагерь Марэ. Повторяю, кто вам поверит? — Не тебе рассуждать о вере, убийца! — бросил я, однако по моей спине пробежал холодок. Он был прав: я ничего не смогу доказать без свидетелей, а потому сделаюсь этаким Каином среди буров, то есть человеком, совершившим убийство из ревности. Его ружье не заряжено, и меня могут заподозрить в том, что я разрядил оружие, когда прикончил соперника. Что касается царапины на моей щеке, я ведь мог поцарапаться и о ветку. Что же мне делать? Отвести его в лагерь и поведать всю историю? Но опять получается его слово против моего. Как ни крути, он поймал меня в ловушку. Придется отпустить Перейру и уповать на то, что Небеса покарают его, раз уж мне сие недоступно. Вдобавок ярость моя поостыла, а казнить человека вот так, хладнокровно и сознательно… — Эрнанду Перейра! — произнес я. — Вы лжец и трус. Вы пытались убить меня, потому что Мари любит меня, а вас ненавидит, но вы желаете принудить ее к замужеству. Я не могу застрелить вас прямо тут, как вы того заслуживаете, и доверяю свою месть Господу. Рано или поздно Бог воздаст вам за ваши злодеяния. Мы оба знаем, что вы хотели убить меня и скормить мое тело гиенам, чтобы утром никто не нашел следов. Убирайтесь, и поскорее, покуда я не передумал! Не издав ни звука, он развернулся и помчался прочь, прыгая из стороны в сторону, точно антилопа, чтобы сбить мне прицел, если я и вправду передумаю. Когда он отдалился от меня на сотню ярдов, я тоже повернулся и бросился бежать. Признаться, на душе стало спокойнее, лишь когда нас разделила целая миля. В лагерь я добрался уже после десяти вечера. Первым мне встретился готтентот Ханс, собиравшийся пойти на мои поиски вместе с двумя зулусами. Я объяснил, что задержался из-за поломки фургона. Выяснилось, что фру Принслоо тоже еще не спит и дожидается моего возвращения. — Что за поломки, Аллан? — спросила она. — Похоже, к ним была причастна пуля? — И она указала на кровавый след на моей щеке. Я молча кивнул. — Перейра? — уточнила старая фру. Я снова кивнул. — Ты убил его? — Нет, я его отпустил. Иначе бы меня обвинили в преднамеренном убийстве. Затем я подробно пересказал все, что со мной случилось. — Ja, Аллан, — произнесла фру, выслушав меня. — Думаю, ты поступил разумно, тебе и в самом деле не удалось бы ничего доказать. Но скажи мне, чего ради Господь всемогущий хранит жизнь этого негодяя?! Пойду сообщу Мари, что ты вернулся, отец не выпускает ее из дома в столь поздний час. Передать ей? — Нет, тетушка, не стоит. Спасибо. Следует признать, что спустя несколько дней Мари и всем остальным в лагере эта история стала известна во всех подробностях. В неведении пребывал разве что фермер Марэ, с которым никто не заговаривал о его племяннике. По-видимому, фру Принслоо не пожелала хранить в тайне очередное злодеяние «паршивца Перейры», которого истово ненавидела. Она, должно быть, рассказала своей дочери, а та не замедлила поделиться с прочими. Кое-кто приписывал произошедшее случаю. Да, они знали, каков по нраву Перейра, но не могли поверить, что он оказался замешанным в столь низком преступлении. Где-то через неделю мы все вместе покинули лагерь. Хотя с этим местом было связано множество печальных воспоминаний, я уезжал оттуда с легкой грустью. Маршрут, которым нам предстояло пройти, был не слишком длинным, однако сулил изрядные опасности. Мы должны были преодолеть около двухсот миль по территории, о которой мы знали только то, что ее населяют аматонга и другие дикие племена. Пожалуй, здесь нужно упомянуть, что после долгого обсуждения мы отказались от мысли вернуться по той дороге, которой следовал Марэ во время своего злосчастного путешествия к заливу Делагоа. Ведь тогда пришлось бы пересекать жуткие горы Лебомбо, однако наши немногочисленные волы вряд ли смогли бы тянуть фургоны по горным кручам. Кроме того, местность за горами, как доносила молва, была пустынной — ни дичи, ни кафров, что сулило сложности с пропитанием. А вот к востоку от Лебомбо вельд изобиловал дичью, а у местного населения при необходимости можно было купить зерно. В конце концов мы сделали выбор в пользу этого маршрута, руководствуясь тем обстоятельством, что в предгорьях не будет недостатка в корме для волов. Хотя весна едва началась, в этой части Африки трава уже зеленела в полный рост. А не найдем свежей травы, животные прокормятся остатками прошлогодней и листьями, которых всегда хватало даже в зимнем вельде, тогда как на пустынных и выжженных равнинах за горами может не встретиться ни кустика, ни былинки. Посему мы твердо вознамерились сразиться, если понадобится, с дикарями и со львами, что охотились в этой жаркой местности, и тронулись в путь, пока не пришла пора лихорадки, не зарядили дожди и не разлились реки, которые могли стать непреодолимым препятствием. Я не собираюсь подробно описывать дорожные приключения, иначе мой рассказ выйдет слишком долгим. Помимо единственного случая, о котором я все же поведаю ниже, они доставляли больше хлопот, нежели серьезных неприятностей. Двигаясь по маршруту между горами и морем, мы не очень-то опасались сбиться с пути, поскольку наши зулусы, как выяснилось, вдоволь побродили по этой местности; а когда они признавались, что не знают, куда двигаться дальше, обыкновенно не составляло труда отыскать проводников среди местных кафров. Сами дороги, то бишь звериные и кафрские тропы, которыми мы следовали, находились в ужасном состоянии; не считая Перейры, еще никто из белых не отваживался пересекать эти края на фургонах. Сдается мне, чуть позднее тамошние, с позволения сказать, дороги и вовсе станут непроезжими. Порою мы попадали в болота, и приходилось вытаскивать колеса из грязи, а иногда катили по каменистым руслам ручьев; однажды мы были вынуждены буквально прорубаться через густой буш, и потребовалось восемь дней, чтобы из него выбраться. Немало треволнений доставляли нам львы — их в этом вельде было не счесть. Обилие голодных зверей вокруг вынуждало тщательно присматривать за нашим скотом на выпасах, а по ночам, если это было возможно, мы защищали себя и скот так называемым бомбастом, то есть оградой из колючек, внутри которой мы разжигали костры, поскольку огонь отпугивает диких животных. Увы, несмотря на все предосторожности, мы лишились нескольких волов, а некоторые из нас побывали на краю гибели. Как-то вечером, когда Мари пошла к фургону, где спали женщины, огромный лев, обезумевший от голода, перепрыгнул через ограду. Мари метнулась в сторону, но споткнулась и упала, и зверь кинулся на нее. Мгновение-другое, и он задрал бы мою суженую и уволок бы ее в свое логово. По счастью, поблизости находилась фру Принслоо. Выхватив из костра горящую ветку, эта бесстрашная дама бросилась на льва и, когда тот разинул свою широкую пасть, чтобы то ли зарычать, то ли укусить, ткнула пылающим концом прямо ему в горло. Лев стиснул челюсти, потом сообразил, что «лакомство» ему досталось не очень-то вкусное, и поспешил удрать; на бегу он издавал пронзительные жалобные вопли, а Мари нисколько не пострадала. Думаю, не стоит уточнять, что после этого я стал, не побоюсь этого слова, боготворить фру Принслоо; она же, добрая душа, нисколько не гордилась своим поступком, ибо в те дни подобное случалось довольно часто. По-моему, на следующий день после встречи со львом мы наткнулись на фургон Перейры, точнее, на обломки фургона. По всей видимости, кузен Эрнан хотел въехать на крутой и каменистый берег ручья, но повозка опрокинулась, упала на дно почти пересохшего русла и разбилась, так что ее было невозможно починить. Неподалеку находилось поселение племени тонга. Туземцы сожгли большую часть деревянной обивки, чтобы добыть драгоценные железные болты и шкворни, и от очевидцев мы узнали, что белый человек и его слуги, которые ехали в фургоне, ушли дальше пешком приблизительно десять дней назад и забрали с собою волов. Насколько правдивым был этот рассказ? Не исключено, что Перейру и его спутников убили; хотя мы выяснили, что тонга — миролюбивое племя, если выказывать им свою дружбу и одаривать обычными подношениями, какие принято отдавать за проход по чужой территории. Так что, скорее всего, Перейра жив; наши сомнения подтвердились неделю спустя. Мы достигли крупного крааля Фокоти на берегу реки Мкузе, и этот крааль почему-то выглядел покинутым. Мы спросили у встретившейся нам старухи, куда подевались все люди. Она ответила, что люди бежали на рубежи Свазиленда[206], опасаясь нападения зулусов, чьи владения начинались сразу за рекою. Как удалось узнать, примерно неделей ранее зулусский импи[207] появился на берегах реки. Хотя тонга сейчас не воевали с зулусами, они сочли, что будет разумнее бежать подальше от свирепых воинов с копьями. Услышав такие новости, мы стали обсуждать, не отправиться ли нам самим следом за тонга, не уйти ли на запад и не попытаться ли найти перевал в горах. Голоса разделились. Анри Марэ, будучи фаталистом, желал идти дальше, уверяя, что всемогущий Господь защитит нас, как делал это до сих пор. — Allemachte! — воскликнула фру Принслоо. — Разве Он защитил всех тех, кто умер в лагере, куда завела нас ваша глупость, минхеер? Господь ожидает, что мы сами будем приглядывать за собой. По мне, эти зулусы ничуть не лучше кафров Мзиликази, убивших столько наших сородичей. Я говорю — едем к горам! Муж и сын с нею, естественно, согласились, ибо для них слово старой фру было законом, однако Марэ, по своему обыкновению, заупрямился. Они проспорили весь день, но я не вмешивался, сказал только, что подчинюсь решению большинства. В итоге же, как я и предвидел, меня призвали рассудить спор. — Друзья, — начал я, — если бы вы спросили моего мнения раньше, я бы посоветовал идти к горам, за которыми, возможно, нам встретились бы другие буры. Скажу честно, не нравится мне этот импи. Думаю, кто-то предупредил зулусов о нашем приближении, и напасть они решили на нас, а вовсе не на тонга, с которыми у них мир. Мои кафры говорят, что обычно импи в эти края не заглядывают. — Кто же мог их предупредить? — недоуменно произнес Марэ. — Не знаю, минхеер. То ли дикари весточку послали, то ли Эрнанду Перейра постарался. — Так и знал, Аллан, что вы обвините моего племянника! — сердито воскликнул Марэ. — Я никого ни в чем не обвиняю, лишь говорю, что такое возможно. В любом случае, сегодня уже поздно двигаться на юг или на запад. С вашего позволения, я поразмыслю на ночлеге и попробую что-нибудь узнать у своих зулусов. Той же ночью (точнее, утром) вопрос отпал сам собою, ибо когда я проснулся на рассвете, то различил в сумраке блеск копий. Нас окружил большой отряд зулусов, численностью, как выяснилось позднее, свыше двухсот воинов. Решив, что они, верные своей привычке, намереваются напасть с восходом солнца, я растолкал спутников. Марэ выскочил из фургона в ночной одежде, на бегу щелкая затвором ружья. — Ради всего святого, не стреляйте! — взмолился я. — Нам не справиться с таким количеством туземцев. Попробуем уговорить по-хорошему. Он все же попытался выстрелить, и ему бы это удалось, не кинься я на него и не выбей оружие из его рук. К тому времени к нам подошла фру Принслоо, являвшая собою, помнится, весьма величественное зрелище в своем, как она выражалась, спальном одеянии — ночном колпаке, сшитом из потертой шкуры шакала, и просторной накидке из меха выдры. — Проклятый глупец! — крикнула она, обращаясь к Марэ. — Вы хотите, чтобы нам всем перерезали глотки? Ступай, Аллан, поговори с этими шварцелями[208], и будь ласков, словно уговариваешь дикого пса. У тебя язык хорошо подвешен, они тебя послушают. — Иду, — ответил я. — Мне тоже кажется, что так будет лучше всего. Если не вернусь, скажите Мари, что я ее люблю. Я поманил к себе вожака своих наемников, и мы вдвоем пошли к зулусскому полку, почти безоружные. Наша стоянка находилась на возвышенности, приблизительно в четверти мили от реки, а зулусский импи расположился внизу, в полутора сотнях ярдов от нас. Становилось все светлее, и с расстояния в пятьдесят шагов нас заметили. Прозвучала команда, несколько воинов устремились к нам: щиты прикрывали тела, копья были выставлены вперед. — Мы погибли! — сдавленно прохрипел мой зулус. Я разделял его уверенность, но решил, что все равно как погибать — лицом к врагу или от удара в спину. Следует заметить, что я провел среди зулусов не так много времени, однако уже неплохо изъяснялся на нескольких наречиях, привычных для них. Более того, наняв кафров на берегах залива Делагоа, я часто с ними беседовал, освоил их язык, узнал обычаи и историю. Если коротко, я полагался на свое знание зулусского, хотя и понимал, что могу порой употреблять незнакомые туземцам слова. В общем, я прокричал зулусам, что мы хотим узнать, зачем они пришли. Услышав понятную речь, воины остановились. Я показал, что безоружен, и трое из них приблизились. — Белые люди, мы возьмем вас в плен или убьем, если вы будете сопротивляться! — сказал предводитель. — По чьему приказу? — спросил я. — По приказу Дингаана, нашего короля. — Неужели? А кто сказал Дингаану, что мы тут? — Бур, который прошел перед вами. — Неужели? — повторил я. — Чего же вы требуете от нас? — Ступайте с нами в краали Дингаана. — Понятно. Мы согласны, нам все равно по дороге. Но почему вы готовы напасть на нас, на мирных путников, и ваши копья подняты? — Слушай меня, белый. Тот бур сказал, что среди вас сын Джорджа[209], страшный человек, который перебьет всех, если мы не убьем его первыми. Покажи нам этого человека, чтобы мы могли связать его или заколоть, и мы не причиним вреда остальным. — Это я сын Джорджа, — ответил я хмуро. — Если хотите, можете меня связать. Зулусы расхохотались. — Ты? Да ты же просто мальчишка и весишь не больше толстой девки! — воскликнул предводитель, высокий и могучий воин, которого звали Камбула. — Может быть, — произнес я, — но порой и юным открывается мудрость отцов. Да, я — тот сын Джорджа, который спас этих буров от смерти в далеких краях и который ведет их обратно к своему народу. Мы хотим увидеть Дингаана, вашего короля. Отведи же нас к нему, как он вам повелел. Если не веришь моим словам, спроси того, кто пришел вместе со мной, и у его товарищей — твои соплеменники не станут тебя обманывать. Камбула отвел в сторону моего зулуса и долго его расспрашивал. Наконец беседа завершилась, и он сказал мне: — Теперь я все знаю о тебе. Я слышал, что ты очень умен для молодого, так умен, что не спишь по ночам и видишь ночью не хуже, чем днем. Потому я, Камбула, нарекаю тебя Макумазаном, это значит «человек, который встает после полуночи», и под этим именем ты будешь отныне и впредь известен среди нас. А теперь, Макумазан, сын Джорджа, позови тех буров, что идут за тобой, дабы я отвел ваши передвижные дома в Умгунгундлову, великое место, где обитает король Дингаан[210]. Видишь, мыопускаем наши копья и готовы встретить буров безоружными, доверяя тебе нас защитить, о Макумазан, сын Джорджа. С этими словами он бросил наземь свой ассегай. — Идем, — сказал я и повел зулусов к стоянке.Глава 12
РЕШЕНИЕ ДИНГААНА
Приблизившись к фургонам в сопровождении Камбулы и двух его товарищей, я увидел, что Марэ, пребывавший в чрезмерном возбуждении, яростно спорит с двумя Принслоо и Яном Мейером, а старая фру Принслоо и Мари тщетно пытаются его успокоить. — Они без оружия! — расслышал я его вопли. — Надо схватить этих черных дьяволов и взять их в заложники! В итоге он, похоже, переспорил остальных: трое буров неохотно поплелись нам навстречу следом за Марэ, и в руках у них были ружья. — Одумайтесь! — крикнул им я. — Перед вами посланцы! Они поотстали, а Марэ снова принялся гневно размахивать руками. Зулусы поглядели на них, потом на меня, и Камбула спросил: — Те ведешь нас в западню, сын Джорджа? — Вовсе нет, — ответил я. — Эти буры боятся вас и потому хотят пленить. — Скажи им, — произнес Камбула негромко, — что, если они убьют нас или хотя бы притронутся к нам, о чем они явно помышляют, очень скоро все они будут мертвы — и их женщины тоже. Я послушно перевел его слова бурам, но Марэ не сдавался. — Англичанин предал нас! — воскликнул фермер. — Он заодно с зулусами! Не верьте ему, хватайте их! Не знаю, что могло бы случиться, послушайся буры перепуганного Марэ, однако тут их догнала фру Принслоо и крепко взяла за руку своего мужа: — Стой! Ты не обязан подчиняться этому глупцу! Если Марэ так хочет схватить зулусов, пусть сам их ловит. Ты что, старик, спятил или слишком много выпил? Как ты мог подумать, будто Аллан способен предать Мари, не говоря уж о прочих, и переметнуться к кафрам? Старая фру замахала чрезвычайно грязным фатдоком — холщовым передником, который всегда носила и использовала в любых обстоятельствах, а сейчас с его помощью демонстрировала Камбуле свои мирные намерения. Буры остановились, и Марэ, сообразив, что остался один, умолк, только смерил меня негодующим взглядом. — Спроси этих белых людей, о Макумазан, — проронил Камбула, — кто их предводитель, ибо с ним я буду говорить от имени нашего короля. Я перевел его слова, и Марэ ответил: — Я. — Нет, — вмешалась фру Принслоо, — я. Объясни им, Аллан, что наши мужчины болваны, так что теперь все подчиняются женщине. Я перевел. Похоже, зулусы несколько удивились и довольно долго обсуждали что-то между собой. Затем Камбула сказал: — Быть по тому. Мы слышали, что людьми Джорджа ныне правит женщина, а раз ты, Макумазан, из этих людей, значит и в твоем отряде должен быть такой же порядок. Упомяну здесь, что в дальнейшем зулусы неизменно называли фру Принслоо на своем языке «инкози-каас», то есть правительницей, и ни с кем другим, не считая меня, кого они именовали индуной, ее «устами», не соглашались вести дела. Все распоряжения тоже отдавались ей, а прочих буров эти чернокожие попросту не замечали. Когда вопрос старшинства был улажен, Камбула попросил перевести бурам то, что уже объяснил мне: нас взяли в плен и поведут к Дингаану, и если мы не попытаемся сбежать, нам по дороге ничто не угрожает. Я перевел, пояснив для старой фру, кто такой Дингаан, к которому мы пойдем под конвоем. Тут фру Принслоо накинулась на Марэ. — Слышал, Анри Марэ? — гневно вопросила она. — Снова потрудился твой злокозненный племянничек! Так и знала, что без него не обошлось! Он рассказал о нас зулусам, чтобы погубить Аллана. Ну-ка, Аллан, спроси, что сделал этот Дингаан с родичем нашего бывшего предводителя? Я спросил — и получил ответ, что, насколько известно Камбуле, король позволил Перейре уйти свободно в награду за доставленные сведения. — Господи! — вскричала фру. — А я-то, глупая, думала, что он его приголубил дубинкой по голове! Ну и как же нам быть? — Не знаю, — признался я. Тут у меня в голове промелькнула некая мысль, и я обратился к Камбуле: — Ты сказал, что твоему королю нужен сын Джорджа. Так забирай меня и позволь этим людям продолжить свой путь. Трое зулусов переглянулись, отошли в сторонку, чтобы я не мог их подслушать, и принялись совещаться. А вот когда буры уяснили суть моего предложения, Мари, которая до сих пор хранила молчание, внезапно рассердилась; столь разгневанной мне еще не доводилось ее видеть. — Так не должно быть! — вскричала она, топая ногами. — Отец, я всегда тебе повиновалась, но, если ты согласишься на это, я откажусь подчиняться! Аллан спас моего кузена Эрнана, он спас нас всех. И в знак благодарности Эрнан попытался застрелить его в овраге. Молчи, Аллан! Меня ты не обманешь! А теперь Эрнан выдал его зулусам, соврал, будто он ужасный и опасный человек, которого следует убить. Что ж, если Аллану суждено умереть, я тоже умру, а если зулусы заберут его и отпустят нас, я уйду с ним. Решай, отец! Марэ потеребил бороду, посмотрел на дочь, затем на меня. Уж не знаю, что бы он в конце концов ответил, но ему помешал Камбула, который вернулся к нам и огласил, если хотите, приговор. Вкратце все сводилось к следующему: хотя Дингаан потребовал привести только сына Джорджа, оговаривалось, что всех, кто будет рядом, нужно тоже захватить. Он, Камбула, не может нарушить приказ короля. Пускай король решает, кого из нас убить, а кого отпустить. Поэтому мы все пойдем к королю. В общем, Камбула велел: «Привяжите волов к своим передвижным домам и ступайте за мной». Эти слова положили конец препирательствам. Лишенные возможности сопротивляться, мы собрали пожитки и двинулись в путь, сопровождаемые двумя сотнями дикарей. Вынужден признать, что в те четыре или пять дней, которые заняла дорога, зулусы обращались с нами вполне достойно. С Камбулой и другими командирами, которые все оказались отличными ребятами (на свой лад, конечно), мы много разговаривали, и я узнал от них немало интересного об общественном устройстве и обычаях зулусов. Туземцы неизменно стекались к нашим стоянкам, поскольку никогда прежде не видели белых людей; в обмен на горсть бус они приносили нам любую еду, какой мы только могли пожелать. Впрочем, бусы и другие товары были не более чем подарками с нашей стороны, ибо король, как выяснилось, приказал, чтобы пленники ни в чем не знали отказа. Это повеление выполнялось весьма скрупулезно. Например, когда в последний день дороги несколько наших волов свалились от усталости, мужчины-зулусы впряглись в постромки, и таким вот образом фургоны очутились в королевских краалях Умгунгундлову. Нам выделили место для фургонов неподалеку от дома (точнее, от скопища хижин), что принадлежал некоему миссионеру по имени Оуэн[211]. Он выказал исключительное мужество, отважившись проникнуть в эти земли. Этот миссионер с женой и домашними принял нас с величайшим радушием, и не передать словами, какое удовольствие я испытал, повстречав, после стольких скитаний и тягот, образованного англичанина. Поблизости находился каменистый холм, на вершине которого в день нашего прибытия казнили то ли шесть, то ли восемь человек, причем способом, который я не посмею описать. По словам мистера Оуэна, их преступление состояло в том, что они похитили колдовством несколько голов скота из королевских стад. Покуда я приходил в себя после омерзительного зрелища, каковое, по счастью, ускользнуло от внимания Мари, появился Камбула. Он сообщил, что Дингаан желает видеть меня. Других белых приводить запретили. Взяв с собою готтентота Ханса и двух зулусов из числа тех, кого нанял на побережье залива Делагоа, я отправился к королю. Мы прошли за ограду обширного крааля, где было две тысячи хижин — сами зулусы называли этот туземный город «скопление домов», — а посредине раскинулась довольно просторная площадь. На дальней стороне этой площади, где мне вскоре предстояло стать свидетелем трагической сцены, помещалось некое подобие лабиринта — изиклоло, с высоким забором и многочисленными поворотами; человеку несведущему было невозможно разобраться в хитросплетениях коридоров и отыскать выход. Меня провели через этот лабиринт, и я очутился перед большой хижиной — интункулу, главным домом короля зулусов. У порога восседал на табурете толстый зулус, совершенно нагой, если не считать набедренной повязки-мучи; зато на нем было множество ожерелий и браслетов из синих бус. Двое воинов держали над его головой свои щиты, чтобы защитить толстяка от солнца. Больше рядом никого не было, однако я не сомневался, что в потайных проходах лабиринта прячутся другие воины (было слышно, как они шевелятся и переговариваются). Камбула и его спутники простерлись на земле перед этим толстяком и принялись возносить славословия, на что король — а это был он — не обратил ни малейшего внимания. Но вот он вскинул голову и притворился, будто только что меня заметил: — Кто этот белый юноша? Камбула поднялся с земли и ответил: — О правитель, это сын Джорджа, которого ты повелел мне захватить. Я привел его и пленников-амабуна, его товарищей, и теперь они твои. — Помню-помню, — изрек Дингаан. — Большой бур, побывавший у нас и ушедший по воле моего военачальника Тамбузы, но без моего соизволения, говорил, что это ужасный человек, которого нужно убить, покуда он не причинил ущерба моему народу. Почему же ты не убил его, Камбула, хоть он и не выглядит таким уж грозным? — Потому что король повелел привести его живым, — ответил Камбула. И прибавил со смешком: — Если король пожелает, я могу убить его прямо тут. — Не знаю, — произнес Дингаан с сомнением в голосе. — Быть может, он умеет чинить ружья… Помолчав, он попросил одного из щитоносцев что-то принести — что именно, я не расслышал. «Наверняка послал за палачом», — подумалось мне. Эта мысль неожиданно обернулась холодной яростью в груди. С какой стати моя жизнь должна оборваться в столь юном возрасте по прихоти этого жирного дикаря? А если мне все-таки суждено погибнуть, почему я должен умирать в одиночку? Во внутреннем кармане моей поношенной куртки лежал полностью заряженный маленький двуствольный пистолет. Один выстрел прикончит Дингаана, уж с пяти-то шагов я не промахнусь по этакой туше, а вторым выстрелом я размозжу себе голову. Еще не хватало, чтобы какие-то зулусы свернули мне шею или забили меня палками до смерти. Ладно, если так, нужно действовать не затягивая. Моя рука медленно поползла к карману, но вдруг меня посетила новая мысль — точнее, сразу две. Первая была такова: если я застрелю Дингаана, зулусы наверняка расправятся с Мари и остальными, главное — с Мари. Ее нежного личика я никогда больше не увижу! А вторая мысль состояла в том, что, пока мы живы, надежда остается. Ведь возможно, что Дингаан послал не за палачом, а за кем-то другим. Подожду несколько минут, быть может, за это ожидание мне воздастся сторицей. Щитоносец вернулся, вынырнул из узкого, обнесенного тростником прохода в лабиринте, и с ним пришел не палач, а молодой белый человек, в котором я с первого взгляда узнал англичанина. Он приветствовал короля, сняв шляпу, украшенную по тулье — это я хорошо запомнил — перьями черного страуса, а по том уставился на меня. — О Тоомаз, скажи мне, этот юноша — из твоего народа или он принадлежит к амабуна? — Король хочет знать, вы англичанин или бур, — по-английски обратился ко мне Томас, имя которого король исковеркал. — Я британец, как и вы, — ответил я. — Родился в Англии, а сюда прибыл из Капской колонии. — Вам повезло, — сказал он. — Старый колдун Зикали запретил королю убивать англичан. Как вас зовут? Мое имя Томас Холстед[212], я служу переводчиком. — Аллан Квотермейн. Скажите этому Зикали, кто бы он ни был, что я богато одарю его, если король внемлет запрету. — О чем вы там болтаете? — с подозрением осведомился Дингаан. — Этот юноша говорит, что он англичанин, не бур. О король, он родился за Черной водой, а сюда пришел из тех краев, откуда к нам переселяются буры. Дингаан явно заинтересовался. — Значит, он сможет рассказать о бурах, о том, чего они хотят и что им нужно. Или мог бы, если бы говорил на моем языке. Я не доверяю тебе, Тоомаз, ибо мне известно, что ты любишь лгать. — Он бросил на Холстеда свирепый взгляд. — Я говорю на твоем языке, о король, — вмешался я, — пусть и не слишком хорошо. И о бурах могу поведать многое, потому что я долго жил среди них. — О! — воскликнул Дингаан, не скрывая своего удивления. — Но ты тоже можешь мне врать. Или ты из тех, кто молится, как тот глупец, которого кличут Оууэнзом? — (Он имел в виду мистера Оуэна.) — Я пощадил его, потому что негоже убивать безумцев, хотя он пытался напугать моих воинов сказками об огне, в который они непременно попадут после смерти. Глупец! Как будто их заботит, что с ними станется, когда они умрут! — При последних словах он втянул носом понюшку табака. — Я не лжец, — ответил я. — С чего бы мне лгать? — Ты будешь лгать, чтобы спасти свою жизнь. Все белые люди — трусы, а вот зулусы готовы погибнуть за своего короля. Как тебя зовут? — Твой народ зовет меня Макумазаном. — Что ж, Макумазан, если ты не лжец, ответь — правда ли, что буры восстали против своего короля Джорджа и бегут от него, как предатель Мзиликази бежал от меня? — Да, это правда, — признал я. — Теперь я точно знаю, что ты лжец, Макумазан! — торжествующе воскликнул Дингаан. — Ты уверяешь, что ты англичанин и служишь своему королю — или инкози-каас, великой правительнице, которая, как мне рассказали, нынче властвует вместо него. Так почему же ты бродишь вместе с отрядом амабуна — они же должны быть твоими врагами, раз они враги твоего короля и той, кто его сменил? Я понял, что оказался в затруднительном положении. В том, что касается вопросов верности, зулусы, подобно всем дикарям, мыслят крайне примитивно. Если я скажу, что проникся к бурам сочувствием, Дингаан назовет меня предателем. А если скажу, что ненавижу буров, меня все равно сочтут предателем, потому что я ехал с ними вместе в одном обозе; а предателей среди дикарей принято немедленно убивать. Не хочется говорить о вере; всякий, кому попадались на глаза другие мои сочинения, согласится, что я всегда старательно избегал богословских рассуждений. Но в тот миг, не стану скрывать, я мысленно вознес молитву о помощи, сознавая, что моя юная жизнь целиком и полностью зависит от правильного ответа. И помощь пришла — откуда именно, не могу сказать. Мне вдруг стало ясно, что я должен ответить этому толстому дикарю чистую правду. — Мой ответ таков, о король. Среди буров есть девушка, которую я люблю и которая помолвлена со мной с тех самых пор, когда мы были совсем юными. Отец увез ее на север. Но она послала мне весточку, дала знать, что буры умирают от лихорадки, а сама она голодает. Тогда я сел на корабль, чтобы спасти ее, и на самом деле спас, заодно с теми ее товарищами, кто еще был жив. — О! — сказал Дингаан. — Это я могу понять. Хорошая причина. Сколько бы ни было у мужчины жен, нет такой глупости, какую он ни сотворил бы ради девушки, что еще не стала ему женой. Я и сам поступал так, особенно ради той, кого звали Нада, или Лилия. Ее украл у меня презренный Умслопогас, мой родич, которого я изрядно опасаюсь[213]. — Он посидел в задумчивости, а затем продолжил: — Твои доводы разумны, Макумазан, и я их принимаю. Более того, я обещаю тебе вот что. Не знаю, решу ли я убить этих буров или позволю им жить дальше. Но если даже я велю их казнить, твою девушку я пощажу. Покажи ее Камбуле, но не Тоомазу, потому что он лжец и наверняка попробует меня обмануть. Да, ее пощадят. — Благодарю тебя, о король, — сказал я. — Но какая в том польза, если ты убьешь меня? — Я не говорил, что убью тебя, Макумазан. Хотя, быть может, все же следует тебя прикончить. Я подумаю. Все зависит от того, обманешь ты меня или нет. Тот бур, которого Тамбуза отпустил против моей воли, говорил, что ты могучий колдун и очень опасный человек, способный сбивать пулей птиц на лету. Но это невозможно. Ты правда способен на такое? — Иногда, — честно ответил я. — Очень хорошо, Макумазан. Значит, мы проверим, вправду ли ты чародей или все-таки ты лжец. Я заключу с тобой соглашение. Рядом с вашей стоянкой находится Хлома-Амабуту, каменный холм[214], на котором казнят злоумышленников. Сегодня днем там умрут несколько злодеев; когда они будут мертвы, стервятники слетятся клевать их тела. Вот мои условия. Когда стервятники прилетят, ты станешь стрелять по ним, и если убьешь трех из первых пяти на лету, а не на земле, Макумазан, тогда я пощажу твоих буров. Но если ты промахнешься, я буду знать, что ты лжец и никакой не колдун, и твои буры погибнут на Хлома-Амабуту. Я не помилую никого, кроме девушки, а ее, может быть, возьму себе в жены. Что же до тебя, я решу потом, как с тобой поступить. Первым моим побуждением было отказаться от этого гнусного соглашения, из которого следовало, что жизни многих людей поставлены в зависимость от моей меткости и умения стрелять. Но молодой Томас Холстед, догадавшись, должно быть, какие именно слова готовы сорваться с моих уст, проговорил по-английски: — Принимайте эти условия, не будьте глупцом. Если вы откажетесь, он велит перерезать горло всем вашим товарищам, а девушку заберет в свой эмпузени, то есть в гарем. А вы станете узником, подобно мне. Таким советом нельзя было пренебречь, и потому, вопреки отчаянию, что стискивало мое сердце, я сказал: — Да будет так, о король. Я принимаю твои условия. Если я убью трех стервятников из пяти, покуда они кружат над холмом, ты обещаешь отпустить всех, кто пришел со мной, и возьмешь их под свою защиту. — Верно, Макумазан, верно. Но если ты не сумеешь убить этих птиц, запомни, что тебе придется стрелять по стервятникам, что прилетят полакомиться мертвой плотью твоих товарищей. И все узнают тогда, что ты не колдун, а обыкновенный обманщик. Тоомаз, ступай прочь! Не желаю, чтобы ты подглядывал за мной. А ты, Макумазан, подойди ближе. Ты говоришь на моем языке очень плохо, но я хочу побеседовать с тобой о бурах. Холстед пожал плечами и удалился. Проходя мимо меня, он пробормотал: — Надеюсь, вы действительно умеете стрелять. Когда он ушел, я добрый час рассказывал Дингаану о бурах, отвечал на его вопросы о переселенцах, о том, зачем они сюда едут и с какой стати им вздумалось вторгаться в пределы владений зулусского вождя. Я старался отвечать предельно честно, не забывая, однако, при случае характеризовать буров в наилучшем свете. Наконец, устав от долгой беседы, Дингаан хлопнул в ладоши. Тут же появилось множество туземных девушек, и две из них принесли кувшины с пивом. Король предложил мне угощаться. Я сказал, что предпочел бы воздержаться, поскольку от пива может дрогнуть рука, а от крепости моих рук сегодня зависит жизнь моих товарищей. Отдаю Дингаану должное — он согласился со мной. Более того, велел немедля отвести меня обратно на стоянку, чтобы я мог отдохнуть перед испытанием, и даже послал со мной одного из своих прислужников, которому наказал держать щит над моей головой, дабы защитить от солнца. — Хамба гашле — ступай ровно, — сказал коварный старый тиран, отпуская меня под присмотром Камбулы. — За час до заката мы встретимся с тобой на вершине Хлома-Амабуту, и там решится участь твоих товарищей-амабуна. Вернувшись на стоянку, я обнаружил, что буры сбились кучкой и в тревоге ожидают меня. С ними были преподобный мистер Оуэн и его домочадцы, в том числе служанка-валлийка, женщина средних лет, которую, насколько я помню, звали Джейн. — Ну что, какие вести ты нам принес, молодой человек? — спросила фру Принслоо. — Вести дурные, тетушка, — ответил я. — Сегодня, за час до заката, мне придется бить стервятников на лету, чтобы снова спасти вас всех. Этим вы обязаны тому лживому отродью по имени Эрнанду Перейра, который сказал Дингаану, что я колдун. Дингаан хочет в этом убедиться. Он думает, что только при помощи колдовства человек способен бить птиц влет; а поскольку он намеревается убить всех буров, кроме, разве что, Мари, то поставил передо мной задачу, которую сам считает невыполнимой. Если я промахнусь, все будет плохо и вы погибнете. Если же я выполню его условия, то вас пощадят; Камбула уверяет, что король всегда держит свое слово, когда заключает соглашения. Вот такие вести. Надеюсь, вам понравилось. — Я горько рассмеялся. Разумеется, буры тут же принялись жарко спорить и возмущаться. Обладай проклятия силой убивать, Перейра, думаю, умер бы мгновенно, где бы он ни прятался. Молчали всего двое — Мари, которая, бедняжка, сделалась совсем бледной от волнения, и ее отец. Затем один из буров, по-моему Мейер, обрушился с упреками на Анри Марэ — дескать, пусть ответит, зачем пригрел на груди этакую ядовитую змею, своего племянника. — Наверное, тут какая-то ошибка, — тихо ответил Марэ. — Эрнан ни за что не обрек бы нас на погибель. — Как знать? — хмыкнул Мейер. — Но он точно хотел погубить Аллана Квотермейна, а это все равно что желать смерти нам. И теперь наша жизнь опять зависит от юнца-англичанина. — Уж его-то, — проговорил Марэ, странно поглядывая на меня, — точно не убьют, подстрелит он этих стервятников или промахнется. — Не судите поспешно, минхеер, — процедил я, взбешенный этим несправедливым обвинением. — Поймите же, что если вас, моих товарищей, всех прикончат, а Мари заберут в гарем этого чернокожего дьявола, мне будет незачем жить! — Господи! Он пригрозил ее забрать? — ужаснулся Марэ. — Верно, вы его неправильно поняли, Аллан. — Хотите сказать, я посмел бы вам солгать насчет такого… Прежде чем я успел наговорить лишнего, фру Принслоо втиснулась между нами. — Ну-ка тихо! — прикрикнула она. — Замолчите, Марэ! И ты тоже, Аллан. Некогда нам ссориться и поливать друг друга упреками. Неужто ты готов, Аллан, забыть об испытании ради мелкой свары? Тебе ведь скоро стрелять! А уж вам, Анри Марэ, тем более не подобает попрекать того, в чьих руках наша жизнь! Лучше помолитесь, чтобы Господь наконец покарал вашего нечестивого племянника! Идем, Аллан, я тебя накормлю. Я нажарила печени от той телушки, что прислал нам король. Получилось очень вкусно. А когда поешь, тебе нужно немного поспать. Среди домочадцев преподобного мистера Оуэна был английский мальчик по имени Уильям Вуд, лет двенадцати-четырнадцати от роду. Он знал голландский и зулусский и служил переводчиком для мистера Оуэна в отсутствие некоего мистера Халли, обычно исполняющего эти обязанности. Пока буры выясняли отношения между собой по-голландски, он переводил буквально каждое слово на английский, чтобы священник и его семейство понимали, о чем идет речь. Осознав весь ужас сложившегося положения, мистер Оуэн вмешался в наши препирательства: — Сейчас не время есть или спать, сейчас время молиться. Помолимся же о том, чтобы в черное сердце дикаря Дингаана проник свет истины. Прошу вас, братья. — Да уж, — фыркнула фру Принслоо, когда Уильям Вуд перевел воззвание миссионера. — Молитесь сколько влезет, проповедник, и пусть с вами молятся прочие бездельники. Заодно попросите у Господа, чтобы пули Аллана Квотермейна не летели мимо. У нас с Алланом хватает других дел, так что молитесь усерднее, за себя и за нас. Идем же, Аллан, не то эта печенка пережарится и у тебя случится несварение, а для стрельбы это даже хуже, чем дурное настроение. Все, ни слова больше, Анри Марэ! Если вы еще хоть раз раскроете рот, я надеру вам уши. — Она вскинула свою руку толщиной с баранью ляжку. Когда Марэ попятился, фру схватила меня за воротник, будто нашкодившего школяра, и повела к фургонам.Глава 13
РЕПЕТИЦИЯ
В женском фургоне, как и обещала старая фру, меня ждал ужин на сковородке. Мы пришли вовремя — печень прожарилась, как мне нравится. Фру Принслоо выбрала весьма увесистый кусок и вознамерилась достать его со сковороды пальцами, а затем переложить на жестяную тарелку, с которой она прежде удалила, посредством своей верной и постоянной помощницы, засаленной тряпки-фатдока, следы утреннего пиршества. К сожалению, попытка оказалась не слишком удачной: горячий жир обжег пальцы фру, отчего она уронила кусок печени на траву — и, сколь ни совестно мне в том признаваться, грубо выругалась. Впрочем, она не пожелала сдаваться, облизала пальцы, дабы унять острую боль от ожога, затем подхватила кусок печени передником и водрузила его на относительно чистую тарелку. — Вот так-то, дружок! — воскликнула она с торжеством в голосе. — Кота пришибить много способов найдется, топить не обязательно. И почему я сразу про передник не вспомнила, глупая? Allemachte, жжется! Сдается мне, так же больно бывает, когда тебя убивают. Дурное тянется к дурному, верно, Аллан? Глядишь, нынче вечером я сделаюсь ангелом, воспарю в длинной белой рубашке, вроде той, что матушка подарила мне, когда я выходила замуж; ту рубашку я пустила на пеленки, мне в ней холодно было, я-то больше привычная к жилетам да нижним юбкам. И крылья у меня появятся, будто у белых гусаков, только больше, чтоб этакую тяжесть удержать. — Ну да, а еще венец славы[215], — хмыкнул я. — Конечно, и венец славы, тоже большой, ведь я стану мученицей! Надеюсь, мне придется надевать его лишь по воскресеньям, терпеть не могу тяжелого на волосах. Еще она будет напоминать мне о кафрских золотых обручах, а кафров с меня уже достаточно. И арфа будет, — продолжала старая фру, чье воображение совершенно очевидно разыгралось при мысли о небесных наслаждениях. — Ты когда-нибудь видел арфу, Аллан? Я-то в жизни не видывала, разве что на картинке с царем Давидом в Библии, и там она похожа на выломанную раму стула, повернутую набок. Другие ангелы научат меня на ней играть, и это наверняка будет непросто, я ведь привыкла слушать котов на крыше, а не музыку, а уж играть и подавно… Она продолжала болтать, рассчитывая, думаю, отвлечь и развеселить меня, ибо добрая старая фру прекрасно понимала, сколь важно, чтобы я находился в умиротворенном состоянии в этот важный момент, когда на кону стояла жизнь всех участников похода. Между тем я отчаянно сражался с куском печени, который имел отчетливый привкус засаленной тряпки и был весь в песке, скрипевшем на зубах. По правде сказать, когда фру отвернулась, я кинул остаток печенки Хансу. Готтентот, как собака, проглотил его в мгновение ока, не желая, чтобы фру заметила, как он жует. — Господи Боже! Ну и скор ты на еду! — сварливо заметила старая фру, углядев краем глаза опустевшую тарелку. С подозрением посмотрела на довольного готтентота и прибавила: — Или ты все скормил своему верному псу? Если так, я его проучу. — Нет-нет, фру! — вскричал перепуганный Ханс. — Я сегодня вовсе не ел мяса, только облизал сковородку после завтрака. — Аллан, тогда у тебя точно случится несварение, чего нам совсем не нужно. Разве я не говорила тебе, что каждый кусочек надо прожевать двадцать раз, прежде чем глотать? Я сама бы так делала, будь у меня зубы. На, выпей молока, оно едва начало скисать и успокоит твой желудок. Фру Принслоо достала черную бутыль и подвергла ее обработке все той же тряпкой. По-моему, она рассердилась, когда я отказался от молока и предпочел попить воды. Потом фру настояла на том, чтобы я лег спать в ее собственной постели, и сурово запретила мне курить, иначе, мол, рука будет дрожать. Коротко переговорив с Хансом, которому было поручено тщательно почистить оружие, я подчинился пожеланию фру Принслоо. Мне хотелось остаться одному, и женский фургон виделся надежным укрытием; в любом другом месте лагеря меня вряд ли оставят в покое. Хотя я исправно закрывал глаза всякий раз, когда в фургон заглядывала добрая фру, проверявшая, как мне отдыхается, на самом деле сон, насколько помнится, не приходил довольно долго. Как можно было заснуть, если сердце раздирали на части сомнения и страхи? Подумайте сами, мой читатель, подумайте сами! Минул час, за ним другой, а мой разум все перебирал варианты спасения жизни восьми белых людей — детей, мужчин, женщин, включая девушку, которую я любил и которая любила меня. Лишь от твердости моей руки зависело, будет ли она в безопасности или подвергнется бесчестью и поруганию. Нет, нельзя допустить, чтобы ее опозорили; я отдам ей свой пистолет, и она будет знать, что делать, если до этого дойдет. Тяжкая ответственность стала тем бременем, которого я не мог вынести. Меня охватило вполне объяснимое отчаяние, я весь дрожал и даже немного всплакнул. Потом я подумал о своем отце, прикинул, как поступил бы он в подобных обстоятельствах, и начал молиться столь усердно, как никогда не молился ранее. Я молил Всевышнего даровать мне сил и мудрости справиться с бедой, не уронить свое достоинство и не подвести несчастных буров, для которых мой провал будет означать кровавую смерть. Я молился, покуда пот не заструился по моему лицу, а затем внезапно впал в забытье. Не знаю, как долго пролежал я в таком состоянии, должно быть, около часа. Потом я резко очнулся — и отчетливо расслышал тоненький голосок, но он не мог принадлежать человеку; как мне почудилось, некто вещал прямо у меня в голове и произнес такие слова: «Ступай на холм Хлома-Амабуту и понаблюдай за стервятниками. Делай то, что подсказывает тебе рассудок, и, хотя бремя твое тяжело, ничего не бойся». Я сел, вспомнил, что нахожусь в женском фургоне, и внезапно ощутил в себе некую загадочную перемену. Я перестал быть прежним. Мои сомнения и страхи исчезли, моя рука была тверда, как скала, а с души словно свалился тяжкий груз. Я знал наверняка, что смогу подстрелить трех назначенных мне стервятников. Понимаю, сколь нелепо это звучит, и случившееся легко объяснить тем напряжением нервов, в котором я пребывал; смею думать, что это и вправду было истинной причиной моего воодушевления. Но все же не стыжусь признаться: я тогда решил — и считаю так до сих пор, — что дело заключалось в другом. Я верил и верю, что в минуту опасности Всевышний заговорил со мной, ответил на мои искренние мольбы и на молитвы остальных, даровал мне наставление и наделил спокойствием и уверенностью, в коих я столь нуждался. В любом случае, моя убежденность в этом была такова, что я поспешил подчиниться словам, изреченным тем неземным, нечеловеческим голосом. Выбравшись из фургона, я отыскал Ханса, сидевшего неподалеку, прямо на палящем солнце. Мне показалось, что готтентот глядит на светило, даже не жмурясь. — Где мое ружье, Ханс? — спросил я. — Интомби? Здесь, баас, я положил ее остудиться, чтобы она не выстрелила раньше времени. — Он указал на маленький бугорок травы рядом с собою. Следует пояснить, что туземцы дали моему ружью прозвище Интомби — «девушка», потому что оно было тоньше и изящнее других ружей. — Ты его почистил? — уточнил я. — Она не была чище с тех пор, как вышла из огня, баас! Порох я просеял и положил сушиться на солнце заодно с крышками (так он называл капсюли), а пули подогнал по стволу, чтобы не случилось неприятностей, когда будешь стрелять. Если ты промахнешься по аасфогелям, в том не будет вины Интомби, пороха или пуль. Это будет только твоя вина. — Утешает, — проворчал я. — Ладно, пошли. Хочу взглянуть на тот холм смерти поближе. Готтентот слегка отпрянул: — Зачем, баас? Зачем идти туда раньше времени? Туда не ходят просто так, туда отводят на казнь. Зулусы говорят, что призраки блуждают там даже днем, кружатся над камнями, где были убиты обреченные. — А еще там летают стервятники, Ханс. Я хочу своими глазами посмотреть на них, понять, куда и как лучше стрелять. — Это мудро, баас, — одобрил хитрый готтентот. — Ведь по гусям в Груте-Клуф палить было проще. Гуси летают по прямой, как ассегаи, не то что аасфогели. Непросто попасть в птицу, которая кружит и кружит. — А то я не знаю! Пошли. Едва мы поднялись, из-за другого фургона показалась фру Принслоо, а за нею шла Мари, очень бледная и понурая; ее чудесные глаза были красны, словно она недавно плакала. Фру спросила, куда мы собрались. Я честно объяснил, куда именно. Она поразмыслила и сказала, что это правильно, — дескать, всегда полезно изучить поле битвы перед сражением. Я кивнул и отвел Мари в сторонку, под прикрытие колючего кустарника. — О Аллан, когда же все это закончится?! — воскликнула она жалобно. Мужества ей было не занимать, но у всего имеются свои пределы. — Скоро, любимая. Все будет хорошо, — ответил я. — Мы справимся с этой бедой, как справлялись с другими. — Откуда ты можешь знать, Аллан? Ведь все в руках Божьих. — Господь поведал мне, Мари. — И я пересказал суженой все, что говорил мне голос в моей голове. Мари как будто немного успокоилась. — Не знаю, не знаю… — В ее тоне проскользнуло сомнение. — Это был всего лишь сон, Аллан, а во сне всякое бывает. Ты можешь и промахнуться. — Я похож на того, кто может промахнуться, Мари? Она оглядела меня с головы до ног и сказала: — Нет, не похож, хотя и выглядел таким печальным, когда вернулся от короля. Теперь ты совсем другой. И все же, Аллан, ты можешь промахнуться — не спорь! Что тогда? Эти жуткие зулусы приходили к нам, пока ты спал, спрашивали, готовы ли мы взойти на холм смерти. Они уверяли, что Дингаан не отступится. Если ты не подстрелишь стервятников, он велит нас убить. Похоже, стервятники считаются у них священными птицами; если ты промахнешься, король может решить, что ему нечего бояться белых людей и их колдовства, и начнет с того, что расправится с пленниками. И только меня оставят в живых. О, как мне тогда быть, Аллан? Я посмотрел на нее, встретил ее взгляд — и достал из внутреннего кармана куртки двуствольный пистолет, который и вручил девушке. — Он заряжен и стоит на полувзводе, — предупредил я. Она кивнула и молча спрятала оружие под передником. Затем, не тратя лишних слов, мы поцеловались и расстались. Никому из нас не хотелось затягивать прощание. Холм Хлома-Амабуту располагался поблизости от нашей стоянки и от хижин преподобного мистера Оуэна, приблизительно в четверти мили; он высился над плоским вельдом, как бы вырастая из земли над неглубокой лощиной, каковая едва ли заслуживала считаться оврагом. Когда мы подошли ближе, бросилась в глаза безжизненность этого места: вокруг зеленела густая весенняя трава, а на холме не было ни былинки. Он стоял голый и угрюмый, покрытый черными, будто закопченными, валунами. Среди них изредка попадались хилые кустики с темной листвой; вдобавок большинство камней были словно обильно забрызганы известкой, из чего следовало, что на них нередко сиживали пирующие стервятники. Сдается мне, в Китае есть поверье, будто у каждого уголка земли есть злой или добрый дух, этакий гений[216], как говаривали древние; так вот, Хлома-Амабуту и еще несколько мест в Африке заставляют признать правоту китайской мудрости. Стоило мне ступить на эту проклятую землю, подобную Голгофе, Лобному месту, как по моей спине пробежал холодок. Быть может, сказалась сама атмосфера этого холма, физическая или, если угодно, духовная, либо меня посетило предчувствие, некое предвидение того жуткого зрелища, какое мне было суждено узреть здесь воочию несколько месяцев спустя. Либо же осознание предстоящего судилища заставило мою молодую кровь на мгновение застыть в жилах. Не могу сказать, в чем точно была причина, однако произошло именно это, а минуту или две спустя, когда моему взору открылось, какими «украшениями» усеяна вершина, стало понятно, что нет необходимости искать мистическое оправдание посетившему меня страху. По склону между могучими валунами, что лежали тут и там этакими гигантскими градинами, оставленными зимней бурей, вились многочисленные тропки. Казалось, именно через холм ведет кратчайший путь к окрестностям главного крааля; хотя ни один зулус не осмеливался подходить к Хлома-Амабуту ночью, от заката до рассвета, тогда как в светлое время суток этими тропами охотно пользовались. Полагаю, туземцы тоже думали, будто над злополучным холмом смерти властвует некий могущественный дух, незримый и чудовищно жестокий, и требуются жертвоприношения, чтобы его умилостивить. Что ж, зулусы умиротворяли злое божество старым добрым способом, распространенным, насколько мне известно, во многих землях, хотя истинное содержание обряда, признаюсь, мне неведомо. Достигая места, где одна тропка сходилась с другой, человек подбирал с земли камень и кидал его в кучу, что копилась близ сего перекрестка усилиями путников. Я насчитал на склоне более дюжины таких груд, причем весьма высоких. Самая крупная весила, пожалуй, около пятидесяти лоудов[217], а наиболее мелкая — двадцать или тридцать. Мой Ханс, никогда прежде не ступавший на этот холм, узнал, должно быть, от зулусов, что нужно делать и какие ритуалы исполнять, чтобы отвести от себя местные проклятия. Когда мы подошли к первой куче камней, он кинул туда подобранный с земли камешек и попросил последовать его примеру. Я посмеялся над ним и отказался. У второй кучи повторилось то же самое. Я снова отмахнулся, однако, когда мы достигли третьей, более высокой груды, Ханс уселся наземь и принялся стонать и твердить, что не сделает и шагу дальше, покуда я не совершу положенное приношение. — С какой стати? — возмутился я. — Что за глупости ты мелешь? — Если ты не послушаешься меня, баас, мы останемся тут навсегда! Смейся сколько хочешь, но говорю тебе: ты уже навлек на себя беду. Вспомни мои слова, баас, когда ты промахнешься — по двум птицам из пяти! — Чушь! — Признаться, в действительности я употребил голландское словечко покрепче. Впрочем, эта болтовня насчет промахов заставила меня призадуматься. Надо сказать, в Африке полезно обращать внимание на обряды туземцев. У следующих трех куч я послушно бросал камни, словно самый суеверный зулус в округе. Наконец мы добрались до гребня, имевшего протяженность в две сотни ярдов. Очертаниями он напоминал выгнутую спину борова; посредине виднелось углубление, очищенное от камней то ли силами природы, то ли человеческими руками, и напоминавшее о цирковых аренах. О, что за зрелище предстало моим глазам! Повсюду, кучками и вразброс, валялись кости, мужские и женские, и многие из них хранили следы гиеньих зубов. Некоторые кости были совсем еще свежими — к черепам липли волосы, — иные же побелели от времени. В общем, человеческих останков было великое множество! Та же картина наблюдалась и вокруг углубления, хотя здесь кости преимущественно были собраны в омерзительные груды. Неудивительно, что стервятники так и вились над Хлома-Амабуту, местом смерти, где творился произвол зулусского короля! Сейчас, увы, поблизости не было видно ни одной из этих отвратительных птиц. На холме никого не казнили вот уже несколько часов подряд, поэтому стервятники искали себе добычу в иных местах. Но не напрасно же мы пришли сюда! Я призадумался, гадая, чем и как можно привлечь стервятников. — Ханс, — позвал я готтентота, — давай притворимся, что я тебя убил. Ты будешь лежать неподвижно, как мертвый. Даже если аасфогели накинутся на тебя, шевелиться нельзя, иначе я не пойму, откуда они прилетают и как себя ведут. Готтентот согласился далеко не сразу. На самом деле он поначалу отказывался наотрез и приводил множество разумных и смешных причин. Дескать, подобные проверки сулят несчастье, и предварять какое-то событие, в особенности такое страшное, все равно что кликать беду, а ему хочется жить. Мол, зулусы уверяют, что священные стервятники с Хлома-Амабуту свирепы, как львы, и, завидев лежащего на земле человека, немедля раздирают того в клочья, живого или мертвого. Короче, мы с Хансом напрочь разошлись во мнениях. Но я должен был настоять на своем и потому не постеснялся изложить ему расклад в простых и доступных выражениях. — Ханс, — сказал я, — тебе придется стать наживкой. Выбирай, будешь ты живой наживкой или мертвой. Я многозначительно щелкнул затвором ружья. Разумеется, я ни в коем случае не хотел и не собирался убивать верного старого готтентота. Но Ханс, вспомнив о том, каковы ставки, воспринял мои слова всерьез. — Allemachte, баас! — вскричал он. — Я все понимаю и не виню тебя. Я лягу живым, и, быть может, змеиный дух, мой хранитель, убережет меня от дурных знамений, а аасфогели не выклюют мне глаза! Зато если твоя пуля попадет мне в живот, все будет кончено, и для бедолаги Ханса настанет момент «доброй ночи и сладких снов». Я послушаюсь тебя, баас, и лягу куда скажешь, только не уходи, молю тебя, не бросай меня на растерзание этим страшным птицам! Я поклялся, что никуда не уйду и не оставлю его одного. После этого мы с ним разыграли маленькое, но весьма мрачное представление. Встав в центре похожего на цирковую арену углубления, я поднял ружье и сделал вид, будто вышибаю Хансу мозги прикладом. Готтентот упал навзничь, немного подрыгался и замер. Так завершился первый акт. Во втором акте я перестал изображать злобного зулусского палача, отступил от «жертвы» и спрятался в кустах на краю вершины, ярдах в пятидесяти от Ханса. Теперь оставалось только ждать. Ярко светило солнце, и было очень тихо; все застыло в неподвижности — и бесчисленные скелеты казненных вокруг, и Ханс, который лежал не шевелясь. Он казался мертвым и бесконечно одиноким посреди этого пространства, лишенного травы. Ждать в подобном окружении было непросто, но относительно скоро занавес подняли, и начался третий акт. В слепящей голубизне вверху я различил черную точку, размерами не больше комка пыли. Аасфогель с расстояния, недоступного человеческому глазу, заметил, похоже, свою добычу; он слегка снизился и каким-то образом созвал своих сородичей, что кружили в небе на пятьдесят миль окрест. Эти птицы, смею сказать, охотятся с помощью зрения, а не чутья. Первый стервятник спускался все ниже, и задолго до того, как он приблизился к земле, в небе появились другие черные точки. Аасфогель-наблюдатель находился теперь в четырех или пяти сотнях ярдов надо мной; он парил над гребнем холма на своих широких крыльях, плавно снижаясь. В конце концов стервятник, словно задумавшись, на несколько мгновений завис в воздухе приблизительно в полутора сотнях ярдов над Хансом. Затем аасфогель сложил крылья и устремился вниз, точно арбалетный болт. Лишь у самой земли крыльяптицы вновь распахнулись. Стервятник дернулся, подался вперед в той диковинной манере, что отличает этих птиц, и сделал несколько неуклюжих шагов по земле, восстанавливая равновесие. Потом застыл как вкопанный, устремив свой жуткий немигающий взор на распростертого Ханса, который лежал футах в пятнадцати от него. А в следующую секунду к этому стервятнику стали присоединяться другие, созванные им на пиршество. Они подлетали к холму, снижались, кружились — непременно с востока на запад, по ходу солнца, — замирали в воздухе на миг-другой, камнем падали вниз, чуть не клювом в землю, затем, раскрыв крылья, обретали равновесие, подходили к первому аасфогелю и рассаживались цепочкой, таращась на Ханса. Вскоре готтентот очутился в окружении множества стервятников, сидевших неподвижно и чего-то ожидавших. Наконец к честной компании присоединился аасфогель, едва ли не вдвое крупнее всех прочих. Буры и туземцы называют таких птиц королевскими — они правят другими стервятниками в стае, и те не смеют нападать на добычу в отсутствие и без позволения вожака. Не могу сказать, принадлежат ли сии особи к иному виду или же они попросту быстрее растут и потому превосходят размерами остальных. Единственное, что известно мне наверняка из продолжительных наблюдений на природе: «король» непременно найдется в каждой стае. Едва королевский стервятник приземлился, прочие аасфогели, коих теперь насчитывалось пять, а то и все шесть десятков, начали выказывать оживление. Они то и дело посматривали на вожака, косились на Ханса, вытягивали свои голые красные шеи и зажмуривали ярко блестевшие глаза. Впрочем, за теми, кто находился на земле, я следил не слишком внимательно, продолжая присматриваться к их сородичам в воздухе. Меня несказанно порадовало то обстоятельство, что стервятники оказались чрезвычайно консервативными птицами. Все они вели себя так, как у них повелось, несомненно, еще со времен Адама или даже раньше, — кружили, зависали в воздухе на несколько мгновений, затем устремлялись к земле. Значит, именно в этот миг, в те четыре-пять секунд, пока они изображают собой неподвижную мишень, в них и нужно стрелять. С расстояния менее сотни ярдов я способен уложить на спор сколько угодно пуль в чайное блюдце без единого промаха, а стервятник, смею напомнить, куда больше блюдца. Получается, мне нечего опасаться того испытания, что уготовил нам коварный король зулусов, если, конечно, не произойдет ничего неожиданного. Снова и снова я прицеливался в птиц, чувствуя, что, стоит надавить на спусковой крючок, я пристрелю добрую половину из них. Попрактиковаться всегда полезно, поэтому я довольно долго продолжал эту игру, однако она внезапно завершилась. Вдруг послышался какой-то странный шум. Повернувшись на звук, я увидел, что аасфогели топают к Хансу, помогая себе широкими крыльями, а впереди, футах в трех от стаи, выступает вожак. В следующее мгновение Ханса заслонили от меня, а затем из глубины этого столпотворения пернатых донесся истошный вопль. Как выяснилось впоследствии, королевский стервятник попытался ущипнуть готтентота за нос, а другие омерзительные птицы ухватились за прочие части его тела и принялись тянуть, дабы, по своему обыкновению, оторвать от жертвы кусочки повкуснее. Ханс стал отбиваться и закричал, а я выскочил из кустов и выстрелил. Стая забила крыльями, взмыла вверх пернатым облаком и вскоре рассеялась в небе. Не прошло и минуты, как птицы исчезли, и мы с храбрым готтентотом остались одни. — Молодец! — похвалил я. — Ты сделал все как надо. — Гляди, баас! — воскликнул Ханс. — У меня в носу две дырки, куда влезет палец, и меня всего искусали! И штаны порвали! А моя голова?! Я почти лишился волос! Говоришь, я молодец? Все правильно сделал? Эти треклятые аасфогели меня чуть не сожрали! О баас, если бы ты видел их близко и понюхал эту вонь, то заговорил бы по-другому. Еще миг, и у меня вместо двух ноздрей стало бы четыре! — Ерунда, Ханс! — отмахнулся я. — Это всего лишь царапина, а новые штаны я тебе подарю. На, держи табак. И пойдем в кусты, нам надо поговорить. Так мы и поступили. Когда Ханс слегка успокоился, я пересказал ему свои выводы о повадках аасфогелей в воздухе, а он поделился со мной наблюдениями о поведении стервятников на земле. Поскольку я не собирался целиться в птиц, опустившихся на холм, это меня не слишком заинтересовало. Готтентот согласился со мной в том, что лучше всего стрелять, когда аасфогели зависают перед «нырком». Откуда-то со стороны долетели громкие крики. Оглядевшись, мы увидели внизу, где раскинулись краали Умгунгундлову, поистине печальную картину. По склону холма в сопровождении троих палачей и семи или восьми воинов вели с крепко связанными за спинами руками троих кафров. Один был совсем старик, лет пятидесяти, другой выглядел не старше восемнадцати. Позднее я узнал, что все трое принадлежали к одной семье. Это были дед, отец и старший сын, которых схватили по очередному смехотворному обвинению в колдовстве; на самом же деле король попросту позарился на их скот. Допрошенные и осужденные ньянгами[218], эти несчастные были обречены на погибель. Более того, Дингаан, как мне объяснили потом, не удовлетворился истреблением былого, нынешнего и будущего глав семейства; нет, он приказал перебить всех их сородичей, ближних и дальних, чтобы присвоить скот. Таковы были жестокие нравы, царившие в Зулуленде в те времена.Глава 14
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Мучители вывели троих обреченных на середину «арены». До них было рукой подать — действо разворачивалось всего в нескольких ярдах от нас с Хансом. На вершине холма показался главный палач, огромный детина в колпаке из леопардовой шкуры; этот колпак имел причудливую форму — должно быть, так обозначалась придворная должность чернокожего великана. В руке он держал увесистую дубину, рукоять которой была исчерчена множеством зарубок, и каждая из них обозначала отнятую человеческую жизнь. — Гляди, белый! — крикнул палач, обращаясь ко мне. — Вот наживка, на которую король будет приманивать священных птиц. Если бы не ты, эти колдуны, пожалуй, могли бы сбежать. Но Великий Черный сказал, что маленькому сыну Джорджа, которого прозывают Макумазаном, нужны пленники, чтобы явить свое колдовство. Значит, эти трое умрут сегодня! Услышав подобное, я едва сдержал подкативший к горлу ком. И мое состояние ничуть не улучшилось, когда самый молодой из осужденных после этих слов палача рухнул на колени и принялся умолять, чтобы я его пощадил. А дед юноши сказал мне так: — Вождь, разве недостаточно того, что умру я? Я стар, и моя жизнь ни для кого не важна. Если тебе мало, возьми меня и моего сына, но отпусти этого юнца, моего внука! Нас всех оболгали, а он к тому же еще слишком молод, чтобы колдовать. Видишь сам, он не успел взять жену! Послушай, вождь! Ты тоже молод. Разве твое сердце не омрачилось бы в преддверии гибели, когда солнце твоей жизни едва поднялось в небо? Спроси себя, белый вождь, каково было бы твоему отцу, если он у тебя есть? Вообрази, что его заставляют смотреть, как ты погибаешь, чтобы какой-то чужак мог показать чудеса своего колдовского оружия и убить диких птиц, слетевшихся полакомиться мертвой плотью! Мои глаза увлажнились. Как мог, я поспешил растолковать почтенному старцу, что выпавший им жуткий жребий никак не связан со мной и моими желаниями. Я объяснил, что неповинен в их участи, что меня заставили стрелять в стервятников на лету, дабы я мог спасти своих товарищей-белых от столь же трагической судьбы. Старик внимательно выслушал, то и дело переспрашивая, наконец сообразил, похоже, о чем я говорю, и произнес с ужасающим спокойствием: — Теперь я понимаю, белый, и я рад узнать, что ты не такой жестокий, как мне думалось. — Тут он повернулся к своим родичам. — Дети мои, не будем больше изводить этого инкози своими мольбами. Он делает ровно то, что должен, чтобы спасти своим умением жизнь его братьев. Если мы будем умолять о пощаде и разбередим жалость в его сердце, наши страдания, быть может, заставят руку инкози дрогнуть, и тогда белые тоже умрут. Кровь их будет и на наших руках. Дети мои, нас убьют по приказу короля. Подчинимся же королевской воле, как надлежит мужчинам нашего семейства и нашего рода! Белый вождь, прими нашу благодарность за твои слова. Да прожить тебе долго, да спит удача в твоей постели до последнего дня! Да не изведает промаха твое чудесное оружие! Желаю тебе вырвать жизнь своих товарищей из королевской хватки. Прощай, вождь! Вскинуть в приветствии связанные за спиною руки он, разумеется, не мог, а потому просто поклонился мне, и двое других зулусов сделали то же самое. Затем они отошли в сторонку, уселись на землю и коротко перемолвились между собой, после чего затянули хором некий диковинный напев. Палачи и стражники тоже устроились неподалеку; они болтали, смеялись и передавали из рук в руки понюшки табака. Я заметил, что их предводитель поделился табаком с осужденными. Он поднес ладонь к носу каждого, те втянули по доле и вежливо поблагодарили, перемежая слова чиханием. Сам я извлек свою трубку и закурил. Мне требовалось некое возбудительное, точнее, успокоительное средство. Прежде чем я выпустил последний клуб дыма, Ханс, который лечил свои раны, нанесенные клювами стервятников, жвачкой из листьев, вдруг обронил своим привычным деловитым тоном: — Смотри, баас, вон они идут! Белые с одной стороны, черные с другой, будто козлища и агнцы в Судный день, как говорится в Писании! Я повернулся. По правую руку от меня показались буры во главе с фру Принслоо, которая держала над головой свой поломанный старый зонт. Слева приближались зулусы, явно королевские сановники и советники, а перед ними важно выступал сам Дингаан в накидке из бус. Короля поддерживали двое крепких воинов-телохранителей, третий нес щит, прикрывая его величество от солнца, а четвертый тащил туземный трон. Позади белых и чернокожих шли зулусы в воинском облачении, с внушающими страх копьями в руках. Оба отряда приблизились к камню, на котором я сидел, почти одновременно. Возможно, так и предполагалось с самого начала. Они остановились, разглядывая друг друга. Я же продолжал курить. — Allemachte, Аллан! — не сдержалась фру Принслоо, тяжело дышавшая после подъема на холм. — Вот ты где! Ты не вернулся, и я решила, что ты сбежал и бросил нас, как тот плут Перейра! — Вот он я, тетушка, — подтвердил я угрюмо. — Видят Небеса, хотел бы я быть в другом месте! Между тем Дингаан, уместив свое обширное седалище на троне и переведя дух, подозвал к себе юного Холстеда и сказал ему: — О Тоомаз, спроси своего брата Макумазана, готов ли он стрелять по стервятникам. Я не желаю упреков в несправедливости. Если он не готов, пусть доделывает свои колдовские снадобья. Я мрачно ответил, что готов настолько, насколько это вообще возможно. Тут фру Принслоо, догадавшись, что перед нею король зулусов, двинулась на Дингаана, размахивая зонтом. Она стиснула плечо Холстеда, понимавшего по-голландски, и потребовала от него перевести все, что она желает поведать королю. Послушайся Холстед, и переводи он именно то, что произносила фру, все мы были бы мертвы через пять минут. По счастью, этот молодой человек, которого угораздило стать пленником Дингаана, очевидно, перенял у него толику змеиного лукавства и коварства за время своего пребывания среди зулусов, а потому подправлял при переводе цветистые выражения фру Принслоо. Вкратце ее речь сводилась к тому, что Дингаан — жестокосердный и кровожадный злодей, которого Всемогущий покарает за сотворенное зло рано или поздно (так и случилось, смею заметить), и что, если он дотронется хотя бы до волоска на голове самой фру и ее спутников и соотечественников, буры сделаются проводниками карающей воли Всевышнего (что, опять-таки, и произошло). В переводе же Холстеда на зулусский вышло, будто фру назвала Дингаана величайшим правителем на свете, сказала, что не было, нет и никогда не будет равного ему в могуществе, мудрости и красоте, и призналась, что, если ей и ее товарищам суждено умереть, лицезрение короля в славе и великолепии утешит их перед кончиной. — Правда? — с подозрением спросил Дингаан. — Таковы слова этой женщины-мужчины? Ее глаза говорят одно, а уста произносят иное. О Тоомаз, хватит лгать! Переведи мне в точности слова белой правительницы, не то я сам выясню, что она кричала, а тебя отдам палачам. Холстед не стушевался. Он пояснил, что еще не успел перевести до конца. «Женщина-мужчина», которая, как правильно догадался Дингаан, правит голландцами, говорит, что, если он, могучий и славный король, властелин неба и земли, убьет ее или кого-то из ее подданных, народ белых отомстит, уничтожив самого короля и все его племя. — Вот как? — откликнулся Дингаан. — Значит, эти буры опасны, как я и думал, а вовсе не мирный народ, каким они старались казаться. — Он погрузился в размышления, сверля взглядом землю под ногами, а затем поднял голову и продолжил: — Что ж, мы заключили соглашение, и потому я не стану истреблять эту горстку, как следовало бы с ними поступить. Скажи этой старой корове-правительнице, что я намерен сдержать свое слово, сколько бы она мне ни грозила. Если маленький сын Джорджа по имени Макумазан сумеет убить своим колдовством трех стервятников из пяти, тогда она и ее подданные смогут уйти беспрепятственно. Если нет, их скормят тем самым стервятникам, по которым он промахнется, а когда белые воины придут мстить, я поговорю с ними. Все, довольно болтовни! Ведите сюда злодеев, чтобы они могли поблагодарить меня за милосердие! Старика, мужчину и юношу поставили перед Дингааном. Осужденные приветствовали короля воинским салютом. — О король, — промолвил старший из них, — мы невиновны. Если тебя порадует моя смерть, о король, я готов умереть, и мой сын тоже готов. Но мы молим тебя пощадить этого юношу! Он совсем еще мальчик и способен сослужить тебе добрую службу, когда вырастет, как служил твоему дому я сам много лет подряд! — Молчи, белоголовый пес! — прошипел Дингаан. — Этот юнец — колдун, как и все вы! Когда повзрослеет, он околдует меня и будет заодно с моими врагами! Знай, что я истребил весь твой род. Так чего ради мне щадить его? Чтобы он наплодил отпрысков, которые тоже возненавидят меня? Отправляйся к духам и поведай им, как Дингаан обходится с изменниками! Старик, похоже, сильно любил внука и попытался что-то сказать, но стоявший рядом воин ударил его по лицу, а Дингаан воскликнул: — Что? Тебе мало? Еще слово, и я заставлю тебя убить мальчишку собственной рукой! Уведите их! Я отвернулся и опустил голову. Моему примеру последовали остальные белые. Но заткнуть уши мы не догадались и потому вскоре услышали, как старик-зулус, которому жизнь сохраняли до последнего, дабы он увидел гибель своих потомков, вскричал: — В ночь тридцатой полной луны, считая с этого дня, я, ясновидец и прорицатель, призову тебя, Дингаан, в землю призраков, и там ты заплатишь за все!.. Взревев от ярости и страха, палачи накинулись на него и умертвили. Когда установилась тишина, я огляделся. Король, чье лицо пожелтело от испуга, весь дрожал и вытирал пот со лба. Этот дикарь был весьма суеверен. — Ты поторопился убить этого колдуна, — попенял он охрипшим голосом главному палачу, который был занят тем, что наносил новые отметки на свою ужасную дубину. — Глупец! Из-за тебя я не дослушал его лживое пророчество! Палач хмуро ответил, что, сдается ему, такого лучше не слышать вовсе, и поспешил куда-то уйти. Здесь я должен указать, что, по странному стечению обстоятельств, Дингаан и вправду был убит приблизительно через тридцать месяцев. Военачальник Мопо, служивший королю и сразивший его брата Чаку, покончил с Дингааном при помощи Умслопогаса, сына Чаки. В последующие годы сам Умслопогас поведал мне о жуткой гибели чернокожего тирана и о призраках, которые явились созерцать его смерть, но, конечно, он не мог сказать, в какой именно день все произошло. Поэтому трудно сказать, сбылось ли пророчество старика-зулуса в точности[219]. Три бездыханных тела простерлись на вершине холма смерти. Король кое-как справился со своим смятением и велел оттеснить зрителей, дабы они наблюдали за моим выступлением, не пугая стервятников. Так что буры в сопровождении караула, которому было приказано убить их, если они попытаются сбежать, направились в одну сторону, а Дингаан и его зулусы отошли в другую. Мы с Хансом по-прежнему прятались в кустах. Когда белых проводили мимо меня, фру Принслоо громко и весело пожелала мне удачи, но я-то заметил, что ее руки дрожали, когда она утирала глаза своим грязным передником. Анри Марэ дрогнувшим голосом попросил не промахнуться и спасти его дочь. Мари, бледная, но настроенная решительно, не сказала ничего — просто заглянула мне в глаза и словно ненароком коснулась кармана платья, где, насколько я знал, лежал мой пистолет. На прочих буров я вовсе не обратил внимания. Что ж, настал, слишком скоро настал чудовищный миг испытания. Не стану скрывать: напряженное ожидание, отравленное дурными предчувствиями, было невыносимым. Минула, казалось, вечность, прежде чем в тысяче футов над моей головой появилось черное пятнышко, в котором я опознал стервятника. Птица начала снижаться широкими кругами. — О баас, — проговорил бедняга Ханс, — это даже хуже, чем стрелять гусей в Груте-Клуф. Там ты терял только свою лошадь, а теперь… — Молчи! — шикнул я. — Давай сюда ружье. Стервятник спускался, плавно и неумолимо, круг за кругом. Я покосился на буров и увидел, что все они стоят на коленях. Тогда я посмотрел на зулусов; те неотрывно наблюдали за происходящим. Думаю, подобное было для них в новинку, и потому они пребывали в радостном возбуждении. Отогнав ненужные мысли, я сосредоточился на птице. Та как раз завершила последний круг облета. Прежде чем нырнуть вниз, она зависла в воздухе на своих широких крыльях; ее голова была повернута ко мне. Я сделал глубокий вдох, поднял ружье, прицелился точно в грудь стервятнику — и дотронулся до спускового крючка. Прогремел выстрел, и аасфогель вдруг перевернулся на лету. В следующее мгновение что-то глухо тюкнуло, и я было обрадовался, решив, что пуля угодила в цель. Увы, моя радость оказалась преждевременной. Хлопо к был порожден пролетевшей мимо пулей и соприкосновением воздуха с жестким оперением на крыле. Всякий, кому доводилось стрелять крупных птиц на лету, наверняка слышал этот звук. Стервятник же, вместо того чтобы упасть, выровнял полет. Непривычный к таким происшествиям, он осторожно опустился на землю, проковылял несколько шагов и уселся поблизости от мертвых тел. Словом, он вел себя ровно так же, как другие птицы, еще недавно нападавшие на Ханса, и, по всей видимости, ничуть не пострадал. — Промахнулся! — шепотом возвестил Ханс, хватая ружье и принимаясь перезаряжать. — О баас, и почему ты не кинул камень в первую кучу?! Я метнул на готтентота взгляд, который, должно быть, его напугал; во всяком случае Ханс умолк. Оттуда, где стояли на коленях буры, донесся многоголосый стон. Мои товарищи принялись молиться усерднее прежнего, а зулусские сановники наперебой что-то втолковывали своему королю. Потом я выяснил, что Дингаан ставил против меня десять голов скота за одну, а его советники с великой неохотой принимали эти условия. Ханс перезарядил ружье, вставил капсюль, взвел курок и передал ружье мне. Между тем в небе появились другие стервятники. Торопясь покончить с выпавшим нам испытанием, в подходящий миг я выбрал птицу, прицелился и надавил на спуск. Снова прогремел выстрел, снова я увидел кувырок в воздухе и услышал знакомый звук. Господи! Аасфогель медленно развернулся и начал величаво подниматься в небеса в той же манере, в какой спускался. Я опять промахнулся! — Это вторая куча камней виновата, баас, — проговорил Ханс. На сей раз я даже не взглянул на него. Просто сел и закрыл лицо руками. Еще один промах, и тогда… Ханс помешал мне предаваться отчаянию. — Баас, — прошептал он, — эти аасфогели видели вспышку, вот и шарахнулись, точно перепуганные лошади. Ты стреляешь, когда они смотрят на тебя, баас. Надо встать с другой стороны, стрелять им в хвост, ведь даже у аасфогеля нет глаз на хвосте. Я отнял руки от лица и воззрился на готтентота. Поистине, моему слуге было ниспослано озарение свыше! Я все понял. Пока клювы птиц повернуты ко мне, я могу стрелять хоть целый день, но не попаду ни в одного даже из полусотни стервятников, ибо они уворачиваются от вспышек и пули пролетают мимо — на волосок, но мимо. — Идем! — выдохнул я и поспешил пересечь «арену», чтобы спрятаться за валуном, что лежал напротив кустов, ярдах в ста от прежнего укрытия. Пришлось пройти мимо зулусов, которые осыпали меня градом насмешек; они спрашивали, куда подевалось мое колдовство и хочу ли я, чтобы моих товарищей убили поскорее. Дингаан же поставил пятьдесят голов скота против меня, однако никто не отважился состязаться с королем. Я хранил молчание, даже когда мне вслед закричали, что «белый бросил копье и трусливо удирает». Суровый и угрюмый от отчаяния, я достиг валуна и укрылся за ним вместе с Хансом. Буры по-прежнему стояли на коленях, но молиться, похоже, перестали. Дети плакали, мужчины хмуро переглядывались, фру Принслоо обнимала Мари, утешая ее. Там, за большим камнем, ко мне вернулось мужество, как случается порой в миг величайшей опасности. Я вспомнил свой сон и успокоился. Всевышний не будет столь жесток и не позволит мне промахнуться заново, не обречет на погибель моих несчастных товарищей. Выхватив ружье из рук Ханса, я зарядил его самостоятельно, поскольку мне пришло в голову, что не следует доверять это занятие другим. Когда я вставлял капсюль, очередной стервятник как раз завершал последний круг. Вот он завис в воздухе, и ко мне был обращен его хвост! Я поднял ружье, прицелился между подобранными лапами птицы, надавил на спуск — и зажмурился, ибо попросту не смел смотреть. Я услышал, как пуля во что-то ударилась, а несколько секунд спустя послышался иной звук — какой-то предмет грянулся оземь. Я открыл глаза: в восьми или десяти шагах от убитых зулусов лежала, раскинув крылья, мерзкая тварь, тоже мертвая. — Allemachte! Так-то лучше! — воскликнул Ханс. — Ты же бросал камни в остальные кучи, верно, баас? Зулусы оживленно галдели, ставки против меня пошли вниз. Буры с побелевшими от волнения и страха лицами безмолвно взирали на меня. Это я видел краем глаза, пока перезаряжал. Следующий стервятник между тем приближался; он явно заметил неподвижную птицу на земле, но, должно быть, ничего не заподозрил и решил, что бояться не стоит. Я прижался спиной к валуну, прицелился и выстрелил, совершенно уверенный в успехе. На сей раз я не зажмуривался, а потому видел воочию, как все произошло. Пуля поразила птицу между нами, прошла насквозь, и стервятник рухнул замертво, угодив едва ли не на голову своему погибшему ранее собрату. — Хорошо, хорошо! — Ханс прицокнул языком от восторга. — Не промахнись по третьей, баас, и als sall recht kommen[220]. — Ну да, — согласился я, — осталось только не промазать. Я снова перезарядил ружье самостоятельно, позаботившись забить порох поглубже и подобрать пулю, которая ровно и гладко вошла бы в ствол. Вдобавок я почистил колючкой ударник и чуть присыпал его порохом, чтобы избежать малейшей возможности осечки. Затем вставил капсюль и стал ждать. Что там творилось у буров и зулусов, я не знал и не хотел знать. В тот миг наивысшего напряжения я не оглядывался по сторонам, целиком сосредоточившись на своей роли в драматическом представлении. Стервятники будто сообразили, что происходит что-то необычное, сулящее им опасность. Они кружили в небе, слетевшись десятками, если не сотнями, с востока, запада, севера и юга; величаво парили над холмом, но ни один не выказывал намерения спуститься за угощением из мертвых тел. Я продолжал наблюдать и вдруг заметил среди птиц того самого громадного вожака, что клюнул бедолагу Ханса в лицо. Этого аасфогеля легко было отличить, поскольку он превосходил размерами всех прочих птиц, к тому же у него были крылья с белой каймой. Мне бросилось в глаза, что его стая держится рядом, и вообще, птицы вели себя так, словно о чем-то советовались. Но вот они разделились, и вожак стал снижаться, собираясь, вероятно, присмотреться к телам на земле. Он спускался, сужая круги, достиг того уровня, с которого следовало нырять вниз, и, по благословенному обыкновению своей породы, завис в воздухе на секунду-другую. Его могучий клюв был обращен на юг, а распушенный хвост смотрел на меня. Господь услышал мои молитвы! Обрадовавшись столь крупной мишени, я прицелился и выстрелил. Пуля угодила в вожака, разлетелись в стороны перья, вырванные ее попаданием, и я предвкушал момент, когда гигантский стервятник рухнет наземь. Увы, он не упал! Несколько секунд он словно раскачивался в воздухе на своих могучих крыльях, а затем стал подниматься все выше и выше, причем круги, которые птица закладывала, неуклонно сужались, и в итоге почудилось даже, будто она летит по прямой в небесные эмпиреи. Я не сводил с нее взгляда. Все собравшиеся тоже глядели вслед исполинской птице, покуда она не сделалась сперва пятнышком в голубизне неба, а затем не превратилась в черную точку. И потом вовсе исчезла, скрывшись в пределах, куда не способен проникнуть человеческий взор. — Вот и все, — сказал я Хансу. — Ja, баас, — ответил готтентот, стуча зубами. — Вот и все. Ты положил мало пороха. Теперь все мы умрем. — Еще поглядим, — криво усмехнулся я. — Заряди ружье, Ханс, да поскорее! Прежде чем мы умрем, в Зулуленде будет новый король. Хорошо, баас! — воскликнул он, спешно принимаясь за дело. — Давай прикончим этого жирного борова Дингаана! Стреляй ему в живот, баас, чтобы он на своей шкуре узнал, каково это — умирать медленно. Потом перережь мне горло вот этим большим ножом и убей себя, если не хватит времени перезарядить и застрелиться. Пулей-то проще будет. Я кивнул, поскольку сам собирался поступить именно так. Ни за что не стану бессильно смотреть, как зулусы убивают несчастных буров. А Мари сможет позаботиться о себе. Тем временем зулусы стали приближаться ко мне, а воины, сторожившие Марэ и прочих белых, погнали тех вперед, притворяясь, будто закалывают их ассегаями, и покрикивая, как кричат пастухи на скот. И зулусы, и пленные буры спустились в углубление на гребне холма почти одновременно, однако вплотную не сошлись, остановились на удалении друг от друга. Между ними лежали тела троих мертвых зулусов и туши двух аасфогелей, а неподалеку стояли мы с Хансом. — Ну что, маленький сын Джорджа, — произнес Дингаан, — ты проиграл свой спор, потому что убил всего двух птиц из пяти своим колдовством. Это хорошо, но этого мало. Теперь ты должен заплатить, как заплатил бы я, будь победа твоей. Он вытянул руку и отдал жестокий приказ: — Булала амалонгу! Убейте белых! Убивайте их одного за другим, чтобы я видел, умеют ли они умирать. Убейте всех, кроме Макумазана и той высокой девушки! Несколько воинов схватили старую фру Принслоо, которая стояла впереди других буров. — Погоди, о король! — вскричала она, когда над ее головой взметнулись ассегаи. — С чего ты взял, что победил? Ведь тот, кого ты зовешь Макумазаном, попал в последнюю птицу. Нужно отыскать ее, а уже потом убивать нас. — Что болтает эта старуха? — спросил Дингаан. Холстед медленно перевел. — Верно, — изрек король. — Раз она настаивает, я отправлю ее искать этого стервятника на небесах. Возвращайся, старая женщина, и расскажи нам, удалось ли тебе его найти. Воины держали занесенные над фру Принслоо ассегаи, ожидая королевского слова. Я притворился, будто смотрю в землю, а сам взвел курок, твердо решив, что приказ Дингаана станет для него последним в жизни. Ханс же глядел в небо — должно быть, не хотел видеть гибель старой фру. Внезапно готтентот испустил пронзительный вопль, заставивший всех, даже обреченных на смерть буров, повернуться к нему. Ханс ткнул рукою ввысь, и все послушно уставились туда. Вот что они увидели. Высоко-высоко, в океане прозрачной голубизны, возникла крошечная точка, каковую способно было различить на таком расстоянии лишь острое зрение готтентота. Точка росла в размерах, приближаясь с устрашающей, непрерывно нараставшей скоростью. Это был вожак стаи стервятников, и он падал — падал мертвым! Птица грянулась оземь между фру Принслоо и воинами, что на нее наседали, расколола ассегай одного из них, а самого воина опрокинула навзничь. Да, стервятник упал — и остался лежать неподвижной грудой перьев. — О Дингаан, — сказал я, и мой голос прозвучал неожиданно громко в наступившей полной тишине. — Похоже, спор все-таки остался за мной, а не за тобой. Я убил этого вожака, и он, будучи королем, решил умереть высоко в небе, только и всего. Дингаан помешкал, явно не желая щадить буров, но я, заметив его сомнения, слегка приподнял ружье. Возможно, он уловил мое движение — или же чувство собственного достоинства (как он его понимал, конечно) пересилило в нем врожденную кровожадность. Так или иначе, он сказал одному из советников: — Проверь тушу птицы. Убедись, что там есть отверстие от пули. Советник подчинился и принялся ощупывать груду перьев и переломанных костей. По счастью, он отыскал не отверстие, которое было трудно обнаружить среди многочисленных увечий от падения, а саму пулю, что пронзила тело вожака снизу вверх и застряла под твердой кожей у хребта, там, где выныривала между могучими крыльями длинная красная шея. Советник легко извлек пулю и предъявил ее королю. — Макумазан победил, — объявил Дингаан. — Его колдовство оказалось сильнее, пусть и самую чуточку. Забирай этих буров, Макумазан, они твои, и ступайте прочь из моих земель!Глава 15
РЕТИФ ПРОСИТ ОБ ОДОЛЖЕНИИ
Снова и снова на всем протяжении нашего беспокойного странствия по жизни мы обретаем милость Небес в виде мгновений почти безграничного счастья, вправленных, подобно бриллиантам, в изобилующее терниями полотно времени. Порой это всего-навсего часы простого животного удовольствия, иногда же наши переживания становятся прекрасными, ибо их питают воды духовных источников бытия, и так бывает в тех редких случаях, когда материальное покрывало жизни словно слетает, сдернутое могучей и незримой дланью, и мы ощущаем присутствие Всевышнего, а Он направляет наши шаги к неизбежному концу, то есть к Себе. Но изредка все перечисленное — физические удовольствия, божественная любовь и возвышенные чувства — объединяется и становится цельным и нераздельным, как душа и тело; и мы говорим: «Теперь мне известно, какова истинная радость». Подобное ощущение охватило меня вечером того дня, когда спор с Дингааном завершился моей победой. Почти десять человек были спасены благодаря хладнокровию и меткости вашего покорного слуги. Ни рука, ни сердце меня не подвели, хоть я сознавал, что многим обязан озарению, постигшему готтентота Ханса (откуда оно пришло, хотелось бы знать), а иначе все могло бы сложиться и наверняка сложилось бы по-другому. При всей моей сноровке и при всем опыте мне попросту не приходило в голову, что зоркие глаза стервятников способны заметить вспышки выстрелов при ярком солнечном свете, из-за чего, собственно, треклятые птицы ухитрялись уворачиваться от пуль. Тем вечером, признаюсь, меня чествовали как героя. Благодарил даже Анри Марэ, говоривший со мной так, как отец мог бы говорить с сыном, которого втайне всегда ненавидел; отчасти это объяснялось тем, что я был англичанином, а отчасти — любовью его дочери ко мне. Он завидовал и ревновал, а еще пекся о своем племяннике Эрнанду Перейре, которого то ли любил, то ли не выносил — возможно, все сразу. Остальные же буры, мужчины, женщины и дети, дружно славили и благословляли меня со слезами на глазах и клялись, что отныне, несмотря на молодость, Аллан Квотермейн будет признан единственным их предводителем. И конечно, похвалы старой фру Принслоо, причастной к победе тем, что накормила героя печенкой и уложила спать, звучали едва ли не громче всех. — Вы только поглядите! — приговаривала она, тыча в меня толстым, как сарделька, пальцем и обращаясь к своему семейству. — Да будь у меня такой муж или такой сын, вместо вас, олухов, волею Господа привязанных ко мне, точно путы к копытам ослицы, я была бы счастлива. — Господь знал, что делал, старуха, чтобы ты не лягалась, — откликнулся ее муж, тихий и спокойный человек, за которым я и раньше замечал склонность к язвительности. — Вот связал бы Он заодно тебе язык, я бы и вовсе решил, что попал в рай. Фру дала ему подзатыльник, а их отпрыски, пересмеиваясь, поспешили удалиться. Но чудеснее всего оказался разговор с Мари. Все, что случилось тем вечером между нами, разумнее, как мне представляется, оставить на волю читательского воображения, ибо беседы влюбленных, тем паче в подобных обстоятельствах, мало чем интересны для прочих. Вдобавок они в каком-то смысле поистине священны и потому не подлежат разглашению. Однако я все-таки упомяну об одной фразе, поскольку, как стало ясно из последующих событий, она была почти пророческой и прозвучала, думается мне, отнюдь не по прихоти случая. Эта фраза была произнесена ближе к концу нашего разговора, когда Мари захотела вернуть мне пистолет, который я, напомню, отдал ей ради осуществления жуткого, но мнившегося неизбежным замысла. — Трижды ты спасал мою жизнь, Аллан, — сначала в Марэфонтейне, потом в лагере, где мне грозила голодная смерть, и сейчас, когда ты избавил меня от Дингаана, чье прикосновение сулило погибель. Уж не знаю, будет ли у меня возможность отплатить тебе той же монетой? — Мари опустила подбородок, потом положила голову мне на плечо и прибавила: — Думаю, Аллан, это будет в… — Она вдруг оборвала себя и отвернулась. Если коротко, милостью Провидения мне удалось спасти всех этих достойных людей от мучительной и неприглядной смерти. И все же я неоднократно размышлял впоследствии, что, сложись обстоятельства иначе, скажем, найди вожак стервятников в себе силы улететь подальше и там умереть, как нередко поступают птицы с ранениями в легких — наверное, в поисках воздуха; не устремись он прямиком вверх, будто вспугнутая куропатка, наша история могла бы закончиться гораздо лучше. Я бы тогда наверняка застрелил Дингаана, а мы все полегли бы прямо там, на вершине холма, от рук зулусов. Если бы Дингаан погиб в тот день, Ретиф и его спутники избежали бы жестокой смерти. А если бы королю наследовал его брат, миролюбивый Панда[221], не состоялось бы, полагаю, ни последующей бойни при Веенене[222], ни других трагических событий и кровопролитий. Увы, нам суждено было иное, и кто я такой, чтобы оспаривать или хотя бы подвергать сомнению законы судьбы? Несомненно, произошло то, что было предначертано, и случилось это в назначенный срок. Что тут скажешь? Рано утром мы забрали наших волов, которые еще не полностью оправились, но были накормлены и немного отдохнули. Час или два спустя мы тронулись в путь, ибо посланец принес распоряжение Дингаана: король требовал, чтобы мы не задерживались. Еще он прислал нам проводников во главе с воином Камбулой, которые должны были провести нас до границ Наталя. В то утро я позавтракал с преподобным мистером Оуэном и его домочадцами, поскольку хотел убедить священника присоединиться к нам: по моему глубокому убеждению, Зулуленд был неподходящим местом для белых женщин и детей. Но мои старания не принесли результата. У миссис Халли, жены отсутствовавшего переводчика, было трое маленьких детей. Она, мисс Оуэн и служанка Джейн Уильямс охотно уехали бы с нами, на чем я и настаивал. Однако мистер и миссис Оуэн, в сердцах которых пылало пламя миссионерского рвения, не желали слушать уговоров. Они отвечали, что Всевышний их защитит, что они провели в этих краях всего несколько недель и решение бежать отсюда, едва приступив к работе, будет проявлением трусости и даже изменой. Отмечу здесь, что после расправы с Ретифом они изменили свое мнение (что нисколько не удивительно) и поспешили уехать. Я рассказал мистеру Оуэну, насколько близок был к тому, чтобы застрелить Дингаана, и прибавил, что в этом случае погибли бы все. Мои слова потрясли его до глубины души. Он прочел мне целую проповедь о грехе смертоубийства, кровожадности и порочности мщения. Поняв, что мы смотрим на мир по-разному и нет ни малейшего смысла тратить душевные силы на спор, я попрощался со священником и его домочадцами и ушел, не занимая себя мыслями о том, свидимся ли мы когда-нибудь снова. Итак, час спустя мы двинулись в путь. Миновав проклятый холм Хлома-Амабуту, на склонах которого я заметил нескольких стервятников, сыто дремавших на валунах, мы подъехали к воротам большого крааля. Там, к моему изумлению, нас поджидал Дингаан с несколькими советниками, окруженный воинами числом более сотни человек. Король сидел в тени двух высоких и раскидистых молочных деревьев. Опасаясь предательства с его стороны, я остановил фургоны и велел бурам зарядить ружья и готовиться к худшему. Через минуту-другую появился юный Томас Холстед, который сообщил, что Дингаан желает говорить с нами. Я спросил, значит ли это, что нас собираются убить. Он уверил меня, что мы в полной безопасности; король просто получил некие вести, каковые привели его в доброе расположение духа по отношению к белым, и он захотел попрощаться с нами. Мы смело подъехали туда, где сидел Дингаан, снова остановили фургоны и все вместе подошли к королю. Тот приветствовал нас довольно дружелюбно и даже протянул мне свою толстую руку для пожатия. — Макумазан, — сказал он, — хотя твоя победа стоила мне множества волов, я рад, что ты вчера победил. Иначе я убил бы всех твоих друзей, а это непременно обернулось бы войной между зулусами и народом амабуна. Этим утром мне донесли, что вожди амабуна отправили к нам посольство во главе с одним из старейшин. Думаю, вы встретите их по дороге. Потому поручаю тебе известить их, что они будут желанными гостями. Пусть приходят не страшась, я приму их как положено и выслушаю все, что они пожелают сказать. Я ответил, что так и сделаю. — Хорошо, — произнес он. — Отдаю тебе дюжину голов скота. Шесть вам на пропитание, другие шесть в дар посольству амабуна. А Камбула, мой верный воин, проводит вас до реки Тугела. Я поблагодарил короля зулусов и повернулся, чтобы уйти, когда Мари вдруг вздумалось совершить глупость — выступить вперед и заговорить со мной о чем-то (о чем именно, уже не припомню). — Макумазан, это та девушка, о которой ты говорил мне? — спросил Дингаан. — Ты ее хочешь взять в жены? — Да, — коротко ответил я. — Клянусь головой Великого Черного! — вскричал король. — Она очень красива! Подари ее мне, Макумазан! — Она не моя, чтобы я мог ее дарить, — объяснил я. — Тогда я заплачу тебе за нее сотню голов скота, Макумазан. Столько платят за королевских жен. А еще подарю десять красивейших девушек Зулуленда. Я вежливо отказался. Король явно начал злиться. — Я оставлю ее себе, хочешь ты того или нет, — процедил он. — Тогда она умрет, о Дингаан, — ответил я. — Не забудь, у меня хватает колдовства вроде того, какое убило стервятников на холме. Я-то имел в виду, что погибнет именно Мари. Но, напомню, зулусским языком я владел не слишком хорошо, и Дингаан понял мои слова так, что я намерен расправиться также и с ним. Похоже, это его напугало, и он сказал: — Что ж, я обещал всем вам свободу, если ты возьмешь верх, а потому ступайте с миром. Я не ищу ссор с белыми людьми, Макумазан, но знай, что ты первый среди них отказал Дингаану в подарке. Все же я на тебя не в обиде, и если пожелаешь вернуться, тебя встретят радушно. Я ведь вижу, что ты, хоть юн и мал ростом, весьма умен и наделен храбростью. Ты говоришь, что думаешь, и не склонен лгать. Передай народу Джорджа, что в моем сердце нет злобы. С этими словами он поднялся и вышел за ворота крааля. Я несказанно обрадовался его уходу, поскольку теперь мы и вправду были в безопасности, не считая тех повседневных угроз, какие подстерегают любого путника в этих диких местах. До встречи с посольством Дингаан, по крайней мере, будет поддерживать мир с бурами. Значит, можно не подозревать, что он отважится на открытое столкновение с ними в своих владениях и его воины предательски нападут на наш отряд. Потому мы отправились в дорогу с легким сердцем, вознося благодарность Небесам за наше чудесное спасение. На третий день пути, уже приближаясь к реке Тугела, мы повстречали бурское посольство. Посланники расположились на берегу ручья, где мы намеревались дать отдых волам и немного перекусить. Сморенные жарой, буры дремали и не замечали нас до тех пор, покуда мы буквально не свалились им на голову. Увидев зулусских воинов, шедших впереди, они вскочили, забегали, похватали ружья, но затем из буша показались наши фургоны, и буры застыли в изумлении, очевидно гадая, кто это путешествует по здешним краям. Мы окликнули их по-голландски, чтобы они не тревожились зря, и вскоре подъехали к стоянке. Прежде чем мы остановились, мой взгляд выхватил среди посланников коренастого мужчину со светлой бородой, который показался мне знакомым. К нему я и направился, не обращая внимания на остальных шестерых или семерых мужчин. Не замедлило выясниться, что зрение меня не подвело, и я протянул руку: — Добрый день, минхеер Пьет Ретиф! Кто бы мог подумать, что, расставшись так давно и так далеко отсюда, мы встретимся в землях зулусов? Он пригляделся ко мне: — Кто вы? Ба! Allemachte! Теперь я вас узнал! Тот самый англичанин, юный Аллан Квотермейн, который стрелял гусей в колонии! Признаться, я ничуть не удивлен: человек, которого вы победили в том поединке, говорил, что вы странствуете в этих местах. Однако он почему-то уверял, будто зулусы вас убили. — Вы об Эрнанду Перейре, верно? — уточнил я. — А где вы с ним столкнулись? — Ниже по течению Тугелы, и встреча не была доброй. Да он сам вам расскажет, я взял его с собой, чтобы он показал дорогу к краалям Дингаана. Где Перейра? Ведите его сюда. Мне нужно с ним потолковать. — Здесь я, — послышался заспанный голос, ненавистный голос Перейры. Он, оказывается, дремалв тени густого кустарника. — Что такое, коммандант? Уже иду. — Он поднялся с земли, потягиваясь и зевая, в тот самый миг, когда к нам присоединился весь мой отряд. Перейра сразу же заметил Анри Марэ и кинулся к тому, приговаривая: — Дядюшка! Слава богу, вы живы! Потом он увидел меня, и, скажу как на духу, никогда прежде не доводилось мне наблюдать, чтобы лицо человека менялось столь разительно. Его челюсть отвисла, краска схлынула со щек, отчего те сделались желтоватыми, как у всех людей португальского происхождения. Протянутые к дяде руки бессильно упали. — Аллан Квотермейн! — воскликнул он. — Я был уверен, что вы мертвы! — Я бы погиб минимум дважды, минхеер Перейра, случись все по-вашему, — отозвался я. — Что вы имеете в виду, Аллан? — спросил Ретиф. — Я расскажу, что он имеет в виду! — вмешалась фру Принслоо, грозя Перейре своим увесистым кулаком. — Этот чернявый пес дважды пытался убить Аллана, хотя тот спас ему жизнь! Сначала стрелял в него ночью в овраге и промахнулся вот на столько, видите шрам у Аллана на щеке? А потом стакнулся с зулусами, сказал Дингаану, что Аллан — злодей и колдун, который навлечет беду на его владения. Ретиф перевел взгляд на Перейру. — Что скажете, минхеер? — спросил он. — Что скажу? — делано возмутился Перейра, явно успевший собраться с мыслями. — Да все это попросту ложь! А если не ложь, то недоразумение. Я не стрелял в хеера Аллана ни в каком овраге! Зачем мне было это делать, когда он буквально вернул меня к жизни? И с зулусами я не договаривался, иначе погибли бы мой дядя, моя кузина и все остальные. Что я, спятил, чтобы замышлять подобное? — Не спятил, а все продумал! — негодующе воскликнула старая фру. — Говорю вам, хеер Ретиф, он врет и не краснеет. Да вы спросите кого хотите! Прочие буры, за исключением Марэ, поддержали ее хором: — Да, да, он врет! — Тихо! — произнес коммандант. — Аллан, изложите-ка вашу историю. Я поведал ему все — вкратце, конечно, не вдаваясь в излишние подробности. Но и без того рассказ затянулся, хотя, похоже, не успел утомить слушателей. — Allemachte! — высказался Ретиф, когда я замолчал. — Странная история, ничего диковиннее мне слышать не доводилось. Если она правдива, вы, хеер Перейра, заслуживаете того, чтобы вас привязали к дереву и расстреляли. — Бог мой! — вскричал Перейра. — Меня что, обвинят в преступлениях из-за этих баек? Готовы осудить невинного? Где доказательства? Где, я спрашиваю? Этот англичанин настроен против меня, потому что он украл любовь моей кузины, с которой я был помолвлен. Пусть свидетелей предъявит! — Что касается выстрела в овраге, там свидетелем был только Бог, а Он все видит, — ответил я. — Что до вашего соглашения с зулусами, вон стоит Камбула, воин, которого послали мне навстречу, чтобы убить, как вы и замышляли. Ныне он командует нашим караулом. — Дикарь! — усмехнулся Перейра. — Значит, слово дикаря против слова белого человека? И кто будет переводить его речи? Один вы, минхеер Квотермейн, говорите на местных наречиях, а вам веры нет, раз уж вы меня обвиняете. — Верно, — согласился Ретиф. — Этакого свидетеля нельзя выслушивать без надежного переводчика. Ладно, я выношу решение как полевой коммандант. Эрнан Перейра, в прошлом я знавал вас как разбойника и помню, что совсем недавно вы пытались обмануть этого юношу, Аллана Квотермейна, на поединке в стрельбе, каковой мне случилось наблюдать. С тех пор и до сего дня я не слыхал о вас ни хорошего, ни дурного. Сегодня же означенный Аллан Квотермейн и группа моих соотечественников выдвинули против вас серьезные обвинения, которые, увы, невозможно пока ни подтвердить, ни опровергнуть. Каково бы ни было мое личное мнение, эти обвинения заслуживают рассмотрения; потому предлагаю вам вернуться к вашему дяде, Анри Марэ, и оставаться с ним, покуда не состоится законный суд. — Если так, пусть уходят вдвоем, — бросила фру Принслоо. — Мы его не примем, выберем среди нас фельдкорнета[223] и застрелим его, этого негодяя, который оставил нас умирать с голоду и хотел убить юного Аллана Квотермейна, спасшего ему жизнь! Хор голосов подтвердил: — Ja, ja, мы его застрелим! — Эрнан Перейра, — сказал Ретиф, потирая высокий лоб, — не понимаю, почему так складывается, но похоже, никто не желает составлять вам компанию. По правде сказать, я разделяю общее чувство. И все же, думаю, со мной вам будет безопаснее, нежели с теми, кого вы, по всей видимости, изрядно обидели. Посему предлагаю вам идти с посольством. Но учтите, молодой человек, — прибавил он сурово. — Если выяснится, что вы злоумышляете с зулусами против нас, я убью вас немедля. Поняли? — Я понял, что все меня ненавидят, — откликнулся Перейра. — Но Писание учит смирению, поэтому я сделаю то, что вы требуете. А этих лжесвидетелей пусть покарает Бог! — А тебя пусть дьявол утащит! — крикнула фру Принслоо. — Уж в его-то когти ты всяко угодишь рано или поздно! Прочь с глаз моих, негодяй, не то я тебя причешу как следует! — И она замахнулась на Перейру своим грязнущим передником, который достала откуда-то из складок одежды. Перейра отшатнулся, и фру погнала его, будто назойливое насекомое. Понятия не имею, куда он удрал; чувствовалось, что и вправду все против него, поэтому даже дядя, Анри Марэ, не отважился последовать за племянником. Когда Перейра скрылся, буры принялись расспрашивать друг друга, и каждому отряду нашлось что рассказать. Коммандант в особенности заинтересовался историей о моем споре с Дингааном и о том, как я спас жизни своих спутников, уложив троих стервятников. — Выходит, не напрасно Всемогущий наделил вас умением метко стрелять! — проговорил Ретиф, выслушав эту историю. — Помню, когда вы подбили тех гусей в Груте-Клуф, я еще задумался, зачем Небеса ниспослали вам такой дар — ведь ничего подобного не дано никому среди нас, хотя все мы привычны к оружию с малых лет. Теперь я понимаю; Господь ведает, что творит, и знает Свое дело. Хотел бы я, чтобы вы сопроводили меня к Дингаану, но со мной этот подозрительный тип Эрнан Перейра, а потому вам, наверное, лучше пойти своей дорогой. Но расскажите мне о Дингаане. Он собирается нас убить? — Не в этот раз, дядюшка, — сказал я. — Сперва ему нужно поподробнее разузнать о бурах. Но не доверяйте ему чересчур, не поддавайтесь на сладкие речи. Помните, что, промахнись я по третьей птице, мы все были бы мертвы. И на вашем месте я бы приглядывал за Эрнанду Перейрой. — Спасибо за советы, Аллан, уж с последним я как-нибудь справлюсь. Что ж, нам пора выдвигаться. Хотя… Идите-ка сюда, Анри Марэ, нам нужно перекинуться словечком. Я так понимаю, этот маленький англичанин, Аллан Квотермейн, который стоит десятка крупных мужчин, снова спас вашу дочь. Значит, он любит ее, а она — его? Почему же вы не позволяете им соединить сердца должным образом? — Потому что я поклялся перед Господом, что она выйдет за другого — за своего кузена Эрнана Перейру, которого все ныне презирают, — угрюмо ответил Марэ. — Пока она не достигла совершеннолетия, эта клятва остается в силе. — Ого! — воскликнул Ретиф. — Вы поклялись отдать агнца в зубы гиене, друг мой! Смотрите, чтобы он не обглодал ваши косточки, Марэ, и не покусился на прочих! И почему Господь запускает в мозги некоторым людям червяка, как это бывает с дикими животными, червяка, что заставляет их вечно сбиваться с праведного пути? У меня самого нет ответа, но вы-то, Анри Марэ, человек религиозный; подумайте над этим и объясните мне при нашей следующей встрече. Что ж, ваша дочь скоро станет совершеннолетней, и тогда, поскольку мне выпало быть коммандантом тех мест, куда вы направляетесь, я присмотрю за тем, чтобы она вышла замуж за того, кто ей по душе, как бы вы ни сопротивлялись. Господи, Марэ! Как бы я хотел, чтобы этот парень полюбил мою дочь! Человек, способный так стрелять ради благой цели, наверняка наделен многими другими достоинствами. — Ретиф добродушно хмыкнул и пошел к своему коню. На следующий день после этой встречи мы перебрались через Тугелу и вступили на территорию, ныне известную как Наталь. Два дня коротких перегонов по красивой местности привели нас к холмам, которые звались, по-моему, Пакади — либо там правил вождь, носивший это имя. Перевалив через холмы, мы отыскали на другой стороне, как и говорил Ретиф, большой отряд буров-переселенцев, обосновавшийся в тех краях, на дальнем берегу Бушменской реки[224]; увы, эти бедняги не подозревали, что в скором времени многим из них суждено упокоиться там навеки. Сегодня эта местность зовется — и будет так называться во веки веков — Веенен, Место плача, в память о переселенцах, убитых Дингааном спустя всего несколько недель после событий, которые я излагаю. Там и вправду было красиво, но мне по непонятной причине пейзаж не приглянулся, и потому, предвкушая скорую свадьбу с Мари, я прикупил лошадь у одного из буров и принялся изучать окрестности. Мне хотелось найти участок плодородной земли, где мы сможем поселиться, когда поженимся. Такой участок и в самом деле отыскался после нескольких вылазок — милях в тридцати к востоку, в чудесной излучине реки Муи. Там обнаружилось приблизительно тридцать тысяч акров весьма плодородной низменной почвы. Деревья здесь почти не росли, зато в пышных травах было полно дичи. Над излучиной возвышался холм с плоской вершиной, откуда, как ни удивительно, стекал многоводный ручей, питаемый подземным источником. На полпути вниз по восточному склону холма, омываемое ручьем, лежало плато шириною несколько акров, и оно выглядело наилучшим местом в Южной Африке для возведения дома. Я сразу решил, что здесь мы совьем наше гнездо, и впоследствии разведение скота непременно принесет нам богатство. Пожалуй, следует упомянуть, что эта земля прежде принадлежала кафрскому племени, истребленному королем зулусов Чакой (о чем свидетельствовали развалины краалей), а теперь ее мог занять любой. Более того, свободной земли было много, и я убедил Анри Марэ, Принслоо и Мейеров, с которыми проделал весь путь от берегов залива Делагоа, побывать там вместе со мной. Когда они увидели эти места своими глазами, то согласились поселиться там в будущем, но пока решили вернуться к другим бурам, не желая подвергать себя опасности. Я же при помощи нескольких местных кафров, уцелевших после истребления, отмерил и застолбил около двенадцати тысяч акров и поручил туземцам построить временную глиняную хижину, которой предстояло служить жилищем до появления настоящего дома. Следует добавить, что Принслоо и Мейеры тоже сделали приготовления для строительства схожих простых укрытий неподалеку. Покончив с этими хлопотами, я возвратился к Мари. Наутро после моего возвращения в лагерь появился Пьет Ретиф с пятью или шестью спутниками. Я спросил у него, как прошли переговоры с Дингааном. — Неплохо, неплохо, — ответил Ретиф. — Поначалу король изволил гневаться, все твердил, дескать, мы, буры, украли у него шесть сотен голов скота. Но я доказал ему, что это вождь Сиконьела[225], живущий на реке Каледон[226], переодел своих кафров в наряды белых людей и посадил их на коней, а потом прогнал похищенный скот через одну из наших стоянок, чтобы выставить нас ворами. Тогда Дингаан пожелал узнать, зачем я к нему пришел. Я объяснил, что хочу получить землю к югу от Тугелы, до самого моря. «Приведи обратно скот, похищенный, по твоим словам, Сиконьелой, и мы поговорим об этой земле», — сказал он. Я согласился и вскоре оставил его краали. — А что сталось с Эрнанду Перейрой, дядюшка? — спросил я. — Эх, Аллан… Будучи в Умгунгундлову, я стал выяснять, правда ли то, что вы мне рассказывали насчет попытки убить вас за то, что вы якобы колдун. — И что вы выяснили? — Сам Дингаан в подробностях поведал мне все обстоятельства этого дела. Тогда я призвал Перейру и велел ему убираться на все четыре стороны. И пообещал, если он когда-нибудь снова покажется среди буров, отдать его под суд за попытку убийства. Он молча ушел, оправдываться не стал. — И куда же? — Туда, куда отправил его Дингаан, в какое-то место по соседству с краалями. Король сказал, что Перейра будет ему полезен, ведь он умеет чинить ружья и сможет научить его воинов стре лять. Думаю, там он и останется, если не решит, конечно, сбежать. Так или иначе, сюда он вряд ли вернется, вам больше нечего его опасаться. — Знаете, дядюшка, он вам еще доставит хлопот, — задумчиво проговорил я. — О чем вы, Аллан? — Не то чтобы я знал наверняка, но это человек с черным сердцем, предательство у него в крови. Рано или поздно он подложит нам всем свинью. Думаете, он питает теплые чувства к вам, особенно после того, как вы его прогнали? Ретиф пожал плечами и усмехнулся: — Пожалуй, я попытаю счастья. Но сколько можно болтать об этой гадине в человеческом обличье? Хочу вас кое о чем попросить, Аллан. Вы уже женатый человек? — Нет, дядюшка. Впереди еще пять недель. Отец Мари все держится за свою клятву насчет совершеннолетия, а я обещал ему ничего не предпринимать, покуда не истечет этот срок. — Вот как? Сдается мне, Аллан, что наш Анри Марэ попросту крансик[227], либо коварный племянничек Эрнан Перейра его околдовал. Видели, как змея зачаровывает птицу? К несчастью, закон на его стороне, а я, будучи коммандантом, не могу допустить, чтобы закон нарушался. Слушайте, вам незачем отсиживаться здесь и глядеть на спелый персик, который все равно нельзя сорвать, поскольку от него разболится живот. Поезжайте со мной, добудем тот скот, который украл Сиконьела. Я буду рад вашей компании. А потом проводите меня в Зулуленд, где я получу во владение все эти земли. — Но как же быть с моей свадьбой? — растерялся я. — О, смею надеяться, вы женитесь еще до нашего отъезда. А если нет, то свадьба состоится, когда мы вернемся. Пожалуйста, не огорчайте меня отказом, Аллан. Кроме вас, никто не говорит на зулусском; насколько я слышал, в местных наречиях вы вообще как рыба в воде, а мне понадобится переводчик на встрече с Дингааном. Кстати, король очень просил, чтобы вы сопровождали меня, когда я приведу обратно скот; похоже, вы сильно ему понравились. Он уверяет, что вы способны передавать чужие речи дословно, а у него нет доверия к тому пареньку, которому поручают переводить на английский и голландский. Если согласитесь, вы меня немало обяжете. Я медлил с ответом; некое мрачное предчувствие отягощало мое сердце и побуждало меня отказаться от этого предложения. — Allemachte! — сердито воскликнул Ретиф. — Если не хотите оказать мне услугу, что ж, так тому и быть. Или желаете вознаграждения? Я могу пообещать вам двадцать тысяч акров наилучшей земли из той доли, которую намерен выторговать. — Нет, минхеер Ретиф, — ответил я, — дело вовсе не в награде. Что касается земли, я уже застолбил участок на реке, милях в тридцати к востоку. Признаться, мне не хочется оставлять Мари одну. Я опасаюсь, что ее отец сыграет со мной какую-нибудь злую шутку и выдаст ее за Эрнанду Перейру. — А! Если это все, чего вы боитесь, Аллан, я помогу вам. В моей воле приказать проповеднику Сельерсу, чтобы он не венчал девицу Мари Марэ ни с кем, кроме вас, даже если она сама будет умолять его о другом. Я также прикажу, чтобы в случае появления в лагере Эрнана Перейры его схватили и посадили под замок до моего возвращения. Наконец, будучи коммандантом, я выберу Анри Марэ себе в спутники, так что он никоим образом не сумеет вам навредить. Вы довольны? — Да! — ответил я с деланой бодростью, хотя на самом деле был от этого далек. На сем мы разошлись, ибо, разумеется, у комманданта Ретифа хватало иных забот. Я же отправился к Мари и поведал ей об этом разговоре с Ретифом и о своем согласии поехать с ним. К моему немалому удивлению, она сказала, что, по ее мнению, я поступаю разумно. — Если ты останешься здесь, — пояснила она, — то почти наверняка между тобой и моим отцом случится новая ссора, которая может обернуться взаимной горечью. А еще, милый, с твоей стороны было бы глупо оскорблять отказом комманданта Ретифа, который скоро станет большим человеком в этих землях. Ведь ты ему нравишься, Аллан. И потом, мы разлучимся лишь на короткий срок, а когда он минет, нам предстоит провести вместе всю жизнь. За меня не бойся; ты же знаешь, я не пойду ни за кого, кроме тебя, — даже если мне будут угрожать смертью. Я оставил Мари, немного успокоившись, понимая, что могу доверять ее здравомыслию. Следовало заняться приготовлениями к походу во владения вождя Сиконьелы. Свой разговор с Ретифом я воспроизвел точно, насколько возможно, ибо этот разговор имел для всех поистине судьбоносные последствия. О, если бы только я обладал даром предвидения! О, если бы я мог заглядывать в будущее!..Глава 16
СОВЕТ
Два дня спустя отряд из шести или семи десятков хорошо вооруженных всадников выехал из владений Дингаана, чтобы вернуть королю похищенный скот. Конных сопровождали двое зулусских военачальников с сотней человек — им предстояло гнать стадо обратно, если животные найдутся. Я один среди европейцев мог изъясняться с туземцами на их наречии, поэтому оказался фактически в положении их командира, и мне удалось доказать, что в этом качестве я способен принести немалую пользу. А поскольку экспедиция продолжалась целый месяц, я, постоянно общаясь с зулусами, изрядно преуспел во владении их красивым, но чрезвычайно трудным языком. Отнюдь не намереваюсь пересказывать в подробностях наше путешествие, скажу только, что обошлось без стычек — и вообще не произошло ничего сколько-нибудь серьезного. Мы добрались до краалей Сиконьелы и выдвинули свои требования. Когда вождь убедился, что белые люди многочисленны и вооружены до зубов, а за нами стоит вся сила зулусского воинства, этот коварный старый мерзавец счел за лучшее добровольно вернуть украденный скот заодно с несколькими лошадьми, которых он увел у буров. Мы передали поголовье зулусским военачальникам с наказом бережно и заботливо отогнать стадо в Умгунгундлову. Также коммандант отослал с воинами сообщение, гласившее, что он выполнил условия сделки, а потому ждет от Дингаана скорейшего заключения соглашения по уступке земель. Когда мы покончили с этим, Ретиф позвал меня и кое-кого из сопровождавших его буров навестить голландские поселения за Драконовыми горами, на землях нынешнего Трансвааля. Эта поездка отняла много времени, ибо буры-переселенцы рассеялись по обширной территории, и в каждом лагере нам приходилось задерживаться на несколько дней, пока Ретиф объяснял свои намерения местным предводителям. Еще он договаривался с ними о том, чтобы они были готовы выдвинуться в Наталь по первому зову, как только Дингаан законным образом передаст Ретифу землю за Тугелой. Большинство вызвалось переселяться немедленно, однако между бурскими вожаками существовали зависть и ревность, поэтому некоторые люди — к счастью для них — решили остаться по эту сторону гор. Наконец, завершив эти дела, мы выехали в обратный путь и достигли Бушменской реки одним чудесным субботним днем. К моему облегчению, там все было в порядке. Об Эрнанду Перейре никто ничего не слышал, а зулусы, если верить приходившим к нам вестям, были настроены дружественно. Мари благополучно оправилась от тех ужасов и потрясений, какие выпали на ее долю за последнее время. Когда она встретила меня из похода, мне подумалось, что еще никогда я не видел ее такой красивой и милой. Она избавилась от обносков и надела простое, но очаровательное платье, сшитое из материи, которую удалось приобрести у торговца из Дурбана, заглянувшего в лагерь. Смею надеяться, у Мари был и другой повод для радости, ведь мы оба предвкушали приближавшееся мгновение нашей свадьбы. Как я уже сказал, мы вернулись в субботу, а в понедельник наступало совершеннолетие Мари; она станет вольна распоряжаться собою, истечет срок того обещания, которое мы с ней дали ее отцу. Увы! По прихоти злодейки-судьбы именно на понедельник коммандант Ретиф назначил повторный выезд к Дингаану, и честь обязывала меня сопровождать предводителя буров. — Мари, — сказал я, — не смягчится ли твой отец? Не позволит ли он нам пожениться завтра, чтобы мы провели вместе хоть несколько часов перед новой разлукой? — Не знаю, любимый, — ответила она, покраснев, — в этом отношении он ведет себя очень странно и проявляет невиданное упрямство. Не поверишь, пока ты отсутствовал, он ни разу не упомянул твоего имени. А если кто заговаривал о тебе, он сразу же уходил прочь. — Плохо дело, — огорчился я. — Но если ты не против, почему бы не попробовать? — Конечно, Аллан, я не против. Я так устала быть рядом с тобой — и одновременно будто далеко-далеко. Но как именно ты хочешь поступить? — Думаю, мы попросим комманданта Ретифа и фру Принслоо заступиться за нас, Мари. Пойдем разыщем их. Мари кивнула, и, рука в руке, мы прошли через лагерь, а буры многозначительно подталкивали друг друга и посмеивались нам вслед. Старая фру сидела на стуле у своего фургона и пила кофе. Помнится, печально знаменитый фатдок лежал у нее на коленях, ибо фру, как и Мари, надела новое платье и опасалась его запачкать. — Ну, милые, — проговорила она своим зычным голосом, — вы что, уже поженились, раз так льнете друг к дружке? — Нет, тетушка, — ответил я, — но очень хотим этого и потому пришли к вам за помощью. — Располагайте мной, как вам будет угодно, дружочки. Хотя я ведь уже говорила тебе, Аллан, что молодые люди вашего возраста и в вашем положении могли бы справиться и сами. Великие Небеса, кому какое дело, как вершится брак перед Господом? По мне, мужчине с женщиной достаточно принародно объявить себя мужем и женой и жить вместе. Конечно, священник и его проповедь — это полезно, когда удается его отыскать, но брак-то заключается, когда отдают руку, а не надевают на палец кольцо, когда приносят клятву два любящих сердца, а не когда читают слова из Библии. Ладно, что-то я заболталась, и за такие слова любой проповедник меня укорит, ибо, если все молодые люди примутся так поступать, закон, быть может, их и поддержит, но что станется с доходами священства? Пойдемте искать комманданта и послушаем, что он скажет. Аллан, прошу, подними меня с этого стула. Наши странствия так меня утомили, что я, говорю как есть, сидела бы и сидела, и пусть дом строят вокруг, а меня не трогают. Я выполнил ее просьбу — пришлось приложить немалые усилия, — и мы двинулись на поиски Ретифа. Тот стоял в одиночестве, наблюдая, как отъезжают два фургона. В этих фургонах были его жена и другие родственники, а также друзья; под присмотром хеера Шмитта они направлялись в место под названием Дурнкоп, на расстоянии полутора десятков миль от лагеря. Там для фру Ретиф уже возвели временный дом, если это сколоченное на скорую руку строение заслуживало столь громкого названия. Коммандант думал, что в Дурнкопе его жене будет спокойнее, удобнее и, возможно, безопаснее, чем в забитом фургонами лагере. — Allemachte, Аллан! — воскликнул Ретиф, завидев нас. — Что-то тяжело у меня на сердце, сам не знаю почему. Когда мы расцеловались с моей старухой на прощание, мне вдруг почудилось, будто я никогда больше ее не увижу, и слезы сами навернулись на глаза. Хотел бы я, чтобы наша поездка к Дингаану уже состоялась. Ладно, постараюсь навестить жену завтра, все равно мы убываем только в понедельник. Что вам нужно от меня — вам, Аллан, и вашей?.. — Он указал на Мари. — Да что может понадобиться мужчине от такой красавицы? — вмешалась фру Принслоо. — Жениться он хочет, вот что! Слушайте, коммандант, я все вам растолкую. — Хорошо, тетушка, но покороче, если можно, — у меня мало времени. Фру утвердительно кивнула, но не могу сказать, что ее рассказ вышел кратким. Когда она наконец прервалась, чтобы перевести дыхание, Ретиф задумчиво произнес: — Я все понял, и вам, молодые люди, говорить ничего не надо. Идемте-ка повидаем Анри Марэ. Если он не безумнее, чем обычно, думаю, мы убедим его прислушаться к голосу разума. Мы отправились к фургону Марэ, стоявшему в конце ряда. Отец Мари сидел на облучке и кромсал табак перочинным ножом. — Добрый день, Аллан, — поздоровался он, ибо после моего возвращения мы с ним не виделись. — Как съездили? Я не успел ничего ответить: коммандант выступил вперед и сразу перешел к делу. — Оставим любезности, Анри, мы пришли поговорить не о поездке Аллана. Мы хотим обсудить его свадьбу, что намного важнее. Он вместе со мной отправляется в понедельник в Зулуленд, как и вы, и просит разрешения жениться на вашей дочери завтра, в воскресенье, за день до выезда. — Воскресенье — день для молитвы, а не для принесения брачной клятвы, — хмуро ответил Марэ. — Кроме того, Мари станет совершеннолетней в понедельник, а до тех пор мое обещание Господу сохраняет силу. — Да мой передник на вашу клятву! — вскричала фру Принслоо, тыча засаленной тряпкой ему в лицо. — Неужто вы думаете, будто Богу есть дело до глупой клятвы, которую вы дали вашему беспутному племянничку? Глядите, Анри Марэ, как бы Он не превратил эту клятву в камень, что свалится вам на голову и пробьет ее, точно скорлупу ореха. — Придержите свой злокозненный язык, фру! — гневно бросил Марэ. — Еще не хватало, чтобы такие, как вы, учили меня моим обязанностям перед совестью и перед моей дочерью! — Нет, я буду учить, раз уж вы сами научиться не в состоянии! — Старая фру подбоченилась и приготовилась было продолжить свою речь, но Ретиф поспешил ее оттеснить. — Хватит! Никаких ссор! — велел он. — Анри Марэ, ваше отношение к этим молодым людям, которые любят друг друга, поистине непозволительно. Вы разрешаете им обвенчаться завтра или нет? — Нет, коммандант, не разрешаю. По закону я имею власть над своей дочерью, покуда она не станет совершеннолетней. И я отказываюсь дать согласие на ее брак с треклятым англичанином. Вдобавок пастор Сельерс уехал, значит обвенчать их некому. — Странно слышать от вас такие слова, минхеер Марэ, — негромко произнес Ретиф, — в особенности если вспомнить все, что этот «треклятый англичанин» сделал для вас и ваших близких. Мне ведь эта история известна в подробностях, хоть и не от него самого. Ладно, слушайте. Вы ссылаетесь на закон, и я, как коммандант, вынужден принять такое обоснование. Но завтра после полуночи, как вы сами только что сказали, закон перестанет принуждать вашу дочь к повиновению. Посему утром в понедельник, если пастор к тому времени не появится в лагере, а эти двое не откажутся от своего желания, я их обвенчаю при всем честном народе. Будучи коммандантом, я имею на это право. Тут с Марэ случился очередной приступ яростного безумия, столь для него характерный; лично мне кажется, что эти припадки свидетельствовали о его душевном нездоровье. Как ни удивительно, на сей раз он обрушился на бедняжку Мари — осыпал ее бранью и страшными проклятиями за то, что она осмелилась нарушить его волю и не вышла замуж за Эрнанду Перейру. Он призывал на голову дочери всевозможные кары, кричал, что она никогда не понесет ребенка, а если и понесет, ее дитя умрет. Словом, он наговорил много такого, о чем неприятно вспоминать. Мы глядели на него в полном изумлении; пожалуй, не будь он отцом моей невесты, я бы ему врезал как следует. Ретиф, как я заметил, вскинул было ладонь, намереваясь заставить Марэ замолчать, но потом опустил руку и пробормотал: «Пусть его, он же одержим бесом». Наконец пыл Марэ иссяк — думаю, вовсе не из-за недостатка проклятий у него в запасе, а просто потому, что он выдохся. Он стоял перед нами, сотрясаясь всем телом, и его лицо подергивалось, как у человека, страдающего судорогами. И тут Мари, которая, опустив голову, пережидала бурю отцовского гнева, выпрямилась. Ее глаза сверкали, а лицо было белее снега. — Ты мой отец, — проговорила она тихо, — и потому я должна покорно принимать все то, что ты найдешь нужным мне сказать. Мне кажется, зло, которое ты призывал на мою голову, не замедлит случиться, ибо Сатана всегда рядом и всегда готов услужить дурным намерениям. Но если так, отец, это зло, я уверена, обернется против тебя самого, здесь и сейчас или позже. Мы с тобой оба получим по справедливости, рано или поздно, как и твой племянник Эрнан Перейра. Марэ ничего не ответил; обуявшее его безумие, похоже, отступило. Он снова молча уселся на облучок фургона и принялся кромсать табак с таким видом, будто резал на куски сердце врага. Даже фру Принслоо не находила слов, лишь смотрела на него, обмахиваясь передником. — Не знаю, спятили вы, Анри Марэ, — сказал Ретиф, — или просто обнажили перед нами свою злодейскую натуру. Чтобы проклинать собственную дочь таким вот образом, надо быть безумцем или душегубом. Ведь это ваш единственный ребенок, отрада ваших глаз. Что ж, поскольку вы едете со мной в понедельник, я прошу вас впредь следить за своим настроением, чтобы оно не навлекло на нас неприятности. Милая Мари, не стоит беспокоиться, что дикий зверь едва не пырнул вас рогами, пусть этот зверь — ваш собственный отец. Утром в понедельник вы освободитесь от его власти и станете сама себе хозяйка, и в тот же день я обвенчаю вас с Алланом Квотермейном. А пока, думаю, вам двоим лучше держаться подальше от этого человека, которому, быть может, взбредет в голову бросить табак и перерезать вам горло. Фру Принслоо, будьте так добры, приглядите за Мари Марэ, а утром в понедельник приведите ее ко мне для венчания. Анри Марэ, до тех пор я, как коммандант, приставлю к вам стражу и велю посадить вас под замок, если понадобится. Сходите-ка прогуляйтесь, а когда успокоитесь, попробуйте умолить Господа, чтобы Он простил вам ваши злые слова, иначе вы сполна ответите за них на последнем суде. На этом мы развернулись и ушли, оставив Анри Марэ резать табак на облучке фургона. В воскресенье я встретил Марэ, который бродил по лагерю; его сопровождала охрана, приставленная Ретифом. К моему удивлению, он окликнул меня и заговорил вполне дружелюбно. — Аллан, не поймите меня превратно, — сказал он. — Я вовсе не желаю зла Мари, которую люблю больше жизни. Одному лишь Богу ведомо, как сильно я ее люблю! Но я дал слово ее кузену Эрнану, единственному сыну моей сестры, и вы должны понять, что я не могу нарушить это обещание, пускай Эрнан много, да, много раз огорчил меня и разочаровал. Если в нем столько скверного, как говорят люди, это, должно быть, от португальской крови, и тут уж ничего не поделаешь. Даже зная о его дурных наклонностях, я как честный человек обязан держать слово… И не забудьте, Аллан, вы англичанин, а это, будь вы сколь угодно приличной и достойной партией, порок, на который я при всем желании не могу закрыть глаза. Но если вам предназначено стать мужем моей дочери, а ей суждено родить от вас англичанина — Бог мой, внуки-англичане, подумать только! — обсуждать тут, похоже, нечего. Прошу вас, забудьте все то, что я наговорил Мари. Признаться, я уже не припомню своих слов. Когда я злюсь, кровь словно приливает к моей голове и я просто-напросто забываюсь. — Он протянул мне руку для пожатия. Я принял руку и ответил, что понимаю — да, он был вне себя, когда изрекал те жуткие проклятия, которые мы с Мари хотели бы забыть. — Надеюсь, вы придете завтра на нашу свадьбу, — прибавил я, — и сотрете дурную память отцовским поцелуем и благословением. — Завтра? Вы и вправду собираетесь венчаться завтра? — воскликнул он, и его нервическое лицо исказила гримаса. — Боже, сколько раз я воображал себе другого мужчину, стоящего рядом с Мари! Но его здесь нет, он опозорен, и он бросил меня. Что ж, я приду, если мне, конечно, позволят мои конвоиры. Прощайте, счастливый жених, прощайте. Он резко развернулся и поспешно ушел, а охранники последовали за ним. Один из них повернулся ко мне, со значением постучал себя по лбу и покачал головой. Помнится, то воскресенье казалось мне самым долгим днем в моей жизни. Фру Принслоо не разрешала мне видеться с Мари из-за какого-то глупого предрассудка: то ли обычая, то ли дурной приметы. Так или иначе, жениху и невесте не подобало общаться до бракосочетания. Поэтому я старался занять себя всеми способами, какие только приходили на ум. Сперва я написал письмо отцу, третье по счету после своего отъезда, и поведал обо всем, что должно было произойти в ближайшее время, а также добавил, как мне жаль, что его нет с нами, чтобы нас обвенчать и благословить. Это письмо я отдал торговцу, который следующим утром уезжал к морскому побережью, и попросил передать послание дальше при первой же оказии. Затем я отправился осматривать лошадей, что были отобраны мной для поездки в Зулуленд, — две предназначались для меня и одна для Ханса, ведь мой слуга, конечно, должен был меня сопровождать. Еще проверил седла, седельные мешки, оружие и боеприпасы, и это заняло довольно много времени. — Диковинная у тебя будет виттебруддссвик[228], баас, — сказал Ханс, кося на меня своими узкими глазками из-за шкуры, которую он собирался использовать как попону. — Вот если бы мне выпало жениться завтра, я бы остался со своей красавицей на несколько деньков, а уехал бы, когда она бы меня утомила. Тем более что ехать нам в Зулуленд, где у местных в привычке убивать людей. — Не сомневаюсь, Ханс. Я бы тоже так поступил, будь моя воля, уж поверь. Но комманданту нужен переводчик, и долг побуждает меня поехать с ним. — Долг? Какой долг, баас? Вот любовь я понимаю и с тобой еду по любви, а еще из страха, что ты поколотишь меня, если я откажусь. Иначе я остался бы в лагере, где много еды и почти нет работы. К тому же тут белая мисси, и ее я тоже люблю, как тебя. Но долг — глупое слово, от него мужчины умирают раньше назначенного срока, а их женщины достаются другим. — Ты просто не понимаешь, Ханс. Вам, цветным, не дано постичь, что такое долг или благородство. Но что ты там болтал о нашем путешествии? Тебе страшно? Готтентот пожал плечами: — Немножко, баас. Мне должно быть страшно, если я стану думать о завтрашнем дне. Но я не думаю, мне хватает сегодняшнего, а если думать о том, чего не знаешь, голова заболит. Дингаан — дурной человек, баас, и мы оба это знаем. Он охотник и умеет расставлять западни. А при нем еще баас Перейра, который теперь ему помогает. Так что на твоем месте я бы остался здесь и целовал мисси Мари. Скажи всем, что у тебя заболела нога и ты не можешь ходить. Поброди с костылем денек-другой, а когда коммандант уедет, твоя нога поправится, и костыль можно будет выкинуть. — Изыди, сатана, — проворчал я себе под нос. Я уже был готов выбранить Ханса, но мне пришло в голову, что маленький готтентот попросту иначе смотрит на жизнь и нельзя его за это винить. К тому же он сказал, что любит меня, и его хитрость была задумана ради моего душевного спокойствия и безопасности. С чего я вообще взял, что Ханса может интересовать успех нашей дипломатической миссии к Дингаану или сама поездка? Для него главное, что нам может угрожать опасность… — Ханс, если ты боишься, — произнес я, — тебе лучше остаться. Я легко найду другого помощника. — Баас сердится на меня, раз говорит такое? — воскликнул готтентот. — Разве я не был ему верен всегда и везде? Кому какое дело, если меня убьют? Я же сказал, баас, что не думаю про завтра. Все мы рано или поздно заснем вечным сном. Нет, я пойду с баасом, если только он не прогонит меня. Но прошу тебя, баас, — прибавил он умоляющим тоном, — налей мне бренди, чтобы выпить за твое здоровье. Приятно напиться накануне, если потом придется быть трезвым или даже погибнуть. Так хорошо будет вспомнить это, когда я стану призраком или, быть может, ангелом с белыми крыльями. Старый баас, твой отец, рассказывал нам об ангелах в воскресной школе. Да уж, Ханса не переделать. Я поднялся и ушел, оставив готтентота заканчивать приготовления в дорогу. Вечером все обитатели лагеря собрались для молитвы. Священник уехал, и один из старых буров служил вместо него и читал молитвы, простые и отчасти нелепые, но шедшие от чистого сердца. Помню, среди прочих просьб он молил Господа уберечь от опасностей тех, кто собирался отправиться к Дингаану, и тех, кому предстояло остаться в лагере. Увы, эти молитвы не были услышаны, и Тот, к Кому они были обращены, судил иначе. После молитвенного собрания, в коем я принимал живейшее участие, Ретиф, только-только вернувшийся из Дурнкопа, куда он ездил проведать свою жену, устроил нечто вроде полевого совета и назвал наконец имена тех, кто вызвался сопровождать его добровольно и кому приказали это сделать. На совете разгорелся жаркий спор, потому что многие буры считали эту поездку неразумным решением; они твердили, что не следует ехать столь многочисленным отрядом. Один старик заявил, что туземцы могут заподозрить, будто к ним прибыло воинское подразделение, а потому разумнее ехать впятером или вшестером, как ездили раньше, и тогда, мол, никто не усомнится в наших мирных наме рениях. Ретиф горячо возражал против этого мнения — и вдруг повернулся ко мне, сидевшему поблизости, и спросил: — Аллан Квотермейн, вы молоды, но судите здраво. Вы один из тех немногих, кто хорошо знает Дингаана и говорит на его языке. По-вашему, как нам поступить? На этот прямой вопрос я, взбудораженный, должно быть, болтовней Ханса, ответил, что тоже нахожу поездку опасной и что старшим в ней нужно назначить того, чья жизнь менее ценна, чем жизнь комманданта. — Что вы такое говорите? — раздраженно воскликнул Ретиф. — Важна жизнь каждого, кто присутствует здесь! Лично я никакой опасности не предвижу. — Дело в том, коммандант, что я-то опасность чую, но какого рода — сказать не могу. Я как собака или антилопа; одна, когда чует угрозу, лает, другая убегает. Дингаан видится ручным тигром, но ведь тигры — это вам не домашние кошки, с которыми приятно играть. У него тигриные когти, и я сам из них едва вырвался. — Что вы имеете в виду? — уточнил Ретиф, предпочитавший изъясняться без околичностей. — Считаете, что этот шварцель замышляет нас убить? — Думаю, это вполне возможно, — честно ответил я. — Тогда, племянник, раз уж вы человек здравомыслящий, объясните свои резоны. Давайте выкладывайте, не стесняйтесь. Нет у меня резонов, коммандант, разве что такой: нельзя доверять человеку, который ставит жизнь десятка людей против чьего-то умения метко стрелять по птицам на лету и убивает сородичей, чтобы те стали наживкой для стервятников. А еще он говорил мне, что не любит буров и ему не за что их любить. Похоже, все те, кто слушал наш разговор, прониклись моими доводами. Они дружно повернулись к Ретифу, с нетерпением ожидая его ответа. — Понятно, — обронил коммандант, который, как я уже сказал, пребывал тем вечером в раздражении. — Понятно, что английские миссионеры настроили короля против буров. К тому же, — прибавил он, и в его тоне проскользнуло подозрение, — вы сами говорили мне, Аллан, что понравились ему и он хотел пощадить вас, поскольку вы англичанин, а ваших спутников предать смерти. Вы уверены, что поделились с нами всем, что вам известно? Быть может, Дингаан поведал вам что-нибудь по секрету — как англичанину? Заметив, какое воздействие эти слова оказали на собравшихся буров, представителей народа, в котором расовые предубеждения и недавние события породили глубокое недоверие к британской крови, я, признаться, преисполнился негодования. — Коммандант, никаких секретов Дингаан мне не открывал, сказал только, что кафрский колдун по имени Зикали, которого я в глаза не видел, предостерег его от убийства англичан! Потому-то король решил пощадить меня, хотя один тип из вашего народа, Эрнанду Перейра, нашептал ему, что меня следует прикончить. Раз уж на то пошло, позвольте говорить прямо. Я считаю, что вы совершаете глупость, направляясь к этому королю со столь многочисленным отрядом. Я же готов поехать к нему с парочкой сопровождающих. С вашего разрешения, я постараюсь убедить его отдать вам земли за рекой. Если меня убьют или я не достигну успеха, вы сможете прийти следом и добиться своего. Allemachte! — воскликнул Ретиф. — Отличное предложение! Но откуда мне знать, племянник, что будет сказано в соглашении, когда мы придем забирать его? А вдруг там будет написано, что земли за рекой принадлежат англичанам, а не бурам? Прошу вас, не злитесь! С моей стороны это было грубо и несправедливо, ибо вы честный человек, какая бы там кровь ни текла в ваших жилах. Скажите мне вот что, Аллан. Ваша храбрость общеизвестна, но вы опасаетесь этой поездки. Почему, объясните мне! Ах да, совсем запамятовал, вы же собираетесь завтра утром обвенчаться с очень красивой девушкой, и вполне естественно, что вам не по душе провести следующие две недели в Зулуленде. Видите, братья, он желает отвертеться, потому что женится, вот и запугивает себя самого и всех нас. Когда мы с вами женились, разве нам мечталось о встрече с гнусными дикарями сразу после свадьбы? О, я рад, что вспомнил об этом обстоятельстве, когда уже начал было заражаться от Аллана его мрачностью, как хамелеон меняет окраску под цвет черной шляпы. Это все объясняет! — Он хлопнул широкой ладонью по бедру и разразился громким смехом. Буры, стоявшие вокруг, тоже захохотали, подобного рода непритязательные шутки были у них в почете. Вдобавок они испытывали смятение чувств, предстоящая экспедиция их пугала, и потому они охотно облегчали душу этаким незатейливым, буколическим весельем. Теперь им все стало ясно. Ощущая себя обязанным по долгу чести отправиться в поездку, поскольку был единственным переводчиком, я, хитроумный лис, попытался сыграть на их страхах и задержать отъезд, дабы провести недельку-другую в объятиях новобрачной. Они поняли и оценили эту шутку. — А он шельмец, этот маленький англичанин! — крикнул один. — Не сердитесь на него, братья. Мы бы и сами остались, на его-то месте! — добавил другой. — Оставьте его в покое! — сказал третий. — Даже зулусы не посылают молодоженов с поручениями! Меня принялись хлопать по спине и посмеиваться надо мной в привычной бурской грубоватой, но дружелюбной манере. Я впал в совершенную ярость и врезал одному из них по носу, а он лишь расхохотался громче прежнего, хотя из носа у него потекла кровь. — Послушайте, друзья! — сказал я, когда они слегка успокоились. — Женатый или нет, я поеду с теми, кто отправится к Дингаану, пусть и вопреки своему желанию. Сами знаете, хорошо смеется тот, кто смеетсяпоследним. — Отлично! — выкрикнул какой-то бур. — Твоими стараниями, Аллан Квотермейн, мы скоро будем дома! Кто не поспешит вернуться, если его будет ждать Мари Марэ?! Под гогот и насмешки я покинул это сборище грубых мужланов и нашел укрытие в собственном фургоне, нисколько не подозревая о том, что эта наша перепалка обернется против меня на следующий день. Для определенной части невежественных людей предвидение зачастую является признанием вины.Глава 17
СВАДЬБА
Утром того дня, на который назначили венчание, я проснулся под грохот грома и рев налетевшей бури. Молнии вонзались в землю вокруг и убили двух волов рядом с моим фургоном, грохотало так, что казалось, колеблется и вздыбливается почва под ногами. Затем задул студеный ветер и полило как из ведра. Я, конечно, привык к подобным капризам погоды в Африке, тем более в это время года, однако, не стану скрывать, вспышки и раскаты нисколько не подняли мне настроение, а ведь я и без того пребывал в куда более печальном расположении духа, чем следовало бы жениху в столь знаменательный день. Зато Ханс, прибежавший помочь мне облачиться в парадный костюм, был на удивление весел и пытался меня утешить. — Не грусти, баас, — повторял он. — Если с утра буря, значит скоро выглянет солнце. — Да уж, — отозвался я, обращаясь скорее к себе, чем к нему. — Но что произойдет между утренней грозой и покоем ночи? Было условлено, что посольство, в составе которого вместе со слугами-туземцами насчитывалось около сотни человек (среди них было и несколько юношей, совсем еще мальчишек), отправится за час до полудня. Никто, разумеется, не занимался приготовлениями, покуда не стих проливной дождь, а он завершился около восьми утра. И потому, выбравшись из фургона, чтобы отыскать, чем бы перекусить, я обнаружил, что лагерь охвачен лихорадочной суетой. Буры кричали на своих слуг и осматривали лошадей, женщины складывали в седельные мешки запасную одежду своих отцов и мужей, вьючных животных нагружали мешками с билтонгом и прочей едой, и так далее. Суматоха была столь заразительной, что я даже начал опасаться, как бы за этим переполохом не забыли о моем маленьком дельце; все выглядело так, будто о свадьбах сейчас и думать-то неуместно. Приготовив все необходимое для отъезда, я отсиживался, терзаемый сомнениями, в своем фургоне — меня обуяла робость, присоединяться к компании насмешников не хотелось, идти к фру Принслоо, чтобы узнать о венчании, было неловко. Словом, около десяти утра фру явилась ко мне сама. — Выходи, Аллан, — сказала она. — Коммандант ждет и страшно ругается, что тебя нет. И кое-кто другой тоже ждет. О, она такая красавица! Когда ее увидят, каждый мужчина в лагере захочет такую жену, не важно, свободен он или нет; ты, быть может, о том и не догадывался, но вы, мужчины, в подобных делах мало чем отличаетесь от кафров. Уж мне ли не знать, что цвет кожи тут ни при чем! Продолжая болтать в своей обычной манере, старая фру за руку вытянула меня из фургона, словно какого-то нашкодившего мальчугана. Я не мог высвободиться из ее могучей хватки, а когда сия корпулентная особа сделала шаг-другой назад, мне было нечего противопоставить ее весу. Юные буры, которые последовали за фру, зная, какая роль ей отведена, встретили мое появление воплями и смехом, и это немедленно привлекло к нам всеобщее внимание. — Слишком поздно отступать, англичанин! Ты уж постарайся в обморок-то не упасть! Если собрался передумать, раньше надо было! — Все это и многое другое кричали мне мужчины и женщины, и от их криков, визга и нескромных пожеланий мое лицо, должно быть, приобрело цвет красной болотной лилии. Хвала Небесам, мы вскоре пришли туда, где стояла Мари, окруженная восхищенной толпой. Она была в струящемся белом платье, сшитом из простой, но благородной материи, а на ее темных волосах лежал венок, сплетенный девицами лагеря (эти мастерицы сгрудились стайкой за моей невестой). Мы встали лицом к лицу. Наши глаза встретились. О, сколько было в ее очах доверия и любви! Я ощутил себя словно зачарованным, откровенно сбитым с толку. Чувствуя, что от меня ждут каких-то слов, я пробормотал: «Доброе утро», отчего все снова расхохотались, а старая фру Принслоо воскликнула: — Видали вы этакого дурня, а? Даже Мари улыбнулась. Но вот откуда-то появился Пьет Ретиф, в грубом платье для верховой езды и высоких сапогах, как обычно одевались буры в те дни. Он передал «рур», который держал в руках, одному из своих сыновей, долго шарил по карманам и наконец извлек книгу, в которой нужная страница была заложена стеблем травы. — Так, — произнес он, — ну-ка тихо! Проявите уважение и помните, что я сейчас — не просто человек. Я сейчас священник, а это совсем другое дело; будучи коммандантом, фельдкорнетом и прочими офицерскими чинами в одном лице и располагая законными полномочиями, я намерен поженить этих молодых людей, и да поможет мне Господь. И чтобы никто из вас, свидетелей, не говорил впоследствии, будто они обвенчаны неправильно или незаконно, потому что ничего подобного я не допущу! Он перевел дух, а кто-то крикнул по-голландски: «Слышим, слышим!» Ретиф взглядом испепелил нарушителя тишины и продолжил: — Юноша и девушка, как вас зовут? — Не задавайте глупых вопросов, коммандант, — вмешалась фру Принслоо. — Вам прекрасно известны их имена. — Конечно известны, тетушка, — ответил он, — но в сей миг я должен притвориться, будто не осведомлен заранее. Вы что, знаете закон лучше моего? Так, погодите, а где отец невесты? Где Анри Марэ? Кто-то вытолкнул Марэ вперед, и он молча встал рядом с нами. Он смотрел на нас со странным выражением лица, а в руке у него было ружье, поскольку он уже приготовился к отъезду. — Заберите у него оружие! — велел Ретиф. — Не то оно может случайно выстрелить и напугать, да еще, чего доброго, зацепит кого-то. — (Буры выполнили его распоряжение.) — Анри Марэ, согласны ли вы, чтобы ваша дочь вышла замуж за этого человека? — Нет, — негромко ответил Марэ. — Ясно. Другого я и не ждал, но это не имеет значения, ибо ныне она совершеннолетняя и вольна распоряжаться собой. Разве не так, Анри Марэ? Да что вы стоите тут, как стреноженный конь? Отвечайте прямо, совершеннолетняя она или нет? — Полагаю, да, — промолвил он все тем же тоном. — Итак, пусть все слышат: эта женщина совершеннолетняя и вправе отдать себя мужчине. Так, дорогая? — Да, — сказала Мари. — Что ж, тогда приступим. — Ретиф раскрыл книгу, повернул ее к свету и начал произносить, с постоянными запинками, слова венчального обряда. Когда в требнике попалось особо трудное место, коммандант прервал чтение, и, будучи не слишком образованным, как и большинство буров, воскликнул: — Эй, кому-то придется помочь мне с этими хитрыми словечками! Никто не вызвался добровольцем, и тогда Ретиф протянул книгу мне — он знал, что Марэ помогать откажется, — и попросил: — Аллан, вы человек сведущий, как и пристало сыну предиканта. Читайте, пока не дойдете до вопросов, а я стану повторять за вами. Это будет вполне по закону. Я стал читать — Бог весть, как у меня это получалось, в этаких-то обстоятельствах. Наконец пошли вопросы, и я вернул книгу Ретифу. — Ага! — крякнул коммандант. — Ну, это просто. Аллан, берешь ли ты в жены эту женщину? Ответь, причем называй свое имя, недаром в книге оставлено пустое место. Я сказал, что да; тот же вопрос задали Мари, и она тоже ответила утвердительно. — Вот и все, — подытожил Ретиф. — Не буду мучить вас молитвами, я все же не священник. А, чуть не забыл! Кольца у вас есть? Я снял с пальца кольцо, принадлежавшее моей матери, — по-моему, это было обручальное кольцо ее бабушки, значит оно не раз служило той же цели, — и надел тоненький и крохотный золотой обруч на третий пальчик на левой руке Мари. Скажу, что это кольцо я ношу до сих пор. — Надо было сделать новое, — пробормотала фру Принслоо. — Молчите, тетушка! — прикрикнул Ретиф. — Где вы видели посреди вельда ювелирные мастерские? Кольцо есть кольцо, даже если его сняли с лошадиной узды. Теперь, думаю, точно все. Нет, погодите. Я хочу произнести собственную молитву. Ее не найти в этой книге, которая к тому же так плохо напечатана, что слов не разобрать. Встаньте на колени, оба, а остальные могут стоять, как стояли, трава-то мокрая. Заботясь о новом красивом платье невесты, фру Принслоо достала из глубокого кармана свой засаленный передник, сложила пополам и передала Мари, чтобы той было, на что опуститься. После этого Пьет Ретиф закрыл книгу, стиснул пальцы рук и произнес молитву, простую и искреннюю, каждое слово которой, сколь ни удивительно, накрепко отпечаталось в моей памяти. Сошедшая не с книжных страниц, а из уст прямого, честного и верующего человека, эта молитва показалась мне весьма торжественной и невыразимо трогательной. — О Господь в Небесах, все видящий и пребывающий с нами, когда мы рождаемся, когда женимся, когда умираем и когда исполняем свой долг потом, на Небе, услышь нашу молитву! Молю Тебя благословить этого мужчину и эту женщину, что стоят пред Тобой, дабы сочетаться браком. Да будут они любить друг друга верно всю свою жизнь, окажется та длинной или короткой, в болезни и в здравии, в счастье и в горести, в богатстве и в бедности. Дай им детей, что вырастут, внемля Твоему слову, дай честное имя и уважение всех, кто их знает, и даруй им Твое спасение через кровь Иисуса Спасителя. Если они останутся вместе, позволь им радоваться друг с другом. Если они разлучатся, не допусти, чтобы они забыли друг друга. Если один из них умрет, а другой останется жить, пусть тот, кто живет, ожидает дня воссоединения, склоняет голову пред Твоею волей и верит, что почивший находится в Твоей длани. О Ты, Господь всеведущий, направляй жизни этих двоих к Твоей вечной цели и избавь их от сомнений в том, что все, Тобой совершенное, делается к лучшему. Ибо Ты предвечный Творец, Кто желает добра, а не зла, Твоим детям, так даруй же им это добро, если они не перестанут верить Тебе днем и во мраке ночи. И пусть никто не осмелится разлучить тех, кого Ты соединил навеки, о всемогущий Господь, Отец всего сущего! Аминь! Так он молился, и собравшиеся дружно подхватили: «Аминь!», — вложив в это слово все свои чувства и надежды. Только Анри Марэ отвернулся и понуро побрел прочь. — Что ж, — сказал Ретиф, утирая пот со лба рукавом куртки, — вы первая и последняя пара, которую я венчаю. Эта доля слишком тяжела для мирянина, который не разбирает слов в требнике. Поцелуйтесь же! Теперь уже можно. Мы поцеловались, а толпа радостно загудела. — Аллан, — продолжил коммандант, доставая из кармана серебряные часы, похожие на луковицу, — осталось ровно полчаса до отъезда. Фру Принслоо говорит, что приготовила свадебный пир вон под тем навесом, так что не мешкайте. Мари и я послушно направились к навесу и нашли там простое, но обильное угощение. Мы взяли эту еду и стали кормить друг друга, как заведено среди новобрачных. Многие буры потянулись следом, чтобы выпить за наше здоровье, хотя фру Принслоо и твердила им, что куда приличнее оставить нас наедине. А вот Анри Марэ не пришел и не выпил с нами. Полчаса пролетели слишком быстро, и весь этот короткий срок мы ни секунды не были одни. Наконец, уже в отчаянии, видя, что Ханс дожидается меня с оседланными лошадьми, я отвел Мари в сторонку и взмахом руки попросил остальных не приближаться к нам. — Милая жена, — проговорил я, чувствуя, как заплетается от волнения язык, — вот уж воистину диковинное начало семейной жизни! Сама видишь, тут ничего не поделать. — Верно, Аллан, — ответила она, — тут ничего не поделать. Сердце мое не на месте из-за твоего отъезда! Я боюсь Дингаана. Если с тобой что случится, знай, я умру от горя. — Почему непременно должно что-то случиться, Мари? У нас крепкий и хорошо вооруженный отряд, а с Дингааном мы заключили мир. — Не знаю, муж мой. Говорят, Эрнан Перейра живет среди зулусов, а он тебя ненавидит. — Тогда пусть последит за своими манерами, иначе ему недолго придется ненавидеть кого бы то ни было! — хмуро сказал я, ибо настроение мое вновь испортилось при мысли об этом прохвосте и его кознях. — Фру Принслоо! — окликнул я пожилую даму, бродившую поблизости. — Пожалуйста, подойдите и послушайте. Мари, ты тоже послушай меня. Если вдруг мне доведется узнать, что вам угрожает опасность, я пришлю весточку с тем, кого ты знаешь и кому можешь доверять. И тогда я прошу вас немедленно уехать или спрятаться. Обещайте, что подчинитесь и не будете спорить. — Конечно, я подчинюсь тебе, муж мой. Разве я не поклялась в этом? — Мари печально улыбнулась. — Я тоже, Аллан, — сказала старая фру, — и не потому, что в чем-то там поклялась, а потому, что знаю: у тебя есть голова на плечах. Это известно, между прочим, моему мужу и всем прочим из нашей партии. Не могу вообразить, с какой стати тебе вздумалось бы послать такую весточку, разве только ты узнаешь то, о чем мы и не подозреваем, — прибавила она строптиво. — Ты ничего не скрываешь, нет? Хотя все равно ведь не скажешь. Ой, тебя зовут! Мари, пойдем провожать. Мы направились туда, где собрались верхом все отъезжающие, и как раз услышали прощальные слова Ретифа. Он заканчивал свою речь. — Друзья, — говорил коммандант, — мы уезжаем по важному делу и вернемся, как я надеюсь, с добрыми вестями и в очень скором времени. Однако нас окружают дикие земли, и мы вынуждены уживаться с дикими людьми. Поэтому прошу всех, кто остается в лагере, не разбредаться, держаться вместе, чтобы при любой опасности, при любой угрозе мужчины могли защитить женщин, детей, имущество. Если мужчины будут здесь, вам не страшны все дикари Африки, вместе взятые. Да пребудет с вами милость Божья — и прощайте! Вперед, братья, вперед! На несколько мгновений воцарилась суматоха — отъезжающие целовали жен, детей, сестер, обменивались рукопожатием с мужчинами, остававшимися в лагере. Я тоже поцеловал Мари, кое-как взобрался в седло и поехал прочь, не разбирая дороги; в глазах стояли слезы, ибо прощание вышло горьким. Когда мое зрение прояснилось, я натянул поводья и оглянулся. Лагерь был еще недалеко, он выглядел спокойным и мирным. Гроза, похоже, снова надвигалась, подкрадывалась иссиня-черная туча, но солнце все еще роняло лучи на белые полотняные верхушки фургонов и на людей, сновавших между повозками. Кто мог тогда предположить, что очень скоро там прольется кровь, что эти фургоны будут изрублены, а женщины и дети, бегавшие между ними, будут мертвыми лежать на земле, и самый вид их изувеченных трупов потребует отмщения? Увы! Буры, вечно недовольные властями и убежденные в том, что сами знают, как им лучше жить, не прислушались к просьбе комманданта держаться вместе. Они разбрелись по вельду, отправились охотиться на дичь, что водилась там в изобилии, и оставили свои семьи беззащитными. А зулусы нашли их и убили. Я ехал чуть поодаль от остальных и вдруг услышал, как меня кто-то нагоняет. Я оглянулся и увидел Анри Марэ. — Что ж, Аллан, — сказал он, — выходит, Господь судил вам стать моим зятем. Кто бы мог подумать, а? Вы не выглядите счастливым новобрачным, кстати. Что это за свадьба, если жениху приходится уезжать от невесты через час после церемонии! Можно сказать, вы толком и не женились, а Господь, дарующий зятьев, способен и забирать их, в особенности если эти зятья нежеланные… Ах! Qui vivra verra! Qui vivra verra![229] — воскликнул он, переходя на французский, как это за ним водилось, когда он волновался. Громко выкрикнув эту расхожую и очевидно исполненную глубокого значения поговорку, он хлопнул свою лошадь по крупу и ускакал, прежде чем я успел ответить. В тот миг я ненавидел Анри Марэ сильнее, чем кого-либо, сильнее даже, чем его племянника Эрнанду. Я совсем было собрался пожаловаться комманданту, но напомнил себе, что Марэ, как ни крути, наполовину сумасшедший и потому не отвечает за свои слова и действия. К тому же пусть он лучше будет с нами, чем в лагере с моей женой. В общем, к Ретифу я не поехал, а зря — наполовину обезумевший человек опаснее любого лунатика! Ханс, ставший свидетелем этой сцены и слышавший слова Марэ, подъехал ближе ко мне и прошептал, оглядываясь по сторонам (готтентот, напомню, был осведомлен о наших отношениях): — Баас, этот старый баас совсем спятил. Сдается мне, рано или поздно он причинит кому-нибудь вред. Давай сделаем вот что, баас: мое ружье выстрелит, будто бы случайно, — ты же знаешь, цветные так небрежны с оружием! Хеер Марэ больше не будет никого донимать своими глупостями, а вам с мисси Мари и остальным ничто не будет грозить. Тебя ведь не обвинят, баас, и меня тоже. Случайно получилось, а? Ружья порой сами стреляют, баас, когда никто и не думает жать на спуск. — Отстань, — процедил я. Эх, если бы ружье Ханса и вправду «случайно» выстрелило. Скольким людям этот случай мог бы сохранить жизнь!Глава 18
ДОГОВОР
Дорога до Умгунгундлову оказалась легкой, и мы обошлись, хвала Небесам, без неприятных происшествий. Примерно на половине перехода до большого крааля мы нагнали стадо, которое было отнято у Сиконьелы: животных вели весьма неспешно и давали им как следует отдохнуть, чтобы они вернулись к Дингаану бодрыми и здоровыми. Коммандант обрадовался, поскольку считал, что лучше самим передать королю похищенный скот, чем поручать это погонщикам-зулусам. Итак, наш отряд погнал вперед огромное стадо — думаю, там было более пяти тысяч голов, — и в субботу, 3 февраля около полудня достиг королевских краалей. Когда животных стали разводить по загонам, мы спешились и перекусили — под теми самыми молочными деревьями у ворот, где я прощался с Дингааном в прошлый раз. Затем к нам пожаловали гонцы, пригласившие нас на встречу с королем, и с ними пришел юный Томас Холстед. Он сообщил комманданту, что все оружие нужно оставить на стоянке, ибо зулусский закон гласит, что никто не вправе являться к королю вооруженным. Ретиф ответил отказом, и тогда посланцы обратились ко мне (они меня, конечно, узнали) и попросили подтвердить, что таковы местные обычаи. Я попробовал отговориться: мол, провел в здешних краях не так много времени, чтобы досконально изучить традиции. Тогда зулусы заявили, что приведут того, кто знает это наверняка; будучи слишком далеко от Холстеда, я не имел возможности уточнить, о ком идет речь. Впрочем, уточнять и не понадобилось: вскоре к нам присоединился еще один белый, оказавшийся не кем иным, как Эрнанду Перейрой. Он подошел к нам в сопровождении зулусов, словно был вождем; надо признать, выглядел он довольнее, увереннее и даже привлекательнее, нежели мне помнилось. Увидев Ретифа, он приподнял шляпу в знак приветствия и протянул руку, но коммандант, как заметили все, не ответил на рукопожатие. — Значит, вы по-прежнему тут, минхеер Перейра? — спросил он холодно. — Соблаговолите объяснить, что это за ерунда насчет оружия? — Король повелел передать… — начал Перейра. — Повелел? — перебил Ретиф. — Минхеер Перейра, вы подались в слуги к этому чернокожему? Любопытно. Продолжайте, прошу вас. — Он повелел, чтобы никто не вступал в его личные владения вооруженным. — Что ж, минхеер, будьте столь добры, растолкуйте королю, что мы не намерены входить в его личные владения. Я привел скот, который он просил меня вернуть, и готов передать животных, когда ему будет угодно, однако разоружаться мы не станем ни при каких условиях. Зулусы принялись совещаться, отправили гонцов, и те некоторое время спустя возвратились и сообщили, что Дингаан примет гостей на просторной площадке для плясок посреди поселения и что бурам разрешено иметь при себе оружие, ибо король желает посмотреть, как белые стреляют. Мы въехали внутрь, стараясь произвести наилучшее впечатление, и обнаружили, что площадка для плясок, занимавшая, должно быть, с десяток акров, окружена плотным строем зулусских воинов, разбитых на полки; дикари нацепили перья, но ассегаев в руках не держали. — Сами видите, — заметил Перейра, обращаясь к Ретифу, — у них нет копий. — Вижу, — согласился коммандант, — зато у них есть дубинки, а при численном перевесе в сотню к одному это может пригодиться. Между тем громадное стадо загоняли двумя потоками в ворота, расположенные позади полка, что стоял на почетном месте — так сказать, у трибуны. Когда вереница животных наконец иссякла, мы приблизились к зулусам, и среди них я разглядел дородную фигуру Дингаана в накидке из бус. Мы выстроились полукругом перед королем, а он принялся внимательно нас оглядывать. Вот он увидел меня и что-то сказал своему советнику; тот подошел к нам. Оказалось, король хочет, чтобы я переводил для него. Так и получилось, что я предстал перед Дингааном в компании Томаса Холстеда, Ретифа и бурских вожаков. — Сакубона[230], Макумазан, — поздоровался король. — Рад, что ты пришел, ибо я знаю, что ты будешь переводить мои слова правильно. Ведь ты из сыновей Джорджа, которых я люблю, а Тоомазу у меня веры нет, пускай он тоже сын Джорджа. Я перевел сказанное Ретифу. — Ого! — воскликнул тот со смешком. — Похоже, вы, англичане, вечно опережаете буров, даже здесь. Потом коммандант выступил вперед и обменялся рукопожатием с королем, с которым, напомню, они уже встречались. Началась индаба, то есть беседа, которую я вовсе не собираюсь пересказывать подробно, поскольку она не имеет отношения к моему повествованию. Достаточно будет упомянуть, что Дингаан поблагодарил Ретифа за возвращение скота, и спросил, где прячется похититель Сиконьела, которого он хочет убить. Узнав, что Сиконьела по-прежнему правит своими владениями, он рассердился (или притворился, что сердится). Далее король поинтересовался, где те шесть десятков лошадей, которых мы, по слухам, тоже забрали у Сиконьелы, и прибавил, что эти лошади должны быть доставлены ему, Дингаану. Ретиф взъерошил свои седеющие волосы и кротко справился, почему король считает его ребенком; дескать, иначе Дингаан не стал бы требовать то, что ему не принадлежит и никогда не принадлежало. Это лошади буров, и они возвращены владельцам. Дингаан дал понять, что удовлетворен ответом, и Ретиф напомнил королю о договоре, который мы приехали заключать. Дингаан сказал на это, что белые, как всегда, слишком торопятся — не успели приехать, а уже говорят о делах. Нет, он хочет устроить праздник и посмотреть, как пляшут его гости, а дела подождут до утра. В общем, бурам пришлось «сплясать» для развлечения короля. Они разделились на две группы верховых и атаковали друг друга на полном скаку, паля из ружей в воздух. Насколько я мог судить, это представление внушило туземцам восхищение, смешанное со страхом. Когда «противники» разъехались, король пожелал увидеть «стрельбу сотней выстрелов подряд», но Ретиф отказался, объяснив, что у них нет лишнего пороха. — Зачем вам порох в мирной земле? — спросил Дингаан с подозрением. Ретиф ответил, а я перевел: — Чтобы добывать пропитание и чтобы защищаться, если на нас вздумается напасть злоумышленникам. — Тут он вам не понадобится, — заявил Дингаан. — Еду вы получите от меня, а раз я, король, ваш друг, никто в Зулуленде не посмеет на вас нападать. Ретиф сказал, что рад это слышать, и попросил разрешения вернуться с остальными бурами на стоянку, поскольку все устали от долгой езды верхом. Король выразил согласие, мы попрощались и уехали. Но прежде чем я очутился за воротами, меня перехватил очередной гонец, мой старый знакомец Камбула; он сообщил, что король желает поговорить со мной наедине. Я ответил, что не вправе соглашаться на приглашение без одобрения комманданта. Тогда Камбула произнес: — Идем со мной, Макумазан, молю тебя, не то придется увести тебя силой. Я немедля отправил Ханса доложить обо всем Ретифу, а Камбула махнул рукой, и зулусские воины сомкнули кольцо вокруг меня. Готтентот поспешил ускакать и вскоре возвратился с Ретифом и еще одним буром. Коммандант сурово поинтересовался, что, собственно, происходит. Я объяснил и перевел слова Камбулы, которые тот повторил для буров. — Этот дикарь намекает, что вас схватят, если вы откажетесь идти или я вам не разрешу? На вопрос Ретифа Камбула ответил так: — Да, инкози, потому что слова короля предназначены только для уха Макумазана. Мы должны подчиниться приказу и привести его к королю, живого или мертвого. — Allemachte! — воскликнул Ретиф. — Вот незадача! Словно размышляя, не позвать ли на помощь, он покосился на основную группу буров, которые к тому времени почти все уже миновали ворота. У ворот же скопилось множество зулусов. — Аллан, если вы не опасаетесь подвоха, — сказал коммандант, — думаю, вам следует пойти. Возможно, Дингаан просто хочет передать через вас какое-то дополнительное условие к договору. — Нет, я не боюсь, — ответил я. — Какой смысл бояться, в таком-то месте?! — Спросите этого кафра, дарует ли вам король свою защиту? Я перевел, и Камбула откликнулся: — Сейчас — да. А потом — не знаю, не мне судить о том, что у короля на уме. Он имел в виду, что позднее Дингаану может взбрести в голову что угодно. — Двусмысленный ответ, — признал Ретиф. — Но поезжайте, Аллан, раз уж деваться некуда, и да хранит вас Господь. Ясно, что Дингаан не просто так настаивал на том, чтобы я прихватил вас с собой. Пожалуй, и вправду надо было оставить вас дома, с вашей милой женушкой. На этом мы расстались. В «апартаменты» короля я отправился пешим и без своего ружья, ибо мне не позволили предстать перед зулусским правителем вооруженным. Коммандант же поехал к воротам крааля вместе с Хансом, который вел в поводу мою лошадь. Десять минут спустя меня подвели к Дингаану, который заговорил со мной довольно дружелюбно, а после забросал меня вопросами относительно буров. В особенности его интересовало, не те ли это люди, которые восстали против своего короля и бежали от него. Я ответил утвердительно — мол, да, они бежали, так как хотели получить больше свободы, — и прибавил, что уже объяснял это при нашей предыдущей встрече. Король сказал, что помнит, но ему захотелось проверить, «слетят ли снова те же слова с тех же уст» — таким образом он пытался убедиться, можно мне верить или нет. Немного помолчав, он пристально поглядел на меня, будто норовя проткнуть взглядом, и спросил: — Ты привез мне в дар ту высокую белую девушку с глазами как звезды, Макумазан? Ту, которую ты отказался мне подарить и которую я не смог забрать, потому что ты победил и мне пришлось отпустить всех белых, что были с тобой? Да, я отпустил всех этих буров, изменивших своему королю… — Нет, о Дингаан, — сказал я, — среди нас нынче нет женщин. К тому же та девушка теперь моя жена. — Твоя жена?! — гневно вскричал король. — Клянусь головой Великого Черного, ты посмел жениться на той, кого я желал?! Скажи мне, мальчишка; ты, хитроумный Бодрствующий в ночи; ты, крошечный белый муравей, что таится во мраке и выглядывает из него, только когда дело сделано; ты, колдун, чье искусство способно вырвать добычу из рук величайшего правителя, — мне ведомо, Макумазан, что лишь колдовством ты поразил стервятников на холме Хлома-Амабуту! — скажи мне, почему я не должен убить тебя прямо здесь за такую выходку? Я сложил руки на груди и молча уставился на него. Думаю, со стороны мы являли собой диковинное зрелище — могучий чернокожий тиран, исполненный королевского величия (отдам ему должное, он и вправду выглядел по-королевски), по кивку которого сотни воинов шли на смерть, и простой, скромный, ничем не примечательный английский паренек. — О Дингаан, — сказал я наконец, понимая, что моя единственная возможность спастись заключена в хладнокровии, — я отвечу тебе словами комманданта Ретифа, нашего великого вождя. Ты что, принимаешь меня за ребенка, коли требуешь отдать мою жену тебе, человеку, у которого и так множество жен? А убить ты меня не можешь, ведь твой военачальник Камбула обещал мне безопасность в твоем присутствии. Мой ответ, похоже, развеселил короля. Так или иначе его настроение мгновенно изменилось, как это вообще свойственно дикарям — они в этом отношении сущие дети. Дингаан перестал гневаться и расхохотался. — Ты ловок, как ящерица! — сказал он. — Зачем мне, имеющему столько жен, еще одна, которая наверняка меня возненавидит? Да потому, что она белая и заставит других завидовать и ревновать, ведь они все черные. Да, мои жены решили бы отравить ее или защипать до смерти во сне, а потом пришли бы ко мне и сказали, что она умерла от тоски и недовольства. Не стану отрицать, ты прав, тебе ничто не грозит, и отсюда ты уйдешь в полной сохранности. Но запомни, маленькая ящерица: ты ускользнул от меня между камнями, однако я могу схватить тебя за хвост. Я говорил тебе, что намерен сорвать твой чудесный белый цветок, и я его сорву. Мне ведомо, где она живет. Ведомо, в каком фургоне она спит. Мои лазутчики обо всем меня известили, и я прикажу убить всех в вашем лагере, а ее пощадить и привести ко мне живой. Смотри, Макумазан, быть может, ты встретишься со своей женой в моем краале. Эти зловещие слова могли означать что угодно, могли оказаться пустой угрозой или же смертным приговором. Меня прошиб холодный пот, по спине пробежала дрожь. — Все возможно, о король, — ответил я, стараясь не выдать своих чувств. — В этом мире случается всякое, и ты, наверное, помнишь, как оно вышло, когда я стрелял в священных стервятников на Хлома-Амабуту. Но сдается мне, что моя жена никогда не будет твоей, о король. — Ба! — хмыкнул Дингаан. — Этот белый муравей роет себе новый ход, надеется вылезти у меня за спиной! А что, если я опущу ногу и раздавлю тебя, ты, муравьишка? Скажу тебе по секрету, — прибавил он многозначительно, — тот бур, который чинит мне ружья и которого мы зовем Двоеглазым, потому что он одним глазом косит на вас, белых, а другим глядит на нас, черных, по-прежнему просит, чтобы я прикончил тебя. Когда я поведал ему, что мои лазутчики углядели тебя среди буров и что ты прислушался к моей просьбе, Двоеглазый сказал: если я не пообещаю отдать тебя стервятникам, он предупредит буров, и те не поедут сюда. Мне буры были нужны, так что я дал ему слово. — Вот как, о король? Молю тебя, открой мне, почему этот Двоеглазый, которого мы называем Перейрой, так хочет меня убить? — Ха! — вскричал гнусный старый негодяй. — Неужто ты не догадался, с твоим-то умом, Макумазан? Быть может, это ему нужна высокая белая женщина, а вовсе не мне? И если он сослужит мне службу, я отдам твою жену ему в награду? Быть может, — тут он расхохотался громче прежнего, — я обману его и сохраню ее при себе, а ему заплачу по-другому, ибо посмеет ли обманщик ворчать, если его самого обманут? Я заявил, что мне чужд обман, а честному человеку трудно судить, будет обманщик ворчать или не будет. — Верно, Макумазан, — отозвался Дингаан вполне добродушно. — В этом мы с тобой схожи. Мы оба честные люди, правда, и потому стали друзьями, а с этими амабуна я никогда не подружусь, потому что они, как я слышал от тебя и от других, предали своего короля. Мы преследуем дичь при свете дня, как подобает мужчинам; кто побеждает, тот побеждает, а кто проигрывает, тот проигрывает. Слушай меня, Макумазан, и запомни мои слова. Что бы ни случилось с прочими, что бы ты ни увидел, сам ты в безопасности, покуда я жив. Так говорит Дингаан. Получу я белую женщину или не получу, тебе ничто не грозит, клянусь своей головой. — И он прикоснулся к золотому обручу на своих волосах. — А почему я буду в безопасности, если другим что-то грозит, о король? — спросил я. — Если ты такой настырный, отыщи старого колдуна по имени Зикали. Он жил в этих краях еще при моем отце Сензангаконе и даже ранее. Да, найди его, если сможешь, и спроси. Вдобавок скажу: ты мне нравишься, ты не похож на этих плосколицых глупцов амабуна, твой разум скользит между опасностями, точно змея в тростнике. Жаль убивать того, кто способен поражать птиц высоко в небе, в этом никто не сравнится с тобой. Повторю, что бы ты ни увидел и что бы ни услышал, помни: тебе ничто не грозит, ты можешь преспокойно уехать или остаться, и я сделаю тебя своим голосом в разговорах с сынами Джорджа. А теперь ступай к комманданту и скажи ему, что наши сердца бьются как одно и что я очень рад видеть его здесь. Завтра — или, быть может, днем позже — я покажу ему, как умеют плясать мои люди, а потом мы заключим соглашение, и я отдам ему земли, которые он просит, и все прочее, чего он захочет, — даже больше, чем он сможет захотеть. Ступай с миром, Макумазан. На удивление прытко поднявшись со своего трона, который был вырезан из цельного куска древесины, король исчез в узком проходе. Он был проделан за троном в тростниковой ограде и, должно быть, вел в королевские покои. У ворот тростникового лабиринта изиклоло меня дожидался Камбула, чтобы проводить к стоянке буров. По дороге мы с ним встретили Томаса Холстеда, бродившего с таким видом, будто ему не терпелось переговорить со мной. Я спросил его, что называется, в лоб, каковы намерения короля в отношении буров. — Не знаю, — признался он, пожимая плечами. — Но он ведет себя с ними столь ласково, что я бы заподозрил неладное. Вы тоже ему нравитесь, я слышал, как он приказывал известить все свои полки: мол, кто до вас дотронется, того казнят на месте. Зулусские воины видели, как вы въезжали в крааль, и теперь они не перепутают вас с другими белыми. — Звучит неплохо — для меня, во всяком случае, — сказал я. — Но с какой стати мне может потребоваться особая защита? Или кто-то злоумышляет против меня? — Вот что я вам скажу, Аллан Квотермейн. Индуны просили передать, что тот смазливый португалец, кого они зовут Двоеглазым, при каждой встрече молит короля убить вас. Я сам слышал. — Какая доброта! — хмыкнул я. — Что ж, мы с Эрнанду Перейрой никогда не ладили. Расскажите-ка, о чем они беседуют с королем, когда отвлекаются от моей персоны. — Не знаю, — повторил Холстед и развел руками. — Но, уверен, они что-то замышляют. Сами понимаете, прозвище Перейре дикари дали неспроста. По-моему, — прибавил он шепотом, — этот португалец причастен к тому, что буров пригласили сюда на переговоры об уступке земли. Однажды, когда я в очередной раз переводил для Дингаана, король разгневался и поклялся, что отдаст им ровно столько земли, чтобы хватило на могилы, а Перейра сказал, что договор — пустышка и «написанное пером всегда можно перечеркнуть копьем». — Вот как? И что король ему ответил? — Он посмеялся и сказал, что так и есть, и, пожалуй, он отдаст бурам все, о чем те просят, и еще прибавит сверху, от своих щедрот. Не вздумайте пересказывать мои слова, Квотермейн! Если вы проболтаетесь и Дингаан об этом узнает, меня тут же прикончат. Вы хороший человек, я неплохо заработал на вас, когда вы стреляли по стервятникам, а потому, если позволите, дам вам совет — и умоляю к нему прислушаться. Уезжайте отсюда как можно скорее и отправляйтесь охранять красавицу Мари Марэ, которую вы так любите. Дингаан ее хочет, а чего хочет Дингаан, то сбывается — так заведено в этой части света. Не дожидаясь моей благодарности, Холстед смешался с толпой зулусов, что следовали за нами из любопытства. Мне оставалось лишь гадать, прав был Дингаан или нет, называя этого молодого человека лжецом. Его история отлично дополняла все то, что я услышал от короля, и потому я был склонен верить Холстеду. Миновав главные ворота, за которыми Камбула, исполнивший королевское поручение, отсалютовал мне и удалился, я увидел двоих белых, оживленно беседующих под молочными деревьями. Это были Анри Марэ и его племянник. Заметив меня, Марэ поспешил уйти, а вот Перейра приблизился и заговорил со мной. С радостью отмечу, что он не подал мне руки — вероятно, усвоил урок, преподанный Ретифом. — Добрый день, Аллан, — сказал он дружелюбно. — Только что узнал от дядюшки, что мне следует поздравить вас… Ну, насчет Мари… Поздравляю, честное слово, поздравляю. Когда я услышал эти слова и припомнил все то, о чем недавно говорили мне другие, кровь вскипела в моих жилах, но я велел себе угомониться и ответил коротко: — Благодарю. — Мы оба стремились получить этот приз, — продолжал он, — однако Господу было угодно, чтобы приз достался вам. Я не держу зла. — Рад слышать, — произнес я. — Мне казалось, вы должны разозлиться. Извините, что меняю тему, но очень хочется узнать, долго ли, по-вашему, Дингаан нас тут продержит? — О, два или три дня, не более! Видите ли, Аллан, мне удалось убедить его заключить этот договор без особых хлопот. Когда пройдет церемония, вы сможете уехать. — Комманданту будет приятно об этом узнать, — сказал я. — А вы чем займетесь? — Не знаю, Аллан. В отличие от вас, счастливчик, меня не ждет дома жена. Наверное, задержусь здесь на некоторое время. Я нашел способ немало заработать на этих зулусах. С учетом того, что я потерял все на пути к заливу Делагоа, деньги мне пригодятся. — Как и всем нам, — согласился я. — Особенно тем, кто начинает новую жизнь. Если у вас получится рассчитаться с долгами, я буду этому искренне рад. — О, не сомневайтесь! — вскричал он, и его смуглое лицо внезапно осветилось. — Я верну вам все, что должен, и с хорошими процентами! — Король предупреждал меня, что таковы ваши намерения, — подтвердил я, глядя ему в глаза, и пошел дальше. Перейра наверняка смотрел мне вслед, и, похоже, мой выпад на время лишил его дара речи. Посольство размещалось в маленьком сторожевом «предместье» поблизости от краалей. Я направился прямиком к Ретифу. Коммандант сидел на кафрском табурете и в муках сочинял какое-то письмо. Вместо стола у него была доска, положенная на колени. Он поднял голову, заметил меня и справился, как прошла встреча с Дингааном. По-моему, мое появление Ретиф воспринял с облегчением, поскольку нашелся повод оторваться от составления письма. — Вот такие дела, коммандант, — произнес я, понизив голос, чтобы нас не подслушали, и пересказал ему все свои недавние разговоры — с Дингааном, с Томасом Холстедом и с Перейрой. Ретиф молча выслушал меня, а затем сказал: — Все это очень странно и тревожно, Аллан. Если обвинения правдивы, значит Перейра еще больший мерзавец, чем я думал. Но я не могу поверить в такую подлость без доказательств. Думаю, Дингаан вам врал, преследуя какие-то свои цели. Это я по поводу стремления вас убить, если вы не поняли. — Может быть, коммандант, не знаю. Честно говоря, мне плевать. Но я уверен, что он не врал насчет похищения моей жены — для себя или для Перейры. — И как вы намерены поступить? — С вашего разрешения, коммандант, я отправлю своего готтентота Ханса в лагерь с письмом для Мари. Напишу ей, чтобы она тихонько перебралась на ферму — ту, что на реке, помните, я вам говорил? — и спряталась там до моего возвращения. — Думаю, вы зря волнуетесь, Аллан. Однако, если вам так будет легче, даю свое разрешение. Вас-то все равно мы отпустить не можем. Но не стоит посылать готтентота, он только всех переполошит. В лагерь едет гонец с вестями о нашем благополучном прибытии и о гостеприимстве Дингаана, он передаст и ваше письмо. А вы, прошу, напишите жене, чтобы она сама, Принслоо и Мейеры перебирались на вашу ферму, причем без лишней болтовни — мол, просто решили сменить обстановку. Письмо должно быть у меня к рассвету. Надеюсь, к тому времени я покончу и со своим, — прибавил он со стоном. — Конечно, коммандант. А что насчет Эрнанду Перейры и его выходок? — Ох уж этот треклятый Перейра! — с чувством воскликнул Ретиф и ударил кулаком по доске на коленях. — Вот, слушайте:При первой же возможности я сниму показания с Дингаана и с этого паренька-англичанина, Холстеда. Если они расскажут мне то же самое, о чем я написал выше, то я предам Перейру суду, как и обещал ранее; в случае признания его виновным, клянусь кровью Христовой, я велю его расстрелять! Если мы не хотим скандалов и страхов в лагере, в настоящий момент остается лишь одно: не спускать с Перейры глаз. Да и вина его, нужно признать, пока не доказана.Затем Ретиф велел мне идти и писать письмо жене, а сам опять склонился над доской. Я послушался, написал Мари, поведал — без подробностей — о последних событиях и попросил жену немедленно отправиться на ту самую ферму, что я приобрел в тридцати милях от лагеря, под предлогом необходимости проверить, как идет строительство домов. Я выразил надежду, что к Мари присоединятся Принслоо и Мейеры, в чем лично у меня не было ни малейших сомнений. Но если вдруг они откажутся, пусть уезжает одна — со слугами-готтентотами или с любыми спутниками, каких случится найти. Потом я отнес письмо Ретифу и прочитал вслух. По моей просьбе коммандант сделал внизу приписку:
Видел сие собственными глазами и одобряю изложенный совет, каковой представляется разумным с учетом всех обстоятельств. Сделайте так, как просит ваш муж, но не говорите никому в лагере, за исключением тех, кого он упоминает в своем письме.Гонец отправился на рассвете, как и предполагалось, и доставил мое послание Мари. Наступило воскресенье. Утром я пошел навестить преподобного мистера Оуэна, английского миссионера, который весьма обрадовался моему появлению. Он сообщил, что Дингаан, похоже, к нам расположен и спрашивал у него, сможет ли он составить текст договора по уступке земель, о которых мечтают буры. Я остался у священника на воскресную службу, а потом вернулся на стоянку. В полдень же Дингаан позвал нас на грандиозную воинскую пляску, в которой приняли участие около дюжины тысяч воинов-зулусов. Это было поистине величественное и внушавшее трепет зрелище. Помню, что каждый зулусский полк выставил некоторое число обученных волов, которые двигались вместе с воинами, повинуясь, очевидно, отдаваемым командам. В тот день мы видели Дингаана лишь издалека, а после пляски возвратились к себе, чтобы отобедать говядиной (по приказу короля мясом нас снабжали в изобилии). На третий день — это был понедельник, 5 февраля — начались новые пляски и потешные бои и продолжались столь долго, что мы, белые, начали ощущать утомление от этих дикарских развлечений. Ближе к вечеру Дингаан пригласил к себе комманданта и других буров, заранее дав понять, что хочет обсудитьусловия договора. Мы отправились к королю все вместе, но лишь троих или четверых из нас, включая меня, допустили к Дингаану; остальным пришлось дожидаться на расстоянии — они могли нас видеть, но не слышали, о чем идет речь. Дингаан показал нам документ, составленный преподобным мистером Оуэном. Этот документ, существующий, полагаю, и поныне, поскольку его отыскали впоследствии, изобиловал словами, какие обожают законники. Начинался же он, будто прокламация, с обращения: «Да будет ведомо всем!» По договору зулусы уступали «местность под названием Порт-Наталь вместе с прилегающими землями — то есть от Тугелы до реки Мзимвубу на западе и от моря до северных рубежей» — во владение бурам, которым эти земли передавались «в бессрочное распоряжение». По просьбе короля и поскольку текст мистера Оуэна был написан по-английски, я перевел содержание документа, а позднее то же самое сделал молодой Холстед. Его позвали, чтобы удостовериться, что я ничего не напутал, и этот факт произвел на буров благоприятное впечатление. Они оценили желание короля точно знать, какое именно соглашение он собирается одобрить; отсюда следовало, что он не замышляет ничего дурного и не намеревается обмануть их впоследствии. С того самого мгновения Ретиф и его люди перестали сомневаться в доброй воле Дингаана — и совершили глупость, отбросив всякие мысли о возможном предательстве. Когда с переводом было покончено, коммандант спросил короля, готов ли тот подписать договор здесь и сейчас. Король ответил, что подпишет документ на следующее утро, перед тем как посольство отправится обратно в Наталь. Именно тогда Ретиф поинтересовался у Дингаана, при посредстве Томаса Холстеда, правда ли, что бур по имени Перейра, который живет в королевском краале и которого зулусы называют Двоеглазым, просил короля убить Аллана Квотермейна по прозвищу Макумазан. Дингаан засмеялся и ответил так: — Да, это правда, ибо он ненавидит твоего Макумазана. Но пусть этот маленький сын Джорджа ничего не боится, ведь мое сердце открыто ему, и я поклялся головой Великого Черного, что в Зулуленде ему не причинят вреда. Вы с ним оба мои гости! Далее король предложил, если того пожелает коммандант, схватить Двоеглазого и казнить, поскольку он осмелился покушаться на мою жизнь. Ретиф поблагодарил, но сказал, что попробует разобраться в этом деле сам; когда же и Томас Холстед подтвердил слова короля относительно намерений Перейры, Ретиф поднялся и попрощался с Дингааном. По дороге на временную стоянку, находившуюся за пределами краалей, Ретиф ни словом не обмолвился об Эрнанду Перейре, однако в каждом движении, да что там, в каждом слове комманданта прорывался гнев. Едва очутившись среди своих, он распорядился привести Перейру и Анри Марэ, а также нескольких буров из числа старших. Помню, среди последних были Геррит Ботма-старший, Хендрик Лабушань и Матис Преториус-старший, все люди достойные и пользовавшиеся почетом и уважением. Мне тоже велели присутствовать. Когда Перейра явился, Ретиф прилюдно обвинил его в злоумышлениях против меня и спросил, что он может сказать в свое оправдание. Разумеется, тот все отрицал и даже посмел обвинить меня — дескать, я затаил на него злобу еще с тех пор, когда мы оба ухаживали за девушкой, на которой я впоследствии женился. — Что ж, минхеер Перейра, — сказал Ретиф. — Поскольку означенный Аллан Квотермейн ныне стал мужем той молодой женщины, следовало бы ожидать, что недоразумение между вами сойдет на нет. С его стороны вражда должна была утихнуть, хотя с вашей — вполне могла и окрепнуть. Мне совершенно некогда разбираться в распрях подобного рода. Но смею вас уверить, что это дело будет подробно рассмотрено по возвращении в Наталь, а до тех пор я поручу приглядывать за вами. Также предупреждаю вас, что располагаю доказательствами ваших преступных умыслов. Будьте столь добры, ступайте прочь и постарайтесь как можно реже попадаться мне на глаза. Я терпеть не могу людей, которых даже кафры называют двуличными. Что касается вас, друг мой Анри Марэ, я бы не советовал вам водить компанию с человеком, чье имя запятнано подозрениями, будь он хоть трижды ваш племянник и несмотря на то что все знают, сколь слепо вы его любите. Как мне помнится, никто из тех двоих не пытался ответить на эту речь. Они просто повернулись и ушли. А на следующее утро, утро рокового дня 6 февраля, я случайно столкнулся с коммандантом Ретифом, который объезжал лагерь, проверяя, все ли готово к отправлению в Наталь. Завидев меня, он натянул поводья и сказал: — Аллан, Эрнан Перейра сбежал, и Анри Марэ вместе с ним. Сам я не слишком расстроен, скажу честно, ибо мы непременно встретимся снова, не на этом свете, так на том, и узнаем правду. Но прочтите вот это, а потом верните мне. Он передал мне сложенный вдвое лист бумаги и поехал дальше. Я развернул лист и прочитал:Пьет Ретиф
Комманданту Ретифу, предводителю переселенцевНиже стояли подписи Перейры и Анри Марэ. Я сунул листок в карман куртки, гадая, что на самом деле скрывается за этим посланием и что это за вымышленная измена, которую мне приписывают. На мой взгляд, Перейра сбежал потому, что испугался — то ли того, что его и впрямь отдадут под суд, то ли какого-то злодейского умысла, в коем он, разумеется, был замешан. Марэ, вероятно, примкнул к Перейре по тем же причинам — так железо тянется к магниту, а отец моей жены никогда не мог сопротивляться обаянию злодея Перейры, своего кровного родственника. Или же он услышал от него выдумку про опасность, якобы грозящую его дочери, и на самом деле обеспокоился. А вдруг опасность вовсе не мнимая? Я ведь и сам советовался с Ретифом на сей счет… При всех его несомненных недостатках, Анри Марэ искренне и горячо любил свою дочь, так что пусть читатель не забывает об этом, возмущенный его дурными поступками. Она была для него светом в окошке, средоточием жизни, и он горько страдал от того, что ко мне она привязалась сильнее, чем была привязана к нему. Вот почему, к слову, он ненавидел меня столь же страстно, как любил ее. Едва я закончил читать, поступил приказ собраться вместе и идти прощаться с Дингааном; оружие следовало сложить под молочными деревьями у ворот. Большинство слуг сопровождало буров; наверное, Ретиф хотел произвести впечатление на зулусов многочисленностью нашего отряда. Но нескольким готтентотам приказали остаться, привести лошадей, что паслись стреноженными неподалеку, и оседлать. Среди этих немногих был и Ханс, которого я удосужился отыскать и пристроить к делу, чтобы быть уверенным, что мои лошади не потеряются и будут готовы к отъезду. Когда мы двинулись к краалям, мне встретился юный Уильям Вуд, живший в семье проповедника Оуэна. Мальчик бродил у ворот, и вид у него был чрезвычайно встревоженный. — Как дела, Уильям? — спросил я. — Не очень хорошо, мистер Квотермейн, — признался он, огляделся по сторонам и выпалил: — Если честно, мне за вас боязно. Кафры говорят, что с вами должно что-то случиться. Я подумал, что вы должны об этом узнать. Больше ничего не скажу, извините. Он поспешил уйти, а я стал высматривать Ретифа, который разъезжал по лагерю, отдавая распоряжения. Я дернул его за рукав и сказал: — Коммандант, послушайте… — Что такое, племянник? — откликнулся он, явно думая о чем-то своем. Я передал ему слова Вуда и прибавил, что мне тоже неймется, сам не знаю почему. — Да бросьте! — отмахнулся он нетерпеливо. — Все это сплошной град и шелуха![231] Зачем вы постоянно пугаете меня своими фантазиями, Аллан Квотермейн? Дингаан — наш друг, не враг. Примем то, что даровано нам Провидением, и будем признательны. Пошли, нам пора! Эти слова прозвучали около восьми утра. Мы миновали главные ворота. Большинство буров, оставив свое оружие под молочными деревьями, шагали группами по трое-четверо, смеясь и переговариваясь на ходу. С тех пор я нередко размышлял о том, что всем этим людям, исключая меня, было суждено в ближайший час дойти до последнего, страшного предела и кануть в вечность. Удивительно, но никто не предчувствовал надвигающуюся катастрофу, и тень ее не омрачила ничье сердце. Напротив, буры были веселы, бодры, весьма довольны успешным завершением переговоров и предвкушали скорое возвращение к женам и детям. Развеселился даже Ретиф, и я услышал, как он вслух посмеивается над моими страхами и шутливо обсуждает с другими мою «неделю белого хлеба», то есть медовый месяц. По пути я заметил, что бо́льшая часть зулусских полков, принимавших участие в воинской пляске накануне, покинула краали. Остались всего два — ишлангу инхлопе, то есть белые щиты, закаленные воины с обручами на головах, и ишлангу умнияма, сиречь черные щиты, молодые воины без обручей. Белые щиты выстроились вдоль ограды по левую руку от нас, а черные щиты стояли справа, и каждый полк насчитывал около полутора тысяч воинов. Все они были без оружия, не считая дубинок и палок, с которыми у туземцев принято плясать. Мы дошли до края площадки для плясок. Там восседал на своем троне Дингаан, а рядом притулились на корточках двое старейшин-индун, Умхлела и Тамбуза. За спиной короля, у входа в лабиринт, откуда обычно появлялся и куда удалялся его величество, расположились другие индуны и военачальники. Встав перед Дингааном, мы приветствовали короля, и он ответил нам добрыми словами и улыбкой. Затем Ретиф с двумя или тремя другими бурами, а также мы с Томасом Холстедом шагнули вперед. Документ с текстом соглашения был предъявлен вновь, и все убедились, что это тот же документ, который мы видели накануне. Внизу листа кто-то — не помню, кто именно, — начертал по-голландски: «De merk van Koning Dingaan», то есть «Знак короля Дингаана». В намеренно оставленном промежутке между словами «merk» и «van» Дингаан поставил крестик услужливо протянутым пером. Томас Холстед поддерживал короля под руку и подсказывал ему, что и как делать. Затем трое индун, главные советники, носившие имена Нвара, Уливана и Манондо, выступили свидетелями со стороны зулусов, а господа Остхёйзен, Грейлинг и Либенберг, стоявшие рядом с Ретифом, поставили свои подписи как свидетели от буров. Когда это было сделано, Дингаан поручил одному из своих глашатаев-изибонго объявить во всеуслышание остававшимся в краалях полкам и прочим зулусам, что он даровал Наталь бурам в бессрочное владение. Зулусы встретили это сообщение громкими криками. Далее Дингаан предложил Ретифу разделить с ним трапезу, и слуги принесли огромные подносы с вареным мясом. Буры, впрочем, от угощения отказались, мол, они уже успели позавтракать. Тогда король объявил, что сделку нужно хотя бы обмыть, и слуги стали разносить кувшины с твалой, кафрским пивом. Тут уж буры не стали отказываться. Пока все прикладывались к кувшинам, Дингаан вручил Ретифу обращение к голландским фермерам. Суть обращения была проста: приезжайте и селитесь в Натале, отныне это ваша земля. А еще этот злодей с черным, как ночь, сердцем пожелал бурам благополучного возвращения домой. Затем он приказал двум своим полкам плясать и петь воинские песни, чтобы повеселить гостей. Воины подчинились, и с каждым движением они подступали все ближе и ближе к нам. В этот миг какой-то зулус растолкал военачальников, стоявших у входа в лабиринт, и о чем-то доложил одному из индун, а тот, в свою очередь, передал донесение королю. — Вот как? — произнес король, и лицо его исказила гримаса. Он будто бы случайно посмотрел в мою сторону и сказал: — Макумазан, одна из моих жен серьезно захворала. Она говорит, что ей поможет снадобье белых людей, и просит принести его, покуда вы не уехали. Ты сам недавно женился, поэтому я доверяю тебе осмотреть мою жену. Молю, навести ее и узнай, какое лекарство ей нужно, ведь ты говоришь на нашем языке. Я помешкал, а потом перевел просьбу короля Ретифу. — Ступайте, племянник, — сказал коммандант, — но возвращайтесь поскорее, и мы сразу же уедем. Однако я все еще медлил, и это не понравилось королю, который не скрыл своего раздражения. — Что же?! — вскричал он. — Значит, вы, белые, отказываете мне в ничтожной просьбе, хотя я только что сделал вам щедрый подарок? Или ваши чудесные снадобья не исцеляют хворых? — Идите, Аллан, идите, — поторопил меня Ретиф, когда ему перевели слова короля. — Не то он рассердится и может все у нас отнять. Выбора не оставалось. Я кивнул и вошел в лабиринт. В следующее мгновение дикари набросились на меня. Прежде чем я успел издать хоть звук, мне заткнули рот тряпкой и крепко завязали ее концы на затылке. Я угодил в засаду, и с кляпом во рту товарищей мне было не предупредить.
Минхеер коммандант! Я не желаю оставаться там, где на меня возводят напраслину и где мне предъявляют обвинения чернокожие кафры и англичанин Аллан Квотермейн, который, как и весь его народ, является врагом буров и, хотя вам это неведомо, изменником, что замышляет против вас великое зло заодно с зулусами. Посему я покидаю вас, но готов ответить на все обвинения в любое время перед настоящим судом. Моя дядя Анри Марэ уезжает вместе со мной, поскольку считает, что его честь тоже пострадала. Кроме того, он узнал, что его дочери Мари угрожает опасность со стороны зулусов, а потому стремится ее защитить, в отличие от человека, именующего себя ее мужем. Аллан Квотермейн, англичанин и приятель Дингаана, объяснит вам, что я имею в виду. Он знает о планах зулусов намного больше моего, и вы скоро поймете, почему это так.
Глава 19
СТУПАЙТЕ С МИРОМ
Высокий кафр с ассегаем, один из личных телохранителей короля, подступил ко мне и прошептал: — Слушай меня, маленький сын Джорджа! Король велел пощадить тебя, потому что ты англичанин, а не бур. Но если ты пискнешь или хотя бы дернешься, ты умрешь. Он вскинул ассегай с таким видом, будто готов был вонзить острие мне в сердце. Теперь я все понял, и меня прошиб холодный пот. Моим товарищам-бурам предстояло умереть, всем до единого. О, я бы с радостью пожертвовал своей жизнью, чтобы их спасти. Но, увы, я не мог подать им знак голосом, поскольку тряпка плотно сидела во рту. Один из зулусов между тем раздвинул палкой тростник ограды. Он намеренно проделал эту щель на уровне моих глаз; думаю, им двигала врожденная жестокость, и теперь я должен был увидеть гибель своих спутников. Пляски продолжались еще минут десять, слуги по-прежнему разносили пиво. Затем Дингаан поднялся со своего трона и тепло попрощался с Ретифом, пожелав тому по-зулусски счастливого пути. Далее король направился ко входу в лабиринт, а буры махали шляпами и громко славили Дингаана. Тот был уже почти на пороге, и мне показалось, что я ошибся. Видно, я зря тревожился. Похоже, предательства никто не замышлял. У самой калитки Дингаан остановился, обернулся и произнес два слова на зулусском: — Схватить их! В тот же миг воины, плясавшие вплотную к бурам и явно ожидавшие этого приказа, кинулись на моих товарищей. Я услышал, как Томас Холстед кричит по-английски: — Мы обречены! — Потом он воскликнул на зулусском: — Дайте мне поговорить с королем! Дингаан тоже это услышал; он махнул рукой, показывая, что не желает говорить с переводчиком, и трижды гаркнул во весь голос: — Булала абатагати! Убить колдунов! Я видел, как бедняга Холстед выхватил нож и вонзил в стоявшего рядом зулуса. Воин повалился замертво, а Холстед напал на другого и перерезал тому горло. Буры тоже вытащили ножи (кто успел, разумеется) и попытались отбиться от чернокожих дьяволов, однако тех было слишком много. Позднее мне сказали, что буры убили шестерых или семерых зулусов и ранили около двух десятков. Но вскоре все было кончено, ибо разве способны люди, вооруженные лишь ножами, противостоять этакой ораве? Раздавались яростные вопли, громкие стоны, проклятия, мольбы о пощаде, гремел зулусский боевой клич, и под эту какофонию буров — всех до одного, в том числе двоих пареньков, совсем еще мальчишек, — и их слуг-готтентотов повалили наземь. Тела оттащили прочь; ноги мертвецов и тех, кто чудом оставался жив, волочились по земле — так черные муравьи волокут свою добычу, червей и насекомых. Дингаан тем временем подошел ко мне. Он улыбался, а его округлое лицо как-то странно подергивалось. — Идем, сын Джорджа! — сказал он. — Сейчас ты воочию увидишь конец этих изменников, предавших твоего короля. Меня отвели на возвышенность посреди лабиринта, откуда открывался вид на окружающую местность. Здесь пришлось подождать. Гвалт побоища постепенно стихал. Но вот показалась жуткая процессия: зулусы, обремененные страшной ношей, огибали ограду большого крааля и двигались прямиком к холму Хлома-Амабуту. Вот они поднялись к вершине, и там, среди кустов с темными листьями и камней, чернокожие воины забили буров до смерти, не пощадив никого. Я лишился сознания. Должно быть, я пребывал в беспамятстве довольно долго, но постепенно стал приходить в себя и услышал глухой голос, вещавший по-зулусски: — Хорошо, что этот маленький сын Джорджа остался жив. Ему суждены великие дела, он будет нам полезен. — Наступила тишина, а затем тот же голос, который определенно был мне незнаком, продолжил: — О род Сензангаконы! Ты наконец смешал молоко с кровью, с кровью белых! Эту чашу тебе надлежит выпить до дна, а затем ее нужно разбить вдребезги! Послышался смех, ужасный, отвратительный смех, который мне выпало услышать снова лишь много лет спустя. Потом говоривший ушел, шаркая, словно какая-то крупная рептилия. Сделав над собой усилие, я открыл глаза. Я находился в большой хижине, освещенной костром, что пылал посредине. Стояла ночь. У огня возилась с тыквенной бутылью зулуска, молодая и привлекательная. Я заговорил с ней, преодолевая головокружение. — О женщина, — сказал я, — кто был этот мужчина, что смеялся надо мной? — Он не совсем человек, Макумазан, — ответила зулуска, и ее голос звучал очень мелодично. — Это Зикали, Открыватель дорог, могучий колдун и советник королей. Он так стар, что его рождения не помнят даже наши деды. Его дыхание может вырывать из земли деревья с корнями. Дингаан боится его и повинуется ему. — Это колдун настоял на убийстве буров? — спросил я. — Может быть, — отозвалась она. — Кто я такая, чтобы знать наверняка? — Ты, должно быть, та женщина, которая захворала и которую меня просили исцелить? — догадался я. — Да, Макумазан. Я болела, но теперь поправилась. А вот ты хвораешь, так что теперь я буду о тебе заботиться. Выпей. — И она протянула мне бутыль с молоком. — Как тебя зовут? — продолжал допытываться я. — Найя, — назвалась она. — Мне поручили тебя стеречь. Не надейся сбежать от меня, Макумазан. Снаружи стоят другие стражи, и у них копья. Пей же! Я подчинился — и запоздало спохватился, что в питье могли подмешать яд. Однако жажда моя была столь велика, что я опустошил бутыль досуха. — Я тоже умру? — спросил я, откладывая бутыль в сторону. — Нет-нет, Макумазан, — ответила Найя. — Ты не умрешь. Ты просто уснешь и все забудешь. Мои глаза и вправду смежились, и я заснул; сколько проспал, сказать не могу. Когда я снова очнулся, был день, и солнце стояло высоко в небесах. То ли Найя подмешала в мое питье какое-то снадобье, то ли я настолько обессилел, что впал в забытье, — не знаю. Так или иначе, сон подействовал благотворно; в противном случае, думаю, я бы спятил от горя и гнева. После пробуждения еще некоторое время я изводил себя бесполезными упреками и был близок к отчаянию и безумию. Лежа на полу хижины, я спрашивал себя, как и почему Всемогущий допустил жестокое убийство, которому я был невольным свидетелем. Как это сочетается с образом любящего и милосердного Отца, какой нам внушают? Каковы бы ни были прегрешения несчастных буров — а грехов у них было не счесть, конечно же, как и у нас у всех, — они оставались во многом добрыми и честными людьми, жившими по своим правилам. Но все же их обрекли на страшную смерть, забили, как скот, по кивку чернокожего деспота; их жены овдовели, дети осиротели и, как выяснилось позднее, тоже погибли или остались бесприютной безотцовщиной. Тайна сия велика есть, как говорится. Во всяком случае, она надолго лишила душевного покоя того молодого человека, которому выпало воочию наблюдать описанную выше жуткую сцену. Сдается мне, что несколько дней мой рассудок пребывал на самом краю пропасти, едва удерживаясь от падения. Но в конце концов знания, полученные мной от отца, и врожденное здравомыслие пришли мне на выручку. Я припомнил, что подобные преступления, творимые с куда бо́льшим размахом, совершались многократно на протяжении истории человеческого рода, однако вопреки этому (а порой и вследствие злодейств) цивилизация шагала вперед, и милосердие и мир обменивались поцелуем над могилами жертв кровопролития. А потому, несмотря на мой юный возраст и житейскую неопытность, я пришел к выводу, что дикая резня являлась составной частью некоего обширного замысла Провидения и что было необходимо пожертвовать этими несчастными ради исполнения высшей воли. Разумеется, такой взгляд может показаться циничным и фаталистическим, однако нечто похожее мы видим в природе каждый день; и наверняка страдальцы обрели достойное воздаяние в лучшем мире. Иначе всякая вера, всякая религия — ложь и тлен. Либо же этакие злодейства совершаются не по воле милосердного Провидения, а вопреки оной. Быть может, дьявол из Священного Писания, над кем мы привыкли потешаться, воистину существует и творит зло среди людей. Быть может, время от времени некий злой принцип бытия вырывается на свободу, точно могучие силы, заключенные в вулкане, и принимается сеять разрушение и смерть, покуда его не обуздают и не одолеют. Кто знает? Словом, этот вопрос нужно задавать архиепископу Кентерберийскому и папе в Риме, а ежели они не сойдутся во мнениях, спросить тибетского ламу. Я всего лишь пытаюсь воспроизвести мысли, которые посещали меня в те давние дни, и облечь их в слова сообразно моему нынешнему опыту. Вполне вероятно, что тогда я думал иначе, ведь с тех пор сменилось целое поколение, да и рассудительность моя созрела, будто вино в бутыли. Помимо духовных материй, имелись насущные вопросы, каковые следовало уладить в моем неприглядном положении; прежде всего, надо было позаботиться о собственном выживании, хотя, признаюсь, тогда оно мало меня волновало. Если меня захотят прикончить, сопротивляться бесполезно. То, что я успел узнать о Дингаане, подсказывало, что он приказал убить Ретифа и других буров не из пустой прихоти. Эта расправа — лишь предвестие большого кровопролития; я нисколько не забыл, как Дингаан грозился поступить с Мари, и прочие его намеки тоже всплывали в памяти. В общем, я предположил, что кафры замышляют широкое наступление на буров и, судя по всему, намерены вырезать их до последнего человека. (Как оказалось, я был совершенно прав.) А я сижу в кафрской хижине, под присмотром молодой зулуски, и не имею возможности сбежать и предупредить товарищей! Хижина стояла на широком дворе, огороженном тростниковым плетнем пяти футов высотой. Выглядывая за ограду, будь то днем или ночью, я неизменно натыкался взглядом на часовых, замерших вдоль нее через каждые пятнадцать ярдов друг от друга. Они возвышались, словно статуи, сжимая копья в руках и не сводя глаз с плетня. Вдобавок по ночам число стражей удваивалось. Они явно караулили меня, чтобы не сбежал. Минула неделя — поверьте, она была для меня поистине невыносимой. Единственным человеком, с которым я мог перекинуться словечком, оставалась зулуска Найя. Можно сказать, мы с нею подружились и беседовали о многом. Но всякий раз, когда очередная беседа заканчивалась, я понимал, что не узнал ровным счетом ничего о том, что имело для меня первостепенную важность. Об истории зулусов и прочих племен и народов, о характере и подвигах великого вождя Чаки, о любых событиях прошлого она могла говорить часами. Однако едва я касался своего положения, она замолкала и ее словоохотливость испарялась, будто вода на раскаленном кирпиче. При этом Найя привязалась ко мне — если это не было притворством. В своей очаровательной наивности она даже предложила мне жениться на ней, прибавила, что Дингаан наверняка одобрит такой выбор — мол, он любит ее и полагает, что я могу принести пользу зулусам. Когда я ответил, что уже женат, Найя повела своими плечами, блестевшими на солнце, и, обнажив в усмешке ровные белые зубы, спросила: — Кому есть до этого дело? Разве мужчина непременно должен иметь всего одну жену? И потом, Макумазан… — Тут она подалась вперед и пристально поглядела на меня. — Откуда тебе знать, что ты по-прежнему женат? Может, тебя успели развести или сделать вдовцом, а? — О чем ты? — недоуменно пробормотал я. — Да так, ни о чем. Не смотри на меня столь свирепо, Макумазан. Всякое случается на свете, сам знаешь. — Найя, ты двуликое зло, — проговорил я. — Ты наживка и доносительница, и тебе это прекрасно известно. — Может быть, Макумазан, — откликнулась она. — Разве моя в том вина, если мне пригрозили смертью за ослушание? К тому же ты мне и вправду нравишься. — Не знаю, не знаю, — произнес я задумчиво. — Скажи-ка, когда меня выпустят? — Откуда мне знать, Макумазан? — Найя ласково погладила мою руку. — Думаю, что скоро. Когда ты уйдешь, Макумазан, прошу, вспоминай обо мне хоть иногда, ведь я старалась тебе помочь, хотя за нами подглядывали в каждую щель. Помню, я отделался общими фразами. А наутро за мной пришли. Я доедал завтрак на заднем дворе за хижиной, и вдруг из-за угла показалось миловидное личико Найи. Девушка сообщила, что прибыл посланец от короля. Бросив еду, я вернулся в хижину и нашел там своего давнего знакомца Камбулу. — Приветствую тебя, вождь, — сказал он. — Я пришел, чтобы отвести тебя обратно в Наталь. Прошу, не задавай никаких вопросов, я все равно на них не отвечу. Дингаану нездоровится, поэтому с ним ты не увидишься. К белому проповеднику тебя тоже не пустят. Идем со мной немедля! — А я и не хочу встречаться с Дингааном, — ответил я, глядя в глаза Камбуле. — Понимаю, — сказал он. — Дингаан думает одно, ты думаешь другое; быть может, именно поэтому он не желает видеть тебя. Но помни, вождь, что Дингаан спас тебе жизнь, велел вынести тебя из большого огня. Может, он решил, что ты сделан из той древесины, которую жалко сжигать, не знаю. Если ты готов, идем. — Готов, — согласился я. У ворот нам повстречалась Найя. — Ты забыл попрощаться со мной, белый, — укорила она, — хотя я столько ухаживала за тобой. Но чего еще от тебя ожидать? Прощай! Надеюсь, если мне однажды придется бежать отсюда, ты примешь меня и сделаешь для меня то же, что я сделала для тебя. — Сделаю, — коротко ответил я и взял ее за руку. Замечу, что спустя годы я сдержал свое обещание. Камбула повел меня не через краали Умгунгундлову, а в обход. Наш путь лежал мимо страшного холма Хлома-Амабуту. Над его вершиной до сих пор кишели стервятники. Более того, выпавший мне печальный жребий вынудил меня переступить через свежеобглоданные кости моих недавних товарищей, скатившиеся к подножию холма. По обрывкам одежды я опознал Самуэла Эстерхёйзена, весьма приятного человека, бок о бок с которым я спал во время нашей поездки в Зулуленд. Пустые глазницы черепа укоризненно таращились на меня, словно спрашивая, почему я жив, тогда как Самуэл и все прочие мертвы. Мысленно я задавал себе тот же вопрос. Почему из всего нашего отряда в живых оставили только меня? Ответ родился будто сам собою: чтобы я стал одним из орудий возмездия, которое обрушится на этого чернокожего дьявола Дингаана. Глядя на белые, разбросанные по земле кости и вспоминая своих недавних спутников, я поклялся всем сердцем, что, если уцелею, отплачу сполна. И сдержал клятву, но истории великого воздаяния не место на этих страницах. Отвернувшись от страшного зрелища, я увидел, что на склоне соседнего холма, где мы ночевали по дороге с побережья, по-прежнему стоят хижины и фургоны преподобного мистера Оуэна. Конечно, я сразу спросил у Камбулы, живы ли священник и его домочадцы. — Они живы, вождь, — ответил зулус. — Они все дети Джорджа, как и ты, а потому король их пощадил. Правда, он собирается прогнать их. Наконец-то хорошие новости. Я справился, жив ли Томас Холстед, ведь он тоже англичанин. — Нет, — признался Камбула. — Король хотел пощадить его, но он убил двоих наших, и его отволокли наверх вместе с бурами. Когда палачи принялись за работу, было уже слишком поздно. Я поинтересовался, нельзя ли мне присоединиться к мистеру Оуэну и уехать с ним. Камбула был краток: — Нет, Макумазан. Король повелел, чтобы ты ушел один. Что ж, пришлось подчиниться. Я больше не встречал ни мистера Оуэна, ни его домочадцев. Впрочем, до меня дошли слухи, что они благополучно достигли Дурбана и сели на корабль под названием «Комета». Вскоре показались два молочных дерева у главных ворот, где валялась бо́льшая часть нашего снаряжения. Ружья и прочее оружие пропали. Камбула спросил, узнаю ли я свое седло. — Вон оно, — сказал я, ткнув в седло пальцем, — но какой в нем прок, если нет лошади? — Мы сохранили для тебя твою лошадь, Макумазан, — объяснил зулус. Он велел одному из наших конвоиров взять седло и узду, а также несколько других выбранных мной предметов вроде пары одеял, фляжки, двух жестяных банок с кофе и сахаром, маленькой переносной аптечки и так далее. Приблизительно в миле от ворот я увидел свою лошадь, привязанную к столбу дозорной хижины. За конем явно ухаживали и не скупились на прокорм. С разрешения Камбулы я взнуздал и оседлал лошадь. Посланец короля предупредил, что, если я попробую ускакать от конвоя, меня ждет смерть; дескать, по всем владениям Дингаана разослали сообщение, что англичанина следует убить, если он будет ехать один. Я ответил, что без оружия попросту не отважусь на такую попытку. И мы тронулись в путь. Камбула и его воины шли рядом, порою переходя на бег. Таким вот образом мы передвигались четыре полных дня, держась, насколько я мог судить, в двадцати или тридцати милях к востоку от дороги, по которой я когда-то покидал Зулуленд и по которой возвратился недавно с Ретифом и его посольством. По всей видимости, у населения тех краев, через которые мы проезжали, я вызывал немалый интерес, ибо местные знали, что мне единственному из белых, посетивших короля, сохранили жизнь. Многочисленные толпы выбегали из краалей и взирали на меня едва ли не с благоговением, словно я был призраком, а не человеком из плоти и крови. Никто из туземцев не осмеливался заговаривать со мной; возможно, им строго-настрого запретили. А стоило мне обратиться к кому-либо из них, они тут же отворачивались и уходили — или даже убегали. Вечером четвертого дня пути Камбула получил некие известия, которые, похоже, изрядно взволновали самого военачальника и его воинов. Из кустарника буквально вывалился посланец, который едва дышал от изнеможения; на его левой руке была рана, оставленная, на мой взгляд, пулей. Он что-то сказал, но я, напрягая слух, разобрал всего два слова — «большая драка». Камбула прижал пальцы к губам, призывая к молчанию, и увел гонца в сторону; больше я его не видел и не слышал. Позднее я спросил у Камбулы, о какой драке шла речь и кто победил. Зулус притворился, что ведать не ведает, о чем я говорю. — К чему лгать, Камбула, если я все равно очень скоро узнаю правду? — Тогда, Макумазан, дождись, пока узнаешь. Правда тебя порадует. — С этими словами он отвернулся и заговорил со своими людьми. Всю ночь я слышал, как они обсуждают новости между собой. Мне же не спалось, ибо меня одолевали дурные предчувствия. Наверняка произошло что-то ужасное. Неужели воинство Дингаана перебило всех буров? Если так, что сталось с моей Мари? Она погибла или ее захватили в плен? Дингаан похвалялся, что заберет ее… Вполне может статься, что прямо сейчас мою жену везут под конвоем в Умгунгундлову, тогда как меня ведут в Наталь. Наконец рассвело. Ближе к полудню мы достигли брода на реке Тугела; по счастью, вода стояла низко, переправа не должна была доставить хлопот. Здесь Камбула попрощался со мной, сказал, что выполнил приказ короля. Также он передал мне обращение Дингаана ко всем англичанам Наталя. Если коротко, в этом обращении говорилось, что король Дингаан убил всех буров, что приехали к нему, поскольку узнал, что они предали своего короля и потому недостойны жить далее. Но он любит детей Джорджа, в сердцах которых нет места лжи, и тем нечего опасаться в его владениях. Он просит англичан приезжать в большой крааль, где король всегда готов удостоить их беседы. Я сказал, что передам это обращение, если встречу кого-нибудь из соотечественников, но, разумеется, не могу решать за них, принимать приглашение Дингаана или нет. По чести сказать, я был уверен, что Умгунгундлову очень скоро приобретет весьма дурную славу и никто не отважится являться туда без сопровождения целой армии. Прежде чем Камбула успел обидеться на мои слова, я пожал ему руку и пустил лошадь вброд. Мне больше не довелось увидеть Камбулу живым; после битвы у Кровавой реки[232] я наткнулся на его тело. Перебравшись через Тугелу, я проехал примерно с полмили. Наконец кусты и тростники, чьи заросли спускались к воде, остались далеко позади. Меня гнало вперед опасение, что зулусы могут последовать за мной, снова схватить и отвести обратно к Дингаану, чтобы я пояснил свои последние слова. Но когда стало ясно, что погони нет, я остановился — одинокий и беспомощный путник в неведомых диких краях. Что мне было делать, куда ехать?.. И тут случилось одно из самых удивительных событий в моей жизни, а уж в ней-то приключений хватало с избытком. Я отпустил поводья и понурился. Лошадь остановилась близ груды валунов, лежавших на берегу реки с незапамятных времен. И вдруг послышался голос, показавшийся мне знакомым: — Баас! Это ты, баас? Я огляделся и никого не увидел. Решил, что мне почудилось, и снова повесил голову. — Баас! — не умолкал знакомый голос. — Ты живой или мертвый? Если ты мертвый, уходи, я не хочу знаться с призраками. Вот когда сам умру, тогда пожалуйста. Я счел нужным ответить: — Кто говорит? Покажись! Впрочем, поскольку никого вокруг не было, я произнес эти слова для очистки совести и подумал, что схожу с ума. В следующее мгновение моя лошадь фыркнула и шарахнулась, что было не удивительно: из громадной норы муравьеда, шагах в пяти от меня, показалось смуглое лицо, увенчанное шапкой черных волос, из которых торчало сломанное перо. Я пригляделся, а чернокожий столь же пристально воззрился на меня. — Ханс! — вскричал я. — Это ты? Я думал, тебя убили вместе с остальными. — А я думал, что тебя убили, баас! Ты уверен, что ты живой? — Что ты тут делаешь, старый осел? — Прячусь от зулусов, баас. Я услышал их голоса на другом берегу, потом увидел, как человек на лошади переезжает через реку, вот и решил укрыться. Припал к земле, как шакал. Хватит с меня этих зулусов. — Вылезай и расскажи, что с тобой произошло, — сказал я. Он выбрался наружу, исхудавший и оборванный; из одежды на нем оставалась только верхняя часть старых штанов, но это был Ханс, вне всякого сомнения. Он подбежал ко мне, обхватил мои ноги, принялся целовать сапоги, а по его лицу текли слезы. — О баас! — приговаривал он между поцелуями. — Это ж надо, я думал, ты мертв, а ты жив, и я тоже жив! Баас, я больше никогда не усомнюсь в Большом брате на Небесах, которого так чтит твой отец, предикант. Я молил всех наших духов, ублажал духов предков, а беды на меня сыпались и сыпались. Тогда я помолился, как учил преподобный, попросил хлеба насущного, ибо сильно проголодался. Потом выглянул из норы и увидел тебя. Еда найдется, баас? В моих седельных мешках имелся некоторый запас билтонга. Я отдал его Хансу, и он набросился на вяленое мясо, точно изголодавшаяся гиена, отрывая зубами большие куски и проглатывая их целиком. Когда с мясом было покончено, готтентот облизал пальцы и замер в неподвижности, глядя на меня. — Расскажи, что было, — повторил я. — Баас, я пошел за лошадьми с остальными слугами. Наши лошади куда-то убежали. Я влез на дерево, чтобы их высмотреть. Потом услышал шум и увидел, что зулусы убивают буров. Я понял, что нас они тоже будут убивать, поэтому спрятался на дереве — в гнезде аиста. Ну, они пришли и закололи ассегаями всех прочих тотти, а потом собрались под моим деревом, дабы перевести дух и почистить копья. Когда стемнело, я спустился вниз и побежал. О баас, они чуть не схватили меня, раз или два, но все же не поймали, ведь я умею прятаться и лезу туда, куда люди не заглядывают. Но как я голодал, баас, как голодал! Я ел жуков и червяков и жевал траву, пока живот не заболел. Потом я перешел реку и спрятался на берегу, недалеко от лагеря буров. Утром, перед рассветом, я сказал себе: «Ну, Ханс, сердце твое в слезах, но твой живот сегодня порадуется». И тут я увидел этих дьяволов-зулусов, великое множество. Они напали на лагерь и убили бедных буров. Мужчин, женщин, маленьких детей — они убивали всех и продолжали резать и колоть, пока не подоспели другие буры и не прогнали зулусов. Они ушли и увели с собой скот. Я удостоверился, что зулусы не вернутся, однако мне подумалось: там оставаться нельзя. Я побежал вдоль реки и ползал по тростникам дни напролет, ел яйца водяных птиц и мелкую рыбешку, которую ловил в заводях. А этим утром я снова услышал зулусов и спрятался в норе. Ты приехал и встал у норы, и долго, очень долго я думал, что ты призрак. Но теперь мы снова вместе, баас, и все стало как раньше. Твой отец, предикант, говорил, что так и должно быть, если ходить в церковь по воскресеньям. Я же ходил в церковь, баас, когда других дел не было. Готтентот снова принялся целовать мне ноги. — Ханс! — окликнул его я. — Говоришь, ты видел лагерь? Мисси Мари была там? — Я же не ходил туда, баас, откуда мне знать? Но фургона, в каком она обычно спит, не было. И фургона фру Принслоо тоже, и мейеровского. — Слава богу! — выдохнул я. — А куда ты направлялся, Ханс, когда убежал от лагеря? — Баас, я подумал, что мисси вместе с Принслоо и Мейерами поехала на ферму, которую ты выбрал для себя. И решил проверить, так ли это. Если они там, думал я, то наверняка обрадуются новостям, узнают, что ты в самом деле погиб, накормят меня хорошей едой… Но я боялся идти по вельду, чтобы зулусы меня не высмотрели и не убили. Потому я крался густыми зарослями у реки, где пролезет только тот, у кого пусто в животе. Он похлопал себя по исхудавшему телу. — Скажи мне, Ханс, мы что, и вправду недалеко от фермы, где я поручил построить дома на холме над рекой? — Конечно, баас! Неужели ты растерял мозги, раз не можешь найти дорогу в вельде? Четыре, от силы пять часов верхом, если ехать медленно, — и ты на месте. — Идем же, Ханс! — воскликнул я. — И поторопись. Думаю, зулусы где-то рядом. Мы двинулись в путь. Ханс держался за мои стремена и направлял меня, хотя прежде не бывал в здешних местах. Я отлично знал, что охотничье чутье никогда не подводит кафров; они способны передвигаться по вельду, где нет дорог и троп, так же уверенно, как антилопы. Для готтентота вельд все равно что воздух для птицы. По дороге, не забывая поглядывать по сторонам, я поведал Хансу собственную историю — довольно коротко, ибо страх за Мари мешал говорить пространно. Ханс же поделился со мной подробностями своего побега и дальнейших приключений. Теперь я понял, что так взволновало Камбулу и прочих зулусов. Очевидно, импи истребили великое множество переселенцев, застав тех врасплох, но были вынуждены отступить, когда подошли подкрепления из других лагерей. Вот почему меня так долго держали в плену. Дингаан опасался, что я могу добраться до Наталя и предупредить буров.Глава 20
ТРИБУНАЛ
Час, другой, третий — и вдруг с возвышенности открылся великолепный вид на прекрасную реку Муи, что вилась огромной змеей по равнине, серебрясь на солнце. В излучине виднелась плоская вершина холма, на котором я так надеялся построить новый дом. Хотя почему «надеялся»? Надежда еще жива! Ведь Мари не должна пострадать; она успела уехать до резни, а потому, быть может, после многих испытаний нас ожидают годы счастливой совместной жизни. Но почему-то казалось, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я хлопнул лошадь по крупу, но бедное животное совсем выбилось из сил: ее хватило на недолгий кентер[233], а затем она снова перешла на шаг. Не имело значения, каким аллюром она идет; в стуке лошадиных копыт по земле мне слышалась одна и та же фраза: «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Она звучала то медленно, то быстро, однако ее смысл ничуть не менялся. Ханс тоже едва не падал от изнеможения и голода. К тому же он умудрился порезать ногу и потому отставал все сильнее; в конце концов он попросил меня ехать дальше одному, а он, мол, как-нибудь доковыляет. Тогда я усадил его на лошадь, а сам пошел пешком. Невыразимо красивый закат уже отгорел, а небо посерело перед наступлением ночи, когда мы с готтентотом добрались до подножия холма. Последние лучи заходящего светила показали мне картину, от которой сердце забилось быстрее. На склоне, в точном соответствии с моими распоряжениями, притулилось несколько домиков из глины и прутьев, а рядом с ними стояли фургоны с белым полотняным верхом. Но не было видно дыма из труб, хотя в это время суток следовало бы готовить ужин. Я знал, что скоро на небосвод взойдет луна, а пока приходилось брести почти наугад, лошадь то и дело спотыкалась на усеявших землю камнях. Сдерживаться больше не было сил. — Ханс, оставайся здесь с лошадью, — велел я. — Я проберусь к домам и проверю, есть ли там кто живой. — Будь осторожен, баас, — ответил готтентот. — Не наткнись на зулусов. Эти черные дьяволы нынче повсюду! Я молча кивнул — слова не шли с языка — и двинулся вверх по склону. Несколько сотен ярдов я буквально крался на ощупь, от камня к камню, поскольку кафрская тропа, выводившая к источнику на плато, где стояли строения, вилась по противоположному склону холма. Вдруг мой слух уловил журчание воды. Я наткнулся на ручей, питаемый тем самым источником, и пошел вдоль берега, покуда не услышал звук, заставивший меня припасть к земле изамереть. Непрестанный шум потока сбивал с толку, ошибиться было очень легко, однако мне почудилось, что я различаю чьи-то рыдания. Пока я ждал и прислушивался, из-за облака внезапно выглянула громадная луна и озарила все вокруг. И в лунном свете, в котором все выглядело призрачным, я увидел Мари! Она стояла на берегу ручья, шагах в пяти от меня. Пришла, должно быть, набрать воды, потому что в руке у нее был бидон. Мари была в черном, будто надела вдовий наряд, только из грубой ткани, и потому ее лицо выглядело неестественно белым в серебристом свете луны. Глядя из тени на свою жену, я видел слезы, бегущие по ее щекам. Это она, она плакала и рыдала в уединении, оплакивая мужа, которому не суждено вернуться… В горле словно встал ком, и я не мог выдавить из себя ни единого слова. Поэтому я просто встал и двинулся к ней. Она заметила меня и вздрогнула, а потом прошептала дрожащим голос ком: — О муж мой, Господь послал тебя за мной? Я готова, муж мой, я готова! Мари широко раскинула руки и выронила бидон, который с дребезгом покатился по земле. — Мари! — произнесли наконец мои губы. Кровь прилила к ее лицу, и она сделала глубокий вдох, словно собираясь закричать. — Тсс! — прошептал я. — Это я, Аллан. Я жив, мне удалось уйти! Следующее, что я помню, — она упала в мои объятия. — Что здесь стряслось? — спросил я, закончив рассказ и, разумеется, опустив подробности. — Да ничего, Аллан, — ответила Мари. — Я получила твое послание, и мы покинули лагерь, никого не предупредив, как ты и просил. Ты ведь помнишь, что коммандант Ретиф особо на этом настаивал. Так мы спаслись от великой бойни. Зулусы не знали, куда мы направляемся, и не смогли нас найти, — а были слухи, что они ищут меня. Мой отец и кузен Эрнан приехали в лагерь через два дня после нападения; они то ли догадались, то ли выяснили, где мы прячемся, и добрались сюда. Они говорили, что пытались предостеречь буров, что Дингаану доверять нельзя, но их предостережение запоздало. Хвала Небесам, хоть сами уцелели. О Аллан, столько людей погибло! Пять или шесть сотен, и большинство из них женщины и дети! Слава богу, еще больше спаслось, мужчины из других лагерей и из охотничьих партий пришли на выручку и прогнали зулусов, убивая тех десятками. — Твой отец и Перейра все еще здесь? — спросил я. — Нет, Аллан. Они знали о случившемся и о том, что зулусы ушли вчера утром. Еще они получили дурные вести — Ретиф и все его спутники погибли в краалях Дингаана. Народ говорит, что их предал англичанин, который сторговался с чернокожим королем. — Ложь, — коротко бросил я. — Но продолжай, прошу тебя. — Отец с кузеном сказали мне, Аллан, что теперь я вдова, как и множество других женщин. Это я-то, которая и женой побыть не успела! Эрнан прибавил, что не стоит тебя оплакивать, ты, мол, заслужил свою участь, угодил в собственную ловушку, потому что был одним из тех, кто предал буров. Фру Принслоо в лицо обвинила его во лжи, а я, Аллан, сказала, что не намерена говорить с ним до тех пор, пока мы не встретимся на последнем суде у престола Господня. И даже там он от меня ни словечка не дождется. — Зато я с ним точно потолкую, — пробормотал я. — И где сейчас твой отец с Перейрой? — Они уехали этим утром на поиски других буров. По-моему, они хотят привести сюда новых поселенцев, ведь это место удобно защищать. Сказали, что вернутся завтра, а в их отсутствие нам ничего не грозит — дескать, им известно наверняка, что зулусы вернулись за Тугелу, забрав с собою раненых и угнав бурский скот в дар Дингаану. Но пойдем же домой, Аллан! Пойдем в наш дом, который я так старательно убрала к твоему возвращению! Боже мой, я уже не надеялась, что ты когда-нибудь переступишь его порог! В тот миг, когда луна выходила из-за облака, я предавалась отчаянию, но облако не успело проплыть мимо, как… Слышишь? Что это? Я различил в ночной тишине топот лошадиных копыт. — Не бойся, — сказал я, — это всего-навсего Ханс на моей лошади. Ему тоже посчастливилось бежать. Я расскажу тебе потом. Тут и вправду показался готтентот, измученный и весь в крови. — Добрый вечер, мисси! — поздоровался он, пытаясь выдавить улыбку. — Угости меня ужином, ведь я вернул тебе бааса. Разве я не говорил тебе, баас, что все будет хорошо? Усталость взяла свое, и он замолчал. Признаться, нас это порадовало: в тех обстоятельствах не очень-то хотелось выслушивать привычную болтовню готтентота. С тех пор как луна выглянула из облака, минуло около двух часов. Я приветствовал старую фру Принслоо и других своих товарищей, которые встретили меня так, будто я и вправду восстал из мертвых. Они и прежде относились ко мне очень хорошо, а теперь к их отношению добавилась признательность, ведь если бы не мое предупреждение, они бы, подобно остальным, свели близкое знакомство с копьями зулусов и погибли. Как выяснилось, основная атака пришлась именно на ту часть лагеря, где стояли их фургоны. Там почти никто не выжил. Я рассказал им обо всем, и они выслушали мою историю в глубоком молчании. Когда же я закончил, хеер Мейер, человек, угрюмый от природы, а сейчас и вовсе глядевший мрачнее тучи, воскликнул: — Allemachte! Вам изрядно повезло, Аллан, что зулусы вас так отличили. Не знай я вас так хорошо, я бы подумал, что Эрнан Перейра прав и что вы стакнулись с этим чернокожим дьяволом Дингааном! Фру Принслоо немедля накинулась на него с упреками. — С чего это вы вздумали бросаться такими обвинениями, Карл Мейер? — вопрошала она. — Неужто Аллану вечно придется выслушивать оскорбления, раз его угораздило родиться англичанином? Лично я думаю, что если кто и якшался с Дингааном, так это ваш ненаглядный Перейра! Иначе с какой стати он уехал до начала резни и прихватил с собою этого безумца Анри Марэ? — Не знаю, тетушка, не могу сказать, — хмуро отозвался Мейер, который, подобно всем прочим в нашей компании, побаивался фру Принслоо. — Тогда почему бы вам не придержать язык и не перестать пороть чушь, от которой больно другим людям? — не отступалась старая фру. — Нет, не отвечайте, не то ляпнете еще что-нибудь этакое! Лучше отнесите мясо готтентоту Хансу. — Разговор происходил за ужином. — Он уже съел столько, что у любого белого брюхо бы лопнуло, но, думаю, все равно не откажется от куска-другого. Мейер подчинился, и буры поспешили разойтись, якобы по делам; они поступали так всякий раз, когда старая фру начинала гневаться. Вскоре за столом остались только она, я и Мари. — Ну, — проговорила фру, — все утомились, и пора, наверное, отдохнуть. Доброй ночи, Аллан, и тебе, племянница. Она ушла, и мы наконец-то остались вдвоем. — Муж мой, — сказала Мари, — не хочешь посмотреть, как я убрала дом к твоему приезду, прежде чем мне сообщили, что ты погиб? Там небогато, но я молю Господа, чтобы мы были счастливы в этом доме. Она взяла меня за руку и поцеловала — раз, другой, третий… Около полудня на следующий день мы с женой улаживали, посмеиваясь, какой-то мелкий домашний спор относительно нашего скромного быта. Недавние страдания и муки, казалось, забылись за радостями семейной жизни. Вдруг я увидел, как на лицо Мари набежала тень, и поспешил спросить, что случилось. — Тише! — сказала она. — Я слышу топот копыт. — И указала куда-то в сторону. Я присмотрелся и увидел у подножия холма группу буров со слугами-туземцами, общим числом около трех десятков человек, и двадцать из них были белыми. — Мой отец среди них, — проговорила Мари, — и кузен Эрнан скачет рядом с ним. Она не ошиблась. Я разглядел Анри Марэ, а сразу за ним, словно нашептывая ему на ухо, ехал Эрнанду Перейра. Мне тогда вспомнилась читанная когда-то история о человеке, проклятом злым духом: вопреки светлым сторонам души этого героя, проклятие побуждало его творить зло и обрекало на трагическую участь. Худой, изможденный Марэ с безумным взором и круглолицый искуситель Перейра, прильнувший к его уху, выглядели точь-в-точь как тот человек и злой дух, медленно, но неуклонно увлекавший своего патрона в преисподнюю. Повинуясь некоему внутреннему побуждению, я обнял Мари и прошептал: — По крайней мере, мы побыли счастливыми. — О чем ты говоришь, Аллан? — спросила она недоуменно. — О том, что наше блаженное время миновало. — Может быть, — согласилась она задумчиво. — Но это и вправду было хорошее время. Если мне суждено умереть сегодня, я рада, что провела эти часы с тобой. Тут буры въехали на холм. Эрнанду Перейра, чье зрение, должно быть, обострилось ревностью и ненавистью, заметил меня первым. — Ба! Минхеер Аллан Квотермейн! — вскричал он. — Выходит, вы живы? И как это вас сюда занесло? Коммандант, — прибавил он, обращаясь к смуглому, печальному на вид мужчине лет шестидесяти, которого я видел впервые в жизни, — вот уж странное дело! Этот хеер Квотермейн, англичанин, сопровождал комманданта Ретифа ко двору зулусского короля. Хеер Анри Марэ подтвердит мои слова. Мы точно знаем, что Пьет Ретиф и все его люди мертвы, убиты королем Дингааном. Но этот человек каким-то образом ухитрился сбежать! — И что вы хотите от меня, минхеер Перейра? — холодно справился грустный незнакомец. — Англичанин наверняка все объяснит. — Конечно, минхеер, — сказал я, — объясню, когда соблаговолите выслушать. Он помедлил, потом отозвал в сторону Анри Марэ и о чем-то с ним поговорил, после чего вынес заключение: — Давайте повременим, дело слишком уж серьезное. Мы выслушаем вас после того, как поедим, минхеер Квотермейн. Пока же приказываю вам никуда не уезжать. — Хотите сказать, коммандант, что берете меня под стражу? — уточнил я. — Если вам так угодно, то да, минхеер Квотермейн. Вам придется объяснить, каким образом шесть десятков наших братьев, все ваши товарищи, погибли в Зулуленде, были забиты, как скот, а вы вернулись невредимым. Но хватит, мы еще успеем вдосталь наговориться! Эй, Каролус, Йоханнес! Приглядывайте за англичанином! Я слыхал о нем много всякого, так что зарядите ружья. Когда мы пошлем за вами, приведите его. — Как обычно, твой кузен не привез ничего хорошего, — горько обронил я, обращаясь к Мари. — Ладно, давай тоже поедим. Надеюсь, хееры Каролус и Йоханнес окажут нам честь и присоединятся к нашей трапезе, с ружьями на изготовку, разумеется. Оба бура охотно приняли наше приглашение, и за едой мы узнали от них много новостей, слишком страшных, чтобы их выслушивать, в особенности подробности резни в местности, которая благодаря означенным событиям отныне и вовек известна как Веенен, Место плача. Достаточно будет сказать, что эти вести напрочь лишили нас с Мари аппетита, зато Каролус и Йоханнес, уже слегка оправившиеся от потрясений той кровопролитной ночи, уплетали за обе щеки, оставалось лишь им завидовать. Вскоре Ханс, который, к слову, вполне пришел в себя и позабыл о своих недавних мучениях, пришел забрать тарелки. Он сообщил, что буры ведут оживленный разговор и собираются вот-вот послать за мной. И правда, несколько минут спустя явились двое вооруженных мужчин, наказавших мне следовать за ними. Я повернулся было попрощаться с Мари, но моя жена меня опередила. — Я пойду за тобой всюду, муж мой, — сказала она. Охрана возражать не стала. Собрание устроили ярдах в двухстах от нашего дома, в тени фургона. Шестеро мужчин сидели полукругом на стульях и прочей мебели, какую смогли найти; хмурый коммандант занимал место посредине, а перед ним поставили стол с писчими принадлежностями. Слева от этих шестерых расположились Принслоо и Мейеры, то есть те люди, которых я когда-то спас от голодной смерти, а справа остальные буры из числа тех, что приехали в наше поселение сегодня днем. Мне с первого взгляда стало ясно, что намечается трибунал, и шестерых в центре выбрали судьями, а комманданта поставили председателем суда. Я намеренно не перечисляю имен, поскольку ни в малейшей степени не желаю, чтобы виновники допущенных непозволительных ошибок стали известны последующим поколениям. И потом, эти люди действовали и вели себя честно, по их разумению, хоть и послужили орудием в руках злодея Эрнанду Перейры. — Аллан Квотермейн, — произнес коммандант, — вас привели сюда, чтобы судить трибуналом, законно созванным, как установлено правилами, едиными для лагерей бурских переселенцев. Вы признаете эти правила? — Я знаю, что они есть, коммандант, — ответил я, — но не признаю полномочий вашего трибунала и попыток осудить человека, который является подданным ее величества британской королевы. — Мы обсудили это возражение заранее, Аллан Квотермейн, — отозвался коммандант, — и сочли его не имеющим значения. Напомню вам, что в лагере на Бушменской реке, прежде чем отправиться с покойным Пьетом Ретифом к вождю Сиконьеле, вас назначили командовать зулусами, приданными отряду, и вы дали клятву переводить точно и быть верным во всем генералу Ретифу, его товарищам и делу, которое он защищал. Эта клятва, как считает суд, дает нам полномочия судить вас. — Я не признаю ваших полномочий, — повторил я, — хотя не стану отрицать, что давал такую клятву. Прошу занести в протокол мое несогласие. — Принимается, — сказал коммандант и принялся медленно и усердно выводить буквы на бумаге перед собой. Покончив с этим, он поднял голову и продолжил: — Обвинения против Аллана Квотермейна таковы. Будучи в составе посольства, которое недавно отправилось к королю зулусов Дингаану и которым командовал покойный коммандант и генерал Пьет Ретиф, обвиняемый тайно и преднамеренно подговаривал означенного Дингаана убить означенного генерала Ретифа и его товарищей и в особенности злоумышлял против Анри Марэ, своего тестя, и против Эрнанду Перейры, племянника последнего, причем имел ссоры с обоими персонами. Заключив соглашение с правителем зулусов относительно указанного убийства, обвиняемый затем добился того, чтобы его укрыли в безопасном месте, пока убийство совершается. Вы признаете себя виновным? Когда я услышал эту откровенную ложь, меня охватил такой гнев, что я не сдержался и расхохотался в лицо судьям. — Вы с ума сошли, коммандант? — воскликнул я. — Лишь безумец отважится утверждать подобное! На каких основаниях вы меня во всем этом обвиняете? — Нет, Аллан Квотермейн, я не сошел с ума, — ответил коммандант, — но из-за ваших козней я потерял жену и троих детей, погибших под копьями зулусов, и этих страданий было вполне достаточно, чтобы лишиться рассудка. Что касается оснований и доказательств, вы все услышите в свое время. Но сперва я запишу, что вы не признаете себя виновным. — Он снова покорпел над листом бумаги. — Если вы согласитесь с перечисленными далее фактами, это сбережет нам немало времени, а в нынешних обстоятельствах его у нас немного. Верно ли, что, заранее зная о неизбежной гибели посольства, вы пытались избежать участия в его составе? — Нет. Я ничего не знал о том, что произойдет с посольством, хотя и опасался дурного оборота событий. Ведь незадолго до того я вырвал своих друзей, присутствующих здесь, — я указал на семейство Принслоо, — из рук Дингаана. Я не хотел ехать в Зулуленд по другой причине, а именно потому, что в день отбытия посольства женился на Мари Марэ. И все же я отправился туда, в первую очередь из-за генерала Ретифа. Он был моим другом и попросил, чтобы я переводил для него. Некоторые буры загомонили: — Так и было, да, мы помним. Однако коммандант, не обратив внимания ни на мой ответ, ни на голоса зрителей судилища, продолжал: — Вы признаете, что были в плохих отношениях с Анри Марэ и с Эрнаном Перейрой? — Да, — сказал я. — Анри Марэ приложил все усилия к тому, чтобы помешать моей женитьбе на его дочери Мари, обращался со мной, с человеком, который спас ему жизнь, чрезвычайно грубо, хотя я избавлял его самого и его товарищей от напастей на побережье залива Делагоа и позднее, в краалях Умгунгундлову. А Эрнан Перейра пытался отнять у меня Мари, которая любит меня. Более того, он покушался на мою жизнь, невзирая на то что я нашел его больным в пещере и спас. Хеер Перейра подкараулил меня в укромном месте и хотел застрелить. Вот следы его пули. — Я коснулся маленькой отметины на лице. — Все так и было, этот мерзавец в него стрелял! — подала голос фру Принслоо, но ей велели соблюдать тишину. — Вы признаете, что отправили послание своей жене, в котором просили ее и близких вам людей покинуть лагерь на Бушменской реке, поскольку на него скоро произойдет нападение, и особо подчеркивали важность сохранения тайны? После этого вы и ваш слуга-готтентот вернулись из Зулуленда, а все остальные, кто отправился вместе с вами, погибли. Признаю, — ответил я, — признаю, что писал своей жене и просил ее уехать на ферму, где я строил дома, в чем вы сами можете убедиться, и предлагал взять с собой всех, кто захочет переселиться сюда, или ехать одной. У меня была причина так поступить. Дингаан сказал мне — в шутку или всерьез, не могу знать, — что он повелел похитить мою жену, ибо оценил ее красоту с первой же встречи и желает сделать ее одной из своих наложниц. Кроме того, я действовал с ведома и по поручению покойного генерала Ретифа, это явствует из его приписки к моему посланию. Также признаю, что сбежал, когда моих братьев убивали, и то же касается готтентота Ханса. Если вам будет угодно, я расскажу, как нам удалось скрыться и почему. Коммандант сделал пометку на бумаге и объявил: — Приглашается к клятве свидетель Эрнан Перейра. Когда тот принес клятву, его попросили изложить свою историю. Несложно вообразить, что история оказалась долгой и совершенно очевидно была подготовлена тщательно и заблаговременно. Перечислю здесь только наиболее черные измышления кузена Мари. Он уверял суд, что никогда не испытывал ко мне вражды и никогда не пытался ни убить меня, ни причинить какой-либо урон, но не отрицает, что чувствует себя уязвленным, ибо, вопреки воле ее отца, я похитил у него девушку, с которой он был обручен и которая впоследствии стала моей женой. В Зулуленде он остался потому, что знал: я женюсь на Мари, едва та достигнет совершеннолетия, и наблюдать это событие воочию было выше его сил. Пока он находился там, Дингаан и отдельные военачальники зулусов, еще до прибытия посольства, говорили ему, что англичанин снова и снова подстрекает короля к убийству буров, поскольку они изменили британской короне, однако Дингаан отказывался внимать этим настояниям. Когда Ретиф приехал с посольством, Перейра будто бы хотел предостеречь генерала насчет меня, но тот не пожелал слушать, будучи ослеплен привязанностью ко мне, как и некоторые здесь присутствующие. Тут португалец выразительно посмотрел на семейство Принслоо. Далее началось худшее. Перейра сказал, что, чиня ружья для зулусов в одной из личных хижин короля, он подслушал разговор между мной и Дингааном, происходивший во дворе. Разумеется, я не подозревал, что в хижине кто-то есть. Суть разговора была такова: я снова просил Дингаана убить буров, а затем отправить зулусский полк на расправу с их женами и семьями. При этом якобы я прибавил, что мне нужно время, чтобы вывезти из лагеря девушку, на которой я женился, а также нескольких друзей, кого тоже следует пощадить, ибо я намерен стать своего рода вождем и, если позволит король, подчинить своей власти Наталь под покровительством и защитой Англии. На это Дингаан ответил, что предложения кажутся ему «разумными и мудрыми», и он непременно их обдумает. Затем Перейра рассказал, как, выбравшись из хижины после ухода Дингаана, отыскал меня, принялся бранить за мои злодейства и объявил, что предупредит буров (именно так он и поступил, устно и в письменном виде). Я же велел зулусам его схватить, а сам пошел к Ретифу и наплел тому всяких небылиц относительно его, Перейры, что побудило Ретифа изгнать его из лагеря и приказать, чтобы никто из буров не смел с ним даже заговаривать. И тогда он сделал единственное, что ему оставалось, — отправился к своему дяде Анри Марэ и поведал тому не всю правду, но то, что узнал наверняка: про скорое нападение зулусов, которое угрожало гибелью дядюшкиной дочери Мари и всем бурам, проживающим с ней вместе. Потому он предложил Анри Марэ, раз уж генерал Ретиф настроен против него и не желает ничего слушать, уехать из лагеря и известить буров. Уезжать пришлось тайком, без ведома Ретифа, и по дороге с ними случались различные неприятности, которые, если нужно, могут быть пересказаны в подробностях, а потому до Бушменской реки они добрались слишком поздно, когда избиение уже произошло. Далее, как известно комманданту, они прослышали, что Мари и ее друзья перебрались сюда, тогда Перейра с Марэ направились в поселение и установили, что переезд состоялся по требованию Аллана Квотермейна, предупредившего свою жену. После чего Перейра и Марэ вернулись и поделились новостями с бурами других поселений. Таким был рассказ кузена Эрнана. Я отказался отвечать на вопросы, до тех пор пока не выслушаю все показания против меня, поэтому к клятве привели Анри Марэ, который во многом повторил слова своего племянника — прежде всего, по поводу моих отношений с Мари. Он заявил, что возражал против нашего брака, поскольку я англичанин и мне он никогда не доверял. Также Марэ подтвердил, что Перейра говорил ему, будто располагает надежными сведениями о нападении зулусов и этот коварный план измыслили совместно Дингаан и Аллан Квотермейн. Он, Марэ, писал Ретифу и пытался переговорить с генералом, но его не стали слушать, и тогда он по кинул Умгунгундлову, чтобы спасти жизнь своей дочери и предупредить буров. Больше ему добавить нечего. Поскольку иных свидетелей у обвинения не было, мне разрешили задавать вопросы этим двоим, и я долго их допрашивал, однако без малейшего результата, ибо всякий раз, когда дело касалось чего-то важного, наталкивался на недвусмысленное отрицание. Я вызвал своих свидетелей. Мари отказались слушать на том основании, что она моя жена, следовательно, покорна моей воле. Зато фру Принслоо с ее семейством и Мейеры поведали суду истинную историю моих взаимоотношений с Эрнанду Перейрой, Анри Марэ и Дингааном, насколько та была им известна. Далее коммандант отклонил просьбу выслушать Ханса — дескать, он готтентот и слуга обвиняемого, ему нельзя верить. Я обратился к суду и постарался как можно точнее передать свои беседы с Дингааном. Также я описал, как нам с Хансом удалось бежать от повелителя зулусов. Я не преминул указать, что, к несчастью, не могу подтвердить свои слова, ибо Дингаана в свидетели не пригласили, а все остальные, увы, мертвы. Затем предъявил свое письмо к Мари, одобренное и дополненное Ретифом, а также послание Марэ и Перейры к Ретифу, которое я хранил при себе. Когда я завершил свою речь, солнце уже садилось. Все изрядно устали. Меня под караулом увели, а суд начал совещаться, и совещание это затянулось. Наконец меня снова позвали, и коммандант произнес: — Аллан Квотермейн, воззвав к Господу, мы рассудили это дело наилучшим образом, по нашему разумению и возможностям. С одной стороны, мы признаем, что вы англичанин, выходец из той страны, каковая всегда ненавидела и угнетала наш народ, и потому в ваших интересах было избавиться от обоих мужчин, с которыми вы имели ссоры. Показания Анри Марэ и Эрнана Перейры, коим у нас нет оснований не доверять, доказывают вашу злонамеренность, каковая явилась следствием либо означенных ссор, либо желания причинить ущерб бурскому народу и совместно с дикарями устроить его истребление. Результатом ваших козней явилось то, что семь сотен мужчин, женщин и детей лишились жизни, были убиты с чрезвычайной жестокостью, тогда как вы сами, ваш слуга, ваша жена и ваши близкие друзья ничуть не пострадали. За подобное преступление не будет достаточной карой и стократная казнь; лишь Господь вправе назначить достойное воздаяние, и Его милости мы препоручаем вас, дабы Он вас судил. Мы же приговариваем вас к расстрелу как предателя и убийцу, и да смилуются Небеса над вашей душой! Едва прозвучали эти ужасные слова, как Мари рухнула наземь без чувств, и заседание прервалось. Ее отнесли в дом Принслоо, и старая фру осталась присматривать за моей женой, а коммандант продолжил: — Мы вынесли свое обвинение человеку английского происхождения, и потому могут сказать, что к вам отнеслись с предубеждением. Вдобавок у вас не было возможности подготовить свою защиту и подобрать свидетелей, готовых подтвердить приведенные вами факты, ибо все, кого вы, по вашим словам, хотели бы вызвать, к сожалению, мертвы. Поэтому мы считаем справедливым передать наше единодушное решение на утверждение общего собрания буров-переселенцев. Завтра утром вы отправитесь вместе с нами в лагерь на Бушменской реке, где дело будет рассмотрено повторно и приговор, если понадобится, будет приведен в исполнение по решению тамошних генералов и фельдкорнетов. До тех пор вы останетесь под стражей в вашем доме. Хотите что-либо сказать по поводу приговора? Да, хочу, — ответил я. — Вы не согласитесь со мной, но это несправедливый приговор, основанный на лжи человека, который издавна был моим врагом, и на словах его сообщника, чей ум давно ослаб. Я никогда не предавал буров. Если кто их и предал, так это Эрнанду Перейра. Он, как было доказано мной Пьету Ретифу, осаждал Дингаана просьбами убить меня, генерал же намеревался подвергнуть Перейру суду за преступление против бурского населения. Из-за этого, а не по какой-то иной причине тот бежал из краалей, прихватив с собою Анри Марэ. Вы сказали, что пусть Господь судит меня. Что ж, я молю Господа осудить также их, Марэ и Перейру, и Он сделает это для меня, рано или поздно, так или иначе. Что касается меня, я готов умереть, поскольку свыкся с этим, пока служу вам, бурам. Можете расстрелять меня хоть сейчас. Но говорю вам: если я вырвусь из ваших рук, то не допущу, чтобы это судилище осталось безнаказанным. Я поведаю обо всем правителям своего народа, если понадобится, доберусь до Лондона и предстану перед королевой. Тогда вы, буры, узнаете, что нельзя осудить невиновного англичанина по лжесвидетельству и не заплатить за такое безобразие. Говорю вам, цена будет высока, если я выживу, а если умру, она будет еще выше! Эти слова — признаю, весьма глупые, сорвавшиеся с уст британского гордеца, юного и не искушенного в житейской мудрости, — оказали немалое воздействие на моих судей. Они верили, нужно отдать им должное, в справедливость вынесенного приговора. Ослепленные предрассудками, поддавшиеся лжи, доведенные до безумия страшными потерями, гибелью близких от рук чернокожих дикарей, они нисколько не сомневались в том, что я виновен и должен умереть! Что там говорить, почти все буры были убеждены, что за нападением зулусов стояли англичане. Наше с Хансом чудесное спасение доказывало, по мнению судей, мою вину и без свидетельств Перейры. Увы, эти люди, не будучи законниками, сочли их достаточными для оправдания своего приговора. Однако им приходилось признавать, хотя бы в глубине души, что свидетельства португальца не вполне убедительны и могут быть, по различным причинам, отвергнуты более сведущим судом. Также эти поборники справедливости сознавали, что являются мятежниками и не обладают законным правом учреждать трибунал, а еще опасались той самой длинной руки Англии, от которой ненадолго убежали. Если мне позволят изложить свою историю перед парламентом в Лондоне, что тогда может случиться с теми, кто осмелился вынести смертный приговор подданному британской королевы? Наверняка они спрашивали себя об этом. А вдруг последствия будут таковы, что чаша весов склонится в противоположную сторону? А вдруг Британия восстанет в ярости и сокрушит их, людей, что посмели устанавливать собственный закон, дабы казнить англичанина? Таковы, как я узнал впоследствии, были сомнения, посещавшие моих судей. Однако еще одна мысль приходила им в голову: если приговор привести в исполнение немедля, мертвец никому ничего не расскажет. У меня здесь не было друзей, чтобы передать весточку на родину или отомстить за мою смерть. Обо всем этом на суде, разумеется, не говорили. По взмаху руки меня отвели в мой маленький дом и заключили под стражу. Далее я собираюсь поведать окончание этой трагической истории в нужной последовательности событий, хотя некоторые из них происходили без меня и я узнал о них только наутро или даже позже. Мне представляется, что так будет проще и правильнее.Глава 21
КРОВЬ НЕВИННЫХ
Когда меня увели, судьи — напомню, я излагаю события, коим не был свидетелем, в позднейшем пересказе — пригласили Анри Марэ и Эрнанду Перейру отойти в сторонку и поговорить; должно быть, полагали, что там их никто не подслушает. Однако в этом они ошибались, поскольку не приняли во внимание поистине лисью хитрость моего готтентота. Ханса страшно напугало решение суда, и он опасался, быть может, что приговор распространят и на него, поскольку он тоже сбежал от Дингаана. Кроме того, Ханс хотел выведать тайны этих буров, чей язык, разумеется, хорошо понимал. В общем, готтентот обогнул холм и подкрался к совещавшимся — подполз к ним на животе, точно змея, передвигаясь между кочками с сухой прошлогодней травой столь ловко, что стебли даже не шелохнулись. В конце концов он расположился под густым кустарником возле камней, что громоздились не далее пяти шагов от места, где проходил совет, и стал внимательно слушать, ловя каждое слово. Суть беседы свелась к следующему: по причинам, о которых уже упоминалось выше, для всех будет лучше, если меня казнят немедленно. Приговор вынесен, заявил коммандант, никто его не отменит, поскольку совершенное преступление считается чрезвычайно серьезным и по меркам английского правосудия. Но если отвезти меня в лагерь для повторных слушаний перед советом генералов, не исключено, что приговор смягчат, а самих судей, вместе и по отдельности, подвергнут наказанию за чрезмерную самостоятельность. Вдобавок я известен своим хитроумием и могу сбежать, а потом приведу сюда англичан или, хуже того, зулусов — буры оставались в убеждении, что я сотрудничаю с Дингааном и, покуда жив, не брошу попыток уничтожить бурский народ и отомстить за испытанное унижение. Когда выяснилось, что далеко не все разделяют мнение комманданта, встал вопрос, что же со мной делать. Кто-то предложил расстрелять меня, не дожидаясь утра, но коммандант ответил, что подобное деяние, совершенное под покровом тьмы, само покажется преступлением, тем более оно нарушило бы условия приговора. Тогда прозвучало другое предложение: вывести меня из дома перед рассветом под предлогом того, что пора выезжать, а потом дать мне возможность сбежать — и застрелить при побеге. Или же обыграть ситуацию с попыткой к бегству. Мол, кто разберет в неверном утреннем свете, пытался или не пытался я удрать, спасая собственную жизнь, бросался или нет на свою охрану? В любом случае можно будет утверждать, что возникли обстоятельства, при которых закон позволяет стрелять в осужденного, уже приговоренного к смерти. С этим злодейским предложением все согласились, пребывая в страхе перед несчастным английским пареньком, чья жизнь, пусть судьи о том и не подозревали, должна была прерваться по ложному обвинению. Но тут встал иной вопрос — кто именно свершит правосудие? Никто, похоже, не стремился взяться за это; более того, все наотрез отказались пятнать свои руки кровью. Кто-то подал идею сделать палачами чернокожих слуг; когда же стало понятно, что общего одобрения не добиться, совет зашел в тупик. После продолжительных перешептываний коммандант вынес жуткое решение. — Эрнанду Перейра и Анри Марэ! — сказал он. — Мы обвинили и приговорили этого юношу на основе ваших показаний. Мы поверили вашим свидетельствам, однако если они ошибочны или сфабрикованы хоть в малейшей степени, тогда нам предстоит свершить не справедливое возмездие, а жестокое убийство и пролить невинную кровь. И вина за это деяние падет на ваши головы. Эрнанду Перейра и Анри Марэ, трибунал назначает вас стражами, которым надлежит вывести заключенного из его дома завтра утром, едва небо начнет светлеть. Именно от вас он попытается сбежать, и вы помешаете побегу, застрелив заключенного. Затем вы присоединитесь к нам — мы будем ждать неподалеку — и доложите о выполнении приказа. Анри Марэ, услышав такое, возмутился: — Богом клянусь, я не могу этого сделать! Разве честно и по-божески заставлять человека убивать собственного зятя? — Вы свидетельствовали против собственного зятя, Анри Марэ, — сурово напомнил ему коммандант. — Почему же не застрелить из ружья того, кого вы помогли осудить своими словами? — Не буду! Не могу! — восклицал Марэ, теребя бороду. Но коммандант отказывался проявлять жалость. — Вы получили приказ трибунала. Если станете возражать и далее, судьи могут заподозрить, что ваши показания были ложными. Тогда вы и ваш племянник также предстанете перед большим советом, на котором дело англичанина должно быть рассмотрено повторно. Для нас не имеет значения, кто из вас, вы или хеер Перейра, произведет выстрел. Смотри сам, как сказали евреи Иуде, который предал невиновного Христа[234]. — Коммандант помолчал, потом повернулся к Перейре. — Эрнанду Перейра, вы тоже не хотите стрелять? Прежде чем вы ответите, напомню вам, что ваши слова могут повлиять на наше мнение. Еще напомню, что ваши показания относительно того, что этот коварный англичанин злоумышлял и стал причиной гибели наших братьев, наших жен и детей, показания, которые мы признали правдивыми, могут быть подвергнуты сомнению, а большой совет вправе провести дополнительное расследование. — Давать показания — одно, а убивать предателя — совсем другое, — ответил Перейра. А затем прибавил, побожившись (во всяком случае, так уверял Ханс): — Но с какой стати я, раз мне известны злодейства этого негодяя, буду отказываться от исполнения приговора? Будьте покойны, коммандант, треклятый Аллан Квотермейн не сумеет сбежать от меня завтра утром! — Быть по сему, — заключил коммандант. — Все слышали эти слова. Прошу хорошенько их запомнить. Ханс сообразил, что совет закончился, и, опасаясь, как бы его не поймали и не убили, поспешил уползти прочь прежним путем. Он хотел предупредить меня, но не мог этого сделать, поскольку я сидел под стражей. Тогда он отправился к семейству Принслоо, отыскал старую фру, что утешала пришедшую в сознание Мари, и рассказал им о переговорах на совете. Мари опустилась на колени и замерла, то ли молясь, то ли размышляя, а потом поднялась и произнесла: — Тетушка, мне ясно одно — Аллана убьют на рассвете. Если он скроется до этого времени, то, быть может, спасется. — Но где он сможет укрыться? — спросила фру. — Его ведь охраняют, девочка. — Тетушка, позади вашего дома есть старый загон, построенный кафрами. Я видела там множество ям, в которых кафры прежде хранили зерно. Давайте спрячем моего мужа в одной из них и накроем чем-нибудь сверху. Буры вряд ли отыщут его, сколько бы ни старались. — Хорошая мысль, — одобрила фру. — Но скажи мне, ради всего святого, как мы выведем Аллана из-под носа у охраны? — Тетушка, у меня есть право посещать дом мужа, и я отправлюсь туда. А еще у меня есть право покинуть дом, прежде чем Аллана выведут. Вместо меня выйдет он, вы с Хансом ему поможете. Утром явятся буры, а в доме буду только я. — Звучит неплохо, — ответила старая фру. — Но уверена ли ты, племянница, что эти отъявленные мерзавцы уберутся так просто? Думаю, они не угомонятся, пока его не найдут, ведь слишком многое поставлено на карту. Они сообразят, что он не мог уйти далеко, и примутся обыскивать поселение. Рано или поздно они либо сами отыщут его в той яме, либо он вылезет наружу. Им нужна его смерть, и благодарить за это следует твоего кузена Эрнана. Они прольют кровь ради собственного спокойствия. Короче говоря, они не уедут, покуда не убедятся, что Аллан мертв. По словам Ханса, Мари снова крепко задумалась, а затем сказала: — Да, тетушка, опасность велика, но мы должны что-то предпринять. Отправьте вашего мужа поболтать с охранниками и дайте ему с собой спиртного. А мы с Хансом обсудим, как действовать дальше. Мари отозвала готтентота в сторону и стала расспрашивать, известны ли ему какие-либо снадобья, которые способны погрузить человека в продолжительный сон. Ханс ответил утвердительно — дескать, все цветные знают множество таких средств. Разумеется, он сможет добыть что-нибудь этакое у местных кафров, а если нет, то выкопает корешки одного растения, которое растет в здешних местах; эти корешки обладают нужной силой. Мари послала его добывать снадобье, а потом обратилась к фру Принслоо: — Мой план состоит в том, что Аллан выйдет из дома переодетым в мое платье. Однако я заранее могу сказать, что он не станет убегать, ибо в его понимании это означает признание вины. Я предлагаю опоить мужа снотворным. Вы с Хансом перенесете его сюда, поближе к вашему дому, а потом, когда поблизости никого не будет, положите в яму и забросаете ее сверху сухой травой. Он пролежит там в беспамятстве, покуда буры не утомятся от поисков и не уедут. А если им все-таки случится его найти, хуже, чем есть сейчас, уже не будет. — Хороший план, Мари. Сдается мне, однако, что Аллан его не одобрил бы, кабы узнал, — сказала фру Принслоо. — Он из тех, кто привык встречать опасность лицом к лицу, в его-то юные годы. Но ты права, мы должны вырвать Аллана из рук мерзавца Перейры, да падет на его голову гнев Господень! Да еще и папаша твой повадился петь с его голоса. Ты правильно сказала, хуже все равно не будет, даже если буры в конце концов найдут Аллана. А искать они будут тщательно, уж поверь, ибо твердо намерены пролить его кровь. Да, таков был дерзкий и чрезвычайно опасный план Мари — отдать свою жизнь за мою. Она не сомневалась в том, что Эрнанду Перейра, застрелив жертву, не станет осматривать тело. Нет, он поскорее уедет, гонимый чувством вины, а я тем временем успею сбежать. Ей было некогда продумывать все подробности. Не забудьте, мы говорим о совсем еще юной девушке, наполовину обезумевшей от страха за любимого. Она действовала почти наугад, шаг за шагом, и мое освобождение рисовалось ей, должно быть, венцом всего плана. Она объяснила фру Принслоо, что намерена напоить меня сонным зельем, если я откажусь от побега, и той с помощью Ханса придется спрятать меня, бесчувственного, в зерновой яме или где-нибудь еще. Возможно, что я соглашусь на предложение Мари, и тогда фру просто покажет мне убежище. А сама Мари собиралась выйти к бурам и сказать, что те могут искать меня сколько угодно. Фру Принслоо, поразмыслив, нашла другой выход. Мол, она потолкует с мужем и сыновьями, а также с Мейерами, то есть с теми, кого я мог считать своими друзьями, и они помогут спасти меня или, если понадобится, обезоружат или даже прикончат Перейру, прежде чем тот возьмется за ружье. Мари согласилась, что это было бы проще, и фру пошла побеседовать со своим мужем и с другими мужчинами. Но вскоре возвратилась опечаленной, ибо выяснила, что по приказу комманданта их всех тоже взяли под стражу. По-видимому, ему — или, скорее, мерзавцу Перейре — пришло в голову, что мужчины из семейств Принслоо и Мейер, которые относились ко мне как к брату, могут попытаться освободить меня или устроить какую-нибудь неприятность. Поэтому, в качестве меры предосторожности, их посадили под арест и забрали у них оружие. Коммандант при этом заявил, что такие меры обеспечат готовность Принслоо и Мейеров отправиться вместе с ним и с заключенным в лагерь на реке, где их ожидает допрос перед большим советом. Фру сумела добиться от комманданта единственной уступки (должно быть, он, ввиду моей печальной участи, все-таки проявил милосердие). Он разрешил фру и моей жене навестить меня и принести еды, но при условии, что они покинут дом не позже десяти вечера. Словом, нужно было действовать быстро. И две женщины, которым помогал готтентот, не медлили, ибо понимали, что другой возможности у них не будет. Пожалуй, стоит здесь сказать, что старая фру в присутствии Ханса предлагала Мари напасть на комманданта, который назначил Перейру моим палачом. Но по зрелом размышлении она отказалась от этой мысли: во-первых, все могло стать еще хуже и лишить меня последних из немногочисленных сторонников, а во-вторых, подобная попытка могла обернуться гибелью Ханса, которого наверняка заподозрят в соучастии. Лишь готтентот знал подробности и мог поведать о заговоре буров, а потому ему вряд ли позволят убежать. Вдобавок необъяснимая смерть слуги-туземца, подозреваемого в измене, как и его хозяин, вряд ли привлечет внимание (таковы были те суровые и кровавые времена). Возможно, фру была права в своих предположениях или могла ошибаться, но, оценивая ее поступки, следует помнить, что она пребывала в неведении относительно героического стремления Мари погибнуть вместо меня. Итак, две женщины и готтентот приступили к осуществлению описанного выше замысла. Правда, Ханс попытался внести кое-какие изменения. Он предложил подпоить охранников тем самым зельем, которое приготовили для меня, а потом втроем — он, я и Мари — бежать к реке и укрыться в тростниках. Оттуда, если повезет, мы доберемся до Порт-Наталя. Там живут англичане, и они нас защитят. Конечно, в задумке Ханса не было ни малейшего смысла. Луна ярко освещала ровный и совершенно открытый вельд, было светло почти как днем, поэтому наш побег заметили бы практически мгновенно. Нас с Хансом сразу схватили бы и казнили немедленно. К тому же, как выяснилось позже, охранникам строго-настрого запретили что-либо пить, поскольку судьи сочли вероятным, что стражу могут отравить. Впрочем, женщины решили воспользоваться этим планом, если выпадет случай; так сказать, это была запасная тетива для их лука. Между тем они занялись необходимыми приготовлениями. Ханс куда-то сбегал и принес зелье, которое вызывает глубокий сон (не помню, добыл ли он эту смесь у местных кафров или изготовил сам). Снадобье добавили в воду, на которой сварили для меня кофе. Его крепкий вкус и насыщенный темный цвет должны были скрыть признаки дурманящей примеси. Себе Мари сделала отдельную порцию. Фру Принслоо тем временем занялась стряпней и вручила Хансу угощение, чтобы он отнес его мне. Но сперва готтентот проверил яму в нескольких ярдах от задней двери дома. По его словам, яма была достаточно просторной, для того чтобы укрыть в ней человека, а ее края обильно поросливысокой травой и кустарником. Затем они втроем вышли наружу и приблизились к двери моего дома, стоявшего в сотне ярдов от жилья Принслоо. Естественно, их остановила охрана. — Господа, — сказала Мари, — коммандант позволил нам принести еды моему мужу, которого вы сторожите. Пожалуйста, пропустите нас. — Проходите, — мягко ответил один охранник, тронутый, должно быть, вежливой просьбой моей жены. — Нам приказано пропустить вас, фру Принслоо и слугу-туземца, хотя не возьму в толк, зачем троим кормить одного. По мне, так он предпочел бы остаться наедине с женой. — Фру Принслоо хочет уточнить у моего мужа кое-что насчет здешнего имущества — как ей быть, когда все наши мужчины уедут в лагерь на реке для повторного разбирательства. Увы, мое сердце скорбит, и я в таких делах не помощница. А готтентот должен получить указания насчет лошадей. Видите, минхеер, все просто. — Что ж, фру Квотермейн, не вижу причин… Стойте-ка! А нет ли оружия под вашей длинной накидкой? — Обыщите меня, если желаете, минхеер. — И Мари распахнула накидку. Охранник кинул на нее беглый взгляд, кивнул и пропустил всех троих внутрь. — Не забудьте, вы должны уйти не позже десяти вечера, — напутствовал он. — Вам запрещено ночевать в этом доме, иначе мы, глядишь, не добудимся этого мелкого англичанина поутру! Вошедшие застали меня за столом: я сочинял пункты в свою защиту и записывал на бумаге обстоятельства своих встреч с Перейрой, Дингааном и покойным генералом Ретифом. Укажу здесь, что в те мгновения я испытывал вовсе не страх, а негодование и отвращение. Я нисколько не сомневался в том, что, когда мое дело вынесут на повторное рассмотрение большого совета, мне удастся доказать собственную невиновность и опровергнуть ужасные измышления, которые обернулись для меня смертным приговором. А потому, когда Мари предложила мне бежать, я едва удержался от грубости и попросил впредь не говорить ничего подобного. — Бежать?! — воскликнул я. — Зачем? Это ведь все равно что признать свою вину, ибо сбегают лишь виноватые. Я же хочу, чтобы дело разъяснилось и ложь этого дьявола Перейры раскрылась. — Аллан, а если ты погибнешь раньше, чем дело разъяснится? — попробовала вразумить меня Мари. — Если тебя застрелят утром? — Тут она встала, проверила, крепко ли закрыто ставней маленькое окно и надежно ли задернута занавеска из мешковины, и прошептала: — Ханс подслушал их, Аллан! Расскажи обо всем своему баасу, Ханс. Пока фру Принслоо, дабы обмануть соглядатаев, если таковые, конечно, за нами наблюдали, разжигала огонь в очаге в соседней комнате и разогревала еду, готтентот поведал мне историю, которую я уже изложил выше. Я слушал, ощущая все большее недоверие. Это казалось поистине невозможным! Нет, Ханс либо что-то напутал, либо откровенно врет; последнее вполне вероятно, учитывая известную склонность готтентота к преувеличениям. Или же он попросту пьян; да, от него точно пахнет спиртным, а я знал, что он способен выпить немало, не выказывая внешних признаков опьянения. — Не могу поверить, — сказал я, когда Ханс закончил рассказ. — Пусть Перейра отъявленный негодяй, но как мог твой отец, Мари, человек добрый и богобоязненный, согласиться на этакое преступление, на хладнокровное убийство мужа своей дочери? Да, он никогда меня не любил, но все же… — Мой отец изменился, Аллан, — ответила Мари. — Порою мне кажется, что он повредился рассудком. — Днем он рассуждал вполне здраво, — возразил я. — Допустим, эта история правдива. Чего вы хотите от меня? — Аллан, я хочу, чтобы ты надел мою одежду и вышел из дому. Фру с Хансом спрячут тебя в укромном месте, а я останусь здесь вместо тебя. — Да ты что, Мари?! — вскричал я. — Если заговорщики и впрямь намерены меня прикончить, они могут убить тебя вместо меня! И потом, нас наверняка поймают, и меня все равно убьют, ведь это будет попытка к бегству, да еще в чужой одежде. Ваш план — чистое безумие, у меня есть предложение получше. Фру Принслоо пойдет к комманданту и расскажет ему все. А если он не захочет слушать, прокричит правду на весь лагерь, с ее-то голосом. Посмотрим, как они тогда забегают! Я уверен, что, если она это сделает, решение застрелить меня поутру, коль уж его в самом деле приняли, будет отменено. Откуда узнали, можно и не говорить. — Да-да, не говорите, — вмешался Ханс, — иначе я знаю, кого застрелят. — Хорошо, — согласилась фру, — я схожу. Она ушла; охранники выпустили ее наружу, сказав несколько слов, которых я не разобрал. Полчаса спустя она возвратилась и громко попросила нас открыть дверь. — Ну? — спросил я. — Пустое дело, племянник, — ответила фру. — Кроме часовых, в лагере никого нет. Коммандант и прочие буры куда-то ускакали и увезли с собою всех наших. — Странно, — проговорил я. — Видно, решили, что тут мало травы для лошадей. Бог весть, что им взбрело на ум. Погодите-ка, я проверю. Я распахнул дверь и окликнул своих охранников, честных людей, с которыми был знаком раньше. — Послушайте, друзья, — обратился я к ним. — Мне тут говорят, что меня не повезут на большой совет завтра утром. Вместо того меня хладнокровно застрелят, едва я выйду из дома. Это правда? — Allemachte, англичанин! — отозвался один из моих тюремщиков. — Ты принимаешь нас за убийц? Нам приказано утром отвести тебя к комманданту. Не бойся, никто не пристрелит тебя, как какого-нибудь кафра. Ты, верно, спятил? Или спятил тот, кто тебе это рассказал. — Я так и подумал, друзья, — ответил я. — Но куда подевался коммандант с честной компанией? Фру Принслоо ходила их повидать, однако никого не нашла. — Зря ходила, — сказал тот же бур. — Нам донесли, что твои дружки-зулусы снова перешли Тугелу, чтобы напасть на нас. Если хочешь знать, мы приехали-то сюда ради того, чтобы их проучить. Коммандант решил поискать стоянку зулусов при яркой луне. Эх, надо было ему тебя с собой прихватить, ты-то наверняка знаешь, где черномазые встали на ночлег. Хватит донимать нас всякими глупостями, которые тошно слушать! И не думай, что сумеешь удрать, раз нас всего двое. Наши «руры» заряжены картечью, и нам приказано стрелять без предупреждения. — Вот так, — объявил я, закрывая дверь. — Вы сами все слышали. Как я и думал, история оказалась выдумкой. Убедились? Ни фру, ни Мари не ответили мне, даже Ханс хранил молчание. Позднее я припомнил, что женщины обменялись какими-то странными взглядами. Разговор с караульными их не убедил, и они намеревались осуществить свой отчаянный план, о чем я совершенно не догадывался. Повторю, что старой фру и Хансу была известна лишь половина плана, а целиком он был ведом одной Мари и надежно таился в ее любящем сердце. — Может, ты и прав, Аллан, — произнесла фру таким тоном, будто уговаривала непослушного ребенка. — Надеюсь, что так и есть. В конце концов, ты ведь можешь отказаться выходить из дому завтра утром, пока не убедишься, что тебе ничто не грозит. Ладно, давайте-ка перекусим. Оттого что мы останемся голодными, лучше никому не станет. Ханс, неси еду. Мы поели — точнее, притворялись друг перед другом, что едим. Испытывая жажду, я выпил две кружки черного кофе, приправленного спиртным вместо молока. После кофе меня вдруг стало клонить ко сну. Последнее, что помню, — устремленный на меня взор Мари, ее чудесные глаза, полные любви… О эти чудные глаза, эти губы, с которых мне так нравилось срывать поцелуи!.. Сны мне снились самые разные, в большинстве своем приятные. Потом я проснулся — и обнаружил себя в земляной яме, имевшей форму бутылки; стены ее были ровными и гладкими. Сразу вспомнился Иосиф, брошенный братьями в колодец в пустыне[235]. Скажите на милость, кому понадобилось запихивать меня в колодец, ведь у меня и братьев-то нет? Или это не колодец? Может, я продолжаю спать и вижу дурной сон? Или я умер? На ум стали приходить, одна за другой, всевозможные причины моей безвременной смерти. Вот только, если я все-таки умер, почему меня похоронили в женском платье? И что за шум заставил меня очнуться? Нет, это вовсе не трубы Судного дня. Где это слыхано, чтобы звук тех труб походил на грохот выстрела из двустволки? Я попытался было выбраться из ямы, но она была глубиной около девяти футов и, судя по свету, проникавшему сверху, имела, как я уже говорил, форму бутылки. Вскарабкаться наверх не получалось. В тот самый миг, когда я оставил свои попытки, в горловине вдруг показалась смуглая физиономия, похожая на лицо Ханса, и вниз свесилась рука. — Баас, если ты проснулся, прыгай! — прошептал голос, удивительно схожий с голосом готтентота. — Я тебя вытащу! Я прыгнул и ухватился за протянутую руку. Спаситель потащил меня вверх, и в конце концов мне удалось вцепиться в край ямы, а затем кое-как выбраться наружу. — Теперь бежим, баас! — воскликнул Ханс, это и вправду был он. — Не то буры тебя поймают! — Буры? — переспросил я. — Какие буры? И разве можно бежать, когда эти тряпки путаются у меня в ногах? Потом я огляделся и, хотя утренний свет едва брезжил, начал узнавать окрестности. Вон, справа, дом семейства Принслоо, а поодаль, ярдах в ста от него, выступает из дымки наше с Мари жилище. Там творилось нечто непонятное, пробудившее во мне любопытство. Какие-то фигуры бегали туда и сюда. Я пожелал узнать, что там происходит, и двинулся было в их направлении, но Ханс вовремя спохватился и увлек меня в другую сторону, продолжая пороть всякую чушь насчет того, что мне нужно бежать. Я упорствовал и сопротивлялся, даже стукнул его пару раз, и наконец он с проклятием выпустил мою руку и куда-то исчез. Я пошел вперед один. Приблизившись к дому — смутно припоминалось, что это должен быть мой дом, — я увидел в десяти-пятнадцати ярдах от двери кого-то, лежащего вниз лицом, и отметил, что на нем почему-то моя одежда. Фру Принслоо в своем нелепом ночном одеянии ковыляла к простертому телу, а поодаль маячил Эрнанду Перейра, перезаряжавший свою двустволку. Рядом, глядя на него, застыл Анри Марэ, в лице которого не было ни кровинки; одной рукой он привычно теребил бороду, а в другой сжимал ружье. Дальше стояли две оседланные лошади, за которыми приглядывал какой-то кафр с глупой физиономией. Фру Принслоо подошла к недвижно лежащему человеку, облаченному в наряд, который почему-то напоминал мою привычную одежду, с очевидным усилием наклонилась, перевернула тело, вгляделась в лицо и закричала: — Иди сюда, Анри Марэ! Взгляни, что натворил твой ненаглядный племянничек! У тебя была дочь, Анри Марэ, свет твоих очей, как ты говорил! Иди же, посмотри, что сделали с ней! Марэ медленно, словно нехотя, двинулся к фру Принслоо; казалось, он не понимал, что ему говорят. Он остановился над телом, опустил голову и устремил взгляд вниз. А потом вдруг будто обезумел. Широкополая шляпа слетела с его головы, длинные волосы встали дыбом. Борода встопорщилась и распушилась, как птичьи перья в студеную погоду. — Дьявол! — вскричал он, поворачиваясь к Эрнанду Перейре. Голос его напоминал рев дикого зверя. — Дьявол! Ты убил мою дочь! Мари не захотела связать свою жизнь с тобой, и ты отомстил ей! Я отплачу тебе! С этими словами он вскинул ружье и выстрелил прямо в грудь Перейре. Тот медленно осел наземь и, негромко постанывая, повалился навзничь. Тут я заметил, что к нам приближаются верховые — большое число всадников, взявшихся неизвестно откуда. Одного из них я узнал даже в своем тогдашнем полуживом состоянии, в полузабытьи, ибо этот человек слишком хорошо мне запомнился. Это был вечно хмурый коммандант, что допрашивал меня и приговорил к смерти. Он спешился и, глядя на два тела на земле, спросил громким, командирским голосом: — Что все это значит? Кто эти мужчины? Почему в них стреляли? Объяснитесь, Анри Марэ! Мужчины?! — горестно воскликнул Марэ. — Нет, это не мужчины! Одна — женщина, моя единственная дочь, а второй — сущий дьявол, который, как положено дьяволу, не желает умирать! Видите, он жив, жив! Дайте мне другое ружье, я наконец его пристрелю! Коммандант озадаченно огляделся. Его взор упал на фру Принслоо. — Что тут произошло, фру? — спросил он. — Ничего особенного, — ответила фру, чей голос был неожиданно ровным. — Ваши убийцы, которых вы послали, прикрываясь законом и справедливостью, совершили ошибку. Вы приказали им убить Аллана Квотермейна, бог весть из-за чего. А они вместо того убили его жену. Коммандант прижал ладонь ко лбу и застонал, а я, постепенно приходя в себя, кинулся к ним, потрясая кулаками и что-то бессвязно выкрикивая. — Кто это? — пробормотал коммандант. — Это женщина или мужчина? — Это мужчина в женской одежде! Это Аллан Квотермейн! — ответила фру. — Мы дали ему снотворное и пытались спрятать от ваших мясников. — Боже всемогущий! — вскричал коммандант. — Мы на земле или уже в преисподней?! Раненый Перейра между тем приподнялся на локте. — Я умираю! — проскулил он. — Жизнь вытекает из меня по капле. Но прежде я должен рассказать все. Все, в чем я обвинял англичанина, все, что я тут городил, — ложь. Он никогда не сговаривался с Дингааном против буров. Это я, я подстрекал Дингаана. Ретиф меня прогнал, и я его возненавидел, но я не хотел смерти генерала, не хотел, чтобы погибли наши братья. Я мечтал об одном: прикончить Аллана Квотермейна, который отнял у меня ту, кого я любил, но вышло так, что погибли все прочие, а он уцелел. Я пришел сюда и узнал, что Мари стала его женой — его женой! — и ненависть пополам с ревностью свела меня с ума. Я дал ложные показания против англичанина, а вы, дурачье, поверили мне и приказали застрелить человека, невиновного перед Богом и людьми! Я выстрелил… Эта женщина снова обвела меня вокруг пальца — в последний раз! Она переоделась мужчиной, и в утреннем свете зрение меня подвело. Я убил ее, убил ту единственную, кого любил, а ее отец, который души не чаял в Мари, отомстил мне за ее смерть… К тому времени я осознал все, мой одурманенный зельем рассудок наконец-то освободился от чар. Я подбежал к этому негодяю — со стороны, должно быть, мужчина в женской одежде выглядел потешно и нелепо, — кинулся на Перейру и вышиб из него дух. А затем, стоя над его мертвым телом, вскинул руки в воздух и крикнул: — Люди, поглядите, что вы натворили! Да воздаст вам Господь сторицей за все зло, какое вы причинили ей и мне! Буры спешились, окружили меня, принялись оправдываться, даже заплакали. Я же в помрачении бросался на людей, с другой стороны на них нападал уже совсем лишившийся ума от горя Анри Марэ, а фру Принслоо, потрясая могучими кулаками, призывала на головы буров кары Господни за пролитую невинную кровь и проклинала бурские семейства до скончания веков. Больше не помню ничего. Очнулся я две недели спустя на койке в доме фру Принслоо. Все это время меня не отпускала тяжелая болезнь. Буры разъехались, на север и на юг, на восток и на запад, а мертвых давно похоронили. Уехавшие забрали с собою Анри Марэ, увезли в запряженной волами повозке, к которой он был привязан, поскольку постоянно бесновался. Впоследствии, как мне говорили, он успокоился и прожил на свете еще много лет, бродил по улицам и просил всех, кого встречал, отвести его к Мари. Но хватит об этом несчастном… Среди буров разошелся слух, что Перейра убил Мари из ревности и был застрелен за это отцом девушки. Но в те дни, наполненные войной и кровопролитием, случалось столько трагедий, что об этой истории довольно быстро позабыли, особенно если учесть, что люди, так или иначе к ней причастные, предпочитали помалкивать о подробностях. И я тоже молчал, ибо никакая месть не могла исцелить мое разбитое сердце. Мне принесли записку, найденную на груди Мари и залитую ее кровью. В записке говорилось:Муж мой! Трижды ты спасал мою жизнь, и теперь настал мой черед спасти жизнь тебе. Иного выбора нет. Может быть, они убьют тебя потом, но даже если так, я буду рада умереть первой и встретить тебя по ту сторону бытия. Я дала тебе снотворное, Аллан, потом обрезала волосы и переоделась в твою одежду. Затем мы с фру Принслоо и Хансом обрядили тебя в мое платье. Они вывели тебя наружу под тем предлогом, что миссис Квотермейн стало дурно, и охранники пропустили их безо всяких расспросов. А я стояла в дверях, и они приняли меня за тебя. Не знаю, что будет далее. Я пишу это, расставшись с тобой. Питаю надежду, что ты уцелеешь, вопреки всему, и проживешь долгую и счастливую жизнь, пускай даже ее сладчайшие мгновения будут омрачены воспоминаниями обо мне. Я знаю, ты любишь меня, Аллан, и всегда будешь любить, а я всегда буду любить тебя. Свеча догорает — вместе со мной. Прощай, прощай, прощай! Все людские истории обречены на завершение, но в конце времен мы непременно увидимся снова. До тех пор — храни тебя Бог! Хотела бы я сделать для тебя больше, ведь умереть за того, кого любишь всем сердцем, кому предана душой и телом, — невеликая заслуга. Я была твоею женой, Аллан, и останусь твоею женой до тех пор, покуда существует этот мир. Небеса же вечны, и там, Аллан, мы встретимся с тобой. Свеча погасла, но в сердце моем вспыхнул новый свет.Думаю, сказанного достаточно.Твоя Мари
Вот история моей первой любви. Те, кто прочел ее, если таковые вообще найдутся, поймут, почему я никогда не рассказывал этого раньше и не хотел, чтобы обо всем этом стало известно прежде, чем я тоже сойду в могилу и воссоединюсь с моей любимой, чистой душою Мари Марэ.Аллан Квотермейн
ДИТЯ БУРИ
Как греки сражались под Троей из-за Елены Прекрасной, так зулусы сражались из-за Мамины.
Посвящение
Джеймсу Стюарту, эсквайру, бывшему помощнику государственного секретаря по вопросам коренных народов в отставке, НатальДорогой мистер Стюарт![236] Поскольку Вы состояли в должности помощника государственного секретаря по вопросам коренных народов в Натале в течение двадцати лет, если не ошибаюсь, а также пребывали и на других постах в провинции, то имели возможность довольно близко узнать зулусов. Более того, Вы один из тех немногих, кто предпринял серьезное научное изучение языка, обычаев и истории этого народа. Тем сильнее, признаюсь, была моя радость, когда из Вашего письма мне стало известно: Вы были настолько добры, что прочитали мою книгу — вторую часть эпопеи о мести Зикали, Того, кому не следовало родиться, и о закате рода Сензангаконы[237], — и находите, что в ней мне в полной мере удалось воплотить истинный дух зулусов. Необходимо упомянуть, что период моего знакомства с этим народом завершился незадолго до начала Вашего. Свои знания о зулусах я почерпнул в то время, когда Кечвайо[238], о котором повествует моя книга, находился в зените славы, предшествовавшей тому злосчастному часу, когда он, руководствуясь возникшим в результате аннексии Трансвааля недовольством большинства притесненных соплеменников, выступил против британских сил. Многое я узнал о зулусах в результате личных наблюдений в семидесятых годах[239], а также из уст великого Шепстона[240], моего босса и друга, и от моих сослуживцев Осборна, Финнея, Кларка и других — всех до единого давно почивших в бозе. Возможно, это даже к лучшему, что случилось все именно так, во всяком случае для желающего писать о зулусах как о могущественном племени, каковым они ныне перестали быть, и пытающегося изобразить их такими, какими они были, во всем их суеверном безумии и кровавом величии. Впрочем, порочность уживалась в них с добродетелью. Служить своей стране с оружием в руках, умирать за нее и за своего короля — вот их примитивный идеал. Даже если они и были по природе своей довольно свирепыми, они были верными подданными, не боявшимися ни ран, ни самой смерти; когда они внимали зловещим наставлениям шамана, в ушах их неизменно громко продолжал звучать трубный зов долга; когда, следуя велению своего короля, они с жутким кличем «Ингома!» шли беспощадно убивать, по крайней мере, они не были подлыми или пошлыми. Подлость и пошлость бесконечно далеки от тех, кому день за днем приходится сталкиваться с величайшими вопросами жизни или смерти. Эти качества суть достояние безопасных и перенаселенных обиталищ людей цивилизованных, а не краалей дикарей банту; любые попытки отыскать такие пороки здесь, во всяком случае в прежние времена, оказывались тщетными. Теперь все изменилось, или, по крайней мере, так я слышал, и разумеется, эти перемены лучше неопределенности. Нам остается только догадываться, какие мысли роятся в голове престарелого воина, чья молодость пришлась на времена Чаки[241] или Дингаана, пока он греется на солнышке, присев на земле, там, где некогда стоял, например, королевский крааль Дугуза, и наблюдает за тем, как мужчины и женщины, в жилах которых течет зулусская кровь, возвращаются домой из городов или шахт, одурманенные контрабандным спиртным белого человека, кутающиеся в нелепые обноски белого человека и, быть может, прячущие в своих одеялах-попонах образчики сомнительных фотографий белого человека, а затем закрывает свои запавшие глаза и припоминает украшенные плюмажем и одетые в килты полки, под ногами которых дрожала эта самая земля, когда под громовой салют, линия за линией, рота за ротой они бросались в бой. Что ж, поскольку это настоящее не привлекает меня, именно о минувшем времени я попытался написать — о времени импи, охотников на ведьм и соперничающих наследных принцев, — и сделал это небезуспешно, как с радостью узнал от Вас. В силу всего вышесказанного, поскольку Вы, величайший эксперт, одобряете предпринятые мной усилия в столь редко посещаемой сфере, как история зулусов, я прошу у Вас разрешения поместить Ваше имя на этой странице. С благодарностью и искренним уважением,
Г. Райдер Хаггард.Дитчингем, 12 октября 1912 года
От автора
Считаю необходимым отметить, что история мистера Аллана Квотермейна о порочной и восхитительной Мамине, этакой зулусской Елене Прекрасной, во многом опирается на исторические факты. Отставив в сторону Мамину и ее козни, можно смело утверждать: история борьбы между принцами Кечвайо и Умбелази[242] за наследование трона Зулуленда совершенно достоверна. Когда страну всколыхнули беспорядки из-за непреодолимых разногласий между сыновьями короля Панды, их отец, сын Сензангаконы и брат великого Чаки и Дингаана, правивших до него, объявил следующее: «Когда два быка ссорятся, им лучше решить все в схватке». Так, по крайней мере, мне рассказывал покойный мистер Ф. Б. Финней, с которым мы вместе работали в период, когда произошла аннексия Трансвааля в 1877 году; он состоял на службе в пограничном контроле Зулуленда и знал в то время об этой стране и ее народе, быть может, больше, чем кто-либо другой, за исключением разве что покойных сэра Теофила Шепстона и сэра Мельмота Осборна. Эти слова, прозвучавшие из уст разгневанного короля, привели к тому, что в декабре 1856 года между сторонниками Кечвайо, узуту, и приверженцами его брата Умбелази Красивого, прозванного зулусами Индхлову-эне-Сихлонти, или Слон с хохолком, из-за маленького пучка волос, росшего у него внизу спины, грянула великая битва при Тугеле. Моему другу, сэру Мельмоту Осборну, умершему, кажется, в 1897 году, довелось присутствовать при этой битве, хотя сам он в боевых действиях участия не принимал. В моей памяти еще свежа его захватывающая история, рассказанная мне более тридцати лет назад, о событиях того ужасного дня. Ранним утром или, быть может, накануне ночью, не припомню, когда именно, сэр Мельмот Осборн на лошади переправился через Тугелу и укрылся на поросшем кустарником невысоком холме, прикрыв глаза животному своим плащом, дабы оно не выдало его. Случилось так, что эта великая битва, в которой сражался полк ветеранов, присланный королем Пандой на подмогу Умбелази, своему любимому сыну, в самый последний момент, как поведал мне об этом сэр Мельмот, разразилась у подножия того самого холма. Мистер Квотермейн в своем повествовании называет этот полк амавомба, однако мне припомина ется, что сэр Мельмот Осборн называл их «седыми», или упунга. Как бы на самом деле они ни назывались, оказанное ими сопротивление было поистине геройским. Во всяком случае, сэр Мельмот рассказывал мне, что, когда импи, полки армии Умбелази, дрог нули под стремительным натиском узуту, эти «седые» выдвинулись против них в количестве трех тысяч воинов, выстроившись в тройную линию, и были атакованы одним из полков Кечвайо. Противоборствующие силы встретились, и, столкнувшись, рассказывал сэр Мельмот, их щиты прогрохотали, подобно мощному раскату грома. Затем на его глазах «седые» нахлынули на вражеский полк, «как волна накатывает на скалу» — именно такими были его слова, — и, оставив почти треть своих убитыми или ранеными вперемешку с телами поверженных противников, «седые» вновь пошли в атаку, чтобы вступить в борьбу со вторым полком, брошенным против них Кечвайо. Отчаянная схватка повторилась, и вновь «седые» одержали верх. Только на этот раз в строю у них осталось не более пяти или шести сотен. И тогда выжившие воины побежали к подножию холма, замкнули вокруг него кольцо и долгое время отражали таким образом атаки третьего полка, пока в конце концов не полегли все до единого, оказавшись погребенными под телами своих поверженных противников, узуту. Воистину геройской была их гибель в битве против многократно превосходившего их численностью врага. Что же до количества павших в той битве при Тугеле, мистер Финней в написанной им брошюре сообщает, что в ней полегли шесть братьев Умбелази, «тогда как всего среди погибших насчитывается более 100 000 человек — мужчин, женщин и детей», — точную цифру потерь определить не представляется возможным. Однако некий загадочный персонаж по имени Джон Данн[243], англичанин, ставший предводителем зулусов и принимавший участие в этой битве, согласно рассказу мистера Квотермейна, называет цифры много ниже. Истинное число погибших мы уже никогда не узнаем, но сэр Мельмот Осборн поведал мне, что, когда он в ту ночь пустился в обратный путь и ему снова пришлось переправляться на своей лошади через Тугелу, река была черна от тел; сэр Теофил Шепстон тоже говорил мне, что, побывав на месте битвы спустя день или два, видел берега реки, усеянные телами мужчин и женщин. Именно от мистера Финнея я слышал историю о том, как Кечвайо казнил человека, который явился к нему с украшениями Умбелази и заявил, будто принц пал от своей собственной руки. Конечно, этот рассказ, на что указывает и мистер Квотермейн, поразительно напоминает старозаветное описание смерти царя Саула, однако из этого никоим образом не следует, что рассказанное выше является вымыслом. Во всяком случае, мистер Финней заверил меня, что так все и было на самом деле, хотя, если при этом он и привел мне какие-то доказательства, я не в состоянии вспомнить их теперь, по прошествии более тридцати лет. Подробности обстоятельств смерти Умбелази неизвестны, но в общем отчете сообщается, что умер он не от ассегая узуту, а от разбитого сердца. По другой версии, он якобы утонул. Поскольку тела его так и не нашли, существует вероятность, что он действительно погиб в водах Тугелы, — именно такое предположение читатель найдет на страницах этой книги. Мне лишь остается добавить, что, в соответствии с верованиями зулусов, человека, убившего или предавшего кого-либо, до самой его смерти будет преследовать призрак того, кого он убил или предал, или, если быть более точным, его дух («умойя») вселится в своего убийцу и сведет того с ума. Либо же этот дух может навлечь несчастья на него самого, его семью или его племя.Г. Райдер Хаггард
Глава 1
АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН УЗНАЕТ О МАМИНЕ
Мы, люди белой расы, полагаем, что знаем все. Мы, например, думаем, что постигли природу человека. Так оно и есть, но мы постигли ее лишь в том виде, в котором она предстает перед нами, со всеми ее ловушками и малозначительными деталями, явленными нам сквозь мутное стекло наших условностей, пропуская те аспекты, о которых мы позабыли или считаем неделикатным говорить. Я же, Аллан Квотермейн, размышляя об этих вещах как человек невежественный и необразованный, всегда полагал, что постичь человеческую природу по силам лишь тому, кто изучил ее в «дикой» форме. А с этими ее проявлениями я был отлично знаком. Большую часть жизни мне приходилось иметь дело с «сырым» материалом, с девственной рудой, а не с завершенным украшением, которое в итоге изготавливают из нее, — если, конечно, о нем можно говорить как о завершенном, в чем я весьма сомневаюсь. Уверен, придет время, когда в глазах будущих совершенных поколений — если цивилизация, как мы ее понимаем, в самом деле имеет будущее и этим поколениям будет дарован шанс насладиться своим часом в нашем мире, — мы будем выглядеть как примитивные, полуразвитые существа, единственная заслуга которых состоит лишь в том, что мы передали искру жизни своему потомству. Возможно, возможно… Ведь все познается в сравнении, и в то время как на одном конце лестницы стоит обезьяночеловек, на другом, как надеемся мы, стоит ангел. Нет, не ангел, обитатель иных сфер, но последнее выражение человечности, гадать о достоинствах которого я даже не берусь. Пока человек остается человеком — то есть до той минуты, когда смерть отправит его из материального существования в духовное, коли такой подарок уготовит ему судьба, — человеком он и останется. Я хочу сказать, те же страсти будут управлять им; те же честолюбивые замыслы будут манить и устремлять его; он познает те же радости и будет подавляем теми же страхами, живи он в нищей хижине кафра или в золотом дворце; передвигайся он на своих двоих или же (насколько мне известно, это случится однажды) летай он по воздуху. Определенно одно: пребывая в своем физическом теле, человек является частью окружающей его атмосферы, и пока он дышит содержащимся в ней воздухом, в главном, хоть и с некоторыми вариациями, обусловленными климатом, местными законами и религией, он поступает так же, как на протяжении неисчислимых веков поступали его предки. Вот почему я всегда находил туземцев такими интересными, ведь в них мы со всей очевидностью видим воплощение тех внутренних принципов, которые управляют судьбой человека. Желая покончить с этими обобщениями, замечу напоследок, что именно по этой причине я, который терпеть не может писанину, счел сто́ящим затраченного времени и усилий, по крайней мере по моим собственным расценкам, решение занять свой досуг в чужой для меня стране — хоть я и рожден в Англии, я не считаю ее своим домом, — и записать несколько случаев из собственного прошлого, которые, по моему мнению, объясняют эту нашу универсальную природу. Может статься, никто и никогда не прочтет их; и тем не менее полагаю, что записать эти истории все же необходимо: кто знает, не попадут ли они в один прекрасный день в руки тех, для кого будут представлять определенную ценность. Как бы там ни было, это подлинные истории об интересных племенах, которым, если, конечно, им удастся выжить в дикой борьбе народов, суждено пройти через великие перемены. Потому-то я и рассказываю о них сейчас, пока перемены их еще не настигли. В первой из моих историй, которую я хотел бы сохранить для будущего, предав ее бумаге, хоть и записываю ее не в строгом хронологическом порядке, повествуется главным образом об удивительно красивой женщине; за исключением, разумеется, Нады, именуемой Черной Лилией, о которой я тоже когда-нибудь расскажу, думается, это была самая прекрасная женщина из всех, когда-либо живших в племени зулусов. Вместе с тем это была самая умная, самая порочная и самая честолюбивая женщина. Мамина, дочь Умбези, — по словам зулусов, ее имя звучало очень притягательно, особенно для тех, кто был влюблен в нее. Но звали ее также и другим именем — Дитя Бури (Ингане-ие-Сипепо, или, проще и короче, О-ве-Зулу), поскольку она появилась на свет в ночь, когда свирепствовала буря. Имя «Ма-мии-на» произошло от шума ветра, завывавшего за стенами хижины, в которой она родилась. Поселившись в Англии, я прочел — разумеется, в переводе — историю Елены Троянской, пересказанную греческим поэтом Гомером. Должен признаться, Мамина во многом напоминает мне Елену или, скорее, Елена напоминает Мамину. Во всяком случае, между ними существовало определенное сходство, хотя одна обладала черной кожей или, скорее, медно-красной, а другая — белой: обе они были красивы, более того, обе были вероломны и оказались повинны в гибели сотен мужчин. На этом, пожалуй, сходство и заканчивается, поскольку в Мамине я видел больше огня и твердости характера, чем в бедняжке Елене, которая, если, конечно, Гомер не представляет нам ее в ложном свете, была, по большому счету, не более чем игрушкой в руках богов. Само воплощение красоты, которое греческие боги, эти старые плуты, использовали, чтобы расставить свои ловушки, угрожавшие жизни и чести многих достойных мужей, — вот кем была Елена, не более того; именно такой она видится мне, человеку, не познавшему преимуществ классического образования. Мамина же, хоть и была суеверной — подобная слабость присуща многим великим умам, — при этом не признавала никаких богов, как мы их понимаем, расставляла свои собственные ловушки, с переменным успехом, но с довольно определенной целью: занять главенствующее положение в знакомом ей мире — мятежном, залитом кровью мире зулусов. Однако пусть читатель судит об этом сам, если, конечно, кого-нибудь когда-нибудь привлечет рассказанная мной история. Впервые я встретил Мамину в 1854 году, и мое знакомство с ней длилось до 1856 года, внезапно прервавшись вследствие кровопролитного сражения при Тугеле, в котором Умбелази, сын Панды и брат Кечвайо, — также, на свою беду, встретивший Мамину, — лишился жизни. В те дни я был еще довольно молод, хотя уже успел похоронить свою вторую жену, как я прежде упоминал в своих записях, после нашего счастливого, но недолгого брака. Оставив своего маленького сына в Дурбане на попечение добрых людей, я отправился в Зулуленд, страну зулусов, хорошо знакомую мне еще с юности, чтобы вновь с головой окунуться в дикую жизнь, занявшись охотой и коммерцией. Что до торговли, то она меня никогда особо не занимала, да и, признаюсь, не лежит у меня к ней душа, о чем можно догадаться из того малого, чего мне удалось достичь на сем поприще. Охота же нужна мне как воздух, и вовсе не потому, что мне нравится убивать живых существ: любой человек довольно скоро пресыщается, проливая кровь. Нет, здесь дело в упоительном спортивном азарте, который был довольно высок, могу вас уверить, и до появления казнозарядного оружия[244]; в чувстве единения с дикой природой, когда ты оказываешься с ней один на один, а твоими спутниками зачастую являются лишь солнце да звезды; в бесконечных приключениях; в неизвестных племенах, с которыми мне доводилось вступать в контакт, — короче говоря, постоянные перемены, опасность и надежда открыть для себя что-то значительное и неизведанное — вот что всегда влекло и продолжает влечь меня, даже теперь, когда я уже нашел это новое и значительное… Ну, будет, я не должен продолжать писать в таком духе, иначе не выдержу, отложу в сторону ручку и бумагу и отправлюсь в Африку — в тот самый мир неизведанного и великого! Если память мне не изменяет, в мае 1854 года, с разрешения Панды, которого буры провозгласили королем Зулуленда после поражения и смерти его брата Дингаана, я охотился в дикой местности между двумя рукавами реки Умфолози, Белым и Черным. Из-за крайне неблагоприятного в плане малярии климата я отправился туда в зимние месяцы. В этой поросшей густым кустарником местности дороги отсутствовали вовсе, и я счел благоразумным не брать с собой фургон с багажом, а поскольку ни одна лошадь не могла бы выжить в вельде, решил идти пешком. Моими верными спутниками были метис Сикаули, которого обычно звали сокращенно — Скоул, вождь зулусов Садуко и глава клана Ундвандве по имени Умбези, в горном краале которого милях в тридцати отсюда я оставил фургон кое с кем из своих людей присматривать за товарами и слоновой костью, которую я уже успел к этому времени выменять. Этот Умбези был полным, добродушным мужчиной лет шестидесяти и, что редко встречается среди аборигенов, относился к охоте не как к промыслу, а любил сам процесс. Будучи предупрежден об этой его особенности, а также о том, что он хорошо знает местность и слывет отличным следопытом, я пообещал Умбези ружье в случае, если он пойдет со мной, прихватив с собой еще нескольких охотников. Было у меня в запасе довольно скверное, видавшее виды ружье, имевшее обыкновение палить при полувзведенном курке; но даже после того, как Умбези увидел его, а я честно объяснил, в чем кроется недостаток оружия, он прыгал от радости. — О Макумазан, — (такое имя дали мне туземцы, оно означает «Исключительный», но многие его переводят, не знаю почему, как «Бодрствующий в ночи»), — обладать ружьем, которое порой стреляет, когда не ждешь, гораздо лучше, чем совсем не иметь ружья, у тебя большое сердце, хозяин, раз ты обещаешь его мне. Ведь, когда оружие белого человека станет моим, все жители меж двух рек будут глядеть с почтением и бояться меня. Во время своей восторженной речи он взял в руки ружье, которое было заряжено, я же, заметив это, встал позади него. Как и следовало ожидать, громыхнул выстрел, Умбези отбросило назад — у этого ружья была дьявольская отдача, — и пуля срезала кончик уха одной из его жен. Женщина с воплем бросилась наутек, оставив на земле кусочек уха. — Подумаешь! — проговорил Умбези, приходя в себя и с удрученным видом потирая плечо. — Лучше бы злой дух этого ружья отрезал ей язык, а не ухо! Дряхлая Старая Корова сама виновата, вечно всюду сует свой нос, как обезьяна. Теперь ей есть о чем трепать языком, зато хоть ненадолго оставит меня в покое. Благодарю духа предков, что это была не Мамина, а то б ее наружность пострадала… — Мамина? Кто это? — спросил я. — Твоя последняя жена? — Нет-нет, Макумазан, об этом я могу только мечтать, потому что тогда у меня была бы самая красивая жена во всей стране. Мамина моя дочь, но не от Старой Коровы. Мать родила ее в ночь Великой бури и умерла. О Мамине тебе лучше расспросить Садуко, — добавил Умбези, широко улыбнувшись и оторвав свой взгляд от ружья, которое он осматривал с такой опаской, словно то, даже будучи разряженным, могло выстрелить еще раз, и кивком указал на кого-то у себя за спиной. Я повернулся и впервые увидел Садуко, тотчас разглядев в нем человека, сильно отличавшегося от всех прочих туземцев. Это был высокий, прекрасно сложенный юноша, грудь его покрывали многочисленные шрамы от ассегаев, указывающие на то, что он уже стал воином, но еще не удостоился чести закреплять в своей прическе исикоко — кольцо из заплетенных вокруг жилы и облитых воском тростниковых полосок, — являвшееся символом, который, с дозволения короля, зулусам можно было носить только по достижении определенного возраста или как награду за свершение славных дел. Однако лицо юноши поразило меня даже больше, чем мужественная грация, сила и статность его стройного тела. Спору нет, лицо Садуко было очень красивым, но оно так не походило на лица негроидного типа; на самом деле, внешне он скорее напоминал араба с очень темной кожей, и не исключено, что именно от одного из арабских племен он и вел свое происхождение. Глаза Садуко тоже были необычны: большие и печальные, а его несколько отстраненная, полная достоинства манера держаться выдавала породу и быстрый ум. — Сийякубона (что значит «мы видим тебя», а по-английски — «доброе утро»), Садуко, — проговорил я, с любопытством разглядывая его. — Скажи мне, кто такая Мамина? — Инкози, — ответил он низким голосом и взмахнул своей красиво очерченной сильной рукой в знак приветствия, польстив своим почтительным обращением моему самолюбию простого белого охотника, — разве ее отец не сказал вам, что она его дочь? — Верно, — весело отозвался старый Умбези, — но чего ее отец не сказал, так это того, что Садуко — ее возлюбленный или, скорее, мечтает им стать. Ты, Садуко, — продолжал он, погрозив молодому человеку толстым пальцем, — верно, с ума сошел, если думаешь, что такая девушка может принадлежать тебе? Дай мне для начала сто голов скота, и тогда я, пожалуй, подумаю об этом. Но у тебя нет и десятка, а Мамина — моя старшая дочь и должна выйти за человека богатого. — Она любит меня, Умбези, — возразил Садуко, опуская взгляд. — Это важнее скота. — Для тебя, Садуко, может, и важнее, но не для меня, ведь я беден и хочу иметь коров. К тому же, — добавил Умбези, устремив на него проницательный взгляд, — так ли уж ты уверен, что Мамина любит тебя, хоть ты и такой красавчик? По моему разумению, что бы ни говорили ее глаза, сердце Мамины не любит никого, кроме нее самой; в конце концов, вот увидишь, она последует велению своего сердца, а не своих глаз. Красавица Мамина не захочет стать женой бедняка, чтобы всю жизнь потом выпалывать мотыгой сорняки. Однако приведи мне сто голов скота, и тогда посмотрим, ведь, по правде сказать, будь ты знатным вождем, я не желал бы себе лучшего зятя, разве что Макумазана, — при этих словах он ткнул меня локтем в бок, — который бы возвеличил мой дом. Во время этой речи Садуко беспокойно переминался с ноги на ногу: мне показалось, он согласен с оценкой Умбези относительно характера его дочери. Но он только сказал: — Скот можно купить. — Или украсть, — подсказал Умбези. — Вернее, захватить в виде добычи на войне, — поправил Садуко. — Когда у меня будет сотня голов, я напомню тебе твои слова, о отец Мамины. — И на что ты тогда будешь жить сам, дурень, если отдашь мне весь свой скот? Нет-нет, прекрати нести чушь. Прежде чем ты успеешь раздобыть сотню коров, Мамина уже нарожает шестерыхдетишек, но отцом они будут звать не тебя. А, что, не нравится? Ты уходишь? — Да, я ухожу. — Глаза его, обычно смотревшие спокойно, сверкнули. — Только пусть тогда человек, которого они станут звать отцом, остерегается Садуко. — Остерегайся лучше собственных слов, юнец, — сурово ответил Умбези. — Хочешь пойти по дорожке отца? Надеюсь, что нет, потому что ты нравишься мне; но такие слова не забываются. Садуко уже шел прочь, делая вид, будто не слышал его. — Кто он, этот Садуко? — спросил я. — Он из знатного рода, — коротко ответил Умбези. — И уже теперь мог бы быть великим вождем, если бы не его отец, заговорщик и колдун. Дингаан разоблачил его. — Он повел рукой из стороны в сторону — жест, много значивший у зулусов. — Тогда почти всю его родню убили: самого вождя, его жен, детей и даже его воинов — всех, кроме Тшозы, его брата, и Садуко, его сына, которого укрыл у себя Зикали — древний карлик, Разоблачитель злодеев, состарившийся еще задолго до того, как Сензангакона стал отцом королей. Даже говорить об этом страшно, — сказал он, содрогнувшись. — Пойдем, белый человек, полечи мою Старую Корову, иначе она меня совсем со свету сживет. И я отправился осматривать Старую Корову — вовсе не из любопытства к сварливой и древней старухе, брошенной жене какого-то вождя, на которой в незапамятные времена хитроумный Умбези женился по политическим соображениям, — но лишь в надежде побольше узнать о заинтересовавшей меня Мамине. Войдя в большую хижину, я нашел там пострадавшую, так неучтиво прозванную Старой Коровой, в довольно жалком состоянии. Окруженная толпой женщин и детей, она лежала на полу, вся в крови, которая продолжала сочиться из ее раны. Через равные промежутки времени она объявляла, что умирает, и следом испускала жуткий вопль, тотчас подхватываемый всеми присутствующими в хижине. Короче говоря, здесь творился сущий ад. Я попросил Умбези выпроводить посторонних из хижины и отправился за лекарствами, велев своему слуге, Скоулу, забавного вида малому с кожей светло-желтого оттенка и ярко выраженными чертами готтентота, промыть тем временем рану. Когда десять минут спустя я подходил к хижине, крики из нее доносились еще более душераздирающие, чем раньше, хотя хор сочувствующих стоял теперь снаружи. В этом не было ничего удивительного: зайдя внутрь, я обнаружил, что Скоул подравнивает покалеченное ухо Старой Коровы тупыми ножницами для ногтей. — О Макумазан, — хрипло зашептал Умбези, — не лучше ли оставить ее в покое? Если она истечет кровью до смерти, по крайней мере, станет тише. — Да ты человек или гиена? — рявкнул я грозно и принялся за дело, велев Скоулу зажать голову бедной женщины у себя между колен. Вскоре нехитрая операция по прижиганию раны — полагаю, это медицинский термин — крепким раствором каустической соды, который я нанес на кожу при помощи птичьего перышка, была кончена. — Ну вот, мамаша, — сказал я, оставшись с ней в хижине наедине, поскольку Скоул бежал, укушенный пострадавшей в икру. — Теперь ты не умрешь. — Да, гадкий белый человек, не умру, — горестно всхлипнула она. — Но как же моя красота? — Ты станешь еще краше, чем прежде, — ответил я. — Ни одна женщина не может похвастать ухом с таким изгибом. Кстати, о красоте, скажи мне, где Мамина? — Не знаю я, где она, — злобно прошипела женщина, — но зато я отлично знаю, где бы она оказалась, будь на то моя воля! Это она, эта голодранка, — здесь Старая Корова добавила некоторые эпитеты, повторять которые я не стану, — навлекла на меня несчастье! Мы с ней вчера малость повздорили, белый человек, а она, между прочим, колдунья, так вот, она напророчила мне беду. Да, когда я не нарочно оцарапала ей ухо, она сказала, что в скором времени мое ухо сгорит, и оно действительно горит, аж мочи нет. — (Это было, несомненно, именно так, поскольку каустическая сода начала действовать). — О белый дьявол! — снова завыла она. — Ты околдовал меня, ты зажег в моей голове огонь! Она схватила глиняный горшок и запустила в меня со словами: — Вот тебе плата за твое врачевание! Проваливай, ползи за Маминой, как остальные, и пусть она хорошенько полечит тебя! К этому моменту я уже наполовину выбрался из низкого полукруглого входа в хижину, а горшок с горячей водой, брошенный мне вслед, заставил меня поспешить. — Что стряслось, Макумазан? — спросил ожидавший снаружи старый Умбези. — Ровным счетом ничего, друг мой, — ответил я с безмятежной улыбкой. — Твоя жена хочет видеть тебя немедля. Ей больно, она желает, чтобы ты утешил ее. Входи, не мешкай. Умбези немного помедлил и вошел, то есть половина его скрылась в хижине. Тут же послышался жуткий треск, и он вынырнул наружу с ободком горшечного горлышка на шее, лицо же его было вымазано тем, что я принял за мед. — Так где же Мамина? — спросил я Умбези, когда он уселся, отплевываясь. — Там, где я сам хотел бы быть, — ответил он хрипло, — в краале, что в пяти днях пути отсюда. Вот так я впервые услышал о Мамине. В ту ночь я сидел под парусиновым навесом моего фургона, курил трубку и посмеивался про себя, вспоминая происшествие со Старой Коровой, незаслуженно названной «дряхлой», и гадая, удалось ли Умбези смыть мед со своей шевелюры. Вдруг полог навеса приподнялся, и в фургон забрался закутанный в накидку из звериных шкур кафр и сел передо мной на корточки. — Ты кто? — спросил я, поскольку в темноте не разглядел его лица. — Инкози, — ответил низкий голос, — это я, Садуко. — Добро пожаловать, — приветствовал его я и в знак гостеприимства протянул ему флягу из высушенной тыквы, в которой хранил нюхательный табак. Затем подождал, пока Садуко не насыпал табак себе на ладонь и не втянул его ноздрями. — Инкози, — начал гость, утерев выступившие от табака слезы. — Я пришел просить тебя об одной милости. Ты слышал сегодня, как Умбези сказал, что не отдаст мне свою дочь Мамину, если я не приведу ему сто коров. Так вот, скота у меня нет, и я не смогу на него заработать, даже много лет трудясь не покладая рук. Поэтому мне придется отобрать его у одного племени, которое, как мне известно, ведет войну с зулусами. Но и это мне не по силам, если мне не удастся раздобыть ружье. Будь у меня доброе ружье — которое стреляет только тогда, когда надо, а не по своей прихоти, — я бы, воспользовавшись своим именем, смог уговорить несколько человек из тех, кого я знаю, кто когда-то служил у моего отца, или их сыновей пойти со мной. — Правильно ли я понял, Садуко, ты хочешь, чтобы я вот так просто отдал тебе одну из моих лучших двустволок, цена которой по меньшей мере двенадцать быков? — спросил я с холодным возмущением. — Нет, о Бодрствующий в ночи, — ответил он, — нет, о Макумазан, Тот кто всегда спит с одним открытым глазом, — (еще один довольно вольный и трудный перевод данного мне туземцами имени), — я никогда бы не осмелился оскорбить твой высокий ум таким недостойным предложением. — Он помедлил и втянул еще одну понюшку табаку, затем продолжил задумчиво: — Там, где я намереваюсь раздобыть эту сотню голов, скота очень много: мне говорили, не менее тысячи голов. Так вот, инкози, — он искоса глянул на меня, — а что, если ты дашь мне ружье и отправишься вместе со мной, со своим собственным ружьем и своими вооруженными охотниками, и за это получишь половину добытого скота? Это будет справедливо? — Недурно, — ответил я. — То есть, молодой человек, ты хочешь сделать из меня вора, чтобы Панда перерезал мне глотку за нарушение мира в его стране? — Нет, Макумазан, ведь этот скот принадлежит мне. Выслушай меня, я расскажу тебе одну историю. Слыхал ли ты о Мативане, вожде амангвана?[245] — Да, — ответил я. — Его племя жило у истока Умзиньяти, так? Затем их разбили то ли буры, то ли англичане, и Мативане перешел к зулусам. Но позже Дингаан убил его и его родню, а остатки племени, кому удалось выжить, рассеялись по свету. — Верно, племя его рассеялось по свету, но его род продолжает жить. Я один из представителей этого рода, Макумазан. Я единственный сын главной жены Мативане. Меня спас и укрыл у себя великий старец Зикали Мудрый, в жилах которого течет кровь амангвана, который ненавидел Чаку и Дингаана, а еще раньше — их отца Сензангакону, но которого никому из них было не под силу убить, ибо дух его велик и неодолим. — Если он так велик и могуществен, почему же тогда он не спас и твоего отца, Садуко? — спросил я, будто никогда прежде не слышал о Зикали. — Не знаю, Макумазан. Быть может, когда духи сажают дерево для себя, ради этого они срубают много других деревьев. Как случилось, так случилось. Бангу, предводитель амакоба, нашептал Дингаану, будто бы мой отец Мативане — колдун и к тому же очень богат. Дингаан поверил, полагая, что болезнь, которой он захворал, наслал на него Мативане. И тогда Дингаан сказал: «Иди, Бангу, возьми людей и отправляйся к Мативане в гости, а ночью, о, ночью!.. А потом, Бангу, потом мы поделим с тобой скот, потому что Мативане силен и умен, и ты не должен рисковать своей жизнью задаром». Садуко умолк, опустив взгляд в тяжком раздумье. — И злодейство было совершено, Макумазан, — продолжил он наконец. — Они ели еду моего отца, они пили его пиво, они вручили ему подарок короля, они говорили ему хвалебные слова. Да, Бангу нюхал вместе с отцом табак и называл его братом, а ночью, о, ночью!.. Отец был в хижине со мной и с матерью; я, вот такой, — рукой Садуко показал рост мальчика лет десяти. — Снаружи вдруг послышались крики — там что-то горело. Отец выглянул наружу и понял, в чем дело. «Женщина, пробирайся через забор и беги подальше отсюда, — велел отец моей матери. — Возьми Садуко, пусть вырастет и отомстит за меня. Скорей, я задержу их у ворот! Бегите к Зикали, это за его колдовство я плачу кровью». Затем он поцеловал меня в лоб, сказав лишь одно слово: «Помни!» — и вытолкал нас из хижины. Мать стала продираться через изгородь; она рвала прутья ногтями и зубами, как гиена. Укрытый тенью хижины, я оглянулся и увидел моего отца Мативане — он сражался, как буйвол. Враги падали перед ним — один, второй, третий, хоть у него и не было щита, только копье. А затем сзади к нему подкрался Бангу и ударил в спину, и отец взмахнул руками и упал. Что было дальше, я не видел: мы пролезли через изгородь. Мы бросились бежать, но нас заметили. Они устроили на нас настоящую охоту: нас гнали, как дикие собаки гонят антилопу. Они убили мою мать; брошенный ассегай вошел ей в спину и вышел там, где сердце. Я обезумел, я вырвал ассегай из ее тела и бросился на них. Я поднырнул под щит первого преследователя, очень высокого мужчины, креп ко сжимая в маленьких руках древко ассегая, — вот так. Всем своим весом он навалился на острие, и копье проткнуло его насквозь. Он замертво рухнул на землю, и от удара древко ассегая сломалось. Все остальные застыли в изумлении: никогда прежде им не доводилось видеть ничего подобного. Чтобы ребенок убил рослого воина — о таком даже в сказках не рассказывается. Некоторые из них готовы были отпустить меня, но тут подошел Бангу и увидел мертвого, оказавшегося его братом. «Ага! — вскричал он, узнав, как умер брат. — Это щенок — тоже колдун, иначе как бы он смог убить опытного воина? Держите руки гаденыша, чтобы я мог прикончить его. Он будет умирать долго и мучительно». И вот двое схватили меня за руки, а Бангу с копьем в руках подошел ко мне. Садуко вдруг умолк — не оттого, что закончил рассказ: от волнения прервался голос. Редко доводилось мне видеть человека, охваченного столь сильным волнением. Он тяжело и глубоко дышал, по лицу и телу струился пот, и мускулы конвульсивно сжимались и разжимались. Я подал Садуко кружку с водой, он отпил из нее и продолжил: — Острие копья Банги уже начало больно колоть мне грудь — взгляни, вот здесь осталась отметина, — и Садуко, скинув накидку, показал белую полоску шрама под грудиной, — когда вдруг странная тень выросла между мной и Бангу на освещенной пожаром земле, тень, напоминавшая стоявшую на задних лапах жабу. Я оглянулся и понял, что это была тень Зикали, которого прежде я видел лишь раз или два. Не знаю, откуда он взялся, но он стоял, потрясая своей большой седой головой, сидевшей на его плечах, словно тыква на муравейнике, вращая огромными глазами и громко хохоча. — Вот так повеселил, нечего сказать! — вскричал карлик, и зычный голос его прозвучал, как плеск воды в пустой пещере. — Вот так повеселил, о Бангу, вождь амакоба! Кровь, кровь, сколько крови! Огонь, огонь, сколько огня! Мертвые колдуны здесь, там и всюду! О, развеселое зрелище! Немало подобных зрелищ я повидал на своем веку: в краале твоей бабки, например, великой инкози-каас, когда я сам едва спасся от смерти. Однако не припомню ни одного более веселого, чем то, какое сейчас освещает луна. — И он указал на Белую госпожу, которая в этот самый миг выступила из-за облаков. — Но скажи мне, великий предводитель Бангу, любимец сына Сензангаконы, брата Черного Чаки, покинувшего этот мир верхом на ассегае, что означает эта забава? — И он указал на двух воинов, державших мои маленькие руки. — Убиваю детеныша колдуна, Зикали, только и всего, — ответил Бангу. — Вижу, вижу, — снова захохотал Зикали. — Геройский поступок! Зарезал отца и мать и теперь собираешься зарезать ребенка, который заколол одного из твоих доблестных воинов в честной схватке. Геройский поступок, достойный вождя амакоба! Что ж, давай убей его! Вот только… — Он замолчал и взял щепотку табаку из коробочки, которую вытащил из разреза в мочке своего огромного уха. — Что — только? — нерешительно прогудел Бангу. — Только мне интересно, Бангу, каким окажется тот мир, в котором ты очутишься еще до восхода следующей луны. Вернись и расскажи мне о нем, Бангу, ведь по ту сторону солнца не счесть миров, а так я узнаю наверняка, какой из них населяют люди, подобные тебе, те, что из ненависти и наживы ради готовы убить отца и мать ребенка, а затем и самого ребенка, способного сразить закаленного в боях воина копьем, еще горячим от крови его матери. — Хочешь сказать, я умру, если убью мальчишку? — проревел Бангу. — Именно, — невозмутимо ответил Зикали, втягивая очередную понюшку табаку. — Ну, тогда мы отправимся туда вместе, колдун! — Хорошо, хорошо, — засмеялся карлик. — Вместе так вместе. Давненько я туда собираюсь, и не сыскать мне лучшего спутника, чем Бангу, вождь амакоба и убийца детей, дабы охранял меня по ведущей в тот мир дороге, темной и страшной. Идем же, храбрый Бангу, идем! Убей меня, если сможешь! — И вновь Зика ли рассмеялся ему в лицо. — И тогда, Макумазан, — продолжил свой рассказ юноша, — люди Бангу, объятые ужасом, отступили. Даже те, что держали меня. — А что будет со мной, если я пощажу мальчишку? — спросил Бангу. Зикали вытянул руку и коснулся царапины от копья на моей груди. Затем поднял вверх свой палец, обагренный моей кровью, поглядел на него в лунном свете и лизнул. — С тобой будет вот что, Бангу, — сказал он. — Если ты отпустишь мальчика, он вырастет и когда-нибудь убьет тебя и многих из твоих людей. Но если ты не пощадишь его, то уже завтра тебя убьет его дух. Весь вопрос в том, хочешь ли ты пожить еще немного или умереть прямо сейчас, прихватив с собой меня? Потому что ты не должен оставлять меня здесь, брат Бангу. И вот Бангу развернулся и пошел прочь, переступив через тело моей матери, за ним потянулись все его люди, и вскоре Зикали Мудрый и я остались одни. — Что? Неужели ушли? — спросил Зикали, оторвав взгляд от земли. — Тогда и нам надо уходить, сын Мативане, а то они передумают и вернутся. Живи, сын Мативане, чтобы отомстить за отца. — Захватывающая история, — проговорил я. — Что же было дальше? — Зикали взял меня к себе и воспитывал в своем краале в Черном ущелье, где он жил один со своими слугами, потому что ни одной женщине не позволял переступать порог своей хижины. Он научил меня многим премудростям и раскрыл мне много секретов, он мог бы сделать из меня великого врачевателя, стоило мне лишь захотеть. Только я не захотел. Не по душе мне компания духов, а их в Черном ущелье я повидал немало. В конце концов, Макумазан, Зикали сказал мне: — Ступай туда, куда зовет тебя сердце, и будь воином, Садуко. Но помни: ты открыл дверь, закрыть которую уже невозможно, и через эту дверь духи будут являться и исчезать всю твою жизнь, будешь ли ты искать их или не будешь. — Но, Зикали, ведь это ты открыл эту дверь, — сердито возразил я. — Может, и так. — Зикали громко рассмеялся. — Потому что я открываю, когда должен открыть, и закрываю, когда должен закрыть. Знаешь, в годы моей юности, когда зулусы были единым народом, они назвали меня Открывателем дверей; и теперь, заглядывая в одну из таких дверей, я вижу кое-что о тебе, о сын Мативане. — Что же ты видишь, отец? — спросил я. — Вижу две дороги, Садуко: дорогу целителя — это дорога духа и дорогу воина — это дорога крови. Я вижу тебя идущим по дороге целителя, это и моя дорога, Садуко, вижу, как ты становишься мудрым и великим, пока наконец не исчезаешь где-то вдали, окруженный почестями и благополучием, внушающий страх и все же любимый всеми людьми, и белыми, и черными. Однако по этой дороге мудрости ты должен идти один, дабы ни друзья, ни тем более женщина, с которой ты захотел бы поделиться своими познаниями, не смогли отвлечь тебя от выбранного пути. А теперь я вижу тебя, Садуко, шагающего по дороге войны: ноги твои красны от крови, женщины обвивают руками твою шею и один за другим перед тобой падают поверженные враги. Ты много любишь и много грешишь ради любви, и та, ради которой ты грешишь, приходит, и оставляет тебя, и снова приходит. И дорога эта коротка, Садуко, и ближе к ее концу тебя окружает множество духов. Ты крепко зажмуриваешь глаза, но ты видишь их; ты залепляешь уши глиной, но слышишь их, потому что это духи тех, чью кровь ты пролил. Однако конца этого твоего пути мне не разглядеть. Теперь выбирай, по какой дороге ты пойдешь, сын Мативане, и выбирай поскорее, потому что я больше никогда не заговорю об этом. — И тогда, Макумазан, я ненадолго задумался о безопасной и одинокой дороге мудрости и о кровавой дороге, на которой найду войну и любовь, и молодость запела во мне, и… Я выбрал дорогу войны и любви, дорогу греха и неизвестной смерти. — Если допустить, что в этой истории о двух дорогах есть доля правды, Садуко, то твой выбор был не самым разумным. — Нет, Макумазан, он был мудрым: ведь я узнал Мамину и понял теперь, почему выбрал именно эту дорогу. — О, как же я забыл, Мамина! — воскликнул я. — Что ж, может, ты и прав. Когда увижу Мамину своими глазами, скажу тебе, что я думаю. — Когда ты увидишь Мамину, Макумазан, ты скажешь, что выбор мой был мудр, однако Зикали, Открыватель дверей, громко смеялся, когда услышал о нем. «Взрослый буйвол непременно найдет тучное пастбище, а буйволенок — скудный горный склон, где пасутся такие, как он, телки, — сказал он. — Однако волк все же лучше буйвола. Что ж, ступай своей дорогой, сын Мативане, и возвращайся время от времени в Черное ущелье, чтобы рассказать о своих делах. Обещаю не помереть до тех пор, пока не узнаю, каким будет конец этой твоей дороги». Вот, Макумазан, только тебе я поведал то, что доныне хранил в сердце своем. И Бангу теперь в немилости у Панды, которому не хочет подчиниться, и мне дали слово — не важно кто и как, — что тот, кто убьет его, не будет призван к ответу и может забрать себе его скот. Пойдешь ли ты со мной, о Бодрствующий в ночи, и разделишь ли со мной добычу? — Изыди, Сатана, — пробормотал я по-английски и следом добавил на зулу: — Даже не знаю… Если история твоя правдива, я не возражаю против того, чтобы помочь тебе убить Бангу, но прежде я должен разузнать об этом деле побольше. Кстати, завтра я и Умбези Толстяк идем на охоту. Ты нравишься мне, о Выбравший дорогу крови, и я предлагаю тебе отправиться со мной и заработать ружье с двумя стволами. — Инкози! — воскликнул Садуко, и глаза его засветились от радости. — Ты щедр и оказываешь мне огромную честь. О большем я и желать не смел… Однако, — добавил он, и лицо его снова омрачилось, — сначала я должен испросить совета у Зикали Мудрого, своего приемного отца. — О, вот как, ты, значит, все еще держишься за пояс колдуна, как за мамкин подол? — удивился я. — Не совсем так, Макумазан, просто на днях я пообещал ему не затевать никаких дел, за исключением того, о котором рассказал тебе, пока не поговорю с ним. — Как далеко отсюда живет Зикали? — спросил я Садуко. — День ходу. Если выйти на восходе, к закату можно поспеть. — Хорошо. Тогда я отложу охоту на три дня и пойду с тобой, если тебе кажется, что твой удивительный старый карлик примет меня. — Думаю, Зикали примет тебя, Макумазан, потому что он говорил мне, что я встречу тебя и полюблю и что судьбы наши переплетутся. — Видно, он подмешал тебе в пиво своего зелья, — проговорил я. — Ты что же, хочешь, чтобы я полночи выслушивал подобные глупости, тогда как нам отправляться в путь на рассвете? Ступай и дай мне выспаться. — Ухожу, — ответил он с легкой улыбкой. — Но если так, Макумазан, отчего же ты сам хочешь отведать его зелья? Однако спал я в ту ночь скверно: жуткая история Садуко завладела моим воображением. Мне очень хотелось увидеть Зикали, о котором я так много слышал еще в прежние годы, и по другим причинам. Мне не терпелось выяснить, не был ли этот карлик, заявивший, что моя судьба переплетена с судьбой его приемного сына, обыкновенным шарлатаном, каких великое множество среди прочих шаманов и знахарей; к тому же он мог рассказать мне правду или ложь о Бангу — человеке, к которому я почувствовал, быть может и необоснованную, антипатию. Но более всего мне хотелось увидеть Мамину, чьи дарования и красота произвели такое сильное впечатление на юного туземца. Быть может, пока я хожу к Зикали, она уже вернется из крааля своего отца и я увижу ее еще до отъезда на охоту. Так и случилось: словно в греческой трагедии, судьба, как зачастую делала со мной и прежде, закружила меня в вихре весьма странных событий — страшных и трагичных.Глава 2
ЗЕЛЬЕ СТАРОГО КОЛДУНА
На следующее утро я, как добрый охотник, проснулся чуть свет — в час, когда, выглянув из фургона, обычно еще ничего нельзя разглядеть, кроме серого отсвета рогов дремавших у привязи волов. Вскоре, однако, я увидел еще один отсвет и догадался, что это блеснул наконечник копья Садуко: закутавшись в плащ из шкур диких кошек, он сидел у потухшего костра. Соскользнув с козел, я крадучись зашел юноше за спину и коснулся его плеча. Садуко подскочил, сильно вздрогнув, что выдало в нем нервную натуру, но тотчас узнал меня и проговорил: — Ты рано встаешь, Макумазан. — Не зря ведь меня зовут Бодрствующим в ночи, — ответил я. — А теперь пойдем к Умбези, скажем ему, что я буду готов отправиться с ним на охоту через два дня. Умбези спал в хижине со своей последней женой. Будить его мне не хотелось. По счастью, возле хижины мы увидели бодрствующую Старую Корову. Раненое ухо не давало несчастной заснуть, к тому же, по правилам «этикета» зулусов, она не могла войти в хижину, пока ее муж не проснется и не позволит ей войти. Осмотрев и смазав мазью ее рану, я попросил женщину передать Умбези, что охота откладывается на два дня. Затем я разбудил моего слугу Скоула, предупредил его, что отправляюсь в короткое путешествие, и велел стеречь наши вещи до моего возвращения. Сделав глоток обжигающего рома, я упаковал в дорогу билтонг (вяленное на солнце мясо) и галеты. С собой я взял одноствольное ружье, того самого «малыша Парди», из которого стрелял по стервятникам на холме смерти близ крааля Дингаана[246], и, поскольку я не хотел рисковать своей единственной лошадью, мы пустились в путь пешком. И я правильно поступил, так как путешествие выдалось и в самом деле не из легких. Путь лежал через ряд поросших кустарником холмов, гребни которых были покрыты острыми камнями, — ни одна лошадь не могла бы пройти по ним. Мы то поднимались на эти холмы, то спускались с них, то шли через долины, разделявшие их, следуя по какой-то тропинке, которую я так и не смог разглядеть за весь тот долгий день. Будучи от природы легким и подвижным, я всегда считался отменным ходоком, однако должен признаться, мой спутник переоценил мои силы: час за часом он шагал вперед с такой скоростью, что я то и дело был вынужден переходить на бег, чтобы не отстать. И хоть гордость не позволяла мне жаловаться (из принципа никогда бы не признался туземцу, что он хоть в чем-то превосходит меня), все же я весьма обрадовался, когда уже ближе к вечеру на вершине очередного холма Садуко опустился на камень и сказал: — Вон оно, Черное ущелье, Макумазан. — Это были едва ли не первые его слова с того момента, как мы пустились в путь. Воистину место это назвали весьма метко: нам открылся вид на одно из самых мрачных ущелий, что мне доводилось видеть. Огромная расщелина была стиснута гранитными глыбами: по чьей-то чудовищной воле причудливо нагроможденные одна на другую, они образовывали подобие колоссальных колонн. По обоим склонам ущелья то там, то здесь редко росли темные деревья. Широким, в милю, устьем своим ущелье было обращено на запад, однако лившийся в него свет заходящего солнца лишь усиливал чувство жутковатого одиночества, которым повеяло на меня от этого вида. Мы направились к этой унылой теснине, подгоняемые насмешливыми криками павианов, следуя по узенькой, не шире фута, тропинке, которая наконец привела нас к большой хижине и нескольким поменьше, окруженными камышовой изгородью; поселок ютился под огромным скальным выступом, который, казалось, может обрушиться в любой момент. Внезапно из ворот изгороди выскочили два туземца неизвестного мне племени и довольно свирепого обличья и направили наконечники своих копий мне в грудь. — Ты кого привел, Садуко? — сурово спросил один из них. — Белого человека, за которого ручаюсь, — ответил Садуко. — Скажите Зикали, что мы пришли к нему. — Какая нужда сообщать Зикали то, что он и так знает? — был ответ часового. — В его хижине уже приготовлена пища для тебя и твоего спутника. Входи, Садуко, с тем, кому доверяешь. Мы вошли в большую хижину и принялись за еду, предварительно с удовольствием умывшись, поскольку в жилище царила идеальная чистота, а скамьи, деревянные миски и другая утварь были искусно вырезаны из розовой кости[247], как шепнул мне Садуко, собственной рукой Зикали. Когда мы уже заканчивали ужин, явился посланник и передал нам, что Зикали нас ждет. Мы проследовали за ним через открытое пространство к некоему подобию высокой тростниковой двери, миновав которую я впервые увидел знаменитого старого знахаря, о котором ходило столько легенд. Признаюсь, выглядел он весьма загадочно в окружающей его обстановке, самой по себе довольно загадочной, предельная простота которой лишь усиливала эффект. Перед нами предстало нечто вроде внутреннего двора с черным, словно начищенным до блеска полом из утрамбованного грунта муравейника, перемешанного с коровьим навозом; по меньшей мере над двумя третями двора нависала поднимающаяся вверх на высоту не менее шестидесяти или семидесяти футов огромная глыба скалы, о которой я уже упоминал, служа ему как бы крышей. В эту большую пещеру вливался яркий свет заходящего солнца, окрашивая ее и все, что было внутри, даже большую соломенную хижину в глубине, в цвет крови. Завороженный изумительным зрелищем заката в этом диком и зловещем месте, я вдруг подумал, что старый колдун с умыслом выбрал время для нашей встречи, решив произвести на гостей впечатление. Но при взгляде на самого колдуна я забыл обо всем, что его окружало. Он сидел на скамье перед своей хижиной совсем один. На нем был только плащ из леопардовых шкур — никаких присущих всем знахарям атрибутов и украшений из змеиных шкур, человечьих костей, высушенных мочевых пузырей с дьявольскими зельями внутри и тому подобного. Удивительной внешностью обладал этот человек, если, конечно, его можно было назвать человеком. Тело его, крепко сбитое, было не крупнее детского; голова огромна, и с нее на плечи ниспадали седые, заплетенные в косички волосы. Глубоко посаженные глаза на широком, весьма угрюмом лице. Несмотря на белоснежную седину волос, Зикали не казался таким уж древним стариком, поскольку тело его было крепким и упитанным, а кожа на щеках и шее не обнаруживала морщин — все это навело меня на мысль о том, что история о его необыкновенной древности — чистой воды вымысел. Ведь человек, которому, например, более ста лет, никак не может похвастаться такими красивыми и многочисленными зубами: даже на расстоянии я заметил их блеск. С другой стороны, хоть средний возраст его явно остался позади, я затруднялся определить, хотя бы даже приблизительно, сколько ему лет. Зикали неподвижно сидел в лучах заходящего солнца и смотрел не моргая на пылающий диск: говорят, только орел может так смотреть на солнце. Садуко пошел вперед, я двинулся за ним. Роста я небольшого и никогда не считал свою наружность производящей сильное впечатление, однако, думается, едва ли мне приходилось когда-либо чувствовать себя более незначительным, чем в ту минуту. Высокий и красивый туземец, шагавший впереди меня, мрачное великолепие залитой кроваво-красным закатным светом пещеры, одинокая маленькая фигура старика передо мной с печатью мудрости на челе — все это невольно вызывало смирение в человеке, по природе своей не тщеславном. Мне казалось, что я становлюсь все меньше и меньше, как в моральном, так и физическом смысле, и я уже жалел, что поддался любопытству, побудившему меня искать встречи с этим таинственным существом. Отступать, однако, было поздно: Садуко уже стоял перед карликом, подняв правую руку над головой и приветствуя макози[248]. Я же, почувствовав, что нечто подобное ожидается и от меня, снял видавшую виды суконную шляпу, поклонился и следом, памятуя о достоинстве белого человека, вновь водрузил ее на голову. Колдун как будто только теперь заметил наше присутствие. Прервав созерцание заходящего солнца, он неспешно и внимательно оглядел каждого из нас цепким взглядом, отчего-то напомнив мне хамелеона, хотя, как я уже отмечал, глаза Зикали были не выпуклыми, а, наоборот, глубоко посаженными. — Приветствую тебя, сын Садуко! — сказал он низким, звучным голосом. — Почему ты вернулся так скоро и зачем привел с собой эту белую блоху? Я не мог стерпеть подобного обращения и, не дожидаясь ответа моего спутника, вмешался: — Ты дал мне скверное имя, Зикали. Что бы ты по думал обо мне, назови я тебя тараканом? — Подумал бы, что ты умен, — ответил он погодя. — Ведь я действительно, должно быть, очень похож со стороны на таракана с седой башкой. Но почему тебя задевает сравнение с блохой? Блоха работает по ночам, как и ты, Макумазан; блоха шустрая, как и ты; ее очень трудно поймать и убить, как и тебя. Наконец, блоха вволю пьет кровь человека и зверя, как это делал, делаешь и будешь делать ты, Макумазан. — И Зикали залился оглушительным смехом, раскаты которого отразили нависавшие над нами скалы. Однажды много лет назад я уже слышал этот смех, когда был пленником в краале Дингаана после того, как по приказу последнего были зарезаны Ретиф и все, кто прибыл с ним к зулусскому правителю, и вот сейчас я вспомнил этот смех. Пока я подыскивал подходящий ответ в том же духе и не находил его (хотя позже придумал их, и не мало), знахарь внезапно прекратил смеяться и продолжил: — Не стоит тратить на насмешки драгоценное время: не так уж много его осталось у каждого из нас. С чем пришел, сын Садуко? — Баба (по-зулусски это «папа»), — заговорил Садуко, — этот белый инкози, как ты хорошо знаешь, — вождь по складу характера, человек с большим сердцем и, несомненно, благородных кровей, — (полагаю, так оно и есть на самом деле, поскольку я слышал рассказы о своих более или менее выдающихся предках, но если это и так, то к их талантам явно не относилось умение наживать деньги), — позвал меня с собой на охоту и предложил мне хорошее ружье в уплату за двухмесячное услужение. Но я сказал ему, что не могу предпринимать никаких рис кованных шагов без твоего дозволения, и… Он пришел узнать, не дашь ли ты его мне, отец. — Как бы не так, — качнул большой головой карлик. — Этот смышленый белый проделал такой путь под жарким солнцем, только чтобы спросить меня, может ли он подарить тебе ценное ружье в награду за услугу, которую любой зулус твоих лет оказал бы ему задаром? Думаешь, если мои дырки для глаз пусты, ты непременно должен наполнить их пылью? Нет, белый человек явился сюда потому, что желает видеть того, кого зовут Открывателем дорог, о котором он много слышал еще тогда, когда ты был ребенком, и удостовериться, действительно ли я обладаю мудростью или просто дурачу людей. А ты пришел узнать, принесет ли тебе дружба с ним удачу и станет ли он помогать тебе в задуманном тобой деле. — Все верно, о Зикали, — сказал я. — Во всяком случае, в том, что касается меня. Садуко ничего не ответил. — Что ж, — продолжил карлик, — поскольку сегодня я в настроении, попробую ответить на оба ваших вопроса, иначе никудышный из меня ньянга (врачеватель), ведь вы проделали такой долгий путь, чтобы задать их. К тому же, Макумазан, тебе на радость, никакой платы я не потребую, поскольку давно заработал целое состояние, еще до рождения твоего отца за Черной рекой, и давно не работаю за вознаграждение — если только оно не должно быть получено от кого-нибудь из рода Сензангаконы, — и поэтому, как ты можешь догадаться, работаю редко. С этими словами он хлопнул в ладоши. Откуда-то из-за хижины вынырнул один из тех свирепого вида стражей, что остановили нас у ворот. Он поклонился карлику и застыл перед ним, склонив голову. — Разведи два костра, — велел Зикали. — И принеси мои снадобья. Слуга сложил перед Зикали две кучи из хвороста и поджег их принесенной из-за хижины головешкой. Затем он вручил своему господину мешок из шкуры леопарда. — Удались, — приказал слуге Зикали, — и не возвращайся, пока не позову. Если же во время предсказаний я умру, похорони меня завтра в известном тебе месте и позаботься, чтобы этот белый человек покинул мой крааль без помех. Слуга вновь отвесил поклон и молча удалился. Когда он ушел, карлик вытащил из мешка связку переплетенных корешков, затем горсть гладких камешков, из которых отобрал два — белый и черный. — В этот камень, — сказал он, подняв руку с белым голышом так, чтобы свет костра отражался от его гладкого бока, поскольку вечерняя заря уже угасла и начало быстро темнеть, — в этот камень я сейчас заключу твой дух, Макумазан, а в этот, — он поднял черный голыш, — твой, сын Мативане… Отчего ты выглядишь испуганным, храбрый белый человек, если в сердце своем ты все еще беспрестанно повторяешь: «Он всего лишь старый уродливый плут»? Если я плут, почему у тебя такой испуганный вид? Или твой дух уже застрял у тебя в глотке и душит тебя, словно ты пытаешься проглотить этот маленький камешек? — Проговорив это, он разразился своим жутким смехом. Я было попробовал возразить, что ни капли не напуган, но не смог вымолвить ни слова, чувствуя в тот момент, что все мои нервы целиком подчинены Зикали и что в горле моем будто бы действительно находится камешек, только он не опускался, а поднимался изнутри. «Истерия — результат переутомления», — подумал я и, поскольку говорить не мог, продолжил сидеть, воспринимая его насмешки с невозмутимым презрением. — Теперь, возможно, — продолжил карлик, — в какой-то момент вам покажется, будто я умер, и тогда не прикасайтесь ко мне, иначе умрете сами. Дождитесь, пока я не очнусь и не расскажу вам, что поведали мне духи. Если же я не очнусь — а какое-то время я буду спать, — что ж, после того, как догорят костры, но не раньше, приложите руки к моей груди и, если почувствуете, что тело мое начало коченеть, отправляйтесь к какому-нибудь другому ньянге так быстро, как только духи этого места позволят вам, о вы, жаждущие заглянуть в будущее. Пока говорил, он успел бросить в каждый костер по пригоршне корешков, уже упомянутых мной, и костры тотчас откликнулись высокими, дьявольскими, как мне почудилось, языками пламени, которые тут же сменили столбы густого белого дыма с едким, удушающим и ни на что не похожим запахом. Казалось, я весь напитался им, а проклятый камень в горле разбух, став величиной с яблоко, и кто-то будто бы проталкивал его вверх палкой. Затем колдун бросил белый голыш в костер, что был справа от него и напротив меня, со словами: — Войди, Макумазан, и смотри. Черный голыш он бросил в костер слева от него: — Войди, сын Мативане, и смотри. А потом оба возвращайтесь и доложите мне, вашему господину, об увиденном. Едва он договорил эти слова, как я почувствовал, будто из моей глотки наконец вылетел душивший меня камень; так легко наши нервы обманывают нас: я было даже подумал, что зубы мои помешают камню, и раскрыл рот, чтобы дать ему беспрепятственно выскочить. Удушье миновало, только теперь я ощутил внутри себя удивительную пустоту и словно бы воспарил в воздухе, как будто я уже не совсем я, но лишь пустая оболочка, — все эти ощущения, конечно же, вызвал зловонный дым горящих корней. И все же я сохранил способность замечать и осознавать происходящее, поскольку отчетливо видел, как Зикали сунул свою большую голову сначала в клубы дыма «моего» костра, затем — костра Садуко, после чего лег на спину и выдохнул клубы дыма через рот и нос. Затем я увидел, как он перекатился на бок и замер, раскинув руки в стороны. Также я заметил, что один из его пальцев как будто находился в левом костре и непременно должен был бы обгореть. Но, по всей вероятности, я ошибся, поскольку впоследствии палец Зикали оказался невредимым. В таком положении колдун лежал довольно долго, не подавая признаков жизни, и я было начал опасаться, не умер ли он. Однако в тот вечер мне никак не удавалось сосредоточить мысли на Зикали или чем-то ином. Я отмечал все происходящее чисто машинально, как человек, к которому оно не имело никакого отношения и нисколько его не интересовало. Внутри меня царило полнейшее безразличие, словно я был не здесь, а в некоем более теплом и дружественном мне месте, в котором я когда-либо надеялся очутиться, а именно — в камушке, лежавшем в небольшом, мерзко чадящем правом костре. Все происходило будто во сне. Солнце зашло внезапно, не оставив даже отблеска и погрузив мир во тьму. Единственным источником света теперь оставались догоравшие костры; их мерцания только-только хватало на то, чтобы освещать тело лежавшего на боку Зикали, своей неуклюжей позой напоминавшего мертвого детеныша бегемота. Остатки сознания подсказывали мне, что эта история уже порядком мне надоела, я устал от своей опустошенности. Наконец карлик пошевелился. Сел, зевнул, чихнул, встряхнулся и начал копаться в красных углях моего костра голой рукой. Отыскав белый голыш, который в этот момент был раскаленным докрасна — во всяком случае, он светился, как раскаленный докрасна, — и внимательно оглядев его, сунул себе в рот! Затем отыскал в другом костре черный камень, с которым поступил точно так же. Следующее, что запомнилось мне, — костры: почти совсем угасшие, они вновь ярко горели, оттого, быть может, что кто-то подкормил их. И тут Зикали заговорил: — Подойдите, о Макумазан и сын Мативане, и я открою вам то, что рассказали мне духи. В свете ярко пылавших костров мы подошли ближе. Колдун выплюнул на свою широченную ладонь белый голыш, и я обратил внимание, что поверхность камня покрывали линии и пятнышки, напоминая рисунок на скорлупе птичьего яйца. — Знаки читать умеешь? — спросил он, протянув мне камень, и, когда я отрицательно покачал головой, продолжил: — Ну а я умею. Не хуже, чем вы, белые люди, читаете свои книги. История всей твоей жизни написана здесь, Макумазан, но рассказывать ее тебе незачем, поскольку ты и сам все знаешь так же хорошо, как я, изучивший ее по камню, всю, со времен Дингаана. Но здесь также написано твое будущее, необыкновенное будущее. — И он с интересом оглядел камень со всех сторон. — Да, да, впереди у тебя жизнь удивительная и смерть славная, где-то далеко-далеко отсюда. Но ты не спрашивал меня об этом, и потому я могу и не говорить тебе ничего. Впрочем, ты все равно не поверишь, даже если расскажу. Ты спрашивал меня о предстоящей охоте, и ответ мой таков: если тебе дорог покой, разумней будет на охоту не ходить. Вот, я вижу бочаг[249] в высохшем русле реки; буйвола с обломанным кончиком рога. Ты и буйвол в бочаге. Садуко — да, вот он, вижу, — тоже в воде; на берегу мечется какой-то маленький человечек с ружьем, этот человек — полукровка. Вот носилки из сухих ветвей, и на них ты, а рядом с тобой, прихрамывая, шагает отец Мамины. А вот хижина: в ней ты, и подле тебя сидит девица по имени Мамина… Макумазан, твой дух начертал на этом камне, что тебе следует остерегаться Мамины, поскольку она опаснее любого буйвола. Если тебе достанет мудрости, ты не пойдешь на охоту с Умбези, хотя, по правде говоря, эта охота не будет стоить тебе жизни. Довольно, камень, прочь, и забери свои письмена с собой! — Тут рука Зикали дернулась, и мимо моего лица что-то просвистело. Затем он выплюнул черный камешек и изучил его поверхность с не меньшим вниманием. — Сын Мативане, твоя вылазка будет успешной, — сказал он. — Вместе с Макумазаном, ценой жизни нескольких человек, ты отобьешь много скота. Что же до остального… Но ведь ты не спрашивал меня, верно? К тому же некогда я уже рассказывал тебе кое-что о твоем будущем… Прочь, камень! — И черный голыш последовал за белым в окружавшую нас темень. — Я закончил колдовать, — сказал он. — Что, мало рассказал? Ну, тогда поищите завтра эти камни и прочтите остальное сами, если сможете. Почему ты не попросил меня рассказать обо всем, что я увидел, белый человек? Я бы тебя заинтересовал еще больше, но теперь уже поздно: вместе с камнями все вернулось от меня к твоему духу. Садуко, отправляйся спать. Идем, Макумазан, которого называют Бодрствующим в ночи, посидишь со мной в хижине, поговорим о других вещах. Все эти фокусы с камнями — не более чем забавы кафра, ведь так ты полагаешь, Макумазан? Вот когда встретишь буйвола с обломанным кончиком рога в бочаге высохшей реки, тогда и решай, обман это был или нет, а теперь идем в мою хижину,выпьем пива и поговорим о делах более интересных. Зикали провел меня в хижину — прибранную, хорошо освещенную благодаря горящему посередине очагу, — и угостил меня кафрским пивом, которое я выпил с искренней признательностью, поскольку мое пересохшее горло по-прежнему саднило. — Кто ты, отец? — без обиняков спросил я, когда уселся на низкую скамью и, с облегчением привалившись спиной к стене хижины, раскурил свою трубку. Колдун приподнял свою большую голову с кучи накидок из звериных шкур, на которые успел улечься, и устремил на меня внимательный взгляд поверх огня в очаге. — Мое имя означает «оружие», белый человек. Ты ведь знаешь это, не так ли? — ответил он. — Отец мой упокоился так давно, что о нем можно и не вспоминать. Я карлик, очень уродливый, немного образованный, в том смысле, как все мы, чернокожие люди, понимаем это слово, и очень старый. Что еще ты хочешь знать? — Сколько лет тебе, Зикали? — Ну-ну, Макумазан, ты же знаешь, мы, бедные кафры, плоховато считаем. Сколько мне лет? Я был молод, когда вместе с ндвандве[250], проживавшими в те годы на севере, спустился к побережью Великой реки, которую вы зовете Замбези. Все уже позабыли об этом, много ведь утекло времени, и, умей я писать, написал бы историю того похода и тех великих битв с народами, жившими до нас в этих краях. Со временем я подружился с Отцом зулусов, тем самым, кого до сих пор называют инкози умкулу — великим вождем. Быть может, ты слыхал о нем? Скамью, на которой ты сейчас сидишь, я вырезал для него, а он оставил ее мне, когда умер. — Инкози умкулу! — воскликнул я. — Так ведь говорят, он жил сотни лет назад. — Неужели, Макумазан? Если так, разве не сказал я тебе, что черные люди не умеют считать так же хорошо, как вы? По мне, так будто все происходило совсем недавно. Как бы там ни было, после его смерти зулусы стали дурно обращаться с нами — с ндвандве, с куаби и с тетвасами[251], — ты, может, помнишь, что в насмешку они прозвали нас аматефула. Потому-то я и рассорился с зулусами, особенно с Чакой, которого называли Ухланья (Бешеный). Видишь ли, Макумазан, ему нравилось насмехаться надо мной, потому что я не такой, как все люди. Он дал мне обидное прозвище, значившее «тот, кому не следовало родиться». Я не стану сейчас произносить его, это моя тайна, которая никогда не сорвется с моих уст. Тем не менее порой Чака приходил ко мне искать мудрости, и я воздавал ему по заслугам за его насмешки: я давал ему дурные советы, а он следовал им, что в конце концов привело его к гибели, но никто и никогда так и не заподозрил моего участия в этом деле. А когда Чака пал от рук своих братьев Дингаана, Умлангаана и Амбопы — у Амбопы тоже были с ним счеты, — тело его вышвырнули из крааля, как это делают с телами злодеев. Ночью я пошел и уселся на его труп и расхохотался вот так… — И Зинкали разразился своим жутким хохотом. — Смеялся я трижды: первый раз — за моих жен, которых он отнял у меня; второй — за моих детей, которых он убил, и третий — за насмешливое прозвище, что он мне дал… Потом я сделался советником Дингаана, которого ненавидел еще сильнее, потому что он был таким же, как Чака, только без его величия. И ты знаешь, каким был конец Дингаана, потому что ты сам принимал участие в той войне, и конец Умлангаана, его брата и подельника в убийстве Чаки: ведь это я посоветовал Дингаану убить его. Однако совет свой я вложил в уста старой принцессы Менкабайи, дочери Джамы, сестры Сензангаконы, пророчицы, перед которой склонялись все мужчины. Так вот, я научил ее сказать, что «землей зулу нельзя править обагренным кровью ассегаем». А ведь именно Умлангаан нанес Чаке первый удар копьем… Теперь зулусами правит Панда, последний сын моего врага Сензангаконы, Панда Глупый. Я щажу его, Макумазан, потому что он пытался спасти жизнь моего ребенка, которого убил Чака. Однако у Панды есть сыновья, которые стали такими же, как Чака, и я строю им козни точно так, как тем, кто был до них. — Но зачем? — удивился я. — Зачем? О, чтобы объяснить это, мне пришлось бы рассказать тебе всю мою жизнь, Макумазан. Быть может, когда-нибудь я так и сделаю. (Тут я должен отметить, что в действительности позже он так и сделал, и то была удивительная история, однако, поскольку никакого отношения к настоящему повествованию она не имеет, я не стану приводить ее здесь.) — Полагаю, — ответил я, — и Чака, и Дингаан, и Умлангаан, и прочие не были особенно хорошими людьми. Но позволь спросить, о Зикали, зачем ты рассказываешь все это мне, ведь стоит мне всего лишь повторить все сказанное «говорящей птице»[252], как тебя разоблачат и ты не доживешь до рассвета? — Вот как, разоблачат?.. Не доживу до рассвета?.. Тогда почему же этого не произошло до сих пор, ведь сколько раз уже всходило солнце? А рассказываю я все это тебе, Макумазан, тому, кто так тесно связан с историей зулусов со времен Дингаана, потому что хочу, чтобы кто-нибудь знал это и, возможно, записал эту историю, когда все будет кончено. А еще потому, что я только что познакомился с твоим духом и понял, что это по-прежнему белый дух и что ты не нашепчешь мою историю «говорящей птице». Я подался вперед и посмотрел на него. — «Когда все будет кончено»? Что ты задумал, Зикали? — спросил я. — Ты не из тех, кто бьет дубиной по воздуху? На кого ты собрался ее обрушить? — На кого? — прошипел он, голос его разительно изменился. — На этих гордых зулусов, этот маленький народ, называющий себя «небесным народом» и проглатывающий другие племена, как большая змея проглатывает новорожденных и едва окрепших козлят, а когда набьет ими брюхо, кричит всему свету: «Смотрите, какая я большая! Теперь все в моем брюхе!» Я из племени ндвандве, одного из тех, кого зулусы презрительно называют аматефула — речными свиньями, нищими дармоедами, которые и говорят-то с акцентом. Поэтому я хочу, чтобы свиньи клыками своими разодрали охотника. Но если этого не произойдет, тогда я желал бы увидеть, как черного охотника подомнет под себя носорог, белый носорог твоей расы, да, Макумазан, даже если при этом он затопчет ндвандвского кабана. Ну вот, теперь ты знаешь, почему я живу так долго и не умираю, пока не случится задуманное, а оно непременно случится. Что сказал Чака, сын Сензангаконы, когда окровавленный ассегай, тот самый, которым он убил свою мать и других, а некоторые из них были близки мне, — что он сказал, когда ассегай пробил ему печень? Что он сказал в тот миг Амбопе и принцам крови? Разве не сказал он, что слышит поступь великих белых людей — людей, которые раздавят зулусов? Что ж, я, Тот, кому не следовало родиться, буду продолжать жить до тех пор, пока не настанет этот самый день, а когда он настанет, думаю, Макумазан, ты и я, мы будем рядом, вот почему я, тот, кто видит будущее, раскрываю тебе мое сердце. Больше я ничего не стану говорить о том, что должно произойти, я и так, возможно, сказал слишком много. Но не забудь мои слова. Или забудь, если хочешь, я все равно их тебе напомню, Макумазан, когда белые люди отомстят за ндвандве и прочие племена, на которые зулусы смотрят как на грязь под ногами. Этот странный человек даже приподнялся в волнении и помотал своими длинными седыми волосами, заплетенными, как у всех колдунов, в тонкие косички, пока эти косички не скрыли, подобно вуали, его широкое лицо и глубоко посаженные глаза. Затем он снова заговорил сквозь эту завесу из волос: — А хочешь знать, Макумазан, какое отношение ко всем этим великим грядущим событиям имеет Садуко? Отвечу: он сыграет в них свою роль, не самую главную, но важную, и именно с этой целью я спас его ребенком от Бангу, человека Дингаана, и воспитал его воином. Но поскольку лгать я не могу, я предостерег Садуко, что он поступит благоразумно, если изберет путь мудрости, а не войны. Что ж, он убьет Бангу, который сейчас в ссоре с Пандой, и в его жизнь войдет женщина по имени Мамина, и эта женщина станет причиной войны между сыновьями Панды, а война эта приведет к гибели народа зулу, потому что тот, кто победит в ней, окажется никудышным королем для зулусов и навлечет на них гнев более могущественного народа. Так что Тот, кому не следовало родиться, и ндванде, и куаби, и тетвасы, которых зулусы угнетали, будут отмщены. Да, да, именно так говорит мне мой дух. Так оно и будет. — А что ждет Садуко, моего друга и твоего воспитанника? — Твой друг и мой воспитанник пойдет предназначенным ему путем, Макумазан, как ты и я. О чем же еще может мечтать Садуко, принимая во внимание, что это его собственный выбор. Он пойдет по этому пути и сыграет роль, которую Величайщий из великих уготовил ему. Не пытайся узнать большего, время само все раскроет, согласен? А теперь ступай отдыхать, Макумазан. Я тоже нуждаюсь в отдыхе, ведь я стар и слаб. А когда тебе захочется снова увидеть меня, мы продолжим наш разговор. И не за бывай: я всего лишь старый кафрский плут, который делает вид, будто знает то, чего людям знать не дано. Непременно вспомни об этом, когда встретишь буйвола с обломанным рогом в бочаге русла высохшей реки. И потом — когда женщина по имени Мамина сделает тебе некое предложение и тебе придется бороться с искушением, принять его или нет. Доброй ночи тебе, Бодрствующий в ночи, человек с чистым сердцем и удивительной судьбой. Доброй тебе ночи, и постарайся не судить слишком строго старого кафрского обманщика, чье имя отныне — Открыватель дорог. Мой слуга ждет снаружи, чтобы проводить тебя до твоей хижины. Если же ты хочешь успеть вернуться в крааль Умбези к завтрашнему вечеру, тебе следует отправиться в обратный путь завтра не позднее чем на восходе; по пути сюда ты наверняка уже понял, что Садуко хоть и дурень еще, но отличный ходок, а тебе ведь не понравилось отставать от него, верно, Макумазан? Я встал, чтобы уйти, но по пути к выходу — очевидно, в голову Зикали пришла какая-то мысль — он окликнул меня и заставил снова сесть рядом с ним. — Макумазан, — проговорил он, — позволь добавить еще несколько слов. Когда ты был совсем зеленым юнцом, ты приезжал в эту страну с Ретифом, верно? — Да, — не сразу ответил я, поскольку по многим причинам предпочитаю как можно реже говорить об истории, связанной с убийством Ретифа, хотя я и записал ее[253]. Даже мои друзья, сэр Генри Куртис и капитан Гуд, очень немного знают о доставшейся мне в той трагедии роли. — Но что тебе известно об этом деле, Зикали? — Полагаю, все, что нужно, Макумазан, учитывая, что именно я его замыслил и что Дингаан убил тех буров по моему наущению, так же как он убил Чаку и Умлангаана. — Ты хладнокровный старый убийца… — начал было я, но Зикали тотчас прервал меня: — Почему ты швыряешь в меня злые прозвища, Макумазан, как я только что швырнул в тебя камень твоей судьбы? Почему ты называешь меня убийцей — только лишь по той причине, что я способствовал смерти нескольких белых людей, доводившихся тебе друзьями, людей, которые заявились на нашу землю, чтобы обманывать здесь черный народ? — Значит, именно по этой причине ты обрек их на смерть, Зикали? — спросил я, глядя ему в глаза, потому что чувствовал, что он лжет мне. — Не совсем, Макумазан, — ответил карлик и, не выдержав моего взгляда, опустил глаза долу, эти странные глаза, которые могли смотреть на солнце, не мигая. — Разве не сказал я тебе, что ненавижу род Сензангаконы? И когда погибли Ретиф и его люди, разве пролитие их крови не означало начало войны между зулусами и белыми людьми? Разве не означала смерть Дингаана и тысяч его людей всего лишь начало череды смертей? Теперь ты понимаешь? — Я понимаю, что ты очень страшный человек, — с негодованием воскликнул я. — По крайней мере, не тебе так говорить, Макумазан, — возразил Зикали, и в его голосе послышалась какая-то новая нотка, убедившая меня, что на сей раз он говорит правду. — Почему же? — Потому, что я спас тебе жизнь в тот день. Ведь тебе единственному удалось спастись из всех белых людей? И ты все не мог понять, как это случилось, верно? — Да, не мог, Зикали. Свое спасение я приписал тем, кого ты называешь «духами». — Что ж, тогда я расскажу тебе, как было дело. На плечах того духа была моя накидка из леопардовых шкур, — произнес Зикали и засмеялся. — Я увидел тебя среди буров, но сразу понял, что ты из другого племени — племени англичан. Может, ты слышал, что в те времена я занимался врачеванием в Великом дворце, хотя и старался никому особо не попадаться на глаза, потому-то мы и не встречались или, по крайней мере, ты не знал, что мы встречались, ведь ты спал, когда я тебя видел. Я пощадил твою молодость, потому что, хоть ты и не поверишь в это, в те годы в моем сердце еще оставалась капелька добра. А еще я знал, что много лет спустя нам с тобой суждено встретиться, и, как видишь, так сегодня и вышло, и встречаться мы будем часто до самого конца… Вот почему я сказал Дингаану: «Кто бы ни умер, но Макумазан должен остаться в живых, иначе «люди Джорджа» (то есть англичане) придут отомстить за него, а призрак юноши вселится в тебя, о Дингаан, и навлечет на твою голову проклятие». Дингаан поверил мне; он не знал, какое множество проклятий уже нависло над его головой, так что одним больше, другим меньше — значения не имело. Итак, Макумазан, ты был спасен, а впоследствии ты поспособствовал тому, чтобы обрушить проклятие на Дингаана, не превращаясь в призрака. Вот почему Панда так любит тебя теперь — Панда, враг Дингаана и его брат. А ты помнишь женщину, что помогала тебе? Это я велел ей помогать. Кстати, Макумазан, как сложились у тебя отношения с бурской девушкой, что жила по ту сторону реки Баффало, с которой вы тогда предавались любви? — Не важно, как сложились, — ответил я, быстро вскочив на ноги, потому что разговор старого колдуна всколыхнул печальные и горькие воспоминания в моей душе. — То время умерло, Зикали. — Так ли, Макумазан? По выражению твоего лица я сказал бы, что оно очень даже живо, ведь события нашей юности вообще необычайно живучи. Однако я, конечно же, ошибаюсь, и все, что случилось с тобой в прошлом, умерло, как умерли Дингаан, и Ретиф, и все другие твои спутники. Как бы там ни было, я, хоть ты и не веришь этому, спас тебе жизнь в тот кровавый день. Разумеется, для своих собственных целей, а вовсе не потому, что одна белая жизнь значила для меня больше, чем множество других загубленных мною. Что ж, идти отдыхать, Макумазан, и хотя сегодня вечером я разбередил в твоем сердце старые раны, я обещаю тебе, что ночью ты будешь хорошо спать. — И, отбросив с глаз длинные волосы, он устремил на меня пристальный взгляд, покачал головой и вновь разразился громким хохотом. И я ушел. Но — ах! — выйдя из хижины, я не в силах был сдержать слез. Каждый, кому известна та моя история от начала до конца, поймет почему. Но здесь не место для рассказа о ней — истории о моей первой любви и об ужасных событиях, выпавших на мою долю во времена Дингаана. Тем не менее, как уже упоминалось, я записал эту историю и, возможно, когда-нибудь предам огласке.Глава 3
БУЙВОЛ С ОБЛОМАННЫМ РОГОМ
В ту ночь я спал превосходно, полагаю, потому, что устал как собака. Однако весь следующий день во время долгого обратного путешествия к краалю Умбези я предавался размышлениям. Несомненно, я увидел и услышал много странных вещей, принадлежавших как прошлому, так и настоящему, — вещей, совершенно непостижимых для меня, к тому же тесно связанных с вопросами политики высшего уровня Зулуленда и проливавших новый свет на события моей юности. Сейчас, при ярком свете солнца, пора было проанализировать услышанное; именно этим я и занялся, призвав себе в помощь логику и отказавшись от содействия Садуко, толку от которого в этом было чуть: всякий раз, когда я задавал ему вопросы, он лишь пожимал плечами. «Такие вопросы, — сказал он, — меня не интересуют. Ты хотел видеть магию Зикали, и он с удовольствием продемонстрировал тебе лучшие из своих умений. А затем один на один — такую честь Зикали оказывал очень немногим — пообщался с тобой о неоспоримо высоких материях — настолько высоких, что я, Садуко, не был допущен к вашей беседе. И теперь ты можешь делать свои собственные выводы, прибегнув к мудрости белого человека, которая, как всем известно, очень велика». Я ответил коротко, что, конечно, могу, потому что меня раздражал тон Садуко. Вероятно, правда крылась в том, что юношу очень задело, как с ним обошлись накануне: отправили спать, как маленького мальчишку, в то время как его приемный отец, старый карлик, вел доверительную беседу со мной. Одна из ошибок Садуко заключалась в его неизменно высоком мнении о себе самом. К тому же от природы он был невероятно ревнив, даже в мелочах, как в этом еще предстоит убедиться читателям его истории, если таковые найдутся. Несколько часов мы шагали молча, и наконец молчание прервал мой спутник. — Инкози, ты не передумал идти на охоту с Умбези? — спросил он. — Не боишься? — А чего мне бояться? — раздраженно бросил я. — Как «чего» — буйвола с обломанным рогом, о котором предостерегал тебя Закали. Боюсь, я употребил чересчур крепкое выражение о своей вере в буйвола с обломанным рогом в высохшем русле реки, с бочагами или без оных. — Если ты сам боишься этих глупых россказней, — ответил я, — то можешь оставаться в краале с Маминой. — Отчего ты говоришь, будто я боюсь, Макумазан? Зикали не говорил, что злой дух, вселившийся в буйвола, ранит меня. Если я и боюсь, то боюсь за тебя, ведь, если тебя ранят, ты не сможешь отправиться со мной за скотом Бангу. — О! — насмешливо ответил я. — Похоже, ты крайне эгоистичен, друг мой Садуко, поскольку все твои мысли о собственном благополучии, а не о моем здоровье. — Если бы я был столь эгоистичен, как ты, видимо, обо мне думаешь, инкози, разве стал бы я тебе советовать отказаться от охоты, лишив себя тем самым возможности получить ружье с двумя стволами, что ты пообещал мне? Однако ты прав в том, что я очень хотел бы остаться в краале Умбези с Маминой, особенно если там не будет ее отца. Поскольку нет ничего интересного в том, чтобы выслушивать рассказы других об их любовных переживаниях, и видя, что при малейшем с моей стороны поощрении Садуко был готов снова поведать мне всю историю своих ухаживаний, я не стал продолжать наш спор. Остаток пути мы провели в молчании и прибыли в крааль Умбези вскоре после захода солнца, чтобы, к нашему общему разочарованию, убедиться, что Мамина все еще не вернулась. Утром мы отправились на охоту в следующем составе: я, мой слуга Скоул, который, как я, кажется, уже упоминал, был родом из Южной Африки и наполовину готтентотом; Садуко; старый весельчак зулус Умбези и несколько приведенных Умбези человек, служивших носильщиками и загонщиками. Охота удалась, поскольку в те дни эта часть страны изобиловала дикими животными. К концу второй недели на моем счету уже было четыре застреленных слона, два из них с огромными бивнями; Садуко, который довольно скоро сделался отличным стрелком, тоже убил слона из обещанной мною двустволки. И даже Убмези — мне так и не удалось узнать, каким образом, поскольку произошедшее скорее напоминало чудо, — умудрился убить слониху с превосходными бивнями из того самого древнего ружья, которое стреляло при полувзведённом курке. Никогда не видел я прежде, чтобы человек, будь он черным или белым, так радовался своей добыче, как этот хвастливый кафр. Часами Умбези пел, и танцевал, и нюхал табак, и салютовал мне рукой, снова и снова, и каждый раз по-новому рассказывая историю своего подвига. Он также придумал себе новое имя, означав шее «Гроза слонов». Мало того — он велел одному из своих людей всю ночь напролет восхвалять его, благодаря чему мы глаз не сомкнули, пока бедняга наконец не свалился от усталости. Все это и впрямь было очень забавно, пока не наскучило нам до смерти. Помимо слонов, мы убили много других зверей, включая двух львов, которых я застрелил практически дуплетом, и трех белых носорогов, которых сейчас — увы! — в природе осталось очень мало. К концу третьей недели мы почти до предела нагрузили наших носильщиков слоновой костью, рогами носорогов, шкурами и билтонгом и готовились на следующий день отправиться в обратный путь в крааль Умбези. На самом деле больше нельзя было откладывать наше возвращение, поскольку запасы пороха и свинца подходили у нас к концу. Сказать по правде, я был очень рад, что наш поход завершился столь благополучно. Ведь даже самому себе я не признался бы в безотчетном страхе, заползавшем в душу при воспоминании о напророченной мне старым карликом скорой встрече с буйволом. Что ж, вышло так, что никакого буйвола мы не видели, и, поскольку тропа, по которой пролегал наш обратный путь, проходила по небольшой возвышенности с бедной растительностью, где подобные животные водятся редко, вероятность встречи была невелика. «Только слабоумные суеверные идиоты, — бодро думал я, — могут верить в несусветную чушь обманывающих или самообманывающихся кафрских знахарей». Все это я, разумеется, попытался втолковать Садуко в последний вечер нашего похода, перед тем как мы устроились на ночлег. Садуко выслушал меня молча и, так ничего мне не ответив, предложил лечь спать, поскольку я наверняка очень устал. По своему опыту я хорошо знаю: какой бы ни была причина — заранее хвалиться не стоит ничем и никогда. Например, что касается охоты, не зря говорят: «Начинай похваляться, лишь когда благополучно вернешься домой». Всю справедливость этой народной мудрости мне суждено было испытать на самом себе. Своим ночлегом мы избрали открытое место, поросшее редким кустарником, за которым в низине виднелись обширные заросли сухого камыша, — несомненно, в сезон дождей там образовывалось болото, которое питала небольшая речка, впадавшая в него почти напротив нашего лагеря. Посреди ночи я проснулся: мне почудилось движение крупных животных в гуще тех камышей, однако, не услышав больше никаких подозрительных звуков, я снова заснул. Вскоре после рассвета меня разбудил чей-то голос. Сквозь завесу сна я узнал голос Умбези. — Макумазан, — сипло шептал он. — В камышах внизу полным-полно буйволов. Проснись! Вставай скорее! — Зачем? — промычал я. — Буйволы как забрались в камыши, так и уйдут. Мясо нам не нужно. — Нет, Макумазан, но мне нужны их шкуры. Король Панда потребовал от меня пятьдесят щитов, а где мне взять кожу для них? Не убивать же своих быков. Гляди, в этом болоте буйволы как в западне — оно как ложбина с узким входом. Им некуда деваться — выход только там, где они вошли, и тот узкий. Если мы станем по обе стороны прохода, то убьем много зверей. К этому времени я окончательно стряхнул с себя сон, выбрался из одеял и поднялся. Накинув плащ на плечи, я вышел из шалаша, сооруженного из веток, и сделал несколько шагов к гребню скалистого холма, откуда открывался вид на высохшее болото. Внизу еще белел утренний туман, и из него доносилось мычание и топот — звуки, которые я, бывалый охотник, распознал безошибочно: в камыши явно забралось большое стадо буйволов, не менее сотни или двух сотен голов. В этот момент к нам присоединились мой слуга Скоул и Садуко, оба крайне возбужденные. Скоул, который, казалось, никогда не спал, видел ночью, как буйволы входили в камыши, и сейчас уверял, что их две или три сотни. Садуко внимательно осмотрел проход, через который звери вошли в камыши, и заявил, что тот достаточно узок, чтобы мы смогли убить любое количество буйволов, когда те устремятся к выходу. — Все верно, — сказал я. — Однако я полагаю, что нам лучше дать им уйти. Лишь четверо из нас, включая Умбези, вооружены ружьями, а от ассегаев против буйволов толку немного. В общем, пусть себе уходят. Умбези, думая о дешевом материале для щитов, затребованных королем, который наверняка будет доволен, если щиты изготовят из таких редких и крепких шкур, как у дикого буйвола, яростно запротестовал, и Садуко, то ли из желания угодить тому, кого он в скором времени надеялся назвать своим тестем, то ли из простой любви к охоте, к которой у него всегда была страсть, поддержал его. Один лишь Скоул, в чьих жилах текла кровь готтентота, делая его хитрым и осторожным, принял мою сторону, напомнив, что у нас почти не осталось пороха и что буйволы «едят много свинца». Наконец Садуко подытожил: — Господин Макумазан — наш командир, мы должны подчиняться ему, как бы жалко нам ни было. Без сомнения, над ним довлеет пророчество Зикали, так что ничего тут не поделаешь. — Зикали! — воскликнул Умбези. — А старый карлик-то здесь при чем? — Не важно, при чем он или ни при чем, — вмешался я. Хоть и был я уверен, что в своих словах Садуко не таил насмешку, а лишь констатировал факт, они задели меня за живое, ведь доля истины в них имелась. — Попробуем убить нескольких буйволов, — продолжил я. — Хотя, если стадо не завязнет в болоте, что маловероятно, ведь оно высохло, нам удастся добыть от силы восемь-десять зверей, а для щитов этого мало. Надо придумать план, и поскорее: звери могут тронуться с этого места еще до полудня. Через полчаса четверо из нашего отряда, те, у кого были ружья, заняли позиции за камнями по обе стороны естественной, круто спускающейся к болоту «дороги», некогда пробитой водой, а с нами — несколько человек Умбези. Сам вождь настоял, чтобы расположиться подле меня, полагая, что определил для себя почетный пост. Я не стал его отговаривать, решив, что мне же будет безопаснее, если он окажется рядом со мной, а не напротив, дабы я не получил пулю из его норовистого ружья. По-видимому, стадо буйволов улеглось в камышах, и мы, первым делом осторожно заняв свои позиции, отправили трех туземцев-носильщиков к дальнему краю болота с заданием поднять зверей криками. С нами остались десять или двенадцать вооруженных копьями зулусов. Но что же сделали эти прохвосты? Вместо того чтобы, как им велели, поднять шум, эти туземцы по известной лишь им одним причине — подозреваю, что они просто испугались лезть в болото, где в любое мгновение могли нарваться на рога, — подожгли сухие камыши одновременно в трех или четырех местах, и это, можете себе представить, учитывая сильный ветер, дувший от них к нам. Через минуту-другую весь дальний край болота охватило трескучим пламенем и плотными клубами белесого дыма. Затем начался ад кромешный. Спавшие до этого буйволы повскакивали на ноги и после нескольких мгновений нерешительности устремились к нам — все огромное, словно обезумевшее, хрипящее и мычащее стадо. Догадавшись, что может вот-вот случиться, я спрятался за большим валуном, а Скоул со стремительностью и грацией кошки вскарабкался на акацию, не обратив ни малейшего внимания на ее шипы, и умостился там в орлином гнезде. Зулусы с копьями бросились врассыпную в поисках укрытия. Что сталось с Садуко, я не увидел, но старый Умбези, явно сбитый с толку, вдруг выскочил из укрытия с криками: — Идут! Они идут! Ну-ка, нападайте, буйволы, если хотите. Вас ждет Гроза слонов! Прячься, старый болван!.. — заорал было я, но тщетно, поскольку именно в этот момент первый буйвол, огромный самец, по-видимому вожак стада, словно откликнувшись на приглашение Умбези, уже летел прямо на него. Ружье Умбези выстрелило, а в следующее мгновение он сам взлетел над землей. Сквозь дым я увидел в воздухе его черную спину, а затем услышал, как его тело с глухим звуком упало на вершину камня, за которым на корточках сидел я. — Конец старому глупцу… — сказал я сам себе и в качестве заупокойной мессы всадил быку, отправившему Умбези, как мне подумалось, на Небеса, унцию свинца в ребра в то мгновение, когда он пробегал мимо меня. Больше я не сделал ни единого выстрела, посчитав разумным не выдавать своего присутствия. Не припомню, чтобы за весь мой охотничий опыт я когда-либо видел нечто подобное тому, что последовало дальше. Животные мчались из болота десятками, по мере продвижения каждое из них отпускало замечания по поводу происходящего на своем буйволином языке. Зажатые в узком проходе, они запрыгивали друг другу на спины. Они визжали, лягались, ревели и с такой силой бились о валун, за которым я прятался, что тот дрожал. Они повалили акацию, на которой сидел Скоул, и вышибли бы его из орлиного гнезда, не зацепись, по счастью, верхушка акации за другое дерево, стоявшее чуть в стороне от бешеного звериного потока. Вместе с буйволами на нас неслось дыхание раскаленного воздуха и клубы едкого дыма вперемешку с частицами горящих камышей. Наконец все было кончено. Стадо ушло, оставив затоптанными в дикой спешке нескольких телят. Я же, подобно римскому императору — полагаю, это был именно император, — взялся подсчитывать потери в своих легионах. — Умбези! — крикнул я, или, скорее, чихнул, задыхаясь от дыма. — Ты умер, Умбези? — О да, Макумазан, — долетел с верхушки валуна унылый, задыхающийся голос. — Я умер, совсем умер. Этот злой дух в шкуре сильваны — (то есть дикого зверя) — убил меня. Ох! Зачем я вообразил себя охотником, зачем не остался в родном краале считать свой скот? — Вот уж не знаю, старый безумец, — ответил я, взбираясь на валун проститься с ним. Вершина у этого валуна была довольно острая, похожая на конек крыши, и на ней, подобно подштанникам на бельевой веревке, висел Гроза слонов. — Куда он ранил тебя, Умбези? — спросил я, поскольку из-за дыма не мог разглядеть ран на его теле. — В спину, Макумазан, в спину! — простонал он. — Я повернулся бежать, но, увы, слишком поздно! — И все же, — возразил я, — ты, такой тяжелый, летел, как птица, Умбези, клянусь тебе, как птица! — Посмотри, что сделал со мной страшный зверь, Макумазан. Это не составит тебе труда, ведь моя муча[254] слетела. Я тщательно осмотрел внушительные «пропорции» Умбези, но не обнаружил ничего, кроме широкого мазка черной грязи, словно он посидел в полувысохшей луже. И тогда я догадался, в чем дело. Рога буйвола миновали Умбези, и зверь ударил его своей грязной мордой, которая, будучи такой же широкой, как та часть тела Умбези, на которую пришелся удар, лишь оставила на ней огромный синяк. Когда я убедился, что серьезных ран нет, терпение мое, и без того подвергшееся серьезному испытанию, не выдержало, и я звонко шлепнул Умбези по тому самому месту — благо, он лежал очень удобно, — таких шлепков по заду он не получал, пожалуй, с самого детства. — Вставай, недоумок! — рявкнул я. — Вот чем кончилась твоя дурацкая затея напасть на буйволов в камышах. Поднимайся! Я не собираюсь торчать здесь, чтобы задохнуться от дыма. — То есть ты хочешь сказать, что никакой смертельной раны у меня нет? — спросил он, развеселившись и приняв мою критику без обиды, поскольку был не из тех, кто способен подолгу злиться на кого-либо. — О, как я рад слышать это, ведь теперь, раз я не умираю, я смогу заставить этих трех трусов, поджегших камыши, пожалеть о том, что они не погибли в огне, а еще прикончить того буйвола, ведь я попал в него, Макумазан, я ранил его! — Не знаю, попал ли ты в него, он в тебя попал точно, — ответил я, столкнул Умбези с валуна и побежал к поваленному дереву, в ветвях которого последний раз видел Скоула. Моим глазам предстало еще одно странное зрелище. Скоул по-прежнему сидел в орлином гнезде, деля его с двумя почти оперившимися птенцами. Одного из них он, вероятно, придавил, и тот испускал жалобные крики. И он кричал не напрасно, так как его родители, принадлежавшие к той разновидности пернатых хищников, которых буры называют ягнятниками, прилетели к нему на помощь и клювом и когтями расправлялись с непрошеным гостем. Схватка, которую я наблюдал сквозь проносящиеся клубы дыма, казалась мне поистине титанической; более шумной борьбы мне никогда не приходилось наблюдать: даже не могу сказать, кто кричал громче — разъяренные птицы или их жертва. Я от души расхохотался, видя, как обстоят дела у моего слуги. В это мгновение Скоул схватил за ногу орла, стоявшего у него на груди и вырывавшего пучки волос крючковатым клювом, и смело выпрыгнул из гнезда, в котором становилось слишком жарко. Широко распростертые крылья орла, словно парашют, смягчили падение, впрочем, этому поспособствовал и Умбези, на которого мой верный слуга приземлился по воле случая. Вскочив с распростертого на земле вождя, у которого теперь прибавился синяк еще и спереди, Скоул, весь покрытый ссадинами и царапинами, бросился наутек, предоставив мне подбирать с земли ружье, которое он, по счастью не повредив, бросил у подножия дерева. С этого дня Умбези прозвал его: Тот, кто борется с птицами. Являя собой довольно потрепанное трио — на Умбези не осталось ничего, за исключением кольца на голове, — мы выбрались за пределы пелены дыма и, громко крича, стали звать остальных в надежде, что стадо не затоптало их. Первым появился Садуко, совершенно спокойный и невозмутимый. С удивлением оглядев нас, он поинтересовался, что с нами случилось. Я, в свою очередь, спросил его, каким образом ему удалось сохранить такой приличный вид. Садуко ничего не ответил, но подозреваю, что он прятался в большой норе муравьеда, и, откровенно говоря, вряд ли стоит его винить за это. Вскоре один за другим стали подходить остальные члены нашей команды, некоторые едва переводили дух, словно бежали издалека. Собрались все, за исключением тех, кто поджег камыши: они правильно сделали, что сочли за лучшее не показываться нам на глаза ближайшие несколько часов. Уверен, впоследствии они пожалели, что не стали скрываться еще дольше, но, когда они наконец явились, между ними и их вождем состоялся разговор в таких выражениях, какие я не смею здесь повторить. Когда все собрались, возник вопрос, что делать дальше. Я, конечно, выразил желание вернуться в лагерь и как можно скорее покинуть это зловещее место. Но я не учел тщеславия Умбези. Умбези, распростертый на остром гребне валуна, куда его зашвырнул удар морды буйвола, и воображавший себя смертельно раненным, — это было одно, а Умбези в чужой муче, хоть и потирающий обеими руками свои ушибы, но все же знающий, что жизни его они угрозы не представляют, — совсем другое. — Я охотник, — заявил он. — Мое имя — Гроза слонов. — Он повращал глазами, ища кого-либо, кто возразит ему; никто не осмелился. Лишь один «воспеватель» его талантов, тощий, утомленного вида человек, чей голос звучал очень устало, негромко пролепетал: — Да, Черный вождь, твое имя — Гроза слонов, а теперь еще и Вознесенный быком. — Помолчи, болван, — проревел Умбези. — Как я сказал, я охотник. Я ранил дикого зверя, и он осмелился напасть на меня. (В действительности это я, Аллан Квотермейн, ранил буйвола.) Я хочу прикончить этого зверя, он не мог далеко уйти. Идем по его следам. Он вновь обвел всех взглядом, и один за другим его люди раболепно откликнулись: — Да, да, конечно, идем по его следам, Гроза слонов! Умный белый человек Макумазан поведет нас, потому что нет такого буйвола, которого он боится! Разумеется, после такого клича ничего другого мне не оставалось делать, и, позвав исцарапанного Скоула, который был явно не в восторге от предстоящего продолжения охоты, мы отправились по следам стада, что было так же легко, как шагать по гужевой дороге. — Ничего, хозяин, — сказал Скоул. — Они обогнали нас на пару часов и теперь далеко. — Надеюсь, — ответил я, однако, как выяснилось, удача в тот день изменила мне: не успели мы пройти и полмили, как один чрезмерно усердный туземец наткнулся на кровавый след. По этому следу я шагал минут двадцать, пока не приблизился к кустарнику, спускавшемуся вниз к руслу реки. Следы вели прямо к реке, по ним я дошел до края большого бочага, полного воды, хотя сама река давно высохла. Я остановился и, глядя на следы буйвола у воды, размытые и нечеткие, спросил у Садуко, не мог ли зверь переплыть бочаг. И в этот миг все прояснилось само собой: стремительно продравшись через густой кустарник, мимо которого мы только что прошли (буйвол провел нас, проделав элементарный трюк — вернувшись по собственным следам), появился огромный бык и на мгновение замер, стоя на трех ногах, — моя пуля перебила ему бедро. Сомнений в том, что это тот самый буйвол, не оставалось: на его правом роге с обломанным концом красовался обрывок набедренной повязки Умбези. — Берегись, инкози! — раздался испуганный крик Садуко. — Это буйвол с обломанным рогом! Я услышал его. Я увидел буйвола. Перед глазами на мгновение всплыла вся сценка в хижине Зикали: старый карлик, его слова — все-все. Я вскинул ружье, выстрелил в бегущего на меня буйвола и успел понять, что пуля прошла вскользь по его черепу. Буйвол был уже передо мной. Я бросил ружье на землю и попытался отскочить в сторону. Мне это почти удалось, однако бык поддел меня своим обломанным рогом, и я отлетел в сторону — прямо в глубокий бочаг. Уже из воды я успел заметить, как прыгнул вперед и выстрелил Садуко, как буйвол рухнул, словно подкошенный, а затем медленно сполз в воду. Теперь мы оба очутились в бочаге, но места для двоих там не было. После нескольких попыток увернуться я нырнул, как всегда делает в драке более мелкая собака. Буйвол же, казалось, делал все, что мог в сложившейся ситуации: пытался боднуть меня и отчасти преуспел, хотя при каждом его выпаде я нырял под воду. Но вот он ударил меня мордой и начал топить, хотя я схватил его за губу и с силой вывернул ее. Затем ему удалось придавить меня коленом, и я стал глубже и глубже погружаться в ил. Помню, как я принялся колотить его в живот. Больше я ничего не помню, только некий сон, дикий сон, в котором я будто бы вернулся к сцене в хижине карлика в тот момент, как он просит меня, чтобы, когда я встречу буйвола с обломанным рогом в бочаге высохшего русла реки, я вспомнил «старого кафрского обманщика». После этого я неожиданно увидел свою мать, склонившуюся над маленьким ребенком в моей кроватке в старом доме в Оксфордшире, где я родился, а затем… темнота! Когда я вновь пришел себя, то увидел не мать, а склонившегося надо мной Садуко с одной стороны, а с другой — Скоула, рыдающего так отчаянно, что в следующее мгновение я почувствовал на своем лице его горячие слезы. — Он умер, — всхлипывал безутешный Скоул. — Проклятый буйвол убил его. Умер лучший белый человек во всей Южной Африке, которого я любил больше отца и всей моей родни… — Любить которых тебе не составляло труда, безродный, — отозвался Садуко, — ведь ты не знаешь, кто твоя родня. Но он не умер, ведь Открыватель дорог сказал, что он будет жить. К тому же я пронзил сердце буйвола копьем прежде, чем он задавил Макумазана насмерть, и ил на дне, по счастью, мягкий. Боюсь, однако, ребра зверь ему поломал. — И Садуко ткнул мне пальцем в грудь. — Убери лапу! — охнул я. — Ну вот, чувствует! — сказал Садуко. — Я же говорил, будет жить! После этого эпизода я мало что помню, разве какие-то обрывки снов. Очнулся я лежащим в большой хижине, принадлежавшей, как впоследствии выяснилось, Умбези, — той самой, в которой я лечил ухо его жене.Глава 4
МАМИНА
Некоторое время в свете, проникавшем в хижину через дверное и дымовое отверстия, я рассматривал крышу и стены жилища, гадая, кому оно принадлежит и как я сюда попал. Затем я попытался сесть и сразу же почувствовал резкую боль в области ребер, которые, как я обнаружил, были перебинтованы широкими полосками мягкой дубленой кожи. Очевидно, несколько ребер было сломано. «Но как я умудрился сломать их?» — спросил я себя и тотчас вспомнил все, что произошло накануне. Выходит, я остался в живых, как и напророчил мне Открыватель дорог. Несомненно, он прекрасный провидец; а если он не ошибся относительно моей встречи с буйволом, то почему бы не могли оказаться правдой и все другие его предсказания? Как мне расценивать его слова? Что думать обо всем этом? Как может черный дикарь, хоть и умудренный годами, предвидеть будущее? Быть может, он строит свои умозаключения на основе анализа минувших событий, а затем делает ряд обобщений и с их помощью пытается вообразить возможное будущее? Но как в таком случае ему удалось увидеть детали грядущего чрезвычайного происшествия, которое должно было произойти со мной при непосредственном участии дикого зверя, и не просто зверя, а буйвола с обломанным рогом? Я решил оставить эти рассуждения и с того самого дня счел необходимым поступать так и в дальнейшем, как бы ни складывались события моей жизни. Однако меня по-прежнему занимает вопрос: откуда кафрские шаманы, или пророки, получают свои знания, как они «ведают», каким образом, например, некоему зулусскому колдуну Мавово, о ком я надеюсь как-нибудь рассказать[255], удалось предсказать грозившую мне и моим спутникам беду и тем самым отвести ее от нас? И тут до моего слуха донесся шорох — кто-то пробирался в хижину через входное отверстие. Я закрыл глаза, сделав вид, будто сплю, поскольку не был в тот момент расположен к разговорам. Очутившись внутри, человек остановился возле меня, и, сам не знаю почему, возможно инстинктивно, я понял, что это женщина. Очень медленно я приоткрыл свои веки — ровно настолько, чтобы разглядеть ее. В луче золотистого света, льющегося через дымовое отверстие и рассекающего мягкий полумрак хижины, стояло самое прекрасное создание из всех когда-либо виденных мной, — если, конечно, допустить, что женщина с черной кожей, или, скорее, с кожей цвета меди, может быть прекрасной. Она была чуть выше среднего роста и обладала, насколько я могу об этом судить, совершенно идеальной фигурой греческой статуи. Мне представилась великолепная возможность сформировать собственное мнение об этом, поскольку, кроме небольшого фартучка и нитки синих бус на шее, ее наряд был… одним словом, как у греческой статуи. Внешне девушка очень отличалась от представителей негроидного типа. Черты ее лица были на удивление правильными: прямой и тонкий нос, маленькие, аккуратные ушки, довольно небольшой рот, хотя и с немного мясистыми губами, между которыми виднелись зубы цвета слоновой кости. Глаза, большие, темные, блестящие, походили на глаза лани, а над гладким, высоким лбом росли вьющиеся, но не густые и курчавые, как у негров, волосы. Кстати, волосы ее не были собраны в причудливую туземную прическу, они были просто разделены пробором на две части и стянуты в большой узел на затылке. Кисти рук и ступни были маленькими и изящными, а изгибы полного бюста — настолько нежными и красивыми, что не порождали ни одной непристойной мысли, даже намека на нее. Поистине женщина была прекрасна, и все же в ее красивом лице я увидел или мне показалось, что увидел, нечто неприятное — даже несмотря на его по-детски невинные черты, напомнившие мне едва начавший распускаться цветок, — нечто, не ассоциировавшееся с юностью и чистотой. Я попытался понять, что же это могло быть, и пришел к заключению, что, не являясь жестоким, ум этой женщины был слишком глубок и, в некотором роде, чересчур прагматичен. Я почти физически ощущал, насколько проницательным, быстрым и блестящим, как полированная сталь, был ум внутри этой красивой головки; и понимал, что эта женщина создана властвовать, а не быть игрушкой в руках мужчины или его любящей спутницей, что она всегда сумеет использовать его в своих целях. Гостья опустила подбородок, прикрыв им маленькую ямочку на шее, составлявшую одну из ее прелестей, и принялась не просто смотреть, а изучать меня, и я, заметив это, плотно прикрыл глаза и ждал. Быть может, она думала, что я все еще в забытьи, поскольку заговорила сама с собой тихим голосом, теплым и сладким, как мед. — Вот он. Какой маленький! Садуко вдвое крупнее его, а другой, — (это еще кто, подумал я), — втрое. Волосы тоже некрасивые: он подрезает их коротко, и они торчат дыбом, как шерсть на спине у кошки. Пф-ф! — И девушка сделала презрительный жест рукой. — Ничего собой не представляет как мужчина. Но он белый — белый, один из тех, кто господствует. И все знают, что он здесь хозяин. Его называют Бодрствующим в ночи. Люди говорят, что он обладает мужеством львицы, защищающей своего детеныша, что это ему удалось избежать неминуемой смерти в ночь, когда Дингаан убил Пити[256] и буров; а еще говорят, что он проворен и хитер, как змея, и что Панда и его великие советники-индуны считаются с ним больше, чем с любым другим белым. А еще говорят, он не женат, но был женат дважды, и обе жены умерли, и сейчас он даже не глядит на женщин, что довольно странно для любого мужчины, но указывает на то, что он избежит бед и преуспеет. Однако нельзя забывать, что здесь, в Зулуленде, все женщины — коровы или телки, которые в скором времени станут коровами. Пф-ф! Она помолчала немного, затем продолжила в мечтательной задумчивости: — А что, если он встретит женщину, которая не будет коровой и даже окажется умнее его самого, и не обязательно белую… Тут я счел нужным «проснуться». Повернув голову и зевнув, я открыл глаза и «сонно» посмотрел на женщину, заметив, как преобразилось ее лицо: властолюбивые мечтания в один миг сменились девичьей растерянностью, — в двух словах, передо мной сейчас стояло юное невинное создание. — Ты Мамина, не так ли? — спросил я. — О да, инкози, — ответила она. — Это мое имя. Но где ты слышал его и как узнал меня? — Слышал от некоего Садуко, — (тут она чуть нахмурилась), — и от других людей. А узнал я тебя, потому что ты очень красивая. — При этих случайно вырвавшихся у меня словах она ослепительно улыбнулась и гордо вскинула свою головку. — Я красива? — спросила она. — Вот не знала. Ведь я всего лишь простая зулусская девушка, которой приятны добрые слова великого белого вождя, и она благодарит его. — И Мамина грациозно изобразила подобие реверанса, чуть согнув одно колено. — Но, — торопливо продолжила она, — какой бы я ни была, я совсем не умею ухаживать за больным, а ты ранен. Может, мне сходить за моей более опытной матерью? — Ты о той, которую твой отец называет Старой Коровой и которой он отстрелил ухо? — Да, по описанию это она, — ответила девушка с легким смехом. — Хотя я не слышала, чтобы он так ее называл. — Может, и слышала, да забыла, — сухо заметил я. — Что ж, спасибо, думаю, никого звать не надо. Зачем беспокоить старую женщину, если ты сама можешь управиться не хуже ее? Если в той бутыли есть молоко, дай мне попить. Как ласточка, она метнулась к бутыли и уже в следующее мгновение стояла на коленях радом с моей лежанкой, одной рукой держа бутыль у моих губ, а второй помогая приподнять мне голову. — Это большая честь для меня, — проговорила она. — Я вошла в хижину прямо перед твоим пробуждением и, увидев, что ты по-прежнему не пришел в себя, заплакала… видишь, мои глаза все еще мокрые от слез. — (Так оно и было, но как она добилась этого, ума не приложу…) — Я испугалась, что этот сон станет твоим последним сном… — Едва не стал… — проговорил я. — Ты очень добра. Но, хвала Небесам, страхи твои оказались напрасны. Если тебе угодно, присядь и расскажи, как я сюда попал. Она села. Но не на колени, как это делают обычно кафрские женщины, а на маленькую скамеечку. — Инкози, тебя принесли в крааль на носилках из веток. Сердце мое замерло, когда я издалека увидела те носилки. И это было уже не сердце, а холодное железо, потому что я подумала, что мертвый или раненый человек был… — Тут она умолкла. — Садуко? — подсказал я. — Вовсе нет, инкози, — мой отец. — А оказалось, ни тот ни другой, — сказал я. — Так что ты, наверное, очень обрадовалась. — Обрадовалась? Когда инкози, гость нашего дома, ранен, быть может смертельно, — гость, о котором я столько слышала, хотя, к несчастью, и отсутствовала дома, когда он приехал? — Разошлись во мнениях с твоей приемной матерью? — Да, инкози. Моя родная мать умерла, и меня тут не слишком балуют. Мачеха называет меня ведьмой. — Вот как? Что ж, меня это не слишком удивляет… Но прошу тебя, продолжай свой рассказ. — Больше нечего рассказывать, инкози. Тебя принесли сюда, рассказали мне, как свирепый буйвол едва не убил тебя в бочаге… Вот и все. — Не все, Мамина. Как я выбрался из воды? — О, кажется, твой слуга, безродный Сикаули, прыгнул в воду и отвлек буйвола, который вдавливал тебя в ил, а Садуко вскочил зверю на спину и вонзил ассегай ему меж лопаток, прямо в сердце, и тот издох. Тебя вытянули из ила, едва живого и нахлебавшегося воды, и вернули к жизни. Но потом ты вдруг лишился чувств, тебя принесли в крааль и положили здесь; до этой вот минуты ты не приходил в сознание и все время бредил. — О, Садуко храбрый малый, — заметил я. — Не больше и не меньше, чем все остальные, — ответила она, пожав округлыми плечами. — Разве мог он бросить тебя погибать? По мне, так храбр тот, кто встал перед буйволом и исхитрился схватить его за нос, чтобы тем самым усмирить дикое животное, а не тот, кто залез ему на холку и ткнул его копьем. В этот момент нашей беседы я вдруг снова лишился чувств и потерял представление обо всем на свете, даже о так интересующей меня Мамине. Когда я вновь очнулся, девушки в хижине не было, ее сменил старый Умбези, который, как я заметил, снял со стены хижины циновку, свернул наподобие диванной подушки и подложил под себя, усаживаясь на ту же скамеечку, на которой до него сидела Мамина. — Приветствую тебя, Макумазан, — проговорил он, заметив, что я пришел в себя. — Как твое здоровье? — Надеюсь на лучшее, — ответил я. — А твое? — Скверно, Макумазан. До сих пор больно сидеть, у того буйвола был очень твердый нос. И спереди у меня все распухло, там, куда пришелся удар Сикаули, когда он свалился с дерева. И сердце мое разорвалось надвое из-за наших потерь. — Каких потерь, Умбези? — О-хо-хо, Макумазан! Пожар, который устроили эти безмозглые загонщики, добрался до нашего лагеря и сжег почти все — мясо, шкуры и даже слоновую кость, которая потрескалась от огня и больше никуда не годится. Неудачная получилась охота. Начиналась так гладко, а вернулись мы с нее почти голыми. Да, ничего не осталось, кроме головы буйвола с обломанным рогом: я подумал, может, ты захочешь оставить ее себе. — Будем благодарны, Умбези, что вернулись живыми с этой охоты, если, конечно, я останусь жив, — добавил я. — О Макумазан, не сомневайся, ты будешь жить и станешь еще сильнее. Так сказали два наших знахаря, очень мудрые люди, когда осмотрели тебя. Один из них обернул тебя этими кожаными повязками, и за его хлопоты я пообещал ему телку, если, конечно, он вылечит тебя, а в задаток отдал ему козла. Но он сказал, что лежать тебе здесь месяц, а то и больше. Тем временем Панда прислал своих людей за шкурами для щитов, которые он требовал у меня, и ради этого мне пришлось зарезать двадцать пять голов моего скота, вернее, моего и моих вождей. — В таком случае мне жаль, что ты и твои вожди не убили своих быков прежде, чем мы встретили этих буйволов, Умбези, — буркнул я недовольно, поскольку сломанные ребра доставляли мне сильную боль. — Позови сюда Садуко и Скоула. Хочу поблагодарить их за то, что спасли мне жизнь. На следующее утро они пришли, и я горячо поблагодарил их. — Будет, будет, хозяин, — проговорил Скоул, буквально рыдавший от радости при виде того, что ко мне вернулись сознание и рассудок. То были не притворные слезы Мамины, но слезы искренние: я видел, как они стекали по его плоскому носу, на котором еще оставались незажившие царапины от орла. — Не говори больше ничего, умоляю тебя. Если бы ты умер, я бы тоже не стал жить, потому что нельзя жить без сердца. Вот почему я прыгнул в воду, а вовсе не потому, что я храбрый. Едва услышав его слова, я почувствовал, как и на мои глаза навернулись слезы. Как часто мы дурно обращаемся с туземцами, но разве встречаем мы в ком-либо больше верности и любви, чем в этих бедных диких кафрах, о которых многие из нас говорят как о черной нечисти, по недоразумению получившей образ человека? — Что до меня, инкози, — добавил Садуко, — я лишь исполнил свой долг. Как бы я потом мог смотреть людям в глаза, если бы бык убил тебя, а я остался жив? Надо мной бы смеялись даже девушки. Но какая же толстая у этого буйвола шкура: поначалу я испугался, что ассегай не пробьет ее! Обратите внимание на разницу в характерах этих двоих. Первый, хоть и не храброго десятка в повседневной жизни, рискует жизнью из чистой, прямо-таки собачьей верности хозяину, который зачастую ругал его, а порой и поколачивал за пьянство. Второй рискует, дабы потешить собственную гордость, а также, возможно, потому, что моя смерть разрушила бы его планы и честолюбивые замыслы, в которых я должен был принять непосредственное участие. Нет, пожалуй, это слишком резкие слова. И все же нет никаких сомнений, что в первую очередь Садуко всегда занимали его собственные интересы и то, как отразятся его поступки на его добром имени и повлияют на достижение его желаний. Думаю, это касалось и Мамины — во всяком случае, поначалу, — хотя он, конечно же, всегда любил ее иск ренне и преданно, а это большая редкость среди зулусов. Как только Скоул покинул хижину, чтобы приготовить мне мясной бульон, Садуко сразу же перевел разговор на Мамину. Мол, он знает, что я видел ее, и не нахожу ли я ее красивой? — Да, очень красивой. Более прекрасной зулуски мне не приходилось видеть, — ответил я. — И очень умная — такая же умная, как белые женщины? — Да, и очень умная — гораздо умнее многих белых женщин. — И… какая она еще? — Очень опасная. Она может меняться, как ветер, и, как ветер, обжигать то жаром, то холодом. — О-о! — протянул Садуко, ненадолго задумавшись, а затем добавил: — Ну а мне какое дело, как она дует на других, если на меня она дует теплом. — Вот как… На тебя она дует теплом, Садуко? — Не совсем, Макумазан. — И он вновь помолчал. — На меня она дует, как… скорее, как ветер перед сильной бурей. — Это очень резкий, порывистый ветер, Садуко, при первом его дуновении мы понимаем, что грядет буря. — И буря, пожалуй, грянет, инкози, потому что она родилась в бурю и буря всюду ее сопровождает, но не все ли равно, если мы встретим ее вместе. Я люблю Мамину и скорее умру вместе с ней, чем стану жить с другой женщиной. — Вопрос в том, Садуко, предпочтет ли она смерть с тобой жизни с другим. Что она сама об этом думает? — Свои помыслы, инкози, Мамина таит во мраке. Мысль ее словно термит, что роет ходы в земле. Ты видишь ход и понимаешь: она думает, но мысли ее не разглядеть в этом ходу. И все же иногда, когда ей кажется, что никто не видит или не слышит ее, — (тут мне вспомнился монолог девушки, когда она думала, что я лежу без сознания), — или же если ее застать врасплох, можно узнать, о чем она размышляет на самом деле. Так случилось позавчера, когда я умолял Мамину выйти за меня замуж после того, как ей сообщили, что я убил буйвола с обломанным рогом. И вот что она мне сказала: «Люблю ли я тебя? Наверное я этого не знаю. Что же мне ответить тебе? Не в наших обычаях, чтобы девушка полюбила прежде, чем выйдет замуж, ведь иначе выходили бы замуж, слушая голос сердца и не принимая в расчет, сколько голов скота у отца девушки, и тогда половина отцов Зулуленда обеднели бы и отказались растить родившихся девочек, которые ничего не принесут в хозяйство. Ты смел, хорош собой, из знатной семьи, я бы скорее жила с тобой, чем с любым другим мужчиной. То есть, если бы ты был богатым и, что еще лучше, обладал властью. Стань богатым и могущественным, Садуко, и, думаю, я полюблю тебя». — «Стану, Мамина, — пообещал я. — Только ты должна подождать. Племя зулусов появилось на земле и сплотилось не вдруг. Сначала должен был появиться Чака». — «Ах, — воскликнула она, и, о прародитель мой, глаза ее сверкнули. — Чака! Вот это был человек! Стань новым Чакой, Садуко, и я буду любить тебя больше… больше, чем ты можешь мечтать об этом… Вот так и вот так…» И она обвила меня руками и поцеловала так, как никто прежде не целовал, а это, как ты знаешь, довольно необычно для наших девушек. Затем она со смехом оттолкнула меня и добавила: «Подождать, говоришь? Об этом тебе надо просить моего отца. Разве я не его телка на продажу, разве могу я ослушаться моего отца?» И Мамина ушла, и все во мне словно умерло, будто она забрала мою жизнь с собой. И больше она не станет говорить со мной об этом — термит снова спрятался в своем термитнике. — А с отцом ее ты говорил? — Говорил. Но момент выбрал неудачный: Умбези только что перебил едва ли не весь свой скот, чтобы поставить Панде кожу для изготовления щитов. Он был очень груб со мной и ответил: «Видишь этих мертвых животных, которых мне и моим людям пришлось зарезать для короля, чтобы не впасть в немилость? Приведи мне в пять раз больше голов, вот тогда и поговорим о твоей женитьбе на моей дочери, не ты один ею интересуешься». Я ответил, мол, понял, сделаю все, что могу, и тогда он немного смягчился, ведь у Умбези доброе сердце. «Сын мой, — сказал он, — ты нравишься мне, а когда я увидел, как ты спас моего друга Макумазана от дикого буйвола, стал нравиться еще больше. Но ты знаешь, как обстоят мои дела. Род мой древний, я вождь племени, и на шее у меня много людей. Но я беден, и дочь моя Мамина представляет собой большую ценность. Немногим отцам удалось вырастить такую невесту. Потому я должен извлечь из нее наибольшую выгоду. Своего зятя я вижу таким, который подставит мне плечо, когда я состарюсь; который всегда поможет мне в беде или нужде; который будет всегда для меня как сухое бревно[257], с которого можно содрать немного коры, чтобы развести костер и согреть мои старые кости; который не будет втаптывать меня в болото, как тот буйвол сделал с Макумазаном. Я все сказал, и разговор этот мне не по душе. Вернешься со скотом — выслушаю тебя, а до тех пор знай: я ничем не связан ни с тобой, ни с кем другим. Я возьму то, что пошлет мне мой дух, а пошлет он, насколько я могу судить о будущем по прошлому, немного. И вот еще что: не задерживайся слишком долго в моем краале, а то начнут болтать, что я одобряю твои ухаживания за Маминой. Иди, соверши достойное мужчины дело и возвращайся с добычей или не возвращайся совсем». — Что ж, Садуко, дело не простое, не так ли? — ответил я. — И что ты решил? — А вот что, — сказал он, поднимаясь на ноги. — Пойду соберу всех, кто по-дружески относится ко мне, потому что я сын своего отца и по-прежнему предводитель амангвана, вернее, тех из них, кто остался в живых, хотя нет у меня ни своего крааля, ни скота. А когда народится новая луна, я надеюсь вернуться сюда и найти тебя снова здоровым и сильным, и тогда мы отправимся, как я уже говорил тебе, в поход против Бангу, с разрешения короля, который сказал, что я могу, если мне удастся забрать скот, оставить его себе за свои труды. — Садуко, я никогда не обещал тебе, что пойду войной на Бангу, — с позволения короля или без оного. — Да, ты не обещал мне этого, но Зикали Мудрый сказал, что ты пойдешь со мной, а он никогда не ошибается. Спроси себя, и тебе вспомнятся его слова о буйволе с обломанным рогом, бочаге и сухом русле. Прощай, отец мой, Макумазан. Я ухожу на рассвете, Мамину а оставляю на твоем попечении. — Ты хочешь сказать, что оставляешь меня на попечение Мамины… — начал было я, но он уже выбирался из хижины. Должен сказать, что Мамина очень заботилась обо мне. Ее присутствие ощущалось постоянно, но при этом не было слишком навязчивым. Не обращая внимания на злобу и оскорбления Старой Коровы, которую, как я понял, она ненавидела, девушка сумела оградить меня от ее присутствия. Она меняла мне повязки, готовила еду; по этому поводу они несколько раз ссорились со Скоулом, который невзлюбил Мамину, потому что та едва удостаивала его даже взглядом. По мере того, как ко мне возвращались силы, она подолгу сидела рядом, и мы разговаривали, потому что, по общему согласию, прекрасная Мамина была освобождена от всех полевых и домашних работ, приходившихся на долю кафрских женщин. Она была гордостью и украшением и даже, если можно так выразиться, рекламой отцовского крааля. Работу могли выполнять другие, ей же оставалось только наблюдать за ними. Говорили мы с ней о многом — от христианской и других религий до политики европейских стран: жажда знаний девушки казалась неутолимой. Но больше всего ее интересовало положение дел в Зулуленде, о котором я знал довольно много, поскольку сыграл заметную роль в истории этой страны, к тому же, будучи белым, хорошо понимавшим намерения и планы буров и губернатора Наталя, я был принят при королевском дворе и пользовался доверием зулусских правителей. А если, спрашивала меня Мамина, если старый король Панда умрет, кто, по моему мнению, из его сыновей наследует ему — Умбелази, или Кечвайо, или кто-то другой? А если он не умрет, кого из них король Панда решит объявить своим наследником? Я ответил ей, что не умею предсказывать будущее, так что эти вопросы лучше задать Зикали Мудрому. — Хорошая идея, — сказала она. — Только мне не с кем сходить к нему, потому что отец не отпустит меня к Зикали с его воспитанником Садуко. — Тут она хлопнула в ладоши и добавила: — О Макумазан, своди меня к нему! Тебе отец доверит меня. — Пожалуй… — ответил я. — Да только могу ли я сам себе доверять? — О чем это ты? — спросила она. — А, понимаю. Значит, я для тебя не просто черный камушек для игры? Думаю, именно моя неудачная шутка натолкнула Мамину на новый ход мысли. Во всяком случае, с этого дня ее отношение ко мне изменилось: она стала более почтительной, внимала каждому моему слову, будто мои речи и впрямь были исполнены мудростью; зачастую я ловил на себе восхищенный взгляд ее ласковых глаз. Она стала делиться со мной своими заботами, тревогами и мечтами. И даже спросила совета в отношении Садуко. На этот счет я ответил: если она любит его и получит разрешение отца, то лучше ей выйти за него. — Садуко нравится мне, Макумазан, хотя порой мне становится с ним скучно. Но любить… Скажи мне, что такое любовь? — С этими словами она обхватила себя за плечи изящными руками и устремила на меня пристальный взгляд своих оленьих глаз. — Честное слово, барышня, — ответил я, — в этом ты, по-моему, осведомлена куда больше, и тебе самой впору давать мне уроки в этом искусстве. — О Макумазан, — проговорила она почти шепотом, уронив головку, как увядающая лилия. — Ты ведь ни разу не дал мне шанса, не так ли? — И она чуть слышно засмеялась, сделавшись в этот миг еще более привлекательной. — Господи боже! — Точнее, зулусский вариант этого выражения невольно вырвался у меня из груди: я начал нервничать. — Что ты хочешь сказать, Мамина? Как же я мог… — И тут я остановился. — Я не знаю, что хочу сказать, Макумазан! — в сердцах воскликнула она. — Но хорошо знаю, что хочешь сказать ты! Что ты белый как снег, а я черна как сажа, а снег и сажу никогда не смешивают вместе. — Нет, — серьезно ответил я. — Если смотреть на них по отдельности, то снег бел, а сажа черна, но их смесь довольно скверного цвета. Да только ты на сажу совсем не похожа, — поспешил добавить я, боясь задеть ее чувства. — Вот твой цвет. — Я коснулся медного браслета на ее запястье. — Очень красивый, Мамина, как и все в тебе. — Красивый, — повторила она и тихонько заплакала, чем сильно расстроила меня, потому что больше всего на свете я не выношу вида женских слез. — Разве может быть красивой бедная зулусская девушка? О Макумазан, духи несправедливо обошлись со мной, дав мне цвет кожи моего народа, а сердце — твоего. Будь я белой, то, что ты называешь красотой, принесло бы мне пользу, потому что тогда… тогда… о Макумазан, неужели ты не догадываешься? Я отрицательно помотал головой и в следующую минуту пожалел об этом, потому что Мамина начала объяснять. Опустившись на колени — а в хижине мы оставались совершенно одни, все другие женщины в это время были заняты по хозяйству, — она положила свою красивую головку мне на колени и заговорила нежно и тихо, иногда прерывая свой рассказ рыданиями. — Что ж, тогда я скажу тебе… скажу, даже если ты потом возненавидишь меня. Я могу научить тебя тому, что такое любовь, ты прав, Макумазан… потому что я люблю тебя. — (Рыдание.) — Нет, нет, не шевелись, пока не выслушаешь меня. — Она так сильно обняла мои ноги руками, что, захоти я, я не мог бы высвободиться, не применив грубой силы. — Когда я увидела тебя в первый раз, израненного и в забытьи, мне показалось, что снег запорошил мое сердце — оно на мгновение остановилось и с той поры не то, каким было раньше. Мне чудится, будто в нем что-то разрастается, Макумазан, и делает его шире. — (Рыдание.) — Ведь прежде мне нравился Садуко, а теперь нравиться совсем перестал — ни он, ни Масапо, — это знатный вождь, он живет за горой, очень богатый и могущественный, и, кажется, он хочет взять меня в жены. Пока я ухаживала за тобой, сердце мое делалось все больше и больше, и вот видишь, оно словно лопнуло. — (Рыдание.) — Нет, не двигайся и не говори ничего. Ты должен выслушать меня. Это самое малое, что ты можешь сделать, видя, сколько причинил мне страданий. Если ты не хотел, чтобы я полюбила тебя, почему не бранил и не бил меня, ведь говорят, именно так белые люди поступают с кафрскими девушками? — Она поднялась и продолжила: — А теперь слушай. Хоть кожа моя и цвета меди, я красавица. И я из хорошей семьи, нет в Зулуленде крови благороднее, чем наша, — как со стороны моего отца, так и со стороны матери. А еще, Макумазан, во мне живет огонь, который показывает мне будущее. Я могу стать великой, я страстно мечтаю об этом. Возьми меня в жены, Макумазан, и клянусь тебе, через десять лет я сделаю тебя королем зулусов. Забудь своих тусклых белых женщин и соединись с тем огнем, что пылает во мне, и он пожрет все, что стоит между тобой и королевской властью, как пожирает пламя сухую траву. Главное — я сделаю тебя счастливым. Если же захочешь взять себе еще и других жен, я не стану ревновать, потому что знаю: духом твоим буду владеть одна я и в сравнении со мной они не будут значить ничего… — Мамина, — прервал я ее. — Я не хочу быть королем зулусов. — Нет-нет, хочешь, потому что каждый мужчина жаждет власти и лучше править тысячами и тысячами храбрых чернокожих людей, чем прозябать в безызвестности среди белых людей. Ты только подумай, подумай! Земля наша богата. Твои знания и опыт сделают наши войска непобедимыми, ведь, обладая богатством, ты сможешь дать им ружья и даже «потом-потом» с «громовыми глотками»[258]. Королевство Чаки не сможет сравниться с нашим, потому что тысячи воинов будут спать с копьями в руках в ожидании твоего клича. А захочешь — возьмешь Наталь и сделаешь белых своими подданными. Или, может, безопаснее будет вовсе не трогать их, а то из-за большой зеленой воды к ним на помощь приплывут другие белые. Лучше пробиться на север, где, как мне рассказывали, лежат обширные и богатые земли, где ни кто не станет оспаривать нашего владычества… — Постой, Мамина. — У меня перехватило дыхание: масштаб честолюбивых замыслов девушки буквально подавлял. — Видно, разум оставил тебя! Как ты собираешься все это воплотить? — Я не безумна, — ответила она. — Я из тех, кого называют великими, и ты хорошо знаешь, что все это мне по силам, но не одной — я всего лишь женщина, всех женщин связывают путы, — а вместе с тобой: ты перережешь путы и поможешь мне. У меня есть верный план. Вот только, Макумазан… — добавила она изменившимся голосом, — пока я не буду знать, что ты поддержишь меня, я не расскажу о нем даже тебе, ты ведь можешь проболтаться, например во сне, и огонь, что пылает в моей груди, угаснет… навсегда. — Если уж на то пошло, я и сейчас могу проболтаться, Мамина. — Нет. Такой мужчина, как ты, не станет болтать о глупой девушке, которой случилось полюбить его. Но если мой план начнет работать и ты услышишь о смерти королей или принцев, все может сложиться иначе. Ты во сне можешь сказать, мол, я знаю, где живет та ведьма, что накликала эти беды. — Мамина, остановись, замолчи! Даже если не принимать в расчет твои мечты, могу ли я лгать твоему другу Садуко, который день и ночь говорит мне о тебе? — Садуко! Пф-ф! — фыркнула она, изобразив пренебрежительный жест рукой. — И разве я могу, — видя, что карта Садуко бита, продолжил я, — лгать моему другу Умбези — твоему отцу? — Отцу! — рассмеялась она. — А разве ему не понравится стать великим рядом с тобой? Еще вчера он убеждал меня отделаться от надоевшего Садуко и выходить за тебя, ведь тогда у него будет надежная опора. Умбези оказался явно более слабой картой, чем Садуко, и тогда пошла в ход другая: — Мамина, разве могу я способствовать тебе отправиться по пути, который в лучшем случае непременно станет красным от крови? — Почему нет? Ведь мне все равно суждено идти по этому пути, с тобой или без тебя, разница лишь в том, что с тобой он приведет к славе, без тебя — может статься, к шакалам и стервятникам. Кровь! Пф-ф! Много ли значит кровь в Зулуленде? Третья карта бита, и я выложил последний козырь: — К славе или не к славе, этот путь не по мне, Мамина. Я не стану разжигать войну среди народа, оказавшего мне гостеприимство, или же замышлять заговоры против его вождей. Как ты только что сказала, я ничто, незаметная песчинка на берегу моря, но лучше пусть я останусь песчинкой, чем превращусь в зловещую скалу, что притягивает к себе небесные громы и молнии и насквозь пропитана жертвенной кровью. Я не грежу троном и властью над белыми или черными и иду своей тропой к тихой могиле, и путь мой, хоть, возможно, и не вполне бесславный, — совсем не то, что ищешь ты. Я сохраню в тайне твой план, Мамина, но, поскольку ты так красива и мудра и говоришь, что любишь меня, — за что я бесконечно благодарен тебе, — молю тебя, отступись, оставь эти страшные мечтания. Сбудутся они или нет, в любом случае, оставив этот мир, тебе придется трепетать, давая о них отчет перед Творцом на Небесах. — А вот и нет, — ответила она с гордой усмешкой. — Когда твой Творец засевал мое семя, если, конечно, он так и сделал, он посеял мечты, которые стали частью меня, и я всего лишь верну принадлежащее ему, с цветком и плодом, то есть с выгодой… Хорошо, с этим покончено. От величия ты отказываешься. Тогда скажи мне, если я утоплю свои мечтания в великой воде, привязав к ним камень забвения и сказав: «Покойтесь здесь, мои мечты, ваш час еще не настал», если я сделаю так и предстану пред тобой как простая женщина, которая любит и клянется духами ее предков ничего не замышлять и не делать без твоего благословения, — будешь ли ты хоть немножко любить меня, Макумазан? Я молчал, не находя ответа: она буквально прижала меня к стене. Более того — вынужден признаться в своей слабости, — я, как это ни странно, расчувствовался. Эта красивая девушка с ее «огнем в груди», эта женщина, столь не похожая на всех женщин, которых я когда-либо знал, словно зацепила своими изящными пальчиками нити моего сердца и тянула меня к себе. Искушение было велико, и в ушах моих зазвучали слова старого Зикали, сказанные им в Черном ущелье, и его оглушительный смех. Мамина скользнула ко мне, обвила меня руками и поцеловала в губы, и я, кажется, ответил на ее поцелуй — не припомню, что в тот момент делал или говорил: голова моя шла кругом. Когда она прояснилась, Мамина уже вновь стояла передо мной, задумчиво глядя на меня. — Надо же, — наконец проговорила она с легкой усмешкой, показавшейся мне одновременно и насмешливой, и дразнящей. — Ты, мудрый белый человек, попался в сети бедной черной девушки, но я докажу тебе, что она может быть великодушной. Думаешь, я не читаю твое сердце? Думаешь, не знаю, что ты веришь, будто я принесу тебе позор и гибель? Так и быть, Макумазан, я отпускаю тебя, ведь ты поцеловал меня и говорил слова, которые, быть может, уже позабыл, но которых не забуду я. Иди своей дорогой, Макумазан, а я пойду своей: белый человек не должен марать себя прикосновением моего черного тела. Иди своей дорогой, но одно я запрещаю тебе: не смей думать, что ты слышал здесь лживые речи и что я ради каких-то своих тщеславных целей пустила в ход свои женские чары. Я люблю тебя, Макумазан, люблю, как никто не будет тебя любить до конца дней твоих, и сама я никогда не полюблю другого мужчину, сколько бы раз ни выходила замуж. Кроме того, ты должен пообещать мне, что еще один только раз, один-единственный раз в моей жизни, если я того пожелаю, ты вновь меня поцелуешь, и сделаешь это прилюдно. А теперь, пока ты не совершил безумства, забыв о достоинстве белого человека, — прощай, о Макумазан. В следующий раз мы встретимся с тобой просто друзьями. С этими словами Мамина ушла, а я почувствовал себя таким ничтожным, как никогда в жизни ни до, ни после встречи с ней, ничтожнее даже, чем в присутствии Зикали Мудрого. Зачем, с какой целью она сначала довела меня до безумия, а затем отказалась воспользоваться его плодами? И по сей день я не в состоянии дать ответа на этот вопрос. Могу лишь предположить, что она действительно любила меня и побоялась вовлечь меня в свои интриги и тем самым принести мне несчастья. А может быть, она была настолько умна, что понимала — как никогда не смогут соединиться масло и вода, так и мы с ней несоединимы.Глава 5
СОПЕРНИЧЕСТВО
Можно было бы предположить, что после этой удивительной, так потрясшей меня («потрясшей», пожалуй, самое верное слово) сцены с кафрской девушкой, которая, подчинив меня собственной воле, нашла в себе мужество отпустить меня прежде, чем я раскаюсь в содеянном (а она знала, что именно так и случится, стоит ей только выйти за порог моей хижины), и тем самым заставив меня почувствовать себя наихудшим из дураков, можно было предположить, что мои отношения с этой юной леди станут натянутыми. Ничуть не бывало. Когда следующим утром мы встретились снова, Мамина держалась естественно и непринужденно, обрабатывала мои уже почти зажившие раны, весело щебетала о том о сем, расспрашивала о содержании писем, полученных мною из Наталя, и нескольких газет, что пришли вместе с ними — все это немало интересовало ее, — и далее в том же духе. Невозможно, скажет здравомыслящий критик. Невозможно, чтобы дикарка могла действовать так тонко. Что ж, дружище критик, в этом-то ты и не прав, ведь, если разобраться, между тобой и дикарем разница совсем невелика. Во-первых, по какому такому праву мы называем такие народы, как, например, зулусы, — дикарями? Не принимая во внимание обычай полигамии, который, в конце концов, общепринят у многих высоко цивилизованных народов Востока, замечу, что их социальная система очень похожа на нашу. У них есть или, скорее, был свой король, своя элита и простой люд. У них есть тщательно продуманные законы и нравственная система, в каком-то смысле не менее высокая, чем наша, и, уж во всяком случае, совершенно точно ею гораздо реже пренебрегают. У них есть свои священнослужители и врачеватели; зулусы исключительно правдивы и блюдут обычаи гостеприимства. От нас они отличаются главным образом тем, что не напиваются допьяна, пока этому их не научит белый человек; что вследствие жаркого климата носят на себе гораздо меньше одежды; что в их городах по ночам не встретишь таких позорных картин, как в наших; что они относятся к своим детям с нежностью и заботой и никогда не бывают с ними жестоки, хотя изредка могут умертвить родившегося уродом младенца или двойню, и что, когда у них случается война, а это происходит довольно часто, они подходят к ней с ужасающей основательностью, почти такой же страшной, какая бытовала в каждой европейской нации еще несколько поколений назад. Необходимо также упомянуть о преклонении туземцев перед колдовством и о жестокостях, являющихся результатом их почти поголовной веры в могущество и эффективность магии. С тех пор как я поселился в Англии, я углубляю свои знания в этой области и нахожу, что еще совсем недавно подобная жестокость практиковалась в Европе повсеместно — и это в той части света, которая на протяжении более тысячи лет пользовалась преимуществами христианского вероисповедания. И все же этот высококультурный белый человек поднимает камень и швыряет его в нищего и невежественного зулуса, что, как я замечаю, самый распущенный и негодный пропойца из племени белых людей готов сделать по большей части лишь оттого, что зарится на его землю, его работящие руки и плоды его трудов. Однако я отклонился от главной своей мысли: умные мужчины и женщины из среды тех, кого мы называем дикарями, во многих своих проявлениях чрезвычайно схожи с такими же умными мужчинами и женщинами из среды народов цивилизованных. Здесь, в Англии, каждый ребенок получает образование на средства государства, однако я не заметил, чтобы эта система способствовала появлению талантливых личностей. Талант есть дар природы, и эта общечеловеческая мать раздает свои блага справедливо и беспристрастно между всеми, кто дышит. Хотя, возможно, не вполне беспристрастно, примером чему являются древние греки и прочие древние народы. В целом же общее правило сохраняется. Но вернемся к Мамине — женщине, столь щедро одаренной от природы яркой внешностью, что, если бы ей представилась возможность, она, несомненно, сыграла бы роль Клеопатры с равным, а то и большим успехом, поскольку обладала и красотой, и беспринципностью этой знаменитой женщины и была, думается мне, вполне сопоставима с ней по силе страсти. Я с неохотой пускаюсь здесь в подобные рассуждения, поскольку это затрагивает меня лично, ведь природное самолюбие мужчины делает его склонным к заключению, что именно он является предметом единственной и неугасимой любви. Знай он все факты, он, возможно, освободился бы от иллюзий и чувствовал бы себя таким же ничтожным, как я в тот момент, когда Мамина выходила, вернее, выползала из хижины (даже это она делала грациозно). И все же, скажу откровенно — почему бы не быть откровенным, если описываемые события имели место так давно? — я искренне верю, что в словах Мамины присутствовала известная доля правды, что, бог знает по какой причине, она полюбила меня, и любовь эта продолжалась в течение всей ее короткой и мятежной жизни. Однако предоставим читателю самому судить, так ли это. В течение двух недель со дня того разговора я окончательно поправился, набрался сил, и ребра мои и все части тела, которые поранил буйвол своими железными копытами, зажили. К тому же в Натале меня ждали неотложные дела, и я торопился уехать. Поскольку от Садуко не было никаких вестей, я решил двигаться в сторону дома, оставив ему сообщение, чтобы он знал, где меня искать в случае, если я ему понадоблюсь. Правда заключалась в том, что я не испытывал никакого желания участвовать в его «личной» войне с Бангу. На самом деле я желал держаться подальше от всего этого, включая красавицу Мамину и ее насмешливые глаза. И вот как-то утром, получив в свое распоряжение волов, я велел Скоулу запрячь их — он с радостью бросился исполнять мое поручение, поскольку ему и другим слугам уже давно не терпелось вернуться к цивилизации и ее благам. Однако едва он взялся за дело, как пришло известие от старого Умбези: он умолял меня отложить отъезд до второй половины дня, потому что к нему приехал в гости его друг, знатный вождь, который очень хотел быть удостоенным чести познакомиться со мной. Меньше всего мне хотелось знакомиться со знатным вождем, но, поскольку с моей стороны было бы слишком грубо отказать в просьбе человеку, который был так добр ко мне, я велел распрячь волов, но держать наготове и в раздраженном состоянии духа зашагал к краалю. От моего лагеря до крааля было около полумили: как только я достаточно окреп, я перебрался ночевать в свой фургон, снова предоставив хижину Старой Корове. Впрочем, никакой конкретной причины для раздражения не было: в ту пору время в Зулуленде особого значения для меня не имело, и потому мне было не важно, отправлюсь я в путь утром или днем. Просто из головы у меня все никак не шло пророчество Зикали, Маленького и Мудрого, о том, что мне суждено отправиться вместе с Садуко в набег на Бангу. И хотя колдун оказался прав насчет буйвола и Мамины, я был настроен доказать ему, что насчет похода с Садуко он явно ошибался. Если бы я покинул Зулуленд, то уж точно не смог бы выступить против Бангу. Но пока я оставался здесь, Садуко мог вернуться в любой момент, и тогда я наверняка не отвертелся бы от полуобещания, которое дал ему. Уже на подходе к краалю Умбези я заметил, что там в самом разгаре приготовления к некоему торжеству: к празднику забили быка и теперь одну часть его мяса варили в горшках, другую — жарили. Заметил я также несколько незнакомых зулусов. За забором, внутри крааля, я обнаружил сидящим в тенечке Умбези и нескольких его вождей, а рядом с ними огромного, тучного туземца, на бедрах которого красовалась муча из тигровой шкуры как знак его высокого ранга, со своей свитой. У ворот стояла Мамина: на ней были лучшие ее бусы, и в руках она держала бутыль из тыквы с пивом, которым, по-видимому, только что угощала гостей. — Сбежишь, даже не попрощавшись со мной, Макумазан? — прошептала она, когда я поравнялся с ней. — Это жестоко, и я горько плакала бы… да только не бывать этому. — Я все равно собирался подъехать сюда, когда волов запрягут, — ответил я. — Кто этот человек? — Скоро узнаешь, Макумазан. Гляди, отец машет нам. Я направился к кругу сидящих. Навстречу мне поднялся Умбези и, взяв меня за руку, подвел к гиганту со словами: — Это Масапо, вождь племени амансома из народа куаби, он желает познакомиться с тобой, Макумазан. — Весьма любезно с его стороны, — сухо ответил я, окинув взглядом Масапо. Как я уже упомянул, это был весьма крупный мужчина лет пятидесяти: волосы его уже тронула седина. По прав де говоря, я сразу же почувствовал к нему резкую антипатию: что-то в его сильном с грубыми чертами лице и надменно-заносчивой манере держаться отталкивало меня. Не добавив ничего, я стоял молча, поскольку у зулусов, когда встречаются двое более или менее равно высокого ранга, тот, кто заговаривает первым, признает тем самым подчиненность второму. Поэтому я молча разглядывал нового жениха Мамины и ожидал дальнейших событий. Со своей стороны, Масапо тоже какое-то время пристально рассматривал меня, затем обронил в сторону одного из своей свиты замечание, которого я не разобрал, и тот рассмеялся. — Он слыхал, что ты иписи (великий охотник), — вмешался Умбези; по-видимому, он уловил натянутость ситуации и решил, что надо хоть что-то сказать. — Неужели? — ответил я. — Что ж, в таком случае он удачливее меня, поскольку я о нем ничего не слышал. — Вынужден с сожалением признать, что это было ложью, ведь Мамина рассказывала мне в хижине о Масапо как об одном из ее женихов, но среди туземцев необходимо как-то поддерживать свое достоинство. — Друг мой Умбези, — продолжил я. — Я пришел попрощаться с тобой. Я отправляюсь в Дурбан. Как раз в этот момент Масапо протянул мне свою лапищу, однако не поднимаясь, и проговорил: — Сийякубона, — (что значит «доброе утро»), — Белый человек. Сийякубона, Черный человек, — ответил я, едва коснувшись его пальцев. Увидев это, Мамина, обносившая гостей пивом и очутившаяся как раз против меня, скорчила гримасу и тихонько засмеялась. Я развернулся, чтобы уйти, но Масапо прохрипел низким, грубым голосом: — О Макумазан, прежде чем ты оставишь нас, я хотел бы переговорить с тобой кое о чем. Не соблаговолишь ли ты ненадолго присесть со мной в сторонке? — Конечно, о Масапо. — Я отошел на несколько ярдов в сторону, так чтобы нас не могли слышать, он поднялся и проследовал за мной. — Макумазан, — заговорил Масапо (я передаю суть его слов, поскольку начал он издалека). — Мне нужны ружья, а ты, насколько мне известно, занимаешься торговлей и можешь их достать. — Да, Масапо, думаю, что за определенную цену могу, хотя незаконный ввоз ружей в Зулуленд — дело рискованное. Но позволь поинтересоваться, для чего они тебе? Стрелять слонов? — Верно, стрелять слонов, — ответил он, оглядевшись вокруг своими огромными глазищами. — Макумазан, мне сказали, что ты осторожен и благоразумен и не станешь кричать с крыши хижины о том, что слышал внутри ее стен. Выслушай меня. В стране неспокойно. Не всем нам по душе род Сензангаконы, потомком которого является наш нынешний король Панда. Быть может, ты знаешь, что куаби, а мое племя амансома из этого народа, натерпелись на своем веку, пострадав от копья Чаки. И вот мы считаем, что может настать час, когда мы, словно козы, ощипывающие жалкие кустарники, сможем, как жирафы, дотянуться до верхушек деревьев, потому что Панда — слабый король, а его сыновья ненавидят друг друга и одному из них могут понадобиться наши копья. Ты понимаешь, о чем я толкую? — Я понимаю, что ты хочешь ружей, Масапо, — сухо ответил я. — Поговорим о цене и месте доставки. Мы недолго поторговались, но детали той давнишней сделки вряд ли кому-то интересны. В действительности я упоминаю о ней лишь затем, чтобы подчеркнуть: Масапо замышлял доставить большие неприятности правящему дому, который в то время представлялПанда. Когда мы закончили одиозные переговоры — по результатам которых я должен был получить некое количество голов скота в обмен на некое количество ружей в случае, если мне удастся доставить их в конкретное место, а именно в крааль Умбези, — я вернулся в круг, где сидел Умбези со своими людьми и гостями, чтобы попрощаться. К этому времени, однако, принесли мясо, и поскольку я уже успел проголодаться, то остался разделить угощение со всеми. Насытившись и выпив немного твалы (кафрского пива), я поднялся уходить, но в этот момент в ворота вошел — кто бы вы думали? — Садуко. — Пф-ф! — фыркнула стоявшая рядом со мной Мамина и тихонько, чтобы никто, кроме меня, не услышал, спросила: — Когда встречаются два самца, что происходит, Макумазан? — Когда как. Иногда они вступают в схватку, иногда один бежит прочь. Очень многое зависит от самки, — поглядев на нее, так же тихо ответил я. Она пожала плечами, сложила руки под грудью, кивнула Садуко, когда тот проходил мимо, затем грациозно облокотилась на изгородь и приготовилась наблюдать, что будет происходить дальше. — Привет тебе, Умбези, — с гордым, как обычно, видом проговорил Садуко. — Вижу, пируешь. Желанный ли я гость здесь? — Конечно, Садуко, в моем доме ты всегда желанный гость, — смутившись, ответил Умбези. — Хотя, как это бывает, сегодня я принимаю великого человека. — И он посмотрел на Масапо. — Вижу. — Садуко обвел взглядом гостей. — И кто же из них великий человек? Спрашиваю затем, чтобы поприветствовать его. — Ты отлично знаешь, умфоказа (то есть наглец), — сердито рявкнул Масапо. — Я отлично знаю, что, не будь ты здесь гостем и окажись за забором, я бы это слово затолкал тебе в глотку древком моего ассегая, — ответил Садуко в бешенстве. — Догадываюсь, зачем ты здесь, Масапо, как и ты можешь догадаться, зачем здесь я. — Он перевел взгляд на Мамину. — Скажи мне, Умбези, этот жалкий вождь амансома — уже признанный жених твоей дочери? — Нет-нет, Садуко, — замотал головой Умбези. — Нет у нее признанного жениха. Может, присядешь и поешь с нами? Расскажи нам, где ты был и почему вернулся так скоро и… непрошено? — Я вернулся сюда, Умбези, говорить с белым вождем Макумазаном. Что же до того, где я был, это мое дело, а не твое или Масапо. — Хм, будь я хозяин этого крааля, — заметил Масапо, — я бы вышвырнул из него эту бездомную шелудивую гиену в облезлой шкуре, заявившуюся сюда пожирать твое мясо, а то и, — многозначительно добавил он, — выкрасть у тебя дочь. — Говорила я тебе, Макумазан, когда два самца встретятся, обязательно подерутся? — прошептала мне на ухо Мамина. — Говорила; вернее, это я так сказал. Но ты не ответила, что станет делать самка. — А самка, Макумазан, заберется в свою нору и будет наблюдать за происходящим. Как делают все самки. — И она снова тихонько засмеялась. — Масапо, почему бы тебе самому не выгнать гиену? — спросил Садуко. — Ну, давай, обещаю тебе добрую охоту. Там, за забором этого крааля, другие гиены, которые называют меня своим вождем, — сотня или две, — и собрались они не случайно, а по велению короля Панды, чей дом, как мы знаем, ты ненавидишь. Оставь мясо и пиво, поднимайся, начинай свою охоту на гиен, о Масапо. Теперь Масапо сидел молча: до него дошло, что, намереваясь поймать в силок павиана, он поймал тигра. — Молчишь, вождь горстки амансома, — продолжил Садуко, которого, помимо ярости, разбирала ревность. — Жаль бросать мясо и пиво ради охоты на гиен и их наглеца-предводителя! Что ж, тогда наглец будет говорить сам. — С копьем в правой руке он, шагнув к Масапо, левой сгреб в горсть короткую бороду соперника. — Слушай меня, вождь, — сказал Садуко. — Ты враг мне! Ты добиваешься женщины, на которую претендую я. Ты богат и, может статься, купишь ее. И если будет так, я убью тебя и весь твой род, ты, шелудивый бродячий пес! Он плюнул в лицо Масапо и оттолкнул его от себя. Вслед за этим, прежде чем кто-либо успел его остановить — Умбези и даже сам упавший на землю Масапо, казалось, застыли от изумления, — он гордо проследовал через ворота крааля, бросив мне на ходу: — Инкози, мне надо поговорить с тобой, когда освободишься. — Ты за это заплатишь! — проревел ему вслед Умбези, позеленев от бешенства, поскольку Масапо, не в силах вымолвить слова, все еще лежал на своей широченной спине. — Никто не смеет оскорблять моего гостя в моем собственном доме! — Кто-нибудь точно заплатит, — от ворот прокричал ему в ответ Садуко. — А кто именно — знает только ненародившаяся луна. — Мамина, — обратился я к девушке, идя следом за Садуко, — ты понимаешь, что запалила сухую траву и теперь в ее огне сгорят люди? — Этого я и хотела, — невозмутимо ответила Мамина. — Разве не говорила я тебе, что во мне горит огонь и иногда он будет вырываться наружу? Вот только не я, а ты, Макумазан, запалил траву. Вспомни об этом, когда полстраны зулусов превратится в пепел. Прощай, Макумазан, до следующей нашей встречи, и, — с нежностью добавила она, — кто бы ни сгорел, а тебя пусть хранят духи. Уже в воротах я вспомнил о правилах приличия и повернулся попрощаться со всей компанией. К этому времени Масапо уже поднялся на ноги и ревел, как бык: — Убейте его! Убейте эту гиену! Умбези, ты что, будешь спокойно сидеть и пялиться на меня, твоего гостя, когда меня, Масапо, ударили и оскорбили в твоем собственном доме? Догони и убей его, слышишь? — Почему бы тебе самому не убить его? — не менее взволнованный, парировал Умбези. — Или прикажи своим людям убить его. Ты великий вождь, могу ли я оспаривать у тебя право удара копьем? — Затем он повернулся ко мне со словами: — О хитроумный Макумазан, если я был добр к тебе, подойди и дай совет, как поступить. — Иду, Гроза слонов, — ответил я и зашагал к ним. — Что же мне делать, что делать? — причитал Умбези, утирая пот со лба одной рукой, а второй отчаянно жестикулируя. — Вот стоит мой друг, — и он указал на разъяренного Масапо, — который хочет, чтобы я убил другого своего друга. — Умбези ткнул большим пальцем в сторону ворот крааля. — Если я откажусь, обижу одного, а если соглашусь, обагрю руки кровью, которая воззовет к отмщению, ведь хоть Садуко и беден, у него наверняка есть те, кто любит его. — Все так, — сказал я. — И быть может, обагришь ты, помимо своих рук, и другие части тела, ведь Садуко не станет, как овца, покорно ждать, когда ты перережешь ему горло. К тому же разве не говорил Садуко, что он пришел не один? Умбези, если ты просишь у меня совета, вот он: пусть Масапо убивает его сам. — Вот это правильно! Вот это мудро! — воскликнул Умбези. — Масапо, — крикнул он здоровяку, — если хочешь биться с Садуко, прошу тебя, на меня не рассчитывай! Я ничего не вижу, ничего не слышу и обещаю павшего похоронить с честью. Только советую тебе поторапливаться, потому что Садуко уже уходит. Вперед — у тебя и твоих людей есть копья, и ворота крааля открыты. — Ты что же, предлагаешь мне убраться с пустым брюхом ради того, чтобы прибить паршивую гиену? — с напускной храбростью возмутился Масапо. — Нет уж, пусть дождется, пока я отдохну хорошенько. Сидите спокойно, люди! Я сказал, сидеть всем! Ты, Макумазан, передай ему, что я скоро приду, и сам держись от него подальше, не то свалишься в ту же дыру, что и он. — Хорошо, передам, — ответил я. — Не знаю, правда, кто уполномочил меня быть твоим посыльным. Слушай меня, человек малых дел и громких слов. Если посмеешь хоть пальцем пошевелить против меня, я научу тебя кое-чему насчет дыр, проделав одну или несколько в твоем здоровенном торсе. С этими словами я подошел к вождю и посмотрел ему прямо в лицо, одновременно похлопав по рукояти большого двуствольного пистолета, висевшего у меня на поясе. Он отпрянул, пробормотав что-то. — О, не стоит извиняться, — сказал я. — Только впредь будь осторожней. Ну а напоследок желаю тебе хорошенько отобедать, вождь Масапо. Мир твоему краалю, друг Умбези. Закончив свою речь, я зашагал прочь, сопровождаемый недовольными криками разъяренной свиты Масапо и звонким, насмешливым смехом Мамины. «За кого же из них она выйдет?» — думал я, направляясь к фургонам. На подходе к своему лагерю я увидел, что быков уже запрягли, — по-видимому, Скоул распорядился об этом, услышав о ссоре в краале и решив, что нужно быть готовым к отъезду. В этом, однако, я ошибся: из-за кустов неожиданно появился Садуко и сказал: — Инкози, я приказал твоим людям запрячь быков. — Вот как? Похвально, — ответил я. — Может, скажешь почему? — Потому что нам предстоит сделать большой переход на север до наступления темноты, инкози. — На север? Я полагал, что наш путь лежит на юго-восток. — Бангу живет не на юго-востоке, — медленно, растягивая слова, проговорил Садуко. — Я запамятовал о Бангу, — предпринял я слабую попытку увильнуть. — Неужели? — надменно обронил Садуко. — Вот уж не думал, что Макумазан из тех, кто нарушает обещание, данное другу. — Не будешь ли ты так добр объяснить твои слова, Садуко? — Разве нужны объяснения? — Он пожал плечами. — Если мои уши меня не обманули, ты согласился выступить со мной против Бангу. С разрешения короля я собрал необходимое количество людей, вон они, ждут там. — Он показал копьем в сторону полосы плотных кустов в нескольких милях за нами. — Если ты передумал, я пойду один. Но тогда нам лучше прямо сейчас попрощаться раз и навсегда, потому что я не люблю друзей, которые «передумывают», когда приходит время браться за ассегаи. С умыслом ли так говорил Садуко или нет — не знаю. Полагаю, однако, что лучшего способа заручиться моей поддержкой он не смог бы найти: хоть я и не давал ему твердого обещания отправиться с ним, я всегда гордился тем, что выполнял даже наполовину обещанное туземцу. — Я пойду с тобой, — спокойно проговорил я. — И надеюсь, если придется туго, твое копье будет таким же острым, как твой язык. Только больше никогда не говори со мной в таком тоне, иначе мы поссоримся. Выслушав меня, Садуко не сдержал вздоха облегчения. — Прости меня, господин мой Макумазан, — сказал он, схватив меня за руку. — Но сердце мое разрывается. Чую, Мамина задумала изменить мне, да еще после стычки с этим псом Масапо ее отец наверняка возненавидит меня. — Если хочешь моего совета, слушай, — искренне проговорил я. — Сердце твое исцелится, когда ты выбросишь из него Мамину, забудешь само имя ее. Не спрашивай меня почему. — Спрашивать я не стану, о Макумазан. Быть может, она любит тебя, а ты ее оттолкнул, как и должен был поступить мой друг. (Порой испытываешь неловкость, когда тебя возводят на такой пьедестал, но я не пытался ни поддакивать, ни отрицать, а еще меньше — пускаться в объяснения.) — Может, именно так все и было, — продолжил он. — Или она сама надоумила отца позвать этого жирного борова Масапо. Я не спрашиваю, потому что ты не скажешь, даже если знаешь. Да это и не важно. Но пока в груди моей бьется сердце, Мамина никогда не покинет его. Пока я могу помнить имена, ее имя никогда не забудется. И, помяни мое слово, она станет моей женой! А сейчас, прежде чем выступить в поход, я возьму несколько своих людей и заколю этого борова Масапо, дабы не стоял у меня на пути. — Если ты сотворишь что-либо подобное, Садуко, ты пойдешь на север один, поскольку я тотчас же отправлюсь на восток. Я не желаю быть замешанным в убийстве. — Хорошо, пусть будет так, инкози, если только он сам не нападет на меня. С боровом можно подождать, ведь он от этого станет лишь немного жирней. А сейчас, если тебе угодно, прикажи фургонам отправляться в путь. Я буду показывать дорогу, потому что мы должны стать на ночевку сегодня вечером вон в тех кустах, где меня ждут мои люди. Там я расскажу тебе о моих планах. Кстати, тебя там дожидается гонец с сообщением.Глава 6
ЗАСАДА
Шесть часов мы добирались до зарослей по идущей вниз по склону, довольно скверной дороге, протоптанной скотом, — разумеется, иных дорог в то время в Зулуленде попросту не существовало. Мне хорошо запомнилось то место. Это была широкая ложбина, поросшая редкими невысокими деревьями: колючими акациями, деревьями с темно-зелеными листьями и плодами наподобие слив, с кислым вкусом и огромной косточкой внутри, и какими-то деревцами с серебристой листвой. Речка, мелководная в это время года, вилась по долине, и в мелких зарослях по ее берегам во множестве обитали цесарки и другие птицы. Это было приятное, пустынное местечко с большим количеством дичи, спускавшейся сюда зимой питаться травой, которой им уже не хватало на более высоком вельде. Дух захватывало от ощущения необъятного простора, поскольку, куда ни глянь, всюду простиралось лишь море деревьев. Мы стали лагерем у реки, название которой я забыл, в месте, которое показал нам Садуко, и взялись за приготовление ужина — мяса антилопы гну, которую мне посчастливилось подстрелить, когда мимо нас, мелькая меж деревьев, пронеслось стадо антилоп. Пока мы ели, я наблюдал, как постоянно появлялись все новые и новые вооруженные зулусы; воины прибывали группами от шести до двадцати человек. Приблизившись, они поднимали копья, приветствуя то ли Садуко, то ли меня, не знаю, и усаживались на открытом месте между нами и берегом реки. И хотя трудно было определить, откуда они пришли, поскольку зулусы выходили из кустов внезапно, словно призраки, я решил не обращать на них внимания, догадываясь, что их приход сюда явно не случаен. — Кто они? — шепотом спросил я у Скоула, когда он принес мне глоточек джину. — Дикий отряд Садуко, — так же тихо ответил он. — Изгои его племени, живущие среди скал. Украдкой я рассматривал прибывающее воинство, делая вид, что раскуриваю трубку, и они впрямь казались мне настоящими дикарями. Высоченные, сухопарые, со спутанными волосами, с наброшенными на плечи изодранными звериными шкурами и, казалось, не обладавшие никаким имуществом, кроме нюхательного табака, нескольких циновок для сна, достаточного запаса боевых щитов, коротких дубинок из древесины твердых пород и ассегаев. Таковы были люди, сидевшие вокруг нас безмолвным полукругом, словно стервятники вокруг умирающего буйвола. Я продолжал курить, делая вид, что не замечаю их. Наконец, как я и предполагал, Садуко наскучило мое молчание, и он заговорил: — Макумазан, это люди племени амангвана. Их три сотни — все, кого оставил в живых Бангу. Когда их отцов убили, некоторым женщинами и детям удалось спастись в отдаленных краалях. Я собрал их, чтобы они отомстили Бангу, ведь я их вождь по праву крови. — Безусловно, — ответил я. — Вижу, что ты собрал их. Но хотят ли они отомстить Бангу, рискуя своими жизнями? — Хотим, белый инкози! — прилетел мощный ответ трех сотен глоток. — И они признают тебя, Садуко, своим вождем? — Признаем! — вновь последовал ответ. Затем вперед вышел один из немногих седых воинов: большинство этих амангвана были ровесниками Садуко, а то и моложе. — О Бодрствующий в ночи, — заговорил он. — Я Тшоза, брат Мативане, отца Садуко, единственный из его братьев, спасшийся в ночь Большой резни. Так? — Так! — прокричали сплоченные ряды за его спиной. — Я признаю Садуко своим вождем, и мы все признаем! — объявил Тшоза. — Признаем! — дружно откликнулись ряды. — С тех пор как умер Мативане, мы жили среди скал, словно бабуины. Без скота, зачастую даже не имея хижины, чтобы укрыться, один тут, другой там. Однако мы жили и ждали, когда он придет — час возмездия, час мести Бангу, который Зикали Мудрый предрек нам. И вот он настал, и все как один — оттуда, отсюда, отовсюду — мы пришли на зов Садуко, чтобы он вел нас против Бангу, победить его или умереть. Верно я говорю, амангвана? — Верно! — прогремел мощный единодушный ответ, от которого в неподвижном воздухе затрепетали листья деревьев. — Понимаю, о Тшоза, брат Мативане и дядя вождя Садуко, — ответил я. — Однако Бангу силен и, как мне говорили, живет в хорошо укрепленном месте. Но оставим это, ведь ты сказал мне, что вам нечего терять и вы пришли победить или умереть. Предположим, вы победите. Что король зулусов Панда скажет нам — вам, а также мне, — развязавшим войну в его стране? В этот момент амангвана повернули головы к Садуко, а тот крикнул: — Гонец короля Панды, выходи! Еще не успело угаснуть эхо его слов, как я увидел невысокого морщинистого человека, пробирающегося через ряды рослых амангвана. Выйдя вперед и став передо мной, он сказал: — Приветствую тебя, Макумазан. Помнишь меня? — Помню, — ответил я. — Ты Мапута, один из индун Панды. — Совершенно верно, Макумазан. Я Мапута, один из его индун, член его совета, командующий его импи (то есть армиями), кем я был и для его умерших братьев, чьи имена мне запрещено произносить вслух. Так вот, по просьбе Садуко король Панда отправил меня к тебе с посланием. — Откуда мне знать, что ты говоришь правду? — спросил я. — Ты принес мне в доказательство какой-нибудь знак? — Принес, — ответил он и, пошарив под своим плащом, вытащил какой-то предмет, завернутый в сухие листья, развернул его и протянул мне со словами: — Этот знак прислал тебе Панда, Макумазан, повелев сказать, что ты наверняка его узнаешь и обрадуешься ему и что ты можешь забрать его обратно, поскольку после того, как он проглотил две пилюли, ему сделалось очень плохо и больше он в них не нуждается. Я взял вещественное доказательство, переданное мне Мапутой, и тотчас узнал его в лунном свете. Это была картонная коробочка с сильными пилюлями каломеля[259], на крышке которой была надпись: «Аллан Квотермейн, эскв. Принимать строго по одной, как назначено». Не пускаясь в объяснения, могу заверить, что сам я принял одну пилюлю «как назначено», а затем подарил коробочку с оставшимися королю Панде, которому страстно хотелось «попробовать лекарство белого человека». — Ты узнаёшь знак, Макумазан? — спросил индуна. — Да, — серьезно ответил я. — И пусть король благодарит духов своих предков за то, что не проглотил три пилюли, ведь поступи он так, в Зулуленде сейчас правил бы другой король. Что ж, я слушаю тебя, посланник. А про себя подумал, и уже не впервой, как часто в жизни туземцев великое мешалось со смешным. На кону стояло дело, могущее привести к многочисленным смертям, а правитель, стоящий за всем этим, в знак добросовестности своего гонца присылает мне коробочку пилюль! Однако роль свою она сыграла так же, как и любое иное доказательство. Я отозвал Мапуту в сторону, поскольку заметил, что он хочет переговорить со мной наедине. — О Макумазан, — сказал он, когда мы отошли. — Вот что просил передать тебе Панда: «Я понимаю, что ты, Макумазан, пообещал сопровождать Садуко, сына Мативане, в походе против Бангу, вождя амакоба. Будь это кто-то другой, я запретил бы этот поход, в особенности запретил бы принимать участие в нем тебе, белому человеку. Но пес Бангу — коварный злодей. Много лет назад он оболгал моего друга Мативане перед королем Чакой, который правил до меня; король послал Бангу уничтожить Мативане, и тот предательски убил его и все его племя, кроме Садуко, его сына, и нескольких его людей с детьми, которым удалось спастись. Мало того, в последнее время Бангу мутит народ, замышляя поднять восстание против меня, потому что знает, как крепко я ненавижу его за его преступления. Но я, Панда, не как те, кто подговаривает народ против своего короля, я человек мирный и не желаю раздувать пожар гражданской войны в стране, ведь кто знает, как далеко пойдет пал или чьи краали он пожрет? Что же до Банги, я хочу, чтобы за свои злодеяния он был наказан, а гордыня его — сломлена. Поэтому я разрешаю Садуко и тем амангвана, кто выжил, отомстить Банге за свои личные обиды, если смогут, как разрешаю и тебе, Макумазан, идти с ними. Более того, если будет захвачен скот, я не спрошу отчета о нем, ты можешь поделить его с Садуко как захочешь. Но знай, Макумазан, если тебя или твоих людей убьют, или ранят, или ограбят, я ничего не знаю и не несу ответственности ни перед тобой лично, ни перед Домом белых в Натале: ты идешь на свой страх и риск, это твое личное дело. Я все сказал». — Понятно, — ответил я. — Я должен вытащить для Панды раскаленное железо из огня и этот огонь потушить. И в случае удачи могу оставить себе кусок железа, когда он остынет, а если обожгу пальцы, то виноват буду сам, ни я, ни мои люди не должны идти плакаться Панде. — О Бодрствующий в ночи, ты пронзил копьем быка в самое сердце, — кивнул мудрой головой посланник Мапуто. — Так что же, ты пойдешь с Садуко? — Передай королю, о посланник, что я пойду с Садуко, потому что меня тронули его рассказы о его бедах и я дал ему обещание. И пойду не ради скота, хотя не откажусь от своей доли. Также передай Панде: если меня постигнут неудачи, он не услышит о них, и что его высокое имя не будет упомянуто в этом деле. Однако он, со своей стороны, не должен будет вменять мне в вину то, что может случиться впоследствии. Ты запомнил мое послание? — Слово в слово, Макумазан. Пусть твой дух хранит тебя, когда будешь атаковать сильного Бангу. Я бы на вашем месте, — добавил Мапута задумчиво, — сделал бы это на рассвете, поскольку амакоба пьют много пива и спят крепко. Затем мы с ним разделили щепотку нюхательного табаку, и он сразу же отбыл в Нодвенгу, резиденцию Панды. Минуло четырнадцать дней. И вот однажды рано утром, после долгого ночного перехода по гористой местности, мы сидели с Садуко вместе с нашим диким отрядом и рассматривали за широкой долиной с редкими деревьями, так напоминавшей какой-нибудь английский парк, ту самую гору, на склоне которой располагался крааль вождя амакоба Бангу. Большая гора казалась неприступной, и, как нам удалось заметить, тропинки, взбегавшие вверх к краалю, были в полной мере защищены стенами из камней, проходы в которых были настолько узки, чтобы пропустить лишь одного буйвола зараз. К тому же многие из этих стен были недавно укреплены: возможно, Бангу прослышал, что король Панда, имевший на то веские причины, относится к нему, северному вождю, обитающему на границе его владений, с подозрением и даже открытой враждебностью. Здесь, в плотных зарослях кустарника, покрывавшего горное ущелье, мы держали военный совет. Насколько мы знали, наше передвижение пока оставалось незамеченным. Я оставил свои фургоны в глубокой лощине в тридцати милях отсюда на попечение местных жителей, сказав им, будто иду сюда на охоту, и захватил с собой только Скоула и четырех моих лучших охотников — хорошо вооруженных туземцев, умевших стрелять из ружей. Три сотни амангвана также пробирались небольшими группами, на некотором расстоянии друг от друга; они выдавали себя за кафров, направляющихся к заливу Делагоа. И вот теперь все мы встретились здесь, в этих зарослях. Среди нас находились три амангвана, которые после нападения на их племя бежали со своими матерями в этот район и выросли среди народа Бангу, но откликнулись на призыв Садуко и вернулись к нему. Именно на этих людей мы полагались больше всего, поскольку они знали местность, как никто другой. Долго и взволнованно мы совещались с ними. Амангвана давали пояснения и, насколько позволял лунный свет — а до рассвета было еще далеко, — показывали нам различные тропки, что вели к краалю Бангу. — Сколько людей в селении? — спросил я. — Почти семь сотен, способных держать копье, — ответили они. — Это вместе с жителями отдаленных краалей. Кроме того, у проходов в стенах всегда стоят часовые. — А где они держат скот? — вновь спросил я. — Внизу, в этой долине, Макумазан. Если прислушаешься, ты услышишь мычание. Две тысячи голов скота, а может и больше, стерегут по ночам пятьдесят человек. — Тогда, наверное, нам не составит особого труда угнать этот скот. А Бангу можно не трогать — пусть займется выращиванием нового? — Может, труда и не составит, — прервал Садуко, — однако я пришел сюда, чтобы убить Бангу, а не только захватить его скот, так как у меня с ним кровная вражда. — Прекрасно, — ответил я. — Только триста человек не возьмут приступом эту гору, к тому же охраняемую и укрепленную стенами. Наш отряд уничтожат еще на подходе к краалю: из-за расставленных повсюду часовых нам не удастся застигнуть врага врасплох. К тому же, Садуко, ты забыл о собаках. И вот еще что: даже в случае удачи я не стану принимать участия в массовой резне женщин и детей, которая может начаться при штурме. Поэтому выслушай меня, Садуко. Я предлагаю не трогать крааль Бангу, а отправить этой ночью полсотни наших людей под предводительством проводников вниз, вон в тот лесок, где они спрячутся в укрытии, неподалеку от загонов для скота. После восхода луны, когда все будут спать, эти пятьдесят человек должны будут стремительно атаковать лагерь сторожей, убивая любого, кто окажет сопротивление, выпустить скот и погнать стадо из долины через то большое ущелье, по которому мы вошли сюда. Бангу и его люди, решив, что скот угнали обыкновенные воры из какого-нибудь дикого племени, пустятся в погоню за стадом, чтобы отбить и вернуть его. Мы же с остальными амангвана можем устроить засаду в самой узкой части ущелья, между скалами, — там высокая трава и густые заросли молочая. Когда наши преследователи подойдут поближе к проходу меж скал, который я со своими охотниками будем держать под прицелом, мы можем дать им бой. Что скажешь на это? Садуко ответил, что предпочел бы атаковать, а потом сжечь крааль. Но старый амангвана Тшоза, брат погибшего Мативане, сказал: — Макумазан, Бодрствующий в ночи, мудро придумал. К чему понапрасну расходовать силы на каменные стены, тем более что мы не знаем, сколько их, и едва ли в темноте сможем так уж легко отыскать в них ворота. Мы только дадим возможность этим проклятым амакоба украсить их изгороди нашими черепами. Лучше выманить амакоба в узкое ущелье, где у них не будет укрытия в виде стен, и там напасть на них, сбитых с толку, и поквитаться с ними как мужчины с мужчинами. Что же до женщин и детей, то я согласен с Макумазаном: не будем их трогать; быть может, когда-нибудь они станут нашими женщинами и детьми. — Да, — послышались голоса. — План белого инкози хорош. Инкози хитер, как хорек, мы принимаем его план. Так план Садуко был отклонен, а мой — принят. Весь тот день мы отдыхали: оставаясь в густом кустарнике, мы не разводили огня и соблюдали полную тишину. День выдался очень тревожным: опасность быть обнаруженными не давала нам покоя, несмотря на то что место для лагеря мы выбрали дикое и пустынное. И хоть шли мы сюда преимущественно по ночам и мелкими отрядами, стараясь не оставлять следов и обходя все краали, все же слухи о нашем приближении могли долететь до амакоба, на нас могла наткнуться партия охотников или же те, кто забрел сюда в поисках заблудившегося скота. Опасения наши оказались ненапрасными: ближе к полудню мы услышали шаги и увидели фигуру человека — судя по прическе, амакоба, — пробиравшегося через наши заросли. Не успел он увидеть нас, как очутился в самой гуще нашего отряда. Он замер в нерешительности и повернул было бежать, но это стало последним мгновением его жизни. Три амангвана молча прыгнули на него, как леопарды прыгают на оленя, и он умер на том месте, где только что стоял. Бедняга! Вероятно, он возвращался от какого-нибудь знахаря, потому что в его одеяле мы обнаружили лекарства и приворотное зелье. Этот знахарь явно не был провидцем, наподобие Закали Мудрого, подумал я про себя; во всяком случае, он не предупредил парня, что жить тому осталось недолго и он не успеет дать испить своей возлюбленной это глупое снадобье. Тем временем несколько человек из нашего отряда, обладавших самыми зоркими глазами, забрались на деревья и оттуда принялись наблюдать за краалем Бангу и простиравшейся между ним и нашим лагерем долиной. Вскоре стало ясно: пока судьба нам благоволила, так как в течение дня одно за другим стада коров отправляли в долину и запирали в загонах. Похоже, Бангу возна мерился назавтра устроить полугодовой осмотр всего скота амакоба, большая часть которого содержалась на некотором удалении от его крааля. Наконец этот бесконечный день подошел к завершению, пали густые вечерние тени, и мы стали готовиться к нашей страшной игре, в которой на кону были жизни каждого из нас, поскольку в случае неудачи пощады мы не ждали. Пятьдесят отборных воинов ужинали в молчании отдельно от всех. Эти люди были отданы под командование Тшозы, самого опытного из амангвана, а поведут их три проводника, которые жили среди амакоба и «знали здесь каждый муравейник», во всяком случае, они клялись именно такими словами. Им приказали пересечь долину, разделиться на мелкие группы, отпереть загоны со скотом, убить или заставить отступить пастухов и затем гнать скот через долину к ущелью. Второй полусотне под предводительством Садуко необходимо было расположиться у выхода из ущелья в долину — на случай, если загонщикам понадобится помощь или подкрепление или если возникнет необходимость задержать погоню амакоба, пока огромные стада не пройдут через ущелье, — после чего отойти к нашему отряду, засевшему в засаде двумя милями дальше. Устройство этой засады было возложено на меня — задача, должен признаться, достаточно трудная. Восхода луны ждали не ранее полуночи. Но выдвигаться мы начали за два часа до этого времени, поскольку скот необходимо было вывести из загонов, как только взойдет луна. Иначе бой в ущелье затянется до восхода солнца, и тогда амакоба увидят, насколько малочисленны их враги. Страх, растерянность, паника, темнота — именно на этих союзников мы рассчитывали в отчаянно рискованном предприятии. Наконец все было готово, и час настал. Мы, три командира трех отдельных отрядов разделившихся сил, попрощались друг с другом и передали наказ своим воинам: если в случае поражения мы будем рассеяны, всем, кому удастся выжить, собираться у моих фургонов. Тшоза и его полусотня растворились в темноте, словно призраки. Вскоре и Садуко отправился со своим отрядом. Он нес в руке двустволку, которую я дал ему, и его сопровождал один из моих лучших охотников, уроженец Наталя, также вооруженный тяжелым гладкоствольным ружьем, заряженным свинцовыми пулями. Мы надеялись, что грохот этих ружей заставит амакоба думать, будто они имеют дело с голландским диверсионным отрядом белых, вооруженных «слонобоями» — так в те дни назывались тяжелые штуцеры, сбивавшие с ног слона, — которых до смерти боялись туземцы. Садуко ушел, оставив меня гадать, увижу ли когда-нибудь его вновь или нет. Затем я, мой слуга Скоул, двое оставшихся охотников и две сотни амангвана двинулись вверх по дороге в обратный путь ко входу в ущелье. Я назвал это дорогой, но на самом деле это был всего лишь размытый водой глубокий овраг, дно которого было завалено крупными камнями, — через этот-то овраг нам и предстояло пробираться в ночной темноте, причем пробираться как можно быстрее, при этом предварительно позаботившись снять капсюль с бойка каждого ружья, дабы случайным выстрелом не разбудить амакоба, не ввести в заблуждение другие наши отряды и не свести на нет все наши тщательно разработанные планы. Мы шли тремя растянувшимися цепочками так, чтобы каждый человек не терял из виду идущего перед ним. Едва начала всходить луна, как мы достигли места, выбранного мной для засады. Определенно, оно идеально подходило для этой цели. Овраг суживался здесь до ширины не более сотни футов, а крутые склоны ущелья были покрыты кустарником и похожим на торчащие тут и там пальцы молочаем, росшим среди крупных камней. За эти ми камнями и кустарниками мы и спрятались — сто человек на одном склоне и сто — на противоположном. Я же с тремя своими охотниками, вооруженными ружьями, заняли позицию под укрытием огромного валуна почти пяти футов толщиной, лежавшего чуть правее самого оврага, по дну которого, как мы ожидали, погонят скот. Место это я выбрал по двум причинам. Во-первых, я мог держать связь с обоими флангами моих сил, а во-вторых, мы могли вести огонь прямо вдоль тропы в наших преследователей. Я отдал строгий приказ амангвана под страхом смертной казни не двигаться с места, пока я или, если я буду убит, один из моих охотников не даст залпа из ружья. Я опасался, что они в возбуждении могут выскочить раньше времени и убить кого-нибудь из своих людей, которые, вероятно, смешаются с первыми из преследующих их амакоба. Затем, после того как скот пройдет и сигнал будет дан, они должны будут наброситься с обеих сторон на амакоба так, чтобы тем пришлось сражаться с противником, наступающим с крутого склона. Вот и все, что я сказал им, поскольку не следовало сбивать туземцев с толку большим количеством приказов. Правда, добавил вот что: они должны победить, иначе враг их не пощадит. Их представитель — у этих народов всегда выбирают своего представителя — ответил, что они благодарны мне за совет и постараются сделать все, что будет в их силах. Затем они подняли копья, отсалютовав мне. В призрачном лунном свете жутковато дикими и смертельно опасными показались мне эти воины, когда они расходились по своим укрытиям за скалами и кустами. Ждать пришлось долго, и, должен признаться, под конец я занервничал. В голову полезли мысли о том, например, увижу ли я вновь рассвет. Меня не покидали сомнения в легитимности этого необыкновенного предприятия. Какое право я имел вмешиваться в конфликт между этими туземцами? Почему вообще я оказался здесь? Потому что задумал разжиться скотом, как поступил бы любой торговец? Нет — ведь я был не уверен, что возьму его, даже если мы победим. Потому что Садуко подначивал меня неверием в мои слова? Да, до определенной степени; но главной причиной это не являлось ни в коем случае. Мною двигал гнев, который вызвал во мне рассказ о бесчеловечных злодеяниях, совершенных этим Бангу, злодеяниях, исковеркавших судьбу Садуко и всего его племени, вот почему я не противился своему желанию участвовать в попытке Садуко отомстить подлому убийце. Что ж, поначалу доводы казались мне достаточно убедительными, но сейчас в голове родилось новое соображение. Те злодеяния имели место много лет назад: по-видимому, большинство людей, бывших тогда подстрекателями и пособниками убийств, ныне уже мертвы либо стали дряхлыми стариками, а значит, месть обрушится на их сыновей. Тогда какое право я имел мстить сыновьям за грехи отцов? Скажу откровенно: не знаю. Это трудная жизненная проблема, не больше и не меньше. Так что я с глубокой грустью пожал плечами и утешил себя мыслью о том, что с большой долей вероятности решение этой проблемы обернется не в мою пользу и что оплатить столь опасное предприятие и понять, в чем его суть, я смогу лишь ценой своей собственной жизни. Это соображение несколько успокоило мою совесть, потому что, когда человек подкрепляет свои действия, правильные или неправильные, риском для жизни, трусом его в любом случае не назовешь. Время тянулось мучительно долго; ничего не происходило. Ущербная луна ярко светила в ночном небе, и, поскольку ветра не было, тишина казалась особенно напряженной. За исключением порой долетающих до нас откуда-то издалека звуков — жуткого хохота гиены и того, что показалось мне чиханием льва, — ничто не двигалось, словно застыло, между спящей землей и посеребренными луной небесами, по которым под бледными звездами плыли небольшие прозрачные облачка. Наконец откуда-то издалека донесся шум, напоминавший отдаленное журчание. Шум разрастался и усиливался. Словно тысяча палок легонько постукивает по чему-то твердому. Шум все нарастал, и я понял, что это топот копыт скачущих во весь опор животных. Немного погодя из общего шума я стал различать отдельные звуки, очень слабые и как бы приглушенные расстоянием: возможно, крики людей. И тут издалека послышались звуки, которые я определил безошибочно, — звуки выстрелов. Началось: скот гонят сюда, а Садуко и ушедший с ним один из моих охотников дали сигналы выстрелами. Оставалось только ждать. Меня охватило страшное возбуждение, оно будто вгрызалось в мой мозг. Звуки ударов копыт по камням становились все громче, пока не слились в сплошной гул, смешанный с раскатами отдаленного грома, но вскоре я понял, что это вовсе не гром, а мычание тысячи испуганных животных. Все ближе и ближе слышались топот копыт и мычание. Все ближе и ближе раздавались крики людей, бросивших вызов волнующему безмолвию ночи. Наконец показалось первое животное — молодой куду[260], по-видимому случайно смешавшийся со стадом домашнего скота. Он молнией пронесся мимо нас, и через минуту за антилопой последовал бычок — молодой и легкий, он обогнал свое стадо и тоже стремглав проскакал мимо нас, я успел лишь заметить пену на его губах и вывалившийся язык. Затем появилось стадо. Нескончаемый поток поднимающихся вверх по склону животных: коровы, телки, телята, быки и волы — все они казались единой и неразделимой массой, и буквально каждое животное мычало, ревело, всхрапывало либо издавало какой-нибудь иной звук; шум они производили жуткий. Зрелище потрясало, поскольку животные были всех мастей, и в лунном свете их длинные рога сверкали, как слоновые бивни. Ничего подобного мне не приходилось видеть раньше, и сравнить происходящее можно, пожалуй, лишь с бегством буйволов из горящих камышей в тот день, когда я был ранен. И вот стадо уже неслось мимо нас — огромная и настолько плотная масса животных, что человек, наверное, мог бы пройти по их спинам. И действительно, несколько телят, выдавленных наверх, стадо уносило на спинах. Счастье, что ни один из нас не оказался у стада на пути; в этом случае нас не спасли бы ни бревна загона, ни каменная стена: могучий поток животных вырывал и сметал на своем пути даже крепкие деревья, что росли в овраге. Наконец поток испуганных животных стал редеть, — теперь он состоял из выбившихся из сил, больных либо раненых, которых оказалось довольно много. Их рев и мычание больше не заглушали другие звуки — взволнованные крики людей. Вот показались первые наши товарищи — загонщики скота: усталые и задыхающиеся, они триумфально размахивали копьями. Среди них я разглядел старого Тшозу. Я встал на камень, за которым прятался, и окликнул его по имени. Тшоза услышал и вскоре улегся рядом со мной, тяжело дыша: — Угнали весь скот! Не оставили ни одного животного, кроме тех, которые были затоптаны. Садуко идет вслед за нами с остальными нашими братьями, за исключением тех, кто убит. Скоро должен подоспеть… Все племя амакоба преследует нас. Садуко сдерживает их, чтобы дать время уйти скоту. — Молодцы, — похвалил я. — Отлично сработали. Теперь прикажи своим людям укрыться вместе с моими, чтобы отдышались перед боем. Когда подошли отставшие, Тшоза остановил их и дал команду рассредоточиться. Едва последний из них скрылся за кустами, нарастающие крики, среди которых я различил звук выстрела, дали понять, что Садуко со своим отрядом и преследующие их амакоба уже близко. Вскоре появилась и горстка амангвана: они уже не сражались, а удирали со всех ног, потому что знали, что приближались к месту засады, и старались поскорее миновать его, чтобы не перемешаться с амакоба. Мы дали им возможность укрыться. Одним из последних показался Садуко. Он был ранен: по ноге его текла кровь. Он поддерживал моего охотника, который был тоже ранен, но, как я опасался, более серьезно. — Садуко, — окликнул я их, — поднимайтесь по тропе за гребень, и, как только передохнете, приходите нам на помощь. Садуко махнул в ответ ружьем, потому что задыхался и говорить не мог, и вместе с остатками своего отряда — человек тридцать — ушел по следам недавно пробежавшего стада. Не успел он скрыться из виду, как показались амакоба. Пять-шесть сотен человек толпой, без всякого боевого порядка или дисциплины, потерявших, казалось, не только скот, но и свои головы. Одетые как попало (а кое-кто не позаботился даже накинуть мучу, не говоря уже о воинском убранстве), одни шли со щитами, другие — без, некоторые с пиками, другие с метательными копьями. Все явно были вне себя от ярости: звуки, испускаемые толпой, сливались в единое мощное проклятие. И вот настал момент битвы. Признаться, я всем сердцем не желал его. Страха я не испытывал, хотя никогда не изображал из себя героя, просто вся затея была мне не по душе. Если уж на то пошло, мы сначала украли скот у этих людей, а сейчас готовились перебить и их самих. Чтобы решиться подать условный сигнал, я заставил себя вспомнить страшный рассказ Садуко о массовом убийстве его соплеменников. Это ожесточило меня, так же как и мысль о том, что амакоба числом намного превосходят нас и в итоге, вполне вероятно, одержат верх. Однако сожалеть и раскаиваться было поздно. Какая же коварная и неудобная штука — совесть: она почти всегда начинает досаждать нам тогда, когда уже все сделано и от нее нет ни малейшей пользы, не раньше, когда еще можно было бы что-то изменить. Я взобрался на камень и выстрелил из обоих стволов ружья в наступающую толпу, но не могу утверждать, убил кого-нибудь или нет. Я всегда надеялся, что нет, однако, поскольку цель крупная и стрелок я хороший, боюсь, едва ли это было возможно. В следующее мгновение с воем, напоминающим вой диких зверей, с обеих сторон ущелья вылетели из засады неистовые амангвана и обрушились на своих кровных врагов. Они бились не только за скот: в бой их вели ненависть и жажда мести за убитых амакоба отцов и матерей, сестер и братьев; они выжили тогда, чтобы отплатить убийцам их родных кровью за кровь. О Небеса, как они сражались! Они были скорее похожи на дьяволов, чем на людей! После того как затих их первый рев, слившийся затем в одно слово «Садуко», они дрались молча, как бульдоги. И хотя их было мало, поначалу яростный натиск отбросил амакоба, но, когда враги оправились от неожиданности, преимущество в численности стало сказываться, к тому же амакоба были тоже смелыми воинами и не поддались панике. Десятки их пали уже при первой атаке, но оставшиеся стали теснить амангвана вверх по склону. Мое участие в бою можно назвать скромным, но и я был отброшен назад вместе с остальными и стрелял, лишь когда надо было спасать свою жизнь. Шаг за шагом нас теснили назад, к гребню ущелья, пока наконец мы не приблизились к тому месту, где укрылся Садуко. И вот, когда исход битвы, словно чаши весов, готов был склониться в ту или другую сторону, вновь пронесся крик «Садуко!», и сам вождь во главе своих тридцати воинов бросился наамакоба. Эта атака решила исход битвы: не зная, как много наступающих, амакоба дрогнули и обратились в бегство, но мы не преследовали их далеко. Мы устроили смотр нашим отрядам на вершине холма. Нас осталось не более сотни, остальные пали или были серьезно ранены; мой бедный охотник, которого я присоединил к отряду Садуко, погиб. Весь израненный, он бился до последнего, затем упал, прокричав мне: — Хозяин, я хорошо дрался? — и испустил дух. Сам же я задыхался и едва стоял на ногах от усталости. Словно во сне, я увидел, как несколько амангвана притащили старого тощего туземца, крича: — Вот он, Бангу! Изверг Бангу, мы поймали его живьем! Садуко шагнул к нему: — А, Бангу! Скажи-ка теперь, почему мне не стоит убивать тебя, как ты убил бы мальчишку Садуко много лет назад, если бы его не спас Зикали? Гляди, вот отметина от твоего копья. — Ну так убей меня, — ответил Бангу. — Твой дух оказался сильнее моего. Разве не это предсказывал Зикали? Убей же меня, Садуко. — Нет, — мотнул головой юноша. — Ты устал, но и я устал не меньше твоего, и я тоже ранен, как и ты. Возьми копье, Бангу, мы будем биться. И они бились в лунном свете, один на один. Они бились яростно, а все остальные смотрели. Наконец я увидел, как Бангу раскинул в стороны руки и упал навзничь. Садуко был отомщен. Вспоминая о той ночи, я всегда радовался, что он убил своего врага в честном поединке, а не так, как этого можно было ожидать от туземца.Глава 7
СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК САДУКО
На следующий день рано утром мы вернулись к моим фургонам. Весь захваченный скот и наших раненых мы вели с собой, поэтому переход получился весьма утомительным и к тому же довольно тревожным, ведь уцелевшие амакоба вполне могли предпринять попытку отбить похищенное. Однако этого не произошло, поскольку многие из их племени были убиты или ранены, а тем, кто уцелел, не хватило духу снова пуститься в погоню. Посрамленные, они вернулись в свои дома на горе и с той поры жили в нищете, потому что осталось у них, на мой взгляд, не более пятидесяти голов скота на все племя, а какая жизнь кафрам без скотины. И все же они не голодали, потому что многие их женщины работали на полях, а их зерно мы не тронули. В конце концов Панда передал амакоба в подчинение их победителю Садуко, и тот объединил их с амангвана, но случилось это не сразу, а спустя некоторое время. Мы немного отдохнули у фургонов и занялись осмотром захваченных животных. Всего в наших руках оказалось более двенадцати сотен голов, не считая покалеченных во время перегона, — этих мы пустили на мясо. То была поистине славная добыча и, несмотря на рану в бедре, доставлявшую сильную боль, особенно сейчас, когда она покрылась коркой, Садуко стоял и сверкающими глазами обозревал захваченное стадо. И неудивительно, ведь он, еще вчера бедняк, вмиг разбогател, и останется богатым, даже отдав часть коров Умбези, требовавшему уплаты за руку Мамины. Более того, он был уверен, и я разделял его уверенность, что в этих изменившихся обстоятельствах оба — девушка и ее отец — благосклонно отнесутся к его сватовству. Он, так сказать, добился права на титул и семейные владения посредством иска, поданного в «Суд ассегая», и потому теперь вряд ли сыщется в Зулуленде отец, который захлопнул бы ворота крааля перед носом у Садуко. Однако мы оба забыли пословицу, которая указывает, сколь часто случаются разного рода промахи, пока несешь кусочек от чаши ко рту[261], — пословицу, у которой, между прочим, имеются зулусские аналоги. Один из них, если я правильно помню, гласит: «Как бы громко курица ни кудахтала, хозяйка не каждый раз получает яйца». Так случилось, что, хотя курица Садуко кудахтала очень громко, ему все же не суждено было заполучить желанное яйцо. Но об этом я расскажу в свое время. Как и Садуко, я тоже окинул взглядом стадо. Интересно, подумалось мне, помнит ли молодой вождь о нашей сделке, по которой шестьсот голов захваченного скота принадлежат мне. Шесть сотен! Что ж, если посчитать их по пять фунтов на круг за каждую голову — а волы в то время считались большим дефицитом, они стоили именно столько, если не больше, — получалось три тысячи фунтов стерлингов — такой огромной суммой мне в жизни не доводилось обладать. Воистину, пути насилия прибыльны! Да только помнит ли Садуко? Я больше склонялся к мысли, что он забудет о нашем уговоре, поскольку кафры не любят расставаться со скотиной. Однако я оказался несправедлив к Садуко: он вскоре повернулся ко мне и проговорил явно с неохотой: — Макумазан, половина стада принадлежит тебе, ты по праву заслужил его, потому что победу мы одержали благодаря твоим мудрым советам и военной хитрости. Займемся делом — будем делить его поштучно. Итак, я выбрал себе превосходного вола, затем Садуко выбрал одного себе; это продолжалось до тех пор, пока я не отобрал себе восемь голов скота и, повернувшись к Садуко, сказал: — Так. Достаточно! Этих волов я поставлю в упряжи моих фургонов взамен павших в дороге. Больше мне не надо. — Как так?! — изумленно ахнул Садуко и все стоявшие рядом с ним. А кто-то, думаю, это был старый Тшоза, воскликнул: — Макумазан отказывается брать шесть сотен голов скота, которые по справедливости принадлежат ему! Да он, должно быть, сумасшедший! — Нет, друзья, — ответил я, — я не сумасшедший. Я отправился с Садуко в поход, потому что он дорог мне и однажды помог мне в минуту опасности. Однако мне не по душе убивать людей, с которыми я не ссорился, и я не стану брать себе то, что досталось ценою крови. — Ну и ну! — вновь обронил Тшоза, поскольку Садуко в изумлении потерял дар речи. — Он не человек, а дух. Он святой! — Ничуть не бывало, — ответил я. — Если ты так считаешь, спроси у Мамины, — туманное высказывание, которого они не поняли. — А теперь послушайте меня. Я не возьму себе этих животных, потому что думаю не так, как думаете вы, кафры. Но раз уж по вашему закону они принадлежат мне, то своим скотом я собираюсь распорядиться сам. Итак, десять голов я даю каждому из моих охотников и пятнадцать — семье погибшего. Остальных пусть забирает Тшоза и те амангвана, которые бились за нас, и пусть они разделят скот между собой по своему усмотрению, а если при дележе вдруг возникнет ссора, я буду судьей. Тут все восторженно закричали: «Инкози!» — а старый Тшоза, подбежав ко мне, схватил мою руку и поцеловал ее. — У тебя большое сердце! — воскликнул он. — Щедрость твоя не знает границ! Хотя ты мал ростом, в тебе живет дух короля и мудрость небес! Так он восхвалял меня, и другие присоединились к нему, и поднялся гвалт. Садуко тоже поблагодарил меня в своей величаво-снисходительной манере. Не думаю, однако, что он был так уж рад моему решению, хотя мой щедрый дар освобождал его самого от необходимости делиться добычей со своими товарищами, полагаю, Садуко опасался, что с этих пор амангвана будут любить меня больше, чем они любили его. Так оно и вышло, поскольку, я уверен, что среди всех этих дикарей не нашлось бы человека, который не отдал бы за меня жизнь, и по сей день мое имя известно среди них и их потомков. Вдобавок имя мое стало нарицательным у всех тех кафров, кто слышал эту историю. О каком-нибудь акте великого дарения они говорят как о «Даре Макумазана», а человека, который делает из ряда вон выходящее отречение, называют «Носителем одеяла Макумазана» или «Тем, кто украл тень Макумазана». Так я с легкостью заработал себе авторитет, хотя действительно не мог забрать себе тот скот; к тому же, я уверен, поступи я иначе, он принес бы мне несчастье. Замечу в связи с этим: одно из сожалений моей жизни состоит в том, что я вообще когда-либо занимался бизнесом. Наше обратное путешествие к краалю Умбези — именно туда мы решили возвратиться — было очень медленным, поскольку движение затрудняли раненые и громадное стадо. От последнего мы, разумеется, вскоре избавились, поскольку всех животных, за исключением тех, которых я отдал своим людям, да еще сотни, отобранных Садуко для подарка Умбези, под присмотром старика Тшозы перегнали в заранее отведенное место дожидаться Садуко. Более месяца прошло с ночи засады, и вот мы наконец расположились лагерем неподалеку от крааля Умбези в тех самых зарослях, где я впервые встретился с амангвана. В этот триумфальный день они выглядели совсем другими людьми по сравнению со свирепыми парнями, которые месяц назад пришли сюда на зов своего вождя. Во время долгого перехода по стране Садуко купил им отличные набедренные повязки и одеяла; воины украсили головы длинными черными перьями птиц, а щиты и ножные браслеты — буйволовыми шкурами и хвостами. К тому же, обильно и хорошо питаясь во время спокойного перехода, они заметно поправились и выглядели даже привлекательно. Садуко решил провести ночь в лесу, ничем не выдавая нашего присутствия, а на следующее утро выступить во всем своем величии, в сопровождении своих воинов, презентовать Умбези затребованные им сто голов скота и официально просить руки его дочери. Как, возможно, читатель уже догадался, в Садуко присутствовала некая театральная жилка, и, когда на нем были перья, он искал любую возможность пустить пыль в глаза своим плюмажем. Что ж, план свой он выполнил в точности. На следующее утро, когда солнце уже встало, Садуко, в духе великих вождей, выслал двух ярко разодетых глашатаев объявить о своем приближении к краалю Умбези. За глашатаями следовали два человека, поющих хвалу его подвигам. (Кстати, я обратил внимание, что в этих песнопениях им было строго-настрого наказано не упоминать человека по имени Макумазан.) Затем мы выступили всем отрядом. Впереди в великолепном одеянии вождя — килт из леопардовой шкуры, яркие перья и ножные браслеты — шествовал Садуко с коротким ассегаем в руке. Его сопровождали шестеро самых красивых воинов отряда, изображавших индун, или советников вождя. За ними шел я, невзрачный человечек в запыленной одежде, сопровождаемый жутковатого вида курносым Скоулом в невероятно грязных штанах, стоптанных европейских башмаках, из которых торчали пальцы, да тремя своими охотниками, чей вид представлял еще более постыдное зрелище. За нами следом шагали человек восемьдесят преображенных амангвана, и замыкала шествие сотня отборного скота, ведомого несколькими погонщиками. Некоторое время спустя мы подошли к воротам крааля, где обнаружили наших глашатаев, — они все еще выкрикивали здравницы вождю и приплясывали. — Умбези видели? — спросил у них Садуко. — Нет, — отвечали они. — Когда мы пришли, Умбези спал, но его люди дали знать, что он скоро выйдет. — Скажите его людям, что ему лучше поторопиться, иначе я сам его выведу, — гордо заявил Садуко. В этот момент ворота крааля распахнулись, и в них появился толстый Умбези. На глупом лице его был написан испуг, который он, впрочем, попытался скрыть. — Кто это заявился ко мне с такой… церемонией и по какому случаю праздник? — с подозрением спросил он, показав резной палкой для танцев на ряды вооруженных людей. — А, это ты, Садуко! — Он оглядел Садуко с головы до ног и добавил: — Ого, какой ты сегодня важный. Ограбил кого-нибудь? И ты, Макумазан, здесь. А вот у тебя вид не шибко важный. Ты смахиваешь на старую корову, кормившую всю зиму двух телят. Скажи, однако, зачем вы привели с собой воинов? Спрашиваю потому, что на всех еды у меня не хватит, тем более что мы только что закончили пировать. — Не беспокойся, Умбези, — снисходительно ответил Садуко. — Тебе не придется кормить моих людей, еду для них я захватил с собой. И дело мое к тебе простое. Ты просил лоболу (то есть выкуп за невесту) в сто голов скота за твою дочь Мамину. Получай. Вели своим слугам пересчитать скотину. — О, с удовольствием, — нервно ответил Умбези и отдал какие-то приказания своим людям. — Рад за тебя, Садуко, что ты внезапно разбогател, хотя не возьму в толк, как тебе это удалось. — Не ломай голову, как я разбогател, — ответил Садуко. — Я теперь богат, вот все, что тебе нужно знать. Изволь послать за Маминой, ибо я хочу говорить с ней. — Да, да, Садуко, понимаю, ты хочешь говорить с Маминой, но… — Он в отчаянии огляделся вокруг. — Боюсь, она еще спит. Ты же знаешь, Мамина не встает рано и терпеть не может, когда ее беспокоят. А ты не мог бы прийти, скажем, завтра утром? Она к твоему приходу уже встанет. А лучше через день, а? — В какой хижине Мамина? — грозно спросил Садуко. Я же, учуяв подвох, усмехнулся. — Честное слово, не знаю, — ответил Умбези. — Она спит то в одной хижине, то в другой, а иногда для разнообразия отправляется ночевать в крааль своей тетки, до него ходу несколько часов. И я совсем не удивлюсь, если так она и сделала вчера вечером. Я же ей не нянька. Не успел Садуко ответить, как пронзительный скрипучий голос неприятно полоснул слух: поискав глазами, я увидел мерзкого вида дряхлую старуху, сидевшую в тени, и узнал в ней женщину, известную мне под именем Старая Корова. — Он лжет! — проскрежетала она. — Лжет! Благодарение духу моих предков, дикая кошка Мамина навсегда покинула наш крааль. А спала она этой ночью не у тетки, а со своим мужем Масапо, которому Умбези отдал ее в жены два дня назад, получив за нее сто и двадцать голов скота… на двадцать больше, чем предлагаешь ты, Садуко! В тот же миг мне подумалось, что Садуко лишится рассудка от ярости и горя: лицо юного вождя посерело даже под темной кожей, он весь затрясся, как лист, и казалось, вот-вот рухнет на землю. Он прыгнул на Умбези, как лев, схватив за горло, швырнул на землю и навис над ним с поднятым копьем. — Ах ты жаба! — вскричал он жутким голосом. — Говори правду или распорю тебе брюхо! Что ты сделал с Маминой? — О Садуко, — хватая ртом воздух, пролепетал Умбези, — Мамина решила выйти замуж. Нет в том моей вины, Садуко, она так решила сама. Больше он ничего сказать не успел: не обхвати я руками Садуко и не оттащи его назад, это мгновение стало бы последним для Умбези, потому что Садуко уже замахнулся копьем, чтобы пригвоздить его к земле. Как оказалось, подоспел я вовремя, поскольку Садуко, ослабев от переполнявших его чувств, был не в силах вырваться из моих объятий; я чувствовал, как тяжело, точно молот, бьется его сердце. Наконец он пришел в себя и швырнул на землю копье, словно избавляясь от искушения. Затем заговорил тем же страшным голосом: — Что еще ты можешь сказать мне об этом, Умбези? Хочу выслушать все, прежде чем решить, что с тобой делать. — Только то, что сказал, Садуко, — ответил Умбези. Он уже поднялся на ноги и дрожал, как стебель тростника. — Я поступил так, как поступил бы всякий отец. Масапо — очень могущественный вождь, он станет мне хорошей опорой в старости. К тому же Мамина объявила, что хочет за него… — Он лжет! — вновь проскрипела Старая Корова. — Мамина лишь сказала, что ни за одного зулуса она не собирается, так что, думаю, у нее на примете белый человек? — Тут она хитро глянула в мою сторону. — А потом сказала, мол, если отец хочет выдать ее за Масапо, она, как послушная дочь, исполнит его волю, однако если за этим браком последуют раздоры и прольется кровь, то пусть это падет на его голову, а не на ее. — Ты тоже решила вцепиться в меня когтями, кошка драная? — заорал Умбези и палкой, которую все еще сжимал в руке, так огрел по спине старуху, что та поспешно заковыляла прочь, бормоча проклятия. — Ох, Садуко, — продолжил Умбези, — не отравляй своего слуха этой ложью. Ничего подобного Мамина никогда не говорила, а если и говорила, то не мне. Да, как только моя дочь согласилась взять в мужья Масапо, его люди тут же пригнали на наш холм сто двадцать голов отборного скота, и ты, Садуко, хотел бы, чтобы я отказал им? Уверен, если бы ты увидел это стадо, ты бы одобрил мое решение и сказал, что я прав, приняв столь щедрый выкуп в обмен на бранчливую девчонку. Вспомни, Садуко, хоть ты и пообещал раздобыть сто голов скота, что на двадцать меньше, чем прислал Масапо, на тот момент у тебя и одной-то не было… Более того, — добавил он с отчаянием в голосе, видя, что его доводы не убеждают Садуко, — чужаки, что проходили тут недавно, поведали мне, что тебя и Макумазана убили в горах какие-то злодеи. Вот, я все сказал, Садуко, и если теперь у тебя есть скот, то у меня есть другая дочь, может, не такая красавица, зато куда более работящая. Идем ко мне, выпьем пива, и я пошлю за ней. — Перестань болтать о своей другой дочери и о пиве и выслушай меня, — ответил Садуко и так зловеще глянул на отброшенный на землю ассегай, что я предпочел наступить ногой на его древко. — Я теперь богаче и сильнее этого борова Масапо. Разве есть у Масапо такие воины, как вот эти мои молодцы? — Он показал большим пальцем за спину на сомкнутые ряды грозных амангвана, что молча слушали их. — Разве есть у Масапо столько скота, сколько у меня: то, что ты видишь, лишь малая часть огромного стада, выкуп отцу той, которую пообещали отдать мне в жены? Может, Масапо — друг Панды? Насколько я слышал, совсем наоборот. Может, Масапо только что одолел неисчислимое племя благодаря отваге и военной смекалке? Может, Масапо молод, красив и знатной крови или он всего лишь старый жирный боров-полукровка, спустившийся с гор? Не отвечаешь, Умбези, возможно, оно и к лучшему, что ты молчишь. Ну так послушай еще. Не будь здесь Макумазана, которого мне очень не хотелось бы вмешивать в мои семейные ссоры, я бы приказал своим людям схватить тебя и забить до смерти древками копий, а затем отправиться к борову в его горный свинарник и проделать с ним то же самое. Хотя с этим можно немного обождать, сейчас у меня есть дела поважнее. Но знай, недалек тот день, когда я займусь вами. Потому мой тебе совет, мерзкий обманщик, поторопись сдохнуть сам или наберись мужества и упади на копье, не то узнаешь, каково это быть истолченным палками для выделки шкур до такого состояния, когда никто не сможет узнать, что ты когда-то был человеком… Сейчас же пошли кого-нибудь передать мои слова Борову Масапо. Мамине же передай, что я скоро приду и заберу ее, только не со скотом, а с копьями. Ты понял? О, вижу, понял — ревешь от страха, как баба. А пока прощай, увидимся, когда вернусь с палками для выделки, лжец и обманщик Умбези, Гроза слонов Умбези! — Садуко повернулся и зашагал прочь. Сытый по горло крайне неприятной сценой, я тоже было собрался уходить, когда бедняга Умбези кинулся ко мне и ухватил за руку. — О Макумазан, — рыдая от страха, запричитал он. — Если ты когда-либо считал меня своим другом, помоги мне выбраться из жуткой ямы, в которую я угодил из-за выкрутасов этой мартышки, моей дочери Мамины, настоящей ведьмы, рожденной приносить мужчинам беду. Будь она твоей дочерью, Макумазан, и явись перед тобой знатный вождь со стадом в сто двадцать голов, ты бы отдал дочь ему, хоть он и смешанной крови, и не сказать чтоб молодой, тем более если она сама не возражала, ведь у Мамины на первом месте родовитость и достаток… Отдал бы ты ее? — Думаю, нет, — ответил я. — К тому же не в наших обычаях вот так продавать женщин. — Да-да, я забыл. В этом, как во многом другом, вы, белые люди, совсем не такие, как мы. Честно говоря, Макумазан, я думаю, что в сердце у Мамины только ты. Она сама мне именно так и говорила, раз или два. Эх, почему же ты не увез ее с собой, пока я не смотрел? Потом мы бы с тобой все уладили: я бы навсегда освободился от ее колдовства и не сидел бы сейчас по шею в этой яме. — Потому что некоторые люди не делают подобных вещей, Умбези. — Да-да, я забыл. О, никак не могу запомнить, что вы, белые, совсем безумные и оттого нельзя ждать от вас, что вы по ведете себя как все нормальные люди. К тому же ты друг этого тигра Садуко, что вновь доказывает, что ты, видать, и впрямь безумен, потому как многие скорее согласились бы подоить буйволицу, чем водить дружбу с этим человеком. Разве ты не понял, что он собирается убить меня, отделать палками, как распаренную шкуру? Ох! Забить меня этими палками до смерти! Ох! Если ты не остановишь его, он так и сделает, может даже, завтра или послезавтра. Ох, ох! — Понимаю, Умбези, и думаю, что он точно так сделает. Но вот чего я не понимаю, так это как мне остановить Садуко. Вспомни, как ты сам способствовал тому, чтобы в сердце его окрепла любовь к Мамине, а теперь, Умбези, ты поступил с ним очень дурно. — Макумазан, я никогда не обещал ему Мамину. Я лишь сказал, что если он приведет сотню голов скота, то, возможно, пообещаю. — Зато он победил амакоба, врагов своего племени, привел тебе сто голов скота, а отбил намного больше, однако ты своей доли уже не получишь, слишком поздно. Так что придется тебе теперь искать утешения в яме, которую выкопал себе сам, Умбези, и такой участи я бы не пожелал разделить с тобой даже за весь скот в Зулуленде. — Поистине ты не из тех, в ком я могу искать утешения в час опасности, — простонал несчастный Умбези, затем лицо его вдруг просветлело. — Но может, Садуко убьет король Панда, ведь он напал на Бангу во время перемирия. О Макумазан, а не мог бы ты уговорить Панду убить его? Если да, у меня сейчас больше скота, чем мне на самом деле хочется… — Это невозможно, — ответил я. — Король Панда — его друг, и скажу тебе по секрету: Садуко уничтожил амакоба по его особому волеизъявлению. Когда Панда услышит об этом, он возьмет Садуко под свое крыло и сделает его великим, одним из своих советников, возможно дав ему право распоряжаться жизнью и смертью таких маленьких людишек, как ты и Масапо. — Тогда все кончено, — упавшим голосом проговорил Умбези. — Что ж, постараюсь умереть как мужчина. Но дубасить меня палками, как шкуру! О, — добавил он, скрипнув зубами, — попадись мне Мамина, я бы выдрал из ее красивой головы все волосы до единого, я бы связал ей руки и запер бы вместе со Старой Коровой, которая любит ее так же, как суслик любит мышь. Нет, я убью ее! Слышишь, Макумазан, если ты не поможешь мне, я убью Мамину, а тебе это не понравится, потому что, уверен, она тебе по сердцу, хотя ты и не настолько мужчина, чтобы сбежать с ней, как она того хотела. — Тронешь Мамину, — сказал я, — будь уверен, мой друг, палки Садуко и твоя шкура точно встретятся, потому что я сам сдам тебя Панде, расскажу ему, что ты чудовищный злодей. Слушай меня, старый болван. Садуко любит твою дочь, любит до безумия, которое, кстати, ты приписываешь и мне, и, если она станет его, он, пожалуй, даже закроет глаза на то, что она уже побывала замужем. Ты должен попытаться выкупить ее у Масапо. Заметь, я сказал выкупить, а ни в коем случае не пытаться отбить ее, проливая кровь. Уговори Масапо прогнать ее. И когда Садуко узнает, что ты пытался ему помочь, то наверняка забудет о своих палках… на время. — Я попытаюсь, Макумазан, обязательно! Буду стараться изо всех сил. Правда, Масапо упертый, однако, если поймет, что его жизнь в опасности, может уступить. К тому же, когда Мамина узнает, что Садуко стал богатым и сильным, она, возможно, поможет мне. О, спасибо тебе, Макумазан! Ты настоящая подпора моей хижины, а сама хижина и все, что в ней, — твое. Что ж, раз тебе надо идти, прощай, Макумазан… О почему, почему ты не сбежал с Маминой и не избавил меня от этих бед? Так расстались мы на некоторое время — я и старый лгун Умбези, Гроза слонов, — никогда больше я не видел его таким пристыженным и напуганным, за исключением одного случая, о котором речь впереди.Глава 8
ДОЧЬ КОРОЛЯ
Вернувшись после трагикомичной беседы с Умбези, этим жалким и своекорыстным болтуном, к моим фургонам, я узнал, что Садуко уже выступил со своими воинами по направлению к Нодвенгу, краалю короля. Мне передали сообщение от Садуко: он надеется, что я последую за ним, чтобы доложить королю Панде о нашем бое и уничтожении амакоба. По недолгом размышлении я решил так и поступить, но, признаться, больше из чистого любопытства — чем закончится вся эта история. Иногда мне удавалось читать ход мыслей Садуко, и я понял, что в тот момент он не желал обсуждать причину своего страшного разочарования. На протяжении всей жизни Садуко его вела любовь или, вернее, безрассудная страсть к Мамине, она была его путеводной звездой — звездой несчастливой, какая могла бы взойти на горизонте любого человека, звездой роковой, которая своим светом манила его к гибели. Благодарю Божий промысел, что мне посчастливилось избежать ее пагубных лучей, хотя допускаю, что меня они влекли ничуть не меньше. Вот и сейчас, побуждаемый собственным любопытством, из-за ко торого нередко попадал в различные передряги, я совершил дальний переход в Нодвенгу. Душу мою терзали сомнения, мне никак не удавалось выкинуть из головы воспоминания о смертельном испуге Грозы слонов, когда он столкнулся с бешеной яростью обманутого Садуко и его обещанием мести. Наконец без всяких приключений я прибыл в резиденцию короля и стал лагерем в месте, указанном мне каким-то индуной, имя которого я позабыл, знавшего, по-видимому, о моем появлении, поскольку он встретил меня еще на подъезде к городу. Здесь я просидел довольно долго, дня два или три, развлекая себя стрельбой, то меткой, то не очень, по горлинкам и дожидаясь, когда что-нибудь произойдет или же мне надоест и я отправлюсь в Наталь. Наконец, когда я уже было собрался в обратный путь, явился мой старый друг Мапута — тот самый человек, который доставил мне послание от Панды перед нашим походом на Бангу. — Приветствую, Макумазан, — поздоровался он. — Вижу, амакоба не убили тебя. — Не убили, поскольку вот он я перед тобой. — Я предложил ему понюшку табаку. — Что тебе угодно? — О Макумазан, только передать, что король хочет знать, не осталось ли у тебя маленьких шариков в коробочке, которую я тебе вернул, а если да, то в такую жару он с удовольствием проглотил бы один из них. Я предложил Мапуте всю коробку, но он не взял ее, сказав, что король хотел бы принять ее из моих рук. Тогда я понял, что это было приглашением на аудиенцию, и спросил, когда Панде будет угодно принять меня и получить «маленькие-черные-камушки-которые-творят-чудеса». Ответ был — немедленно. Мы отправились к королю, и через час я уже стоял, вернее, сидел перед Пандой. Как и все его родственники, король был человеком очень крупным, но, в отличие от Чаки и тех его братьев, которых я знал, — доброжелательным. Я поприветствовал его, подняв шляпу, и устроился на деревянной скамейке, приготовленной для меня за пределами окруженной оградой большой хижины, в тени которой сидел король. — Приветствую тебя, Макумазан, — проговорил он. — Рад видеть тебя в добром здравии, ведь, как я слышал, со времени последней нашей встречи тебе довелось поучаствовать в опасном приключении. — Да, король, — ответил я. — Но о каком приключении ты говоришь — с буйволом, когда Садуко помог мне, или с амакоба, когда я помог Садуко? — О последнем, Макумазан, о котором желаю услышать всю историю. Король велел своим советникам и слугам удалиться, и, когда мы остались одни, я поведал ему обо всем. — Вот так так! — сказал он, когда я закончил. — Ты умен, как павиан. Надо же так придумать: заманить в ловушку Бангу и его собак амакоба при помощи их собственного скота! Но мне доложили, ты отказался от своей доли отбитого скота? Скажи, почему ты так поступил, Макумазан? В своем ответе Панде я озвучил те же самые причины, которые изложил здесь ранее. — Да уж! — воскликнул он, когда я закончил. — Каждый стремится к величию своим собственным путем, и твой, быть может, лучше нашего. Ведь у белого человека один путь, а у черного — другой, да только конец того пути один, и никто не ведает, какой из путей верен, пока он не будет пройден до конца. Ну а то, что ты потерял, Садуко и его люди выиграли. Садуко мудрый, он умеет выбирать друзей, и мудрость принесла ему победу и богатство. А тебе, Макумазан, мудрость твоя не принесла ничего, кроме доброго имени и почета, но, если питаться только ими, человек вскорости отощает. — Я предпочитаю оставаться худым, Панда, — ответил я после недолгого размышления. — Да-да, я понимаю, — ответил король, который, как большинство туземцев, быстро схватывал суть, — я тоже предпочитаю людей, которые сидят на твоей диете, у которых всегда чистые руки, и я тоже люблю людей, которые тощают от такой пиши, как твоя, и таких людей, чьи руки чистые. Мы, зулусы, доверяем тебе, Макумазан, как мы доверяем немногим белым людям, потому что мы уже давно убедились в том, что твои уста говорят то, что думает твое сердце, а твое сердце всегда думает только о том, что хорошо. Тебя называют Бодрствующим в ночи, но ты любишь свет, а не тьму. Услышав эти несколько необычные комплименты, я поклонился и почувствовал, что покраснел и это видно даже сквозь загар. Не желая оказаться втянутым в дискуссию о прошлом, я не стал отвечать на эти комплименты. Панда тоже некоторое время молчал. Затем он велел гонцу созвать принцев, Кечвайо и Умбелази, и приказал Садуко, сыну Мативане, находиться поблизости — на случай, если король захочет говорить с ним. Через несколько минут подошли оба принца. Я наблюдал за их прибытием с интересом, потому что это были самые знатные персоны в Зулуленде, и в народе уже начались горячие споры, кто из них унаследует трон. Попробую описать обоих. Оба они почти ровесники — всегда бывает трудно определить точный возраст зулусов, — и оба хороши собой. Облик Кечвайо, однако, показался мне более суровым. Поговаривали, что внешне он походил на своего дядю Чаку, прозванного Диким зверем. Я же заметил в нем сходство с другим ее дядей — Дингааном, предшественником Панды, с которым я был довольно близко знаком в юности: такой же мрачный, неприветливый взгляд и надменная манера держаться; когда Дингаан сердился, он точно так же плотно сжимал губы в выражении беспощадной непреклонности. Об Умбелази мне трудно говорить без восторга. Как Мамина была красивейшей из всех женщин, которых я встречал в Зулуленде (хотя старый вояка Умслопогас, мой друг, не вошедший в настоящую историю, частенько говорил мне, что Нада, Черная лилия, о которой я упоминал, была даже красивее), так и Умбелази, вне всяких сомнений, был самым красивым мужчиной в королевстве. Зулусы называли его Умбелази Красивым, и это неудивительно. Во-первых, он был выше любого из представителей своего племени по меньшей мере на три дюйма: за четверть мили я разглядел принца, даже несмотря на густую пыль, поднятую в отчаянной битве. Широченная грудь его была пропорциональна росту. К тому же тело казалось идеально сложенным, красивые и сильные руки и ноги оканчивались, как и у Садуко, небольшими аккуратными кистями и стопами. Лицо с правильными чертами было открытым, цвет кожи посветлее, чем у Кечвайо, а глаза, с неизменной веселой искоркой в них, были большими и темными. Прежде чем принцы вошли во внутреннюю изгородь через небольшие ворота, я без труда заметил, что эта королевская пара пребывала между собой не в лучших отношениях: каждый попытался проскочить первым, желая показать свое старшинство. Результат вышел несколько комичным — оба застряли в воротах. Однако Умбелази, обладавший большим ростом, буквально вдавил брата в тростниковую изгородь и опередил его на фут-другой. — Похоже, ты разжирел, брат мой, — донеслись до моего слуха слова Кечвайо, и я обратил внимание, как недобро он нахмурился. — Будь у меня в руке ассегай, ты бы поранился. — Знаю, брат мой, — ответил Умбелази с добродушным смехом. — Как знаю и то, что никто не смеет являться к королю с оружием. Иначе я бы предпочел пропустить тебя вперед. Услышав в шутливых словах Умбелази намек — мол, он не доверил бы брату остаться у себя за спиной с копьем, — Панда беспокойно заерзал на своем стуле, а на хмуром лице Кечвайо мелькнула какая-то зловещая тень. Однако братья больше не обменялись ни словом и, подойдя одновременно к королю, воздели в приветствии руки и воскликнули «Баба!», то есть «Отец». — Приветствую, дети мои, — ответил им Панда и, предвосхищая ссору братьев, кому занять почетное место по правую руку, поспешил добавить: — Садитесь оба передо мной, а ты, Макумазан, садись сюда. — Он показал мне на заветное место. — Что-то я сегодня глуховат на левое ухо. Браться уселись перед королем, и не думаю, что их огорчил такой способ выйти из положения. Сначала они обменялись рукопожатиями со мной, потому что я знал обоих, не очень, правда, хорошо, и даже здесь сказалось их давнее соперничество: возникло небольшое затруднение — кому из них протягивать мне руку первому. В конечном итоге, я хорошо помню, этот трюк удался Кечвайо. Когда церемония приветствия завершилась, Панда обратился к принцам со словами: — Дети мои, я послал за вами, чтобы спросить вашего совета по одному делу — делу пока небольшому, но могущему вырасти в чрезвычайно важное. — Он сделал паузу на понюшку табаку, а братья прогудели в один голос: — Слушаем тебя, отец! — Так вот, сыны мои, дело это касается Садуко, сына Мативане, вождя амангвана, которых много лет назад, с позволения того, кто правил до меня, истребил вождь амакоба Бангу. Этот Бангу, как вы знаете, в последнее время был гнойной занозой в моей ноге, тем не менее воевать с ним я не хотел. И я шепнул Садуко на ухо: «Если сможешь убить его, он твой, и скот его твой». Что ж, Садуко умен. С помощью этого белого человека, Макумазана, нашего давнего друга, он убил Бангу и забрал его скот, и нога моя начала заживать. — Мы слышали об этом, — сказал Кечвайо. — Славное дело, — добавил Умбелази, более великодушный критик. — Да, — продолжил Панда, — я тоже считаю это дело славным, учитывая, что у Садуко был всего лишь небольшой отряд бродяг… — Нет, — прервал отца Кечвайо, — победу ему принесли не сброд крысоедов, но мудрость этого человека — Макумазана. — От мудрости Макумазана было бы мало толку без мужества Садуко и его крысоедов, — возразил Умбелази, и с этого момента я понял, что братья постоянно противоречат друг другу из принципа, а вовсе не потому, что кого-то из них волнует истина. — Именно так, — продолжил король. — Вы оба правы, сыновья мои. Однако дело вот в чем. Я считаю Садуко многообещающим юношей и хотел бы возвысить его, чтобы он учился любить всех нас. Особенно потому, что его род незаслуженно пострадал от нашего рода, поскольку Тот-кто-ушел, послушался дурного навета Бангу и позволил ему без всякой на то причины вырезать племя Мативане. Дабы стереть это позорное пятно и привязать Садуко к нашему роду, я полагаю, будет разумным восстановить юношу в правах предводителя амангвана, вернуть ему земли, которыми владел его отец, а также сделать его вождем племени амакоба, от которых остались только женщины да дети и совсем немного мужчин. — Как будет угодно королю, — проговорил Умбелази и широко зевнул: ему явно надоело слушать о Садуко. Кечвайо же промолчал, словно его занимали мысли о чем-то другом. — А еще я думаю, — неуверенно продолжил Панда, — привязать его покрепче, чтобы узы было не порвать, а для этого отдать ему в жены девушку из нашего рода. — Зачем предлагать этому жалкому амангвана породниться с королевской семьей? — поднял на отца глаза Кечвайо. — Если он опасен, так почему бы не убить его, и дело с концом? — А вот зачем, сын мой. В стране раздор, Зулуленд ждут неспокойные времена, и я не хочу убивать тех, кто может стать подмогой нам в трудный час, как не хочу делать их своими врагами. Наоборот, они должны стать друзьями, и поэтому мудро будет обильно поливать это семя величия, что дается нам сейчас, а не выкапывать его и не сажать в чужом саду. Делами своими Садуко доказал, что он и есть такое семя. — Отец, — подал голос Умбелази, — мне тоже нравится Садуко. Он храбрый человек, и притом из благородной семьи. Какую из наших сестер отец желает отдать ему в жены? — Ту, которая названа в честь праматери нашего рода, Умбелази. Ту, которую родила твоя мать, — твою сестру Нэнди, — (по-английски это значит «Ласковая»). — Щедрый подарок, отец, ведь Нэнди красива и мудра. А что она сама об этом думает? — Она довольна, Умбелази. Она видела Садуко, и он пришелся ей по сердцу. Она сама мне сказала, что не желает другого мужа. — Неужели? — равнодушно проговорил Умбелази. — Раз король велит, какая разница, чего желает дочь короля? — По-моему, большая, — вмешался Кечвайо. — Это никуда не годится! Ничтожного человека, который всего лишь победил крошечное племя, воспользовавшись хитростью Макумазана, награждать не только титулом вождя, но и рукой умнейшей и красивейшей из дочерей короля, даже если Умбелази, — добавил он с ухмылкой, — готов швырнуть ему родную сестру, словно кость бродячей собаке. — Кто это швыряет кость, Кечвайо? — спросил Умбелази, словно очнувшись от своей задумчивости. — Король или я, который даже не слышал об этом браке до сего момента? И кто мы такие, чтобы оспаривать указы короля? Наше дело судить или повиноваться? — Не одарил ли тебя Садуко частью того стада, что он украл у амакоба? — спросил Кечвайо. — Может, потому наш отец не требует за невесту выкупа, что ты уже получил подарок взамен? — Единственный подарок, принятый мною от Садуко, — ответил, с трудом подавив гнев, Умбелази, — это его помощь. Он друг мне. А ты за это ненавидишь его, как ненавидишь всех моих друзей. — Мне что — любить каждую шавку, что лижет тебе руку? И можешь не говорить мне, что он твой друг. Я-то знаю, это ты нашептал нашему отцу, чтобы тот позволил ему убить Бангу и угнать его скот. И дело это дурное, потому что теперь на нашей семье кровь Бангу. Мало того, человек, проливший эту кровь, войдет в нашу семью и станет называться принцем, как ты и я. Да и как иначе, ведь он женится на принцессе Нэнди! И ты поступишь верно, Умбелази, приняв скот, от которого отказался белый торговец, поскольку всем известно, что ты заслужил его. Терпение Умбелази лопнуло, он вскочил на ноги, выпрямился во весь свой гигантский рост и заговорил хриплым от волнения голосом: — О король, я прошу твоего разрешения удалиться! Если я задержусь здесь еще немного, буду очень жалеть, что в моей руке сейчас нет копья. Однако, прежде чем уйти, выскажу всю правду. Кечвайо ненавидит Садуко, потому что этот юноша мудр, и отважен, и далеко пойдет, и Кечвайо хотел, чтобы Садуко был в его подчинении, но тот решил прийти под мое крыло. Вот почему Кечвайо язвит и насмехается надо мной. Пусть оправдается, если сможет. — И не подумаю! — сдвинув брови, ответил Кечвайо. — Кто ты такой, чтобы шпионить за мной, лгать и требовать, чтобы я отчитывался перед королем? Больше не хочу ничего слушать. Можешь оставаться здесь и расплатиться с Садуко нашей сестрой. Раз король обещал отдать ее, слова его никто не изменит. Только передай своему бродячему псу: для него у меня всегда наготове палка, пусть только посмеет тявкнуть. Прощай, отец. Я уезжаю в свой крааль, можешь отыскать меня в Гикази, если я тебе понадоблюсь, но надеюсь, этого не случится до окончания свадьбы сестры: нет у меня желания глядеть на все это. С этими словами он поклонился королю и, не попрощавшись с братом, ушел. Мне он, однако, руку на прощанье пожал, ведь Кечвайо всегда дружески относился ко мне, возможно полагая, что я могу еще пригодиться. Он, как я узнал позже, был очень доволен тем, что я отказался от своей доли скота амакоба и не принимал никакого участия в сватовстве Садуко и Нэнди, о котором я и впрямь слышал впервые. — Отец, — сказал Умбелази, когда Кечвайо ушел, — разве можно такое терпеть? Разве можно винить меня в этом деле? Ты все видел и слышал — ответь мне, отец. — На этот раз твоей вины нет, — тяжко вздохнув, ответил король. — Но куда вас заведут ваши ссоры, о сыновья мои! Боюсь, лишь река крови способна погасить огонь вашей ненависти, но кто из вас достигнет ее берега… Несколько мгновений он молча смотрел на Умбелази, и я видел любовь и страх в его взгляде: Панда любил его больше всех своих детей. — Кечвайо вел себя недостойно, — наконец проговорил Панда. — Никакого права не имеет он указывать мне, за кого я должен или не должен выдавать замуж свою дочь. К тому же я дал слово и решения своего не поменяю из-за его угроз. Вся страна знает, что я верен своему слову, даже белые люди это знают, не так ли, Макумазан? Я ответил утвердительно. Как большинство слабых людей, это сущая правда, Панда был не только весьма упрямым, но и по-своему честным правителем. Он махнул рукой в знак того, что тема исчерпана, затем велел Умбелази сходить к воротам и отправить человека за сыном Мативане. Вскоре прибыл Садуко: полный спокойного достоинства, он поднял правую руку, приветствуя короля. — Присаживайся, — сказал Панда. — Хочу сказать тебе кое-что. Вслед за этим Садуко, без спешки и в то же время не мешкая, опустился на колени и оперся одним локтем о землю, как умеют только аборигены, не выглядя при этом смешно, и замер в ожидании. — Сын Мативане, — заговорил король. — Мне рассказали, как ты с малым отрядом уничтожил Бангу и большинство мужчин племени амакоба и забрал весь их скот. — Прошу прощения, о великий, — прервал его Садуко. — Я всего лишь мальчишка, я ничего не сделал. Это все Макумазан, Бодрствующий в ночи, что сидит здесь. Его мудрость научила меня заманить в ловушку амакоба после того, как они спустятся с горы, а мой дядя Тшоза выпустил из загона весь скот. Сам же я не сделал ничего, разве что нанес удар-другой копьем, когда должен был, — не лучше павиана, когда тот швыряет камни в тех, кто ворует у него детенышей. — Мне по сердцу, Садуко, что ты не хвастун, — сказал Панда. — Побольше бы таких, как ты, среди зулусов, не пришлось бы мне слушать так много громких слов о ничего не стоящих делах. Как бы там ни было, Бангу убит, его гордое племя усмирено, и, по государственным соображениям, я рад, что это произошло без моего прямого военного или иного вмешательства, поскольку, как я говорил тебе, кое-кто из моей семьи любил Бангу. А я… Я любил твоего отца Мативане, которого Бангу зарезал. Ведь мы с твоим отцом мальчишками росли вместе. И вместе служили в одном отряде с амавомба, еще когда правил Бешеный, мой брат. — (Он имел в виду Чаку: у зулусов не принято произносить вслух имена мертвых королей, если этого можно избежать.) — По этой причине, — продолжил Панда, — и по ряду других я рад, что Бангу наказан и что месть, хоть она и слишком долго кралась за ним по следам, в конце концов настигла его. — Йебо, Нгоньяма! (Да, о Лев!) — воскликнул Садуко. — Так вот, Садуко, — продолжил Панда. — Поскольку ты сын своего отца и показал себя настоящим мужчиной, хоть твой вес еще и мална родине, я расположен возвысить тебя. А посему жалую тебе предводительство над теми из амакоба, кто остался в живых, и всеми амангвана, которых сможешь собрать. — Байет! Да будет воля короля! — воскликнул Садуко. — И наделяю тебя званием кехлы (носителя головного обруча), хоть ты и называешь себя еще мальчишкой, и вместе с этим даю место в моем совете. — Байет! Да будет воля короля! — повторил Садуко, по виду безразличный к почестям, свалившимся на его голову. — И еще одно, сын Мативане. Ты ведь еще не женат, верно? Впервые за время аудиенции лицо Садуко изменилось. — Да, о Великий, — торопливо проговорил юноша. — Но… — Тут он встретился со мной взглядом и, уловив в нем некое предупреждение, умолк. — Но, — продолжил Панда, — несомненно, хотел бы жениться? Что ж, это нормально для молодого мужчины, который мечтает о семье, и потому я разрешаю тебе жениться. — Йебо, Сило! (Да, о Великий!) Благодарю короля, но… Тут я громко чихнул, и Садуко вновь умолк. — Но, — снова подхватил Панда его незаконченную фразу, — ты, конечно, не знаешь, где искать невесту между теми мгновениями, когда сокол камнем устремляется вниз и крыса пищит в его когтях. Когда тебе, ведь ты еще не думал об этом, верно? Хорошо, — продолжил король с улыбкой, — что не думал, ведь та, которую я отдам тебе в жены, не может жить во второй хижине твоего крааля и называть другую женщину «инкози-каас» (то есть «первая леди», или жена вождя). Умбелази, сын мой, сходи, приведи ту, которую мы выбрали в невесты для этого юноши. Умбелази поднялся и ушел с широкой улыбкой на лице, в то время как Панда, слегка утомленный продолжительными речами — он был довольно тучным, а день выдался жарким, — привалился спиной к стене хижины и прикрыл глаза. — О всесильный владыка! — встрепенулся вдруг явно встревоженный Садуко. — Дозволь сказать тебе кое-что. — Конечно, конечно… Однако прибереги свои благодарности на потом, когда увидишь ее… — сонно пролепетал Панда и тихонько захрапел. Заметив, что Садуко вот-вот погубит себя, я счел нужным вмешаться, хотя и сейчас не готов сказать, какое мне было до этого дело. Во всяком случае, придержи я в тот момент свой язык и позволь Садуко свалять дурака, а он был готов поступить именно так, — кстати, Мамина тоже отмечала, что Садуко никогда не станет мудрым, — я свято верю, что вся история Зулуленда устремилась бы по иному руслу и многие тысячи людей, белых и черных, погибших тогда, были бы живы и поныне. Однако судьба распорядилась иначе. Это не я заговорил тогда, а сама Судьба. Ангел Судного дня сделал меня своим рупором. Видя, что Панда задремал, я скользнул за спину Садуко и крепко сжал его руку. — Ты с ума сошел? — зашептал я ему в ухо. — Хочешь отказаться от своего счастья и проститься с жизнью? — Но как же Мамина? — прошептал он в ответ. — Я не стану жениться ни на ком, кроме нее! — Глупец! Мамина предала тебя, ты не нужен ей. Бери, что дают тебе Небеса, и благодари судьбу! Тебе нужны обноски Масапо? — Макумазан, — глухо проговорил Садуко, — я последую советам твоей головы, а не своего сердца. Однако ты сеешь странное семя, Макумазан. И ты убедишься в этом, когда увидишь выросший из него плод. — Эти слова он сопроводил таким диким взглядом, от которого меня бросило в дрожь. Я уловил в этом взгляде нечто такое, что заставило меня задуматься: а не лучше ли мне было бы уйти, оставив Садуко, Мамину, Нэнди и прочих? Предоставить им покориться судьбе, ведь, в конце концов, что делал мой палец в этом очень горячем рагу — только обжигался, не вылавливая ни кусочка мяса. Однако и теперь, оглядываясь назад на эти события прошлого, я задаюсь вопросом: как я мог предвидеть, во что выльется безумная страсть Садуко, вселяющие страх интриги Мамины и слабость Умбелази, когда и его Мамина заманит в тенета своей красоты и погубит, воспользовавшись ненавистью Садуко и амбициями Кечвайо? Ведал ли я, что тайный зачинщик всех тех событий — старый карлик Зикали Мудрый — денно и нощно трудился над тем, чтобы утолить свою вражду и исполнить месть, которую он уже давно задумал и спланировал против королевского дома Сензангаконы и народа зулусов, которым тот правил? Да, это он таился невидимый за большим камнем на гребне скалы, медленно, неумолимо, с изощренным мастерством, с упорством и терпением подталкивал он этот камень к краю утеса, пока тот наконец не обрушился в урочный час на живущих внизу и не раздавил их, лишив жизни. Как мог я предугадать, что мы, актеры этого действа, все время помогали ему толкать этот камень и что его нимало не заботило, скольких из нас камень увлечет за собой в пропасть, лишь бы мы помогли ему, Зикали Мудрому, прийти к торжеству его тайной, неописуемой злобы и ненависти? Теперь я отчетливо вижу и понимаю все происходившее в то время, но тогда я был глух и слеп — никакие «голоса» не достигали моих ушей, как они достигали — ума не приложу, каким образом, — ушей Зикали. Но и сам он, Зикали Мудрый, был, в свою очередь, не чем иным, как орудием, как все мы, в руках Мамины и его руках, орудием некой невидимой Силы, которая использовала всех нас, дабы завершить задуманное. Так что с известной долей фатализма я прихожу к выводу, что все эти события произошли, потому что произойти им было предназначено. Недостойное умозаключение после стольких раздумий и устремлений и такое не лестное для человека, делающего хвастливые заявления о свободе человеческой воли, однако это именно то умозаключение, к которому приходят многие из нас, особенно достаточно долго прожившие в среде дикарей: здесь подобные драмы проявляют себя бурно и скоротечно и не скрыты от наших глаз масками и уловками цивилизации. По крайней мере, позволю себе утешительную аллегорию: если мы всего лишь перья, влекомые ветром, можно ли винить отдельное перо за то, что оно не летит против ветра, не летит в стороне от всех или не сворачивает? Пора, однако, вернуться от досужих размышлений к изложению фактов. Именно в тот момент, когда я решил уйти, чтобы заняться своими делами, оставив Садуко управляться со своими, в ворота изгороди шагнул мощный высокий Умбелази, ведя за руку женщину. С первого взгляда я понял, что она не нуждалась ни в дорогих браслетах из меди, ни в украшениях из слоновой кости, ни в редчайших бусах из розовой кости, которые дозволялось носить только особам королевской семьи, чтобы, глядя на нее, каждый видел в ней очень высокородную особу, поскольку во всех ее чертах, манере держать себя, жестах и всем, что было с ней связано, угадывалось достоинство и благородная кровь. Нэнди Ласковая не обладала ослепительной красотой Мамины, хотя была прекрасно сложена, как и все в роду Сензангаконы. Начать с того, что оттенок ее кожи был темнее, и губы — заметно полнее, и нос — толще, и глаза ее не были такими темными и блестящими, как у Мамины. Затем ей не хватало таинственной прелести Мамины, лицо которой освещалось временами вспышками тревожного света и быстрым, сочувственным восприятием, как грозовое вечернее небо, будто сливающееся с тусклой сумеречной землей, подсвеченное пульсациями далеких зарниц, мягкими и многоцветными, словно лишь намекая, но не обнажая силу и великолепие того, что оно скрывает. Нэнди не обладала этими чарами, но ведь они доступны на земле только избранным женщинам, каких в каждом поколении рождается очень не много. Она была простой, искренней, открытой, отзывчивой и ласковой девушкой королевской крови, не более того. Умбелази подвел сестру к королю, и она грациозно ему поклонилась. Затем, искоса бросив на Садуко взгляд, которого я не понял, а потом посмотрев на меня, она сложила руки на груди и застыла, не говоря ни слова, в ожидании, когда к ней обратятся. Обращение же короля вышло кратким, поскольку он, похоже, еще не до конца проснулся. — Дочь моя, — проговорил Панда, подавляя зевок, — вот стоит твой муж. — И он ткнул большим пальцем в сторону Садуко. — Он молод и отважен. Не женат к тому же. Он станет великим под сенью нашего дома, и поспособствует этому его дружба с твоим братом Умбелази. Слышал я, что ты уже видела его и он тебе нравится. Прав твоих я не ущемлю и прислушаюсь к твоим словам. А если у тебя нет возражений… — И он сонно хмыкнул. — Я намереваюсь назначить свадьбу на завтра. Дочь моя, если тебе есть что сказать, то, пожалуйста, говори сразу, я устал. Эти вечные пререкания твоих братьев Кечвайо и Умбелази утомили меня. Нэнди огляделась вокруг, задержав открытый, искренний взгляд сначала на Садуко, затем на Умбелази, а потом на мне. — Отец, — наконец негромко, но уверенно проговорила она, — умоляю, скажи, кто предлагает этот брак? Вождь Садуко, принц Умбелази или белый господин, настоящего имени которого я не знаю, но которого у нас зовут Макумазаном, Бодрствующим в ночи? — Кто из них предложил… что-то не припомню… — широко зевнул Панда. — В любом случае идея-то моя, и я сделаю твоего мужа большим человеком. Есть ли у тебя что-нибудь возразить на это? — Мне нечего возразить, отец. Я знаю Садуко, он мне очень нравится… Во всем остальном я полагаюсь на тебя. Но, — негромко протянула она, — нравлюсь ли я Садуко? Когда он произносит мое имя, чувствует ли он его здесь? — Нэнди указала на свое горло. — Вот уж не знаю, что там его горло чувствует, — проворчал Панда. — А вот мое точно пересохло. Что ж, поскольку все молчат, вопрос считаю решенным. Завтра Садуко приведет быка для умкхолисо[262]. Если здесь у него быка нет, могу дать одного взаймы, а затем вы оба можете забрать себе новую большую хижину, которую я построил в наружном краале, и первое время пожить там. Хотите, устроим танцы, а нет — даже лучше, поскольку у меня полно неотложных дел. А сейчас я иду спать. Панда сполз со скамьи на колени, пролез в проход своей огромной хижины, рядом с которой сидел, и исчез в темноте. Умбелази и я вышли через ворота ограды, оставив Садуко и Нэнди наедине. Что произошло между ними, я не ведаю, но полагаю, Садуко произвел на дочь короля достаточно хорошее впечатление, чтобы убедить ее выйти за него. Возможно, еще прежде очарованную им, Нэнди было несложно уговорить. Так или иначе, наутро, без особого шума и пиршеств, за исключением разве что ритуального танца, умкхолисо, «бык для невесты», был заколот, и Садуко стал мужем дочери короля из рода Сензангаконы. Конечно же, насколько я помню, это замечательное начинание в жизни для того, кто всего лишь несколько месяцев до этого был практически нищим и бездомным. Могу добавить, что после нашей недолгой беседы в краале короля, пока Панда дремал, я и словом не обмолвился с Садуко о его женитьбе, поскольку с момента сватовства и до самой свадьбы он избегал меня, да и я не искал его общества. Я отправился в Наталь сразу же после его свадьбы и почти год ничего не слышал ни о Садуко, ни о Нэнди, ни о Мамине; хотя, признаюсь, о последней из этой троицы я вспоминал куда чаще, чем, быть может, следовало.Глава 9
АЛЛАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЗУЛУЛЕНД
Минул год, в течение которого я занимался (или пытался заниматься) разными делами, не имеющими отношения к настоящему повествованию. По истечении этого срока я вновь оказался в стране зулусов, а если точнее, в краале Умбези. Сюда я прибыл для совершения сделки, о которой уже упоминал, — сделки, касавшейся слоновой кости и ружей и заключенной со старым толстяком Умбези или, вернее, с его зятем Масапо, представителем которого он являлся в этом деле. Не припомню, обладал ли я необходимым разрешением импортировать те ружья в Зулуленд, и потому не стану вдаваться в подробности сделки. Теперь, по прошествии стольких лет, я искренне надеюсь, что оно у меня было, поскольку считаю неправильным продавать туземцам оружие, которое они могут пустить в ход в самых разных, зачастую непредвиденных обстоятельствах. И вот мы сидим вдвоем с вождем в его хижине за бутылочкой джина, которую я ему подарил. К нашему обоюдному удовольствию, сделка завершена, и Скоул, мой личный слуга, вместе с охотниками только что унесли слоновую кость — солидную партию бивней — к моим фургонам. — Ну, Умбези, — сказал я, — как тебе жилось с тех пор, как мы расстались с тобой год назад? Слышал ли ты что-нибудь о Садуко, который, как ты помнишь, в последний раз на тебя немного гневался? — Благодарение моему духу, я не видел больше этого дикаря, Макумазан, — ответил Умбези, тряхнув седой головой, чем выдал свою крайнюю озабоченность. — Зато слышать о нем доводилось: позавчера он прислал мне известие о том, что не забыл о своем долге. — Он имел в виду палки, которыми обещал отделать тебя, как сырую шкуру? — поинтересовался я. — Думаю, да, Макумазан, ведь никаких других долгов у него передо мной нет. А хуже того, что в краале Панды он вырос, как тыква на навозной куче, — стал таким великим, таким великим!.. — Значит, теперь он может оплатить любой свой старый долг, Умбези? — спросил я, сделав глоточек джина и посмотрев на собеседника поверх своей кружки. — Конечно может, Макумазан, и, между нами, именно по этой причине я — или, скорее, Масапо — так хотел заполучить эти ружья. Они ведь не для охоты, как он передал тебе через гонца, и не для войны, а для того, чтобы защитить нас от Садуко, на случай, если тот вдруг решит напасть. Ну, теперь, надеюсь, мы сможем постоять за себя. — Умбези, первым делом вы с Масапо должны научить своих людей обращаться с ружьями. Однако, думаю, Садуко давно забыл о вас двоих после того, как женился на дочери короля. А как поживает Мамина? — О, хорошо поживает, Макумазан. Ведь она теперь главная жена вождя амансома! Все у нее есть, кроме разве одного — ребеночка, а еще… — Он вдруг умолк. — Что еще?.. — переспросил я. — Еще она люто ненавидит своего мужа, Масапо, и говорит, что лучше бы вышла замуж за бабуина, чем за него, и это сильно обижает Масапо, ведь он отдал за невесту так много скота. Но что с того, Макумазан? Даже на лучшем ржаном колоске всегда не хватает зернышка. Ничто в мире не совершенно, Макумазан, и если уж так случится, что Мамина не полюбит своего мужа… — Он пожал плечами и сделал глоток джина. — По большому счету, это не так важно, Умбези, разве что для Мамины и ее мужа, который наверняка успокоится теперь, когда Садуко женился на дочери короля зулусов. — Будем надеяться, Макумазан, но, сказать по правде, мне бы хотелось, чтобы ты привез больше ружей, потому что я живу в окружении ужасных людей. Масапо сердится на Мамину из-за того, что она даже видеть его не хочет, и злится на меня, как будто в моих силах повлиять на Мамину. Мамина злится на Масапо, а значит, и на меня за то, что я отдал ее в жены Масапо. Садуко, который, как говорят, все еще любит Мамину, хватается за ассегай, едва заслышит имя Масапо; он не переваривает его на дух, потому что Масапо женился на Мамине, и злится на меня из-за того, что я Мамине отец и сделал все, что было в моих силах, чтобы получше пристроить свою красавицу-дочь. О Макумазан, подлей-ка мне еще огненной воды, она помогает мне забыть обо всех этих горестях и особенно о том, что мой дух-охранитель сделал меня отцом Мамины, с которой ты не убежал, хоть у вас и была такая возможность. О Макумазан, почему ты не сбежал с Маминой и не обратил ее в спокойную и послушную белую женщину, которая сидит дома, поет гимны, обращенные к Величайшему, и никогда не думает ни об одном мужчине на свете, за исключением собственного мужа? — Потому что, поступи я так, Умбези, я сам бы перестал быть спокойным белым человеком. Да-да, друг мой, я очутился бы в положении, подобном твоему нынешнему, а это последнее, чего мне хотелось бы… Умбези, тебе, пожалуй, достаточно огненной воды. Я ухожу и бутылку забираю с собой. Спокойной ночи. На следующее утро я выехал из крааля Умбези; убаюканный огненной водой, он еще крепко спал. Путь мой лежал в Нодвенгу, резиденцию Панды, где я надеялся немного поторговать. Поскольку я не особо спешил, то планировал сделать крюк и заехать к Масапо — меня разбирало любопытство, и мне хотелось собственными глазами увидеть, как они поживают с Маминой. Границ владений амансома, хозяином которых был Масапо, я достиг к вечеру. Здесь я и расположился на ночлег. Однако ночная темнота навеяла на меня размышления, по результатам которых я решил, что для меня же лучше будет держаться подальше от Мамины и не вникать в ее семейные дрязги. Поэтому наутро я двинулся в Нодвенгу единственной, по словам моих проводников, пригодной для проезда дорогой, делавшей, правда, солидный крюк. В тот день из-за неровностей дороги — если это можно назвать дорогой — и поломки одного из фургонов мы преодолели не более пятнадцати миль и, поскольку близилась ночь, были вынуждены расположиться лагерем на первой же стоянке, где смогли найти воду. Когда волов распрягли, я огляделся вокруг и сразу же узнал это место, хоть в прошлый раз мы и пришли сюда с Садуко с другой стороны, — это был вход в Черное ущелье, в котором более года назад я встречался с Зикали Мудрым. Никаких сомнений — другой такой же зловещей долины с нагромождением валунов в виде колонн и нависающим скальным утесом в дальнем ее конце в Африке не сыщешь. Я сидел на козлах первого фургона, ел ужин, состоявший из билтонга с галетами, — поскольку минувший день выдался очень жарким, я не стал себя утруждать тем, чтобы подстрелить какую-нибудь дичь, — и размышлял, жив ли еще Зикали и не стоит ли мне взять на себя труд подняться к нему, чтобы выяснить это. В конце концов я решил, что не стоит: само место вызывало у меня отвращение, да и не было у меня никакого желания выслушивать его пророчества и зловещие разговоры. Я продолжал сидеть, любуясь изумительным закатом, льющим багровые лучи меж причудливых скал. Вскоре я заметил далеко впереди одинокую фигуру — то ли мужчины, то ли женщины, — направлявшуюся в мою сторону по тропинке, бежавшей по дну ущелья. В окружении мощных высоких скал человеческая фигура эта, двигавшаяся в ярком свете закатного солнца, казалась невероятно крохотной и беззащитной; возможно, именно поэтому она и привлекла мое внимание, а может, потому, что само пребывание этого живого существа очень диссонировало с неподвижным и безжизненным величием мрачного ущелья. Мое любопытство росло с каждым мгновением: кто же это — мужчина или женщина и что этот человек делает здесь, в этом жутком месте. Фигура все приближалась, и вскоре я уже мог разглядеть высокого и стройного человека, однако определить пол незнакомца мне все же не удавалось, потому что он был закутан в плащ из красивого серого меха. В этот момент к фургону подошел Скоул спросить меня о чем-то, и я на пару минут отвлекся. Когда я вновь оглянулся, то увидел фигуру стоящей в трех ярдах от меня: лицо скрывал капюшон, прикрепленный к меховому плащу. — Кто ты и что тебе надо? — спросил я. — Не узнаешь меня, Макумазан? — ответил мне нежный голос. — Как можно узнать человека, если он замотан в плащ, как бутылка из тыквы в циновку? Однако ты… Ты же… — Да, это я, Мамина, и я очень рада, что после такой долгой разлуки ты не забыл мой голос, Макумазан. — Резким движением она отбросила капюшон и накидку из звериных шкур, представ передо мной во всей своей необычайной красе. Я соскочил с козел и взял ее за руку. — О Макумазан… — проговорила она. Я не выпускал ее руки, или, вернее будет сказать, это она удерживала мою руку в своей. — Поверь, сердце мое радо снова видеть друга. — Она посмотрела на меня умоляющим взглядом, и глаза ее, как мне показалось в багровом зареве заката, были влажными от слез. — Друга, Мамина? — воскликнул я. — Но ведь теперь, когда ты жена вождя и так богата, у тебя наверняка полно друзей. — Увы! Богата я лишь бедами да заботами, потому что муж мой скуп, как муравьи перед зимой. Вот, «одарил» меня этим жалким плащом… Что же до друзей, Масапо настолько ревнив, что запрещает мне их заводить. — Неужели он ревнует тебя к женщинам, Мамина? — О женщины! Пф-ф! До женщин мне нет дела, они все ненавидят меня, потому что… потому что… Думаю, ты можешь догадаться почему, Макумазан, — ответила она, глянув на себя в маленькое дорожное зеркальце, висевшее на деревянной стойке моего фургона (я причесывался перед ним), и очаровательно улыбнулась. — По крайней мере, у тебя есть муж, и я полагал, что к этому времени… Она подняла руку в протестующем жесте: — Муж! Лучше бы его не было, я ненавижу его, Макумазан! А другие мужчины… никогда! Правда в том, что ни до кого из них мне дела не было, кроме одного, имя которого ты, возможно, помнишь, Макумазан. — Ты, наверное, о Садуко… — начал было я. — Скажи-ка, Макумазан, — невинно поинтересовалась она, — неужто все белые люди такие тупые? Я спрашиваю, потому что нынче ты не так смышлен, как в прежние времена. Или тебе начала изменять память? Я почувствовал, что лицо мое стало таким же багровым, как вечернее небо за спиной, и поспешил сказать: — Если ты не любила своего мужа, Мамина, не надо было выходить за него. Сама знаешь, никто тебя не неволил. — Знаю, Макумазан, но когда некуда сесть, кроме как на два колючих куста, выбираешь тот, у которого колючек меньше. Однако потом оказывается, что у него их сотни, да только сразу-то не разглядишь. Ты же знаешь, как утомительно стоять на ногах. — И поэтому ты решила прогуляться, Мамина? Я хочу спросить: что ты делаешь здесь одна? — Я? О, я прослышала, что ты едешь этим путем, и пришла сюда поговорить с тобой. Нет, от тебя я не могу утаить даже частичку правды. Я пришла поговорить с тобой, но еще и повидаться с Зикали и спросить у него, что делать жене, которая ненавидит мужа. — Вот как! И что же он тебе ответил? — Сказал, что для нее будет лучше бежать от него с другим мужчиной, если есть тот, которого она не ненавидит… Разумеется, за пределы Зулуленда, — ответила Мамина, посмотрев на меня, затем переведя взгляд на фургон и двух лошадей, привязанных к нему. — Это все, что он сказал, Мамина? — Не все. Разве не говорила я, что не в силах скрыть от тебя и зернышка правды? Еще он сказал, что есть и другой выход — сидеть тихо на месте и пить кислое молоко, притворяясь, что оно сладкое, пока мой дух не даст мне новую корову. Зикали, похоже, думает, что мой дух когда-нибудь расщедрится на новых коров. — Что-нибудь еще он говорил? — спросил я. — Кое-что добавил. Разве я не сказала тебе, что ты узнаешь все — всю правду? Зикали, кажется, думает, что каждую корову из моего стада, старую и новую, ждет скверный конец. Но какой именно, он не сказал. — Мамина отвернулась в сторону, а когда вновь посмотрела на меня, я увидел, что она плачет, на этот раз не притворно. — Разумеется, конец их ждет скверный, Макумазан, — вновь заговорила она негромким, с хрипотцой, голосом. — Потому что я и все те, с кем мне приходится проводить время, были «вырваны из тростника» (то есть созданы) именно таким образом. И вот почему я не стану еще раз искушать тебя бежать со мной, как хотела тогда, когда увидела тебя, потому что это правда, Макумазан, ты единственный мужчина, которого я любила или когда-нибудь полюблю. И ты знаешь, если захочу, то смогу заставить тебя бежать со мной, несмотря на то что я черная, а ты белый. Да-да, уже вот этой самой ночью ты бы увез меня. Но я не стану. К чему затягивать тебя в мою несчастливую паутину и навлекать на тебя мои беды? Ступай своим путем, Макумазан, а я пойду своим — туда, куда несет меня ветер. А сейчас дай мне чашку воды, и я пойду… чашку воды, не более. О, не бойся и не расстраивайся так из-за меня, а то я расплачусь. Там, за той горой, меня ждут провожатые. Что ж, спасибо тебе за воду, Макумазан, и спокойной ночи. Мы обязательно встретимся снова, и довольно скоро. Да, забыла, Маленький Мудрец сказал, что хотел бы поговорить с тобой. Прощай, Макумазан, доброй ночи. Надеюсь, твоя сделка с моим отцом Умбези и моим мужем Масапо вышла удачной. Все гадаю: почему судьба распорядилась дать мне такого отца и такого мужа… Поразмысли над этим, Макумазан, расскажешь мне, когда встретимся вновь. Подари мне это милое зеркальце, Макумазан: я буду глядеться в него, видеть в нем себя и тебя и радоваться… так радоваться, как ты даже не представляешь… Благодарю тебя. Доброй ночи. Минуту спустя я уже глядел вслед одинокой маленькой фигурке, снова закутанной в плащ с капюшоном, пока она не скрылась за гребнем ущелья. И когда она исчезла, я почувствовал, как у меня подкатил комок к горлу. Несмотря на всю ее жестокость — а я думаю, Мамина была жестокой, — в ней было что-то чертовски привлекательное.После того как она ушла, забрав с собой мое единственное зеркало, а комок в горле улегся, я задумался, какое отношение к истине имели ее слова. Она так настойчиво уверяла, что поведала мне всю правду, что я не сомневался: главное она скрыла. А еще я вспомнил, что она упомянула, будто бы меня хочет видеть Зикали. И вот в тусклом свете луны я отправился в ущелье, настолько жуткое, что даже Скоул отказался сопровождать меня, объявив, что в ущелье том водятся призраки умерших, поднятые из могил колдунами. Прогулка вышла долгой и безрадостной. Я пребывал в каком-то угнетенном состоянии и чувствовал себя жалким и ничтожным, шагая между этими высоченными скалами. Я устало брел по тропе, то скупо обласканной холодным лунным светом, то укрытой непроглядной ночной темнотой, то пробираясь сквозь густые заросли кустарника, то огибая основания высоких, похожих на колонны нагромождений камней, пока не дошел до нависших над ущельем, в самой дальней его части, скал, насупившихся на меня, словно брови гигантского демона. В конце концов я очутился перед воротами крааля Зикали. Здесь меня встретил один из тех грозных великанов, которые служили у карлика стражами. Он внезапно вынырнул из-за камня, не говоря ни слова, оглядел меня с ног до головы и махнул мне рукой, давая знак следовать за ним, — будто только меня и поджидал. Через минуту я уже стоял перед Зикали: залитый лунным светом, карлик сидел перед своей хижиной и, похоже, занимался любимым делом — резьбой по дереву, орудуя примитивным ножичком причудливой формы. Некоторое время он будто не замечал меня, затем вдруг резко вскинул голову, отбросил назад свои седые космы и разразился громким смехом. — А, так это ты, Макумазан! — сказал он. — Я знал, что ты держишь путь неподалеку от меня и что Мамина пошлет тебя сюда. Но зачем ты пришел повидать Того, кому не следовало родиться? Поведать мне, как ты одолел буйвола с обломанным рогом, а? — Нет, Зикали, к чему, ты и так все знаешь. Мамина сказала, что ты хочешь говорить со мной. — Значит, Мамина солгала, — ответил он. — В этом она себе верна: у нее на каждое правдивое слово всегда сыщутся четыре лживых. Что ж, присаживайся, Макумазан. Вот здесь, у скамеечки, для тебя приготовлено пиво. Подай-ка мне на кончике своего ножа щепотку табаку белых людей, который ты принес мне в подарок. Я достал нож и табак и исполнил его желание, гадая, как же он узнал, что все это у меня при себе, и стоит ли у него об этом спрашивать. Понюшка, помню, весьма его порадовала, однако нож мой он обозвал игрушкой, добавив, что не представляет, как таким пользоваться. А потом мы завели разговор. — Что здесь делала Мамина? — напрямую спросил я. — А что она делала у твоих фургонов? — спросил в ответ Зикали. — О, не трудись отвечать, и так знаю. Ты мудр, как змея, Макумазан, и это всякий раз позволяет тебе проскальзывать меж ее пальцев, когда она пытается сжать их… Однако я не выдаю секретов тех, кто обращается ко мне за помощью. Вот тебе мой совет — отправляйся в крааль сына Сензангаконы и увидишь такие вещи, которые рассмешат тебя: там будет Мамина и этот полукровка Масапо, ее муж. Она и вправду ненавидит его, и, признаюсь, я сам предпочел бы, чтобы Мамина меня любила, чем ненавидела, хотя опасно и то и другое. Бедный полукровка! Совсем скоро шакалы будут глодать его кости. — Почему ты так говоришь? — удивился я. — Только потому, что Мамина говорит мне, что он великий колдун, а шакалы пожирают много колдунов по всей стране зулусов. К тому же он враг дома короля Панды, разве нет? — Ты посоветовал ей что-то дурное, Зикали, — невольно вырвалось у меня. — Может, так, а может, и нет, Макумазан. Только я бы назвал свой совет хорошим. У меня ведь собственный путь, так что же в этом плохого, если я хочу очистить его от колючек, чтобы не занозить ноги? К тому же Мамина, которой невмоготу жить среди амансома с ненавистным мужем, получит награду. Поезжай туда и наблюдай, а затем, когда выдастся свободное время, приедешь и расскажешь мне об увиденном, если, конечно, мне не случится побывать там самому. — С Садуко все хорошо? — спросил я, чтобы переменить тему, не желая быть посвященным в детали некоего заговора, который, как мне казалось, витал в воздухе. — Люди рассказывают, что его дерево растет бодро и уже бросает тень на весь королевский крааль. Думается мне, что Мамина мечтает спать под сенью того дерева. Что ж, ты, наверное, устал, как и я. Ступай к своим фургонам, Макумазан, сегодня мне больше нечего тебе сказать. Но потом непременно возвращайся рассказать, что происходит в краале Панды. Или же, как я уже говорил, мы можем встретиться с тобой там. Кто знает, кто знает… Как видно, ничего особо примечательного в этом моем разговоре с Зикали не было. Больше никаких секретов он мне не раскрыл и не изрек какого-либо важного пророчества. Можно даже задаться вопросом: коль особо нечего записывать, почему тогда я рассказываю здесь об этом? Мой ответ: из-за глубочайшего впечатления, которое разговор произвел на меня. Хотя сказано было так мало, меня не оставляло чувство, что те немногочисленные слова — лишь вуаль, скрывающая грядущие ужасные события. Я был уверен, что старый карлик и Мамина замыслили некую зловещую интригу, плоды которой вскоре станут очевидны, и что Зикали, как только узнал, что Мамина не проговорилась мне, поспешил отослать меня, опасаясь, как бы я ненароком не разгадал их плана и не помешал его выполнению. Во всяком случае, когда я возвращался к моим фургонам по этому жуткому ущелью, густой воздух знойной ночи, казалось, напитался запахом и вкусом крови, а влажная листва тропических деревьев, колеблемая легкими порывами ветра, стонала, словно призраки умерших или люди в предсмертной агонии. Эти впечатления настолько растревожили мои нервы, что, добравшись до своих фургонов, я весь трясся, как тростник, а лицо и тело покрывал холодный пот, что было довольно странно для такой жаркой ночи. Пара добрых глотков джина помогла мне успокоиться и в конце концов заснуть… чтобы проснуться до рассвета с головной болью. Выглянув из фургона, я, к своему удивлению, увидел Скоула и охотников, которые должны были еще дружно храпеть. Люди стояли тесной группкой и переговаривались испуганным шепотом. Я подозвал Скоула и спросил, что стряслось. — Ничего, хозяин, — ответил он смущенно. — Только это место кишмя кишит призраками. Они постоянно заходят в ущелье и выходят отсюда всю ночь напролет. — Да какие призраки, дурень! — ответил я. — Это люди ходят к ньянге Зикали. — Может, и так, хозяин, только вот нам непонятно, почему все они похожи на мертвецов, среди них, если судить по одеянию, есть и призраки умерших принцев, — и почему идут по воздуху на высоте человеческого роста от земли. — Вздор! Ты что, не знаешь, чем отличаются в тумане совы от призрачных принцев? Давай-ка собирайся, мы сейчас выезжаем, здесь воздух пропитан лихорадкой. — Слушаюсь, хозяин! — живо ответил он. Не припомню, чтобы когда-нибудь запрягали волов с такой скоростью, как в то утро. Я упомянул об этих пустяках лишь затем, чтобы показать, что Черное ущелье действовало не только на мою психику. В Нодвенгу я прибыл без происшествий, выслав вперед одного из охотников предупредить короля Панду о моем приезде. Недалеко от резиденции короля фургоны встретил не кто иной, как мой старый друг Мапута — тот, что вернул мне пилюли перед нашим нападением на Бангу. — Приветствую, Макумазан, — сказал он. — Король послал меня сказать, что он рад тебе, и велел указать хорошее место для стоянки. Также он дает тебе разрешение свободно торговать в его городе, поскольку знает, что торгуешь ты всегда честно. Я просил передать королю ответную благодарность, добавив, что привез ему скромный подарок, который передам, когда ему будет угодно принять меня. Затем я подарил Мапуте какую-то безделушку, чрезвычайно обрадовавшую его, и пригласил проехаться со мной в фургоне до места стоянки. Оно и впрямь оказалось вполне подходящим — небольшая, густо поросшая годной для скота травой долина, на которую по приказу короля не выгоняли пастись скот, с бегущим по ней чистым полноводным ручьем. Напротив — широкое открытое пространство перед главными воротами города, так что я мог видеть всех, кто въезжал и выезжал через них. — Здесь, Макумазан, — сказал Мапута, — тебе будет удобно расположиться. Стоянка, как мы надеемся, будет долгой, поскольку, хоть в Нодвенгу и ожидается большое скопление народу, король приказал, чтобы никто, кроме тебя и твоих слуг, не совал и носа в долину. — Благодарю короля! А по какому поводу соберется народ, Мапута? — О, что-то новое, — пожал он плечами. — Король призвал все племена зулусов на смотр. Кто говорит, что это придумал Кечвайо, другие — что Умбелази. Да только я думаю, что это дело рук не того и не другого, а Садуко, твоего старого приятеля, хотя зачем ему это, не знаю. Вот только, — с опаской добавил Мапута, — как бы не закончилось все кровопролитием между Большими братьями. — Что же, Садуко стал большим человеком? — Большим, Макумазан! Как дерево. Король скорее слышит его шепот, чем крики других. А еще Садуко стал таким заносчивым. И это тебе придется ждать его, Макумазан, потому что он тебя ждать не станет. — Вот как? — удивился я. — Валятся иногда и большие деревья… — Верно, Макумазан, — кивнул мудрой седой головой Мапута. — На моем веку много деревьев вырастало и… падало, ибо течение всегда одолеет самого сильного пловца. В любом случае торговля тебя ожидает успешная, и, что бы ни случилось, никто тебя не тронет, ведь здесь все любят тебя. А теперь прощай, пойду передам твой привет королю… Он, кстати, велел зарезать для тебя быка, дабы его гость не голодал. В тот самый вечер я увидел Садуко и других — об этом рассказ впереди. Я направился к королю и вручил ему свой подарок — чемоданчик с набором английских столовых ножей с костяными рукоятями. Ножи очень понравились Панде, хотя он понятия не имел, как ими пользоваться. В самом деле, без парных к ним вилок ножи представляли собой лишь бесполезные предметы. Старого короля я нашел очень уставшим и обеспокоенным, но, поскольку его окружали индуны, поговорить с глазу на глаз нам не удалось. Видя, что король занят, я ушел при первой представившейся возможности, но когда возвращался к себе, встретил — кого бы вы думали? — Садуко. Еще издалека я увидел его приближающимся к внутренним воротам с внушительным хвостом свиты, словно особу королевской семьи, и тотчас понял, что и он заметил меня. В считаные секунды обдумав план действий, я пошел прямо на Садуко, вынуждая его уступить мне дорогу, чего ему явно не хотелось делать в присутствии стольких людей. Я прошел мимо него, будто он был мне чужой. Как я и предполагал, такое обращение дало желаемый эффект, поскольку после того, как мы разошлись, Садуко повернулся и сказал: — Неужели не узнаешь меня, Макумазан? — Кто зовет меня? — воскликнул я. — А, приятель, твое лицо кажется мне знакомым. Как твое имя? — Ты забыл Садуко? — обиженным голосом спросил он. — О нет, конечно нет! — ответил я. — Вот теперь я тебя узнаю, правда, ты немного изменился с тех пор, когда мы охотились и сражались вместе: похоже, ты раздобрел. Надеюсь, у тебя все хорошо, Садуко? Что ж, до свидания. Мне пора возвращаться к моим фургонам. Если захочешь видеть, можешь найти меня там. Должен добавить, что мои слова буквально ошеломили Садуко: он не нашелся что ответить, даже когда старый Мапута, вместе с которым я шел, и некоторые другие захихикали. Ничто не доставляет зулусам большего удовольствия, чем видеть, как в их присутствии осаждают выскочку. Пару часов спустя, когда садилось солнце, я с удивлением увидел приближающегося к моим фургонам Садуко в компании женщины, в которой я сразу узнал его жену, принцессу Нэнди, — на руках она несла прелестного маленького мальчика. Я встал, поприветствовал Нэнди и предложил ей свой походный складной стул, но, недоверчиво оглядев его, она отказалась и предпочла усесться на землю, как это делают все туземцы. Тогда я забрал стул себе и, не раньше чем устроился на нем, протянул руку Садуко, который на этот раз был скромен и вежлив. Мы разговорились, и исподволь, не выказывая особого интереса, я узнал длинный перечень благ, которыми было угодно Панде осыпать Садуко за последний год. Они и вправду были существенными, — например, как если бы в Англии некий провинциальный джентльмен без гроша за душой в такой же краткий период времени сделался бы пэром, владеющим большими поместьями. Когда Садуко закончил перечисление, он сделал паузу, по-видимому ожидая моих поздравлений. Но я сказал лишь следующее: — Клянусь Небесами, мне жаль тебя, Садуко! Сколько же врагов ты себе нажил! И как же долго тебе придется падать! — Скромной Нэнди пришлись по душе мои слова, и она тихонько засмеялась. Мне показалось, что ее смех понравился Садуко больше, чем мой сарказм. — Вижу, — продолжил я, — что в твоей семье появился ребенок, а это куда лучше всех этих титулов. Могу я взглянуть на него, инкосазана?[263] Нэнди счастливо просияла, и мы подошли посмотреть на малыша, которого она, по-видимому, любила больше всего на свете. Пока мы любовались ребенком и непринужденно болтали о нем, а Садуко сидел в сторонке и, похоже, дулся, неожиданно появились Мамина и ее тучный, угрюмый муж, вождь Масапо. — О Макумазан, — воскликнула Мамина, словно не замечая никого вокруг, — как я рада видеть тебя спустя почти долгий год! Раскрыв от удивления рот, я воззрился на нее. Затем опомнился, решив, что она, наверное, оговорилась, назвав годом неделю. — Двенадцать месяцев! — продолжила она. — И поверь, Макумазан, ни один из них не проходил, чтобы я несколько раз на дню не думала о тебе, гадая, суждено ли нам встретиться вновь. Где же ты был все это время? — Побывал во многих местах, — ответил я. — Среди них и Черное ущелье, где я встретился с колдуном Зикали и потерял свое зеркало. — Вот как! О, я частенько мечтаю побывать у него. Жаль, это невозможно: говорят, он не принимает женщин. — Чего не знаю, того не знаю, — сказал я. — Но может, для тебя он сделает исключение. — Я попробую, — тихонько проговорила она. Я же замолчал, не понимая, что происходит. Когда я немного пришел в себя, то услышал, как Мамина тепло приветствует Садуко и поздравляет его с успехами и повышением, которое она всегда предвидела. Эта оговорка, похоже, сильно смутила Садуко: он не нашелся что ответить. К тому же я заметил, что он не в силах был оторвать глаз от красивого лица Мамины. Несколько мгновений позже он будто впервые заметил Масапо и мгновенно преобразился: спина выпрямилась, лицо обрело надменное и даже грозное выражение. Услышав приветствие Масапо, он повернулся к нему и сказал: — Что я слышу? Вождь амансома желает доброго дня умфоказе и шелудивой гиене? С чего бы? Не потому ли, что неблагородный умфоказа вдруг сделался благородным, а шелудивая гиена обзавелась тигровой шкурой? — Он свирепо глянул на Масапо, как настоящий тигр. Я не расслышал ответа Масапо. Пробормотав что-то неразборчивое, он повернулся уходить и при этом — уверен, нечаянно — врезался в Нэнди: упав навзничь, она выпустила из рук ребенка, и тот довольно сильно, до крови, ударился головкой о камень. Садуко прыгнул на Масапо и огрел того по спине небольшой тростью, которую нес в руке. Масапо на мгновение остановился, и я решил: быть схватке. Если и был у Масапо порыв дать сдачи, он тотчас угас: не сказав ни слова и даже видом своим не выказывая возмущения нанесенным оскорблением, он с места перешел на неуклюжий бег и скрылся в вечерних тенях. Мамина же, наблюдавшая за этой сценой, рассмеялась. — Пф-ф! Муж мой велик, да труслив, — сказала она. — Однако уверена, он толкнул тебя случайно, женщина. — Ты говоришь со мной, жена Масапо? — спросила с кротким достоинством Нэнди, поднявшись на ноги и взяв на руки пострадавшего малыша. — Если так, то обращаться ко мне следует не иначе как инкосазана Нэнди, дочь Черного владыки и жена господина Садуко. — Прости меня, — покорно и с почтением ответила Мамина, явно испугавшись. — Я не знала, кто ты, инкосазана. — Твое извинение принято, жена Масапо. Макумазан, прошу тебя, дай мне воды обмыть голову ребенка. Воду принесли, и вскоре, когда стало ясно, что малыш в порядке и на голове осталась лишь царапина, Нэнди поблагодарила меня и удалилась к своим хижинам, на прощанье сказав с улыбкой мужу, чтобы не провожал ее, поскольку у ворот крааля ее дожидаются слуги. В итоге Садуко и Мамина остались со мной. Садуко долго говорил — у него накопилось много того, что он хотел бы поведать мне, но я все время чувствовал, что его сердце было не со мной, а с Маминой, которая сидела с нами, загадочно улыбаясь и лишь время от времени вставляя словечко, будто извинялась за свое присутствие. В конце концов она поднялась и со вздохом сказала, что должна возвращаться в лагерь амансома, чтобы позаботиться об ужине Масапо. Уже почти совсем стемнело, и, помнится, время от времени небо подсвечивали молнии — приближалась буря. Как я и пред полагал, Садуко тоже встал, сказав мне, что мы увидимся завтра, и удалился вместе с Маминой. Он шел словно во сне. Несколько минут спустя мне пришлось оставить свои фургоны, чтобы осмотреть одного из волов, проявлявшего признаки какой-то болезни и из предосторожности привязанного немного поодаль от остальных. По привычке охотника двигаясь тихо, я дошел до того места, где за зарослями акации было привязано животное. Едва я достиг тех зарослей, широкий сполох молнии осветил все вокруг, и я увидел Садуко: сжимая в объятиях прильнувшую к нему Мамину, он страстно целовал ее. Я развернулся и пошел к своим фургонам, ступая еще тише, чем по пути сюда. Должен добавить, утром я выяснил, что с тем моим волом ничего серьезного не было.
Глава 10
Глава 11
ГРЕХ УМБЕЛАЗИ
Прошло почти полтора года, и осенью 1856 года я вновь очутился в краале Умбези, где намечалась многообещающая сделка по продаже огнестрельного оружия. Что ж, как торговец, я не мог себе позволить пренебречь рынками, найти которые довольно сложно, и потому прибыл сюда. Должен признаться, за эти восемнадцать месяцев многое в моей памяти подернулось дымкой забвения, в особенности воспоминания, имевшие отношение к туземцам, к которым я в основном проявляю лишь философский и деловой интерес. Поэтому, надеюсь, мне не поставят в вину тот факт, что я позабыл большую часть подробностей «дела Мамины», как я его называю. Впрочем, едва ли не все эти подробности живо воскресли в моей памяти, когда первым встреченным мною неподалеку от крааля Умбези человеком оказалась именно красавица Мамина. Нисколько не изменившаяся и все такая же обворожительная, она сидела в тени дикой смоковницы, обмахиваясь ее листьями. Я соскочил с кузова моего фургона и помахал ей рукой в знак приветствия. — Сийякубона, Макумазан, — сказала она. — Сердце мое радо снова видеть тебя. — Сийякубона, Мамина, — ответил я, опустив упоминание о том, радо ли мое сердце. Затем, не сводя с нее глаз, добавил: — Правду ли говорят, что у тебя новый муж? — Правду, Макумазан. Мой прежний возлюбленный теперь стал моим мужем. Ты знаешь, о ком я, — о Садуко. После смерти злодея Масапо он проходу мне не давал, а король и инкосазана Нэнди так уговаривали меня, что я согласилась. К тому же Садуко, честно говоря, подходящая партия… или казался таковым. К этому времени мы с ней уже шагали бок о бок, поскольку фургоны мои ушли вперед к месту старой стоянки. Я остановился и взглянул на нее. — Казался? — повторил я. — Что ты хочешь этим сказать? Почему «казался»? Ты снова несчастлива? — И да и нет, Макумазан. — Она пожала плечами. — Садуко обожает меня больше, чем… мне хотелось бы, поскольку из-за этого он пренебрегает Нэнди, которая, между прочим, родила ему второго сына, и хотя Нэнди — молчунья, я чувствую, что она сердится. Короче говоря, — невольно вырвалось у нее, — я всего лишь игрушка. А Нэнди — знатная госпожа, и такое положение меня совсем не устраивает. — Мамина, если ты любишь Садуко, тебе должно быть все равно. — Люблю, — горько обронила она. — Пф! А что такое любовь?.. Но этот вопрос я тебе уже когда-то задавала. — Почему ты здесь, Мамина? — спросил я, не ответив на ее вопрос. — Потому что здесь Садуко и, конечно же, Нэнди, ведь она никогда не покидает его, а он никогда не оставляет меня. А еще — потому что ожидается приезд принца Умбелази. И потому, что плетутся заговоры и грядет большая война, в которой погибнет очень много народу. — Между Кечвайо и Умбелази? — Да, между Кечвайо и Умбелази. Для чего, ты думаешь, твои фургоны так загружены ружьями, за которые будет уплачено столько голов скота? Не для охоты же, верно? Нынче этот маленький крааль моего отца превратился в штаб исигкоза, то есть приверженцев Умбелази, а крааль Гикази стал штабом узути, партии принца Кечвайо. Бедный мой отец! — добавила она, сопроводив вздох характерным пожатием плечами. — Воображает себя великим человеком, прямо как тогда, когда он застрелил слона на охоте с тобой, Макумазан, — но я частенько спрашиваю себя, чем же все это закончится — для него и всех нас. И для тебя в том числе. — Для меня? — изумился я. — А я-то какое отношение имею к вашим зулусским распрям? — Это ты узнаешь, когда покончишь с ними, Макумазан. Но вот мы и пришли, и, прежде чем мы войдем в крааль, я хотела бы поблагодарить тебя за то, что ты попытался защитить моего несчастного мужа Масапо. — Я сделал это лишь потому, что считал его невиновным. — Знаю, Макумазан. Я тоже так считала, хотя всегда ненавидела его — о чем я тебе, конечно, говорила, — человека, выйти за которого меня заставил отец. Однако с той поры я кое-что узнала и теперь уже не думаю, что Масапо так уж невиновен. Ведь Садуко ударил его, и он мог затаить зло. Но вот чего я никак не возьму в толк, — добавила она в порыве откровенности, — так это почему он убил не Садуко, а его ребенка. — Но ведь говорят, Масапо пытался убить Садуко, помнишь, Мамина? — Да, Макумазан. Я и забыла. Он действительно пытался, но ему не удалось. О, теперь я словно прозрела на оба глаза. Гляди, вон идет отец. Я лучше пойду. Но ты приходи хоть иногда поговорить со мной, Макумазан, а то Нэнди старается держать меня в полном неведении о том, что творится вокруг, ведь я всего лишь красивая игрушка королевского дома, которой положено сидеть и улыбаться, но не думать. И она оставила меня под впечатлением, что вне зависимости от того, насколько правдива была ее история, успех в жизни как будто не сделал Мамину более счастливой и довольной. Размышляя об этом, я зашагал навстречу старому Умбези. Пребывая в отличном настроении и преисполненный важности, он тем не менее тепло приветствовал меня. Он сообщил, что свадьба Мамины и Садуко после смерти ее мужа-колдуна — чье племя и скот были переданы Садуко как компенсация за потерю сына — стала для него благоприятнейшим событием. Я спросил почему. — Потому что Садуко становится большим человеком, а значит, и я, его тесть, становлюсь большим человеком вместе с ним, Макумазан. Кстати, Садуко стал мне благоволить и сделал очень щедрый подарок — часть стада Масапо, и вот я, так долго бедствовавший, наконец разбогател. Кроме того, Умбелази оказал мне честь и завтра посетит мой крааль вместе с несколькими своими братьями, а Садуко пообещал мне повышение после того, как наследником престола объявят сына короля. — Какого сына? — спросил я. — Умбелази, кого же еще? Умбелази, который, вне всякого сомнения, победит Кечвайо. — Почему же «вне всякого сомнения», Умбези? У Кечвайо много сторонников, и если победит он, то, боюсь, повышение твое будет не выше зоба стервятника. От моего грубого намека жирная физиономия Умбези вытянулась. — О Макумазан, если бы я так думал, я бы перешел на сторону Кечвайо, хотя Садуко и зять мне. Однако это невозможно, потому что король любит мать Умбелази больше всех своих жен и, как я ненароком узнал, поклялся ей поддерживать Умбелази, самого любимого своего сына, и помогать ему во всем, вплоть до отправки ему собственного полка, если вдруг понадобится подкрепление. А еще говорят, Зикали Мудрый предсказал, что Умбелази победит и получит больше, чем надеется. — Король, — вздохнул я, — лишь соломинка, которую гоняют два великих ветра — один влево, другой вправо — в ожидании, когда же ее унесет и упокоит тот, кто окажется сильнее! Предсказание Зикали! Его, как мне видится, можно толковать и так и эдак, если, конечно, оно вообще было, это предсказание. Что ж, Умбези, надеюсь, ты прав, хоть это и не мое дело, ведь в вашей стране я всего лишь белый торговец. Но признаюсь, сам я люблю Умбелази больше, чем Кечвайо, и считаю, что сердце у него доброе. И вот еще что: раз уж ты стал на его сторону, мой тебе совет — держись и впредь исигкоза, то есть приверженцев Умбелази, поскольку предатель почти всегда заканчивает плохо, независимо от того, победил онили проиграл… Ну что, будешь считать ружья и порох, которые я привез? Ах, лучше бы Умбези послушался моего совета и остался преданным выбранному им предводителю: даже потеряв жизнь, он, по крайней мере, сохранил бы свое доброе имя! На следующий день я отправился засвидетельствовать свое почтение Нэнди. Она нянчила своего малыша и показалась мне такой же, как прежде, — полной спокойного достоинства. И все же, думаю, принцесса была рада видеть меня, ведь я пытался спасти жизнь ее первенца, забыть которого она не могла. Во время нашего разговора о том печальном событии, а также о политической обстановке в стране, о которой, как мне показалось, она хотела что-то сообщить мне, в хижину вошла Мамина и, не дожидаясь приглашения, села. Нэнди сразу замолчала. Однако это ничуть не смутило Мамину: она тотчас завела со мной разговор обо всем и ни о чем, абсолютно игнорируя главную жену. Некоторое время Нэнди терпеливо сносила это, затем, наконец воспользовавшись паузой в нашем разговоре, сказала Мамине тихо, но твердо: — Дочь Умбези, это моя хижина, и ты очень хорошо помнишь об этом, когда возникает вопрос, кого посетит наш муж Садуко, тебя или меня. Не могла бы ты вспомнить об этом сейчас, когда я беседую с белым вождем, Бодрствующим в ночи, который был так добр взять на себя труд посетить меня? Едва заслышав эти слова, Мамина вскочила в ярости. Должен признаться, никогда я не видел ее более прекрасной, чем в то мгновение. — Ты оскорбляешь меня, дочь Панды! И при каждом удобном случае делаешь это, потому что завидуешь! — Прости, сестра, — ответила Нэнди. — Почему же я, инкози-каас Садуко и, как ты говоришь, дочь короля Панды, должна завидовать тебе, вдове колдуна Масапо и дочери вождя Умбези, которую моему мужу было угодно взять в свой дом, чтобы разделять с ней свой досуг? — Почему? Да потому, и ты это прекрасно знаешь, что Садуко любит мой мизинец больше, чем все твое тело, хоть ты и королевской крови и родила ему сопляков, — огрызнулась она, бросив недобрый взгляд на младенца. — Может, и так, дочь Умбези, у мужчин свои прихоти, а ты, спору нет, красива. Однако спрошу у тебя вот что. Если Садуко так тебя любит, почему же он так мало тебе доверяет: чтобы узнать о каком-либо важно деле, тебе приходится подслушивать у моих дверей, как, например, на днях, когда я застала тебя за этим занятием? — Потому что это ты, Нэнди, подговариваешь его не доверять мне. Это ты шепчешь ему не искать моего совета, мол, предавшая первого мужа предаст и второго. Потому что ты внушаешь ему, что я лишь забава для него, но не товарищ, и это, несмотря на то что я умнее тебя и всех твоих родственников королевских кровей, вместе взятых… в чем ты, придет день, убедишься. — Верно, — невозмутимо отвечала Нэнди. — Именно я внушаю ему все это и рада, что Садуко прислушивается ко мне. Но вообще-то, у него своя голова на плечах. И ты, похоже, права: когда-нибудь ты принесешь мне много неприятностей, дочь Умбези. Однако сейчас не дело нам с тобой ссориться перед этим белым господином, поэтому повторяю тебе: это моя хижина, в которой я хочу говорить с моим гостем наедине. — Да ухожу я, ухожу, — прошипела Мамина. — Но учти, Садуко непременно узнает обо всем. — Разумеется, узнает, ведь сегодня вечером он придет ко мне, и я сама ему все расскажу. Мамина выскочила из входного отверстия хижины, как кролик из норы. — Прошу прощения, Макумазан, за то, что здесь произошло, — сказала Нэнди. — Но было просто необходимо указать моей сестре Мамине ее место. Я не доверяю ей, Макумазан. У меня такое чувство, будто о смерти моего сына она знает больше, чем говорит. Ведь она мечтала избавиться от Масапо — ты, наверное, догадываешься почему. Думаю, она принесет несчастье и навлечет позор на голову Садуко. Она околдовала его своей красотой, как околдовывает всех мужчин… быть может, немного и тебя, Макумазан… Давай поговорим о чем-нибудь другом. Я охотно согласился с этим предложением, и мы завели разговор о положении в стране и об опасностях, грозивших всем, и в особенности королевскому дому. Положение дел очень тревожило Нэнди; у нее была светлая голова, и она с опаской взирала на будущее. — Ах, Макумазан, — проговорила она, когда мы уже прощались, — как бы мне хотелось быть женой простого человека, который не рвется стать великим. А еще — чтобы в моих жилах не текла королевская кровь. На следующий день приехал принц Умбелази, а с ним — Садуко и несколько знатных зулусов. Прибыли они без помпы и шума, хотя мой слуга Скоул рассказал мне, что, по слухам, кусты в лесочке неподалеку отсюда кишат солдатами, приверженцами партии исигкоза. Если память не изменяет мне, свой приезд принц объяснил якобы желанием приобрести у Умбези бычков и телок редкой белоголовой породы с целью улучшить свое стадо. Однако, оказавшись внутри крааля, Умбелази, будучи человеком открытым, не стал притворяться, и, сердечно поприветствовав меня, рассказал без обиняков, что прибыл сюда потому, что место это самое удобное для объединения его сторонников. В течение последующих двух недель почти каждый час прибывали и убывали посланники, многие из которых были переодетыми вождями. Я бы и сам охотно последовал их примеру, то есть уехал бы, ибо чувствовал, что меня втягивают в водоворот опаснейших событий. Но дело в том, что уехать я не мог, поскольку был вынужден дожидаться оплаты за мои товары, а платили мне в этот раз, как и всегда, скотиной. В те дни Умбелази часто вел со мной долгие разговоры, подчеркивая свое дружеское расположение к англичанам Наталя, в отличие от буров, которое он обещал проявить на деле, когда достигнет верховной власти в стране зулусов. Во время одной из наших бесед он впервые познакомился с Маминой. Мы прогуливались с ним по небольшой лесной просеке, когда на ее дальнем конце вдруг показалась Мамина. Освещенная лучами заходящего солнца, она напоминала нимфу из волшебной сказки: из одежды на ней были только меховая набедренная повязка, ожерелье из голубых бус и несколько медных браслетов; на голове она несла кувшин из тыквы. Умбелази тотчас заметил ее и, оборвав разговор о политике, явно утомивший его, спросил меня, кто эта красивая интомби (то есть девушка). — Она не интомби, принц, — ответил я. — Это вдова, вновь ставшая женой — второй женой твоего друга и советчика Садуко. Она дочь твоего слуги Умбези. — Вот оно что! О, значит, я слышал о ней прежде, но никогда не видел. Неудивительно, почему сестра Нэнди так ревнует Мамину, она же настоящая красавица! — Да, — ответил я. — И прекрасно смотрится на фоне багрового неба, не правда ли? К этому времени мы уже приблизились к Мамине, и я, поприветствовав ее, спросил, не нужно ли ей чего-нибудь. — Ничего не нужно, Макумазан, — тихонько и скромно ответила она (в жизни своей не приходилось мне встречать женщины, способной прикидываться такой скромницей, как Мамина) и стрельнула робким взглядом в сторону высокого и красивого Умбелази. — Разве что… Я шла с молоком от одной из тех немногих коров, что дал мне отец, увидела тебя и подумала, быть может, тебе захочется пить, ведь день сегодня такой жаркий. Сняв с головы кувшин, Мамина протянула его мне. Не в силах отказаться, я поблагодарил ее, сделал несколько глотков и вернул кувшин. Мамина притворилась, что спешит уходить. — А мне позволишь напиться, дочь Умбези? — спросил Умбелази, не отрывавший от нее глаз. — Конечно, господин, если ты друг Макумазана, — ответила она, передавая ему кувшин. — Именно так, госпожа, и даже более того: я еще и друг твоего мужа Садуко. Ты, должно быть, слышала обо мне. Мое имя Умбелази. — О, я так и подумала, — ответила Мамина. — Догадалась… по твоему росту. Да примет принц подношение от своей слуги, которая надеется когда-нибудь стать его подданной. — И, припав на одно колено, она протянула принцу кувшин. Я заметил, как встретились над его краем их глаза. Умбелази попил, и, когда вернул кувшин, Мамина сказала: — О принц, дозволь поговорить с тобой наедине! Мне необходимо сообщить тебе кое-что важное, чего, возможно, ты еще не слышал, ведь порой ушей простых женщин достигает то, что ускользает от слуха мужчин, наших властелинов. Убмелази склонил голову в знак согласия. Я же, повинуясь намеку, посланному мне взглядом Мамины, пробормотал что-то о неотложных делах и поспешно удалился. Добавлю только, что Мамине, вероятно, надо было много о чем поведать Умбелази. Минуло верных полтора часа, судя по свету луны, когда я по старой привычке высунулся из фургона, дабы оглядеться, все ли в лагере тихо, и увидел Мамину, которая, словно змея, проскользнула назад в крааль, проследовав на небольшом расстоянии за высоченным силуэтом Умбелази. Видимо, и после этого Мамина продолжала выступать в роли посредника по передаче информации, которую считала нужной сообщать принцу по секрету. Как бы то ни было, не раз я, коротая скучные вечера в своем фургоне, любовался ее точеной фигуркой, скользящей домой из ущелья, которое Умбелази, похоже, счел удобным местом для своих с нею встреч. Помню, в один из последних таких вечеров свидетелем ее возвращения оказалась Нэнди, приходившая ко мне за лекарством для ребенка. — Что это значит, Макумазан? — спросила она меня, когда эти двое скрылись, как им показалось, незамеченными: мы с Нэнди стояли в таком месте, откуда они не могли нас видеть. — Не знаю и знать не хочу, — ответил я довольно резко. — И я не знаю, Макумазан, но со временем, уверена, мы все узнаем. Если крокодил терпелив и осторожен, олень неизменно окажется у него в зубах. На следующий день после того, как Нэнди произнесла эти слова, Садуко отправился с миссией, как я понял, склонить несколько колеблющихся вождей на сторону Слона с хохолком, как называли принца Умбелази зулусы. Он отсутствовал десять дней, а за это время в краале Умбези произошло значительное событие. Как-то вечером ко мне пришла Мамина. Она была в ярости и заявила, что жизнь ее сделалась просто невыносимой. Нэнди, злоупотребляя своим благородным происхождением и рангом старшей жены, обращается с ней как с прислугой… нет, скорее даже как с собачонкой, которую гоняют палкой. Она желала Нэнди смерти. — Я буду очень горевать, если она умрет, — ответил я. — Ведь тогда, наверное, снова, как в недалеком прошлом, призовут разбираться Зикали. — Что же делать, что делать, — продолжала убиваться Мамина, будто не услышав меня. — Расхлебывать кашу, которую заварила, — предложил я. — Незачем было выходить за Садуко, как, впрочем, и за Масапо. — Как можешь ты так говорить со мной, Макумазан? — топнула ногой Мамина. — Ты же знаешь, что это по твоей милости я вышла за первого встречного! Пф! Ненавижу их всех! А отец, если пойду ему плакаться, только поколотит меня. Лучше сбегу куда-нибудь в глушь, стану знахаркой. — Боюсь, это занятие покажется тебе очень скучным, Мамина… — шутливым тоном начал было я, посчитав, что сейчас, когда она в таком состоянии, лучше не выказывать ей особого сочувствия. Мамина не дождалась конца моей фразы и, с рыданиями крикнув, что я вероломный и жестокий, повернулась и убежала. О, знать бы мне в тот момент, где и при каких обстоятельствах нам суждено было встретиться вновь! Наутро, сразу после рассвета, меня разбудил Скоул, которого я накануне вечером отправил вместе с другим человеком на поиски заблудившегося вола. — Что, нашли вола? — спросил я. — Нашли, хозяин, но разбудил я тебя не за этим. Я принес тебе сообщение от Мамины, жены Садуко, которую встретил часа четыре назад там, за долиной. Я велел ему рассказывать. — Вот ее слова, хозяин: «Скажи Макумазану, твоему господину, что Слон с хохолком, любя меня всем сердцем, сжалился над моими бедами и предложил взять меня в свой дом, а я приняла его предложение, поскольку, думаю, будет лучше стать когда-нибудь инкосазаной зулусов, а я непременно ею стану, чем оставаться служанкой в доме Нэнди. Передай Макумазану: когда вернется Садуко, пусть скажет ему, что это все из-за него, ведь укажи он Нэнди ее место, я бы скорее умерла, чем оставила его. А еще пусть скажет Садуко, что, хотя отныне мы с ним можем быть не более чем друзьями, в сердце моем любовь к нему по-прежнему жива и что день и ночь я буду стремиться подпитывать его величие, дабы оно могло вырасти в дерево, которое укроет тенью землю. Пусть Макумазан попросит его не сердиться на меня, потому что я поступаю так ради его блага, иначе не будет ему счастья, пока Нэнди и я живем в одном доме. Но самое главное, пусть он не сердится на принца, который любит и ценит его больше всех мужчин и лишь следует за ветром, которым дышу я. Попроси Макумазана не думать обо мне плохо, а я буду вспоминать о нем добрым словом, пока живу на свете». Молча выслушал я это невероятное сообщение, а затем спросил Скоула, была ли Мамина одна. — Нет, хозяин. С ней были Умбелази и несколько солдат, но слов ее не слышал никто, потому что мы с ней отошли в сторонку. А потом она вернулась к ожидавшим ее, и они растворились в ночи. — Отлично, Скоул, — похвалил я слугу. — Свари-ка мне кофе покрепче. Я оделся, выпил несколько чашек кофе, не переставая «думать моей головой», как говорят зулусы. Затем я отправился в крааль повидаться с Умбези — тот как раз выбирался из своей хижины, позевывая. — Отчего ты такой мрачный в это прекрасное утро? — поинтересовался добродушный старый плут. — Потерялась твоя лучшая корова или что-то случилось? — Нет, друг мой, — ответил я. — Это ты и кое-кто еще потеряли свою лучшую корову. — И слово в слово я пересказал ему сообщение Мамины. Когда я закончил, то испугался, что Умбези лишится чувств. — Будь она проклята, эта Мамина! — заметался он. — Клянусь, отцом ее был не я, а какой-нибудь злой дух, не зря же ее прозвали Дитя Бури! И что мне теперь делать, Макумазан? Благодарение моему духу, — добавил он со вздохом облегчения, — она ушла слишком далеко и мне ее уже не догнать, да если и догоню, солдаты Умбелази прикончат меня. — А что сделает Садуко, если не догонишь? — О, Садуко страшно рассердится, ведь он обожает ее. Но в конце концов, это мне не внове. Помнишь, как он рвал и метал, когда она вышла за Масапо? Сейчас-то он не может сказать, что это я надоумил ее сбежать с Умбелази. Пусть сами разбираются. — Боюсь, быть большой беде, — сказал я. — И это тогда, когда беда эта совсем ни к чему. — Что ты, Макумазан, какая беда? Просто моя дочь не ужилась с принцессой Нэнди — мы все видели это, они почти не разговаривали друг с другом. Да, Садуко любит ее, это так, но в Зулуленде много красивых женщин. Я знаю одну или даже двух таких красавиц, о которых непременно расскажу Садуко… а лучше расскажу Нэнди. Знаешь, судя по тому, как у них шли дела, он, возможно, и сам будет рад освободиться от нее. — Но что ты думаешь об этой истории как ее отец? — спросил я, желая понять, как далеко простирается его мораль приспособленца. — Как ее отец… Если честно, то мне жаль, потому что опять пойдут пересуды, как тогда, из-за Масапо, помнишь? И все же надо отдать должное Мамине, — добавил он, просветлев лицом. — Она всегда стремится вверх, а не вниз. Когда избавилась от Масапо, в смысле, когда его казнили за колдовство, она вышла за Садуко, человека более значимого, за которого не пошла замуж тогда, когда Масапо был богаче. А теперь, отделавшись от Садуко, она вошла в семью Умбелази, будущего короля зулусов, величайшего человека на свете, а это значит, что она станет самой знатной женщиной, ведь она, попомни мои слова, Макумазан, так окрутит великого Умбелази, что тот будет думать только о ней одной, и ни о ком другом. Да-да, Мамина станет великой и потянет за собой наверх своего бедного старого отца. Да, Макумазан, хоть солнышко еще прячется за тучами, давай немного обождем, мы ведь знаем: совсем скоро оно покажется из-за них. — Все так, Умбези, однако порой за тучами, помимо солнца, скрывается и кое-что другое — молния, например… А молния убивает. — Слова твои могут накликать беду, Макумазан, от них у меня пропадает аппетит, а в этот час он у меня отменный. Не моя вина в том, что Мамина дурная, ведь когда я растил ее, то учил быть хорошей… А что это ты журишь меня, — вдруг добавил он с неожиданной резкостью, — когда сам виноват в случившемся? Если бы ты сбежал с ней, когда она звала, не было бы теперь никаких неприятностей. — Может, и не было бы, — ответил я. — Да только поступи я так, к этому времени я был бы уже покойником… что в скором времени ожидает всех тех, кто имеет к ней отношение. Что ж, Умбези, приятного тебе завтрака. На следующее утро Садуко вернулся и узнал новости от Нэнди, которую я старательно избегал. Тем не менее мне все же пришлось при этом присутствовать как человеку, которому многогрешная Мамина прислала свой прощальный привет. Видеть реакцию Садуко было больно, впрочем, всех подробностей той сцены я не помню. Узнав правду, какое-то время Садуко сидел словно окаменев, глядя перед собой, с лицом будто враз постаревшим. Затем он повернулся к Умбези и бросил ему несколько страшных слов, обвинив его в том, что это будто бы он все устроил, преследуя личную выгоду ценою бесчестия дочери. Затем, не слушая пространных объяснений своего бывшего тестя, поднялся и объявил, что убьет Умбелази — злодея, похитившего у него жену при нашем общем попустительстве, — и резким взмахом руки указал на Умбези, Нэнди и меня. Этого я уже не мог стерпеть и, тоже поднявшись на ноги, попросил Садуко объясниться, добавив раздраженно, что, если бы я хотел украсть у него красавицу Мамину, давно бы уже сделал это, — слова мои слегка ошеломили его. Нэнди тоже поднялась и заговорила, как обычно, негромким и ровным голосом: — Муж мой Садуко! Я, дочь короля зулусов, вышла замуж за тебя, человека не королевской крови, лишь потому, что любила тебя. Не было никаких других причин, и меня совсем не волновало то, что свадьбы этой хотели король Панда и принц Умбелази. Я оставалась тебе верна в трудные минуты, даже когда ты привел в семью вдову колдуна, если, конечно, она сама не была колдуньей, в чем у меня есть причина ее подозревать. И хотя тот колдун убил нашего сына, ты стал бывать в ее хижине чаще, чем в моей. Теперь эта женщина, занимавшая все твои думы, оставила тебя ради твоего друга и моего брата, принца Умбелази — Умбелази, которого зовут Красивым и который, если ему будет сопутствовать удача в войне, наследует Панде, моему отцу. Она сделала это якобы из-за того, что я, твоя инкози-каас и дочь короля, обращалась с ней как с прислугой. Это ложь, поскольку я лишь указывала ей ее место, не более того (потому что жены колдунов перенимают их искусство). И это стало предлогом, по которому она бросила тебя, но не истинной причиной. Мамина оставила тебя, потому что принц, мой брат, которого она одурачила и обворожила своей красотой, как она делает это с другими или пытается… — Нэнди мельком глянула на меня. — Потому что мой брат знатнее и богаче тебя. Ты, Садуко, можешь стать большим человеком, и я всем сердцем желаю тебе этого, но брат мой может стать королем. Она не любит его больше, чем любила тебя, но она любит то положение, которого он может достигнуть, а с ним и она, ведь Мамина всегда мечтает быть главной самкой в стаде. Муж мой, думаю, это хорошо, что ты избавился от Мамины: останься она с нами, смерть еще не раз пришла бы в наш дом и унесла бы меня, что не так важно, а может, и тебя, что очень важно. Слова эти я говорю тебе не из ревности или зависти к той, что красивее меня, а потому, что в них заключается правда. Поэтому вот мой тебе совет: не предпринимай ничего и постарайся поскорее все забыть. А главное — не пытайся отомстить Умбелази, потому что я уверена, месть уже поселилась в его собственной хижине. Я все сказала. Простая и разумная речь Нэнди произвела на Садуко большое впечатление, однако он лишь ответил: — Отныне пусть никто при мне не произносит имени Мамины. Мамина умерла. И с тех пор имя Мамины не произносилось в семьях Садуко и Умбези, а когда все же появлялась необходимость упомянуть эту женщину, ее называли новым именем, составным зулусским словом «О-ве-Зулу», так, кажется, оно звучало, что переводится «Дитя Бури», потому что «зулу» означает как бу рю, так и небо. Не припомню, чтобы Садуко говорил со мной о Мамине до кульминации этой моей истории, а сам я, конечно же, никогда не упоминал о ней. Но с того дня я стал замечать, что он очень переменился. От прежней его гордости и открытого довольства собственными успехами, за которые зулусы прозвали его Самоедом, не осталось и следа. Он сделался безучастен и неразговорчив, каким бывает человек, глубоко погруженный в свои мысли, но тщательно их скрывающий, дабы кто-нибудь ненароком не прочитал их сквозь окна его глаз. А еще, как я случайно узнал, Садуко ходил к Зикали Мудрому, но какой совет дал ему коварный старый карлик, я тогда не узнал. Единственным событием, случившимся после побега Мамины, стало послание, присланное Умбелази Садуко, которое принес один из принцев, брат Умбелази и его союзник. Послание было весьма кратким — из тех, что пишет человек, который по отношению к другому поступил дурно, и если не раскаялся, то искренне стыдится себя. «Садуко, — говорилось в нем, — я украл у тебя корову и надеюсь, ты простишь меня, поскольку корове той не нравилось пастбище в твоем краале, а на моем она жиреет и всем довольна. Взамен ее я дам тебе много других коров. Все, что у меня есть, я отдам тебе, моему другу и верному советчику. Дай мне знать, Садуко, что стена, которую я построил между нами, рухнула, ведь совсем скоро начнется война и нам с тобой предстоит сражаться плечом к плечу». Ответ Садуко был таким: «О принц, ты тревожишься из-за пустяка. Корова, что ты забрал, не представляла для меня никакой ценности. Кто станет держать животное, которое вечно брыкается и мычит у ворот крааля, мешая своим шумом тем, кто мирно спит за его стенами? Если бы ты попросил, я бы сам с радостью отдал бы ее тебе, да к тому же задаром. Спасибо за предложение, но коровы мне не нужны, особенно если они, как эта, не приносят телят. Что же до стены между нами — ее нет: как могут два воина сражаться в битве плечом к плечу, если их разделяет стена? О сын короля, дни и ночи я мечтаю о сражении и победе! Я совершенно забыл о той бесплодной корове, что сбежала с тобой, самым большим быком в стаде. Однако не удивляйся, если в один прекрасный день ты вдруг обнаружишь, что у этой коровы острые рога».Глава 12
ПРОСЬБА ПАНДЫ
Недель шесть спустя, в ноябре 1856 года, мне случилось побывать в Нодвенгу. К этому времени вражда между принцами обострилась до предела. И хотя ни одному из полков не было дозволено входить в город, Нодвенгу кишел народом, охваченным всеобщим возбуждением. Солдаты днем поодиночке приходили в город и к ночи уходили ночевать в соседние военные поселки. Однажды вечером, когда партия солдат — около тысячи — возвращалась в поселок Укубаза, между ними произошло побоище, которое явилось началом междоусобной войны. Так вышло, что на тот момент в краале Укубазы квартировали два полка. Думаю, это были полки Имкулушаны и Хлабы, один из которых поддерживал Кечвайо, а второй — Умбелази. В то время как несколько рот каждого из этих полков следовали вместе параллельными путями, два командовавших ими офицера затеяли спор на извечную тему о престолонаследовании. От слов они перешли к делу — и в итоге сторонник Умбелази убил палицей того, кто поддерживал Кечвайо. Вслед за этим солдаты убитого офицера с криком «Узуту!», таков военный клич сторонников Кечвайо, кинулись на своих оппонентов. Завязалась жестокая драка. По счастью, солдаты обеих сторон были вооружены лишь дубинками, иначе ужасного кровопролития не удалось бы избежать, но и без этого почти пятьдесят человек погибли и много больше оказались ранеными. Мне, как обычно, не повезло. В тот день я отправился верхом подстрелить себе к обеду пару птиц и, пересекая на обратном пути ту самую долину к месту своей стоянки в ущелье, где казнили Масапо, стал свидетелем самого разгара той драки. Прямо на моих глазах убили офицера и завязалась схватка. Не зная, что мне делать и куда деваться, ведь я был совсем один, я завел лошадь за дерево и стал ждать удобного момента, чтобы исчезнуть с поля боя и не видеть творящегося вокруг меня ужаса, поскольку, уверяю любого, кто, возможно, читает эти строки, видеть тысячу людей, закружившихся в вихре ярости и смертельного боя, было по-настоящему страшно. По правде говоря, то, что у них не было копий и они могли только лупить друг друга до смерти дубинами, делало их схватку еще бесчеловечнее, потому что поединки выходили более отчаянными и продолжительными. Повсюду по земле катались люди, они колотили друг друга по головам дубинками, пока очередной удар не становился последним и один из сражавшихся не оставался лежать недвижим, раскинув в стороны руки, — либо без чувств, либо сраженный насмерть. Я наблюдал за этим жутким действом, не слезая с седла моего привыкшего к стрельбе пони, стоявшего как вкопанный, пока вдруг не обратил внимание на двух здоровенных воинов, со всех ног бегущих ко мне и орущих во весь голос: — Смерть белому человеку Умбелази! Смерть ему! Смерть! Видя, что дело приняло опасный для жизни, моей или этих двоих, оборот, я принял решение действовать. В руке моей была двустволка, заряженная крупной дробью, по нескольку дробин в каждом заряде: на обратном пути к лагерю я надеялся подстрелить зайца. И, как только солдаты приблизились, я поднял ружье и выстрелил из правого ствола в одного из них, а из левого — во второго, каждый раз целясь в центр маленьких подпрыгивавших щитов, которые в силу привычки они вытянули перед собой, защищая горло и грудь. Конечно, на таком расстоянии дробины пробили мягкую кожу покрытия щитов и глубоко вошли в тела воинов. Оба нападавших рухнули замертво, воин слева от меня подбежал так близко, что упал под ноги моему пони, успев нанести ощутимый удар своей дубинкой мне по бедру. Когда я увидел, что сотворил, и понял, что опасность для меня пока миновала, я, не тратя времени на перезарядку ружья, пришпорил моего пони и помчался к Нодвенгу, минуя по пути отдельные группы сражавшихся. Благополучно достигнув города, я тотчас направился к королевским хижинам и потребовал провести меня к королю. Меня приняли сразу же. Представ перед королем, я подробно рассказал ему о случившемся: о том, что, спасая собственную жизнь, я застрелил двух воинов Кечвайо — и тем самым предал себя в руки его правосудия. — О Макумазан, — в отчаянии сказал король. — Я прекрасно знаю, что винить тебя нельзя. Я уже отправил полк, чтобы прекратить драку, и отдал приказ схватить зачинщиков и завтра же привести ко мне на суд. Я очень рад, что ты остался невредим, но боюсь, отныне твоя жизнь в опасности, поскольку сторонники партии узуту сочтут своим долгом схватить тебя. Пока ты в моем городе, я смогу тебя защитить — поставлю сильную охрану вокруг твоего лагеря. Однако тебе придется оставаться здесь до тех пор, пока не стихнет буря, иначе, если выедешь из города, непременно погибнешь. — Спасибо тебе за доброту, о король, — ответил я, — но оставаться здесь мне не с руки, ведь уже завтра я надеялся отправиться в Наталь. — Увы, Макумазан, если хочешь жить, придется остаться. Попавший в бурю должен переждать ее в безопасном месте. Так судьба вновь затянула меня в водоворот зулусских событий. На следующий день меня вызвали в суд — одновременно в качестве свидетеля и одного из обвиняемых. Подойдя к главной площади Нодвенгу, где со своим советом уже сидел Панда, я увидел, что все огромное пространство перед ним было заполнено тесной толпой зулусов; по правую руку сидели приверженцы Кечвайо — партия узуту, по левую руку — приверженцы Умбелази — партия исигкоза. Во главе правой партии сидел Кечвайо, его братья и военачальники; во главе левой — Умбелази со своими братьями и военачальниками, среди которых я заметил Садуко. Он сидел непосредственно позади Умбелази, так чтобы удобно было шептать ему на ухо. Я пришел вооруженный и не один, а со своим маленьким отрядом из восьми охотников, которые с разрешения Панды также имели при себе ружья. Мы были полны решимости продать свои жизни подороже, если дело вдруг примет дурной оборот. Нам указали место почти напротив короля и между двумя партиями. Когда все расселись и суд начался, Панда первым делом потребовал доложить, кто стал зачинщиком вчерашних беспорядков. Не стану излагать всех подробностей, это вышло бы слишком долго, к тому же многое успело позабыться. Однако хорошо помню, что люди Кечвайо заявили, будто начали ссору люди Умбелази; приверженцы же Умбелази утверждали, что, наоборот, воины Кечвайо начали первыми. Сторонники каждой партии подкрепляли свои заявления подробными деталями и громкими выкриками. — Как мне узнать правду? — воскликнул наконец Панда. — Макумазан, ты был там, выйди вперед и расскажи, как было дело. Я выступил вперед и рассказал королю обо всем, что видел, а именно: как капитан воинов Кечвайо затеял ссору, ударив дубинкой по голове капитана воинов Умбелази, и в результате их стычки человек Умбелази убил человека Кечвайо, после чего началась массовая драка. — Что ж, по-видимому, виновная сторона — узуту, — подытожил Панда. — Отец, на основании чего ты заявляешь это? — Кечвайо вскочил на ноги. — На основании слов этого белого, который, как всем хорошо известно, является другом Умбелази и его прихвостня Садуко и который сам во время схватки убил двух моих воинов? — Да, Кечвайо, — вмешался я. — Убил, потому что иначе они убили бы меня: их нападение я ничем не спровоцировал. — Как бы там ни было, ты убил их, маленький белый человек! — заорал Кечвайо. — И за это должен заплатить кровью. Скажи, это Умбелази дал тебе право предстать перед королем в сопровождении вооруженных людей, в то время как даже нам, его сыновьям, дозволено брать с собой только палицы? Если так, то пусть он защищает тебя! — И защищу, если понадобится! — воскликнул Умбелази. — Благодарю, принц, — сказал я Умбелази. — Если понадобится, я сумею защитить себя сам, как сделал это вчера. — С этими словами я взвел курки своей двустволки и посмотрел прямо в лицо Кечвайо. — Смотри, когда пойдешь отсюда, я выйду вместе с тобой, Макумазан, — пригрозил Кечвайо, сплюнув сквозь зубы: обычно он так делал в минуту гнева. Мы с принцем были добрыми друзьями, но сейчас он рвал и метал, желая сорвать на ком-нибудь свою злобу. — Если так, я остаюсь здесь, под защитой короля, твоего отца, — невозмутимо ответил я. — Кечвайо, неужели ты настолько потерял голову, что не боишься навлечь на себя гнев англичан? Знай, если меня убьют, за мою кровь спросят с тебя. — Вот именно, — вмешался Панда. — И знай еще, что любого, кто посмеет пальцем тронуть Макумазана, моего гостя, ждет смерть, будь он простой зулус или мой сын-принц. Также, Кечвайо, я налагаю на тебя штраф в двадцать голов скота в пользу Макумазана за неспровоцированное нападение на него твоих людей, вынудившее его убить их. — Штраф будет уплачен, отец, — сказал Кечвайо уже более спокойным голосом; он понял, что в своих угрозах зашел слишком далеко. Затем, после недолгого обсуждения, Панда вынес приговор по делу о столкновении, который, по сути, ни к чему не привел: поскольку доказать, чья партия виновата больше, не удалось, король оштрафовал обе на одинаковое количество голов скота и прочитал нравоучение о неподобающем поведении, слушали которое довольно равнодушно. Как только с этим делом покончили, был поднят самый важный вопрос. Встав со своего места, Кечвайо обратился к Панде. — Отец, — начал он, — наша страна блуждает во тьме, и ты один можешь пролить ей под ноги свет. Я и мой брат Умбелази в большой ссоре друг с другом — мы никак не можем решить, кто из нас займет твое место, когда ты уйдешь так далеко, что не сможешь ответить на наш зов. Некоторые племена хотят одного из нас, другие — другого, но лишь твой голос, о король, станет решающим. И все же, прежде чем ты скажешь свое слово, я и все, кто заодно со мной, хотим напомнить тебе вот что. Моя мать — твоя инкози-каас, главная жена. Следовательно, по нашим законам я, ее старший сын, должен быть твоим наследником. Кроме того, когда перед падением Дингаана, который правил до тебя, ты бежал к белым людям, разве амабуна не спросили тебя, кто из твоих сыновей наследует тебе, и разве ты не указал белым людям на меня? И вслед за этим разве амабуна не нарядили меня в почетные одежды как будущего короля? Однако в последнее время мать Умбелази наушничала тебе, как и другие, — тут он посмотрел на Садуко и свиту Умбелази, — и ты охладел ко мне, охладел настолько, что люди стали поговаривать, будто королем после себя ты назначишь Умбелази, а меня оставишь не у дел. Если так, отец, скажи мне это сейчас, дабы я знал, как мне быть. Кечвайо закончил речь, явно не лишенную смысла и достоинства, и вновь уселся, мрачно дожидаясь ответа отца. Но король отвечать не стал и посмотрел на Умбелази — тот встал и был встречен громкими приветствиями: хоть у Кечвайо в целом по стране было больше сторонников, особенно у вождей отдаленных племен, независимо от этого каждый зулус любил Умбелази больше, быть может, за его стать, красоту и добрый нрав — физические и моральные достоинства, которые высоко ценятся туземцами. — Отец, — начал Умбелази, — как и мой брат Кечвайо, я жду твоего решения. Какие бы слова ты тогда ни говорил белым людям, второпях либо охваченный страхом, я никогда не соглашусь с тем, чтобы Кечвайо был объявлен твоим наследником. Я утверждаю, что мое право наследовать тебе ничуть не ниже его, и только ты, ты один должен объявить, кто из нас накинет себе на плечи королевский плащ в тот день, который, как молит мое сердце, наступит еще не скоро. Однако, дабы избежать кровопролития, я хотел бы поделить страну с Кечвайо. — (Здесь оба, Панда и Кечвайо, замотали головами, а все присутствующие проревели: «Нет!») Или же, если Кечвайо это неугодно, я готов сразиться с ним на поединке, биться на копьях, пока один из нас не будет убит. — Беспроигрышное предложение! — ухмыльнулся Кечвайо. — Не моего ли брата кличут Слоном и не его ли считают самым сильным воином среди зулусов? Нет, я не отдам судьбы моих сторонников в зависимость единственному тычку копья или силе мужских мускулов. Решай, отец! Говори, кто из нас двоих войдет хозяином в твой крааль после того, как ты отправишься к духам и примкнешь к родичам, которым мы поклоняемся. На лице Панды вдруг отразилась тревога, и неудивительно: из-за изгороди, за которой подслушивали женщины, неожиданно выбежали мать Кечвайо и мать Умбелази и принялись шептать ему одна в одно ухо, другая в другое. Какие они давали ему советы, не знаю, наверняка разные, поскольку бедняга-король сначала вытаращил глаза на одну женщину, затем на вторую и под конец зажал уши ладонями, не желая больше слушать. — Выбирай, король! Выбирай! — закричала толпа. — Кто твой наследник — Кечвайо или Умбелази? Наблюдая за Пандой, я понял, что он испытывает едва ли не физическое страдание. Его жирные бока тяжело вздымались, и, несмотря на прохладный день, пот градом катился со лба. — Как в таком случае поступили бы белые люди? — негромко спросил он меня хриплым голосом. Опустив взгляд под ноги, я ответил так тихо, что слышать меня могли немногие: — Полагаю, король, что белый человек не сделал бы ничего. Он предоставил бы решать другим после его смерти. — О, если бы я мог так сказать, — пробормотал Панда. — Но это невозможно. Последовала долгая пауза. Молчали все. Каждый ощущал величие роковой минуты. Наконец Панда, поднявшись с большим трудом из-за своего непомерного веса, процедил те жуткие слова, превратившие незамысловатую поговорку в зловещее пророчество: — Когда два молодых быка ссорятся, они должны решить спор в схватке. И тут же оглушительный рев королевского приветствия «Байет!» разорвал тишину — словом этим народ принял решение короля. Решение, положившее начало гражданской войне и гибели многих тысяч жизней. Затем Панда повернулся и, едва передвигая ноги — мне невольно подумалось, он вот-вот упадет, — прошел через ворота, находившиеся у него за спиной, в сопровождении обеих своих жен, всю жизнь соперничающих друг с другом. Каждая из них попыталась первой оказаться перед воротами, полагая это добрым знаком для успеха ее сына. В итоге, к разочарованию толпы, обе миновали ворота бок о бок. Когда король и его жены скрылись из виду, огромная толпа стала распадаться: сторонники каждой партии расходились вместе, словно договорившись заранее; никто никого не оскорблял и не угрожал. Такое миролюбивое настроение вытекало, полагаю, из тревожного осознания того, что время личных ссор миновало и настала пора большой войны. Люди чувствовали, что их спор дожидался решения, однако не палицами за забором крааля Нодвенгу, но копьями в грядущем большом сражении, к которому они сейчас расходились готовиться. В течение двух дней в Нодвенгу не осталось ни одного воина, за исключением полков, которые Панда держал для своей личной охраны и охраны семьи. Оба брата также разъехались устраивать смотр силам своих сторонников. Кечвайо разбил лагерь в стане племени мандхлакази, которым командовал. Умбелази же вернулся в крааль Умбези, который по случаю находился почти в центре той части страны, что поддерживала его. Не припомню, взял ли Умбелази с собой Мамину, но полагаю, что, опасаясь не слишком любезного приема в отцовском доме, Мамина поселилась на отшибе, в каком-нибудь уединенном краале по соседству, и там дожидалась перелома в своей судьбе. Во всяком случае, какое-то время я совсем не видел ее — она была крайне осторожна и не попадалась мне на глаза. Однако с Умбелази и Садуко встретиться мне удалось. Перед отъездом из Нодвенгу они зашли ко мне вместе — по-видимому, пребывая в хороших отношениях. Оба выразили надежду на мою поддержку в надвигающейся войне. Я ответил, что, мол, люблю их обоих, но гражданская война зулусов меня абсолютно не касается и в интересах собственной безопасности мне будет лучше уехать отсюда немедля. Они долго уговаривали меня, сулили щедрую награду. Наконец Умбелази, видя, что решение мое непоколебимо, сказал: — Идем, Садуко, хватит унижаться перед этим белым человеком. В конце концов, он прав: не его ума это дело, и не след нам просить его рисковать своей жизнью в нашей распре. Ведь белые люди не такие, как мы: они очень дорожат своей жизнью. Прощай, Макумазан. Если я выйду победителем и стану великим, тебе всегда будут рады в Зулуленде. Если же проиграю, — быть может, тебе будет лучше оставаться на том берегу Тугелы. В его словах я уловил скрытую насмешку. Однако, твердо для себя решив хоть раз в жизни поступить благоразумно в ущерб врожденной любознательности и любви к приключениям и не вовлекать себя в серьезные опасности, ответил: — Принц утверждает, что я не отличаюсь храбростью и дорожу своей жизнью, и он прав. Я с опаской отношусь к открытой борьбе, ведь по натуре я торговец с сердцем торговца, и никак не воин с сердцем воина, как великий Индхлову-эне-Сихлонти. — Заслышав мои слова, мрачный Садуко чуть заметно улыбнулся. — Так что прощай и ты, принц, и будь счастлив. Разумеется, назвать принца в лицо его прозвищем, намекавшим на незначительный изъян в его внешности, было равносильно оскорблению, однако оскорбили и меня самого, и я обязан был дать своему обидчику достойный ответ. Впрочем, принят он был без всякой обиды. — Счастлив? А что такое счастье, Макумазан? — Умбелази ухватил меня за руку. — Иногда я думаю, что счастье — это жить и процветать, а иногда — умереть и забыться счастливым сном, ведь в этом сне нет ни голода, ни жажды, тело твое и дух не томятся. И забот никаких нет во сне. Во сне спит тело, и спят честолюбивые замыслы; спят те, кто больше не видит солнца и не страдает от измен неверных жен либо неверных друзей. Если отвернется от меня удача в бою — не беда, по крайней мере, я обрету это счастье, потому что никогда не соглашусь жить под пятой Кечвайо. С этими словами Умбелази ушел. Садуко проводил его немного, но затем под каким-то предлогом оставил его и, вернувшись ко мне, сказал: — Друг мой Макумазан, мне кажется, что расстаемся мы навсегда, и поэтому у меня есть к тебе просьба. Она касается той, которая для меня умерла. Макумазан, я верю, что этот вор Умбелази, — слова сорвались с его губ злобным шипением, — дал ей много голов скота и спрятал ее либо в ущелье Зикали Мудрого, либо где-то от него поблизости, оставив на его попечение. Если дела в войне обернутся против Умбелази и я буду убит, думаю, женщине этой придется худо, так как со временем я понял: настоящей колдуньей была она, а не Масапо Боров. Она связалась с Умбелази и помогала ему в его кознях, поэтому если ее схватят, то непременно убьют. Выслушай меня, Макумазан. Скажу тебе правду. Мое сердце все еще пылает любовью к этой женщине. Она околдовала меня, ее глаза следуют за мной во сне, и в каждом дуновении ветра я слышу ее голос. Она для меня дороже всего на этом свете, дороже земли и неба, и, хотя она причинила мне боль, я не желаю ей зла. Макумазан, молю тебя, если я погибну, поддержи Мамину, даже если сделаешь ее просто служанкой в твоем доме, ведь к тебе, по-моему, она относится лучше, чем к кому бы то ни было. А с ним, — он показал в том направлении, куда ушел Умбелази, — она убежала, потому что он сын короля, а она в своем безумии верит, будто и он станет королем. Хотя бы увези ее в Наталь, Макумазан, а там, если захочешь освободиться от нее, она сможет выйти замуж за кого хочет и станет жить в безопасности до конца своих дней. Панда очень любит тебя, и, кто бы ни победил в этой войне, король подарит тебе ее жизнь, если ты его об этом попросишь. Затем этот странный человек провел тыльной стороной ладони по глазам, и я понял, что он плачет. — И если счастье выпадет тебе, вспомни о моей просьбе, — пробормотал Садуко, повернулся и ушел, прежде чем я успел вымолвит слово. Я же уселся на термитник и стал насвистывать мелодию гимна, которой меня когда-то научила мать. Вот же придумал. Взять Мамину к себе в дом служанкой, сделаться ее опекуном — зная то, что знал я про нее! Нет уж, я скорее разделю «счастье», которое Умбелази пророчил в земле сырой. Впрочем, такая альтернатива казалась невероятной, и я утешил себя мыслью о том, что обстоятельства ее возможного появления не возникнут никогда. Вдуше, однако, таилась уверенность: если все же они возникнут, мне придется действовать в соответствии с ними. Губы мои не проронили «да», но меня не оставляло ощущение, будто Садуко почувствовал, как мое обещание прилетело в его сердце из моего. «Этот вор Умбелази!» Странные слова слетели с уст сильного вассала в адрес своего господина, причем накануне того дня, когда им обоим, плечом к плечу, предстояло начинать смертельно опасное дело. «…Она в своем безумии верит, будто и он станет» — еще более странные слова. Выходит, Садуко сам не верит, что Умбелази будет королем! Тем не менее собирается разделить с ним всю опасность борьбы за трон — человек, признавшийся мне в том, что сердце его пылает огнем любви к женщине, которую у него украл «вор Умбелази». Будь я Умбелази, мелькнула мысль, я бы не захотел иметь Садуко своим главным советчиком и военачальником. Но хвала Небесам! Я не был Умбелази, Садуко или кем-то из них! И еще раз — хвала Небесам: назавтра я покину страну зулусов! Человек предполагает, а Бог располагает. Уехать мне не удалось, я застрял в Зулуленде надолго. Когда в тот день я вернулся к своим фургонам, то обнаружил, что мои волы, которые обычно паслись на пастбище по соседству, загадочным образом исчезли. Их нигде не было видно. Быть может, скотина почувствовала острую нужду оставить Зулуленд и найти более мирную страну. На поиски я отрядил своих охотников, а сам остался у фургонов со Скоулом. В такое тревожное время бросать фургоны без присмотра не хотелось. Прошло четыре дня, минула неделя — ни охотников, ни волов. Наконец я получил известие, нашедшее меня кружным путем: охотники отыскали волов довольно далеко от моего лагеря, однако, когда попытались вернуться в Нодвенгу, воины из партии узуту — то есть сторонники Кечвайо — прогнали их за реку Тугелу в Наталь, и возвращаться оттуда они боятся. Впервые в жизни я пришел в ярость и осыпал ни в чем не повинного посланника, отправленного ко мне неизвестно кем, страшными проклятиями на языке, который, полагаю, он помнить будет долго. Спохватившись и поняв, что ругань бесполезна, я от правился в королевский крааль и потребовал личной встречи с Пандой. Довольно скоро слуга вернулся и сообщил, что меня примут без промедления, и, пройдя за ограду, я предстал перед королем. Панда сидел почти в полном одиночестве — за его спиной стоял лишь воин, держа над головой короля большой щит и тем самым прикрывая владыку от солнца. Панда тепло приветствовал меня, и я поведал ему о своей беде. Король отослал прочь державшего щит воина, и мы остались одни. — Бодрствующий в ночи, — обратился ко мне король, — почему в случившемся ты винишь меня, если знаешь, что нынче я никто в собственной стране? Говорю тебе, я мертвец, как мертв тот, чьи сыновья бьются за наследство… Не могу сказать тебе наверняка, кто угнал твоих волов. Однако я даже рад, что ты их лишился: уверен, попытайся ты отправиться в Наталь прямо сейчас, узуту наверняка убьют тебя по дороге, ведь они считают тебя советчиком Умбелази. — Понимаю, о король, — ответил я. — И полагаю, что происшествие с волами сыграло мне на руку. Но скажи, что мне теперь делать? Я хотел бы последовать примеру Джона Данна, — (еще один белый человек в стране, который вмешивался в политику зулусов), — и покинуть страну. Не дашь ли ты мне волов для моих фургонов? — У меня нет ни одного выезженного вола, Макумазан, ведь у зулусов, как ты знаешь, совсем мало фургонов или телег. Да и будь у меня волы, я бы не стал их тебе одалживать, потому что не хочу, чтобы твоя кровь пала на мою голову. — О король, ты от меня что-то скрываешь, — сказал я без обиняков. — Чего ты хочешь от меня? Чтобы я остался здесь, в Нодвенгу? — Нет, Макумазан. Когда грянет война, я хочу, чтобы ты отправился с моим личным полком, который я пошлю на подмогу моему сыну Умбелази, дабы он воспользовался твоей мудростью. Открою тебе правду, Макумазан. Умбелази ближе моему сердцу, и я боюсь, что Кечвайо одолеет его. Если бы я мог спасти его жизнь, я бы сделал это, но я не знаю как, ведь я не должен открыто поддерживать ни одну из сторон. И все же в моих силах отправить свой полк под видом твоего конвоя, если ты согласишься, в качестве моего доверенного лица, следить за ходом битвы и потом донести мне о ней. Скажи, ты пойдешь? — Зачем мне идти? — ответил я. — Кто бы ни победил, меня могут убить, а если победит Кечвайо, то убьют наверняка. Ради чего мне погибать? — Нет, Макумазан, я раздам приказы: кто бы ни победил, человек, осмелившийся поднять на тебя руку, умрет. В этом-то меня никто не посмеет ослушаться. О, прошу тебя, не оставляй меня в моей беде! Отправляйся с моим полком и вдохни мудрость в сына моего Умбелази. Я же клянусь головой Великого Чаки, что щедро награжу тебя. Я позабочусь, чтобы ты покинул Зулуленд не с пустыми руками, Макумазан. Его затея казалась мне подозрительной, и я колебался. — О Бодрствующий в ночи! — воскликнул Панда. — Ты же не бросишь меня, правда? Мне так страшно за моего сыночка Умбелази, он мне дороже всех моих детей, я так боюсь за него… — И он, не стесняясь, разрыдался. Без сомнений, я поступил глупо, но зрелище старого короля, оплакивающего любимого сына, обреченного на гибель, глубоко тронуло меня, и я забыл об осторожности: — Хорошо, Панда, если ты так желаешь этого, я отправлюсь на битву с твоим полком и помогу твоему сыну, принцу Умбелази.Глава 13
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Так, лишенный, по сути, выбора, я остался в Нодвенгу. На душе было прескверно, и порой я чувствовал, что близок к отчаянию. Город почти опустел, остались только два расквартированных здесь полка — сангку и амавомба. Последний и считался королевским полком, являя собою подобие королевской гвардии: короли Чака, Дингаан и Панда — все они в свое время служили в нем. Большинство вождей приняли одну либо другую сторону и теперь собирали по всей стране силы на борьбу с Кечвайо или Умбелази. Из города ушла даже большая часть женщин и детей — прятаться в лесах или в горах, поскольку никто не мог знать, как все обернется; в основном же они опасались, что армия победителя начнет крушить и убивать всех и вся. В городе, однако, осталось несколько советников Панды, среди них — старый Мапута, который когда-то доставил мне «послание с пилюлями». Несколько раз он приходил ко мне по вечерам и передавал последние слухи. Из его рассказов я понял, что между противоборствующими сторонами уже состоялся ряд столкновений и совсем скоро следует ожидать главного сражения, для которого Умбелази уже выбрал место — равнину у берегов Тугелы. — Почему именно там? — удивился я. — Ведь за спиной будет широкая река, и, если его разобьют, вода погубит столько же воинов, сколько вражеские копья. — Точно не знаю, — ответил Мапута. — Но говорят, его главнокомандующему Садуко три раза подряд приснился сон, в котором якобы открылось, что здесь, и только здесь Умбелази обретет славу. Так оно или нет, но это место выбрал Садуко. А еще говорили мне, что все женщины и дети воинов его армии, несколько тысяч, спрятались в зарослях по берегам реки, чтобы в случае чего бежать в Наталь. — У них же нет крыльев, — удивился я, — чтобы перелететь Тугелу, ведь река может разлиться после дождей? Ох, чувствую, дух Умбелази явно отвернулся от него! — Да, о Макумазан, — вздохнул Мапута. — Я тоже думаю, что дух принца повернулся к нему спиной. А еще видится мне, что Садуко худой советчик. Вот будь я принцем, — добавил прозорливый старик, — не держал бы в помощниках того парня, у которого увел жену. — Я тоже, Мапута, — поддержал его я. На том и распрощались. Назавтра ранним утром Мапута пришел вновь и сообщил, что меня желает видеть король. В королевском краале я нашел сидящего Панду, перед которым стояли командиры королевского полка амавомба. — Бодрствующий в ночи, — обратился ко мне король, — я получил известие, что через несколько дней состоится великое сражение между моими сыновьями. Поэтому я посылаю полк моей личной охраны под командованием опытного воина Мапуты наблюдать за ходом сражения и прошу тебя отправиться вместе с ними, с тем чтобы помогать командующему Мапуте и его командирам своими мудрыми советами. Вот мой приказ тебе, Мапута, и вам, командиры: в бой не вступать, если только не увидите, что Слон, мой сын Умбелази, упал в яму, — в этом случае вам надлежит вытащить его и спасти. А теперь повторите мой приказ. Все хором повторили слова Панды. — Каков твой ответ, Макумазан? — спросил меня король. — О король, я уже сказал тебе, что пойду, хотя войну не люблю, и слово свое сдержу, — ответил я. — Тогда собирайся, Макумазан, и через час возвращайся сюда: полк выступает до полудня. Я отправился к своим фургонам и передал их на попечение нескольким зулусам, которых для этой цели прислал мне Панда. Скоул и я оседлали лошадей — верный слуга настоял на том, что должен сопровождать меня, хоть я и советовал ему остаться здесь, — достали наши ружья, достаточное количество боеприпасов и предметы первой необходимости. Завершив сборы, мы выехали верхом к королевскому краалю. Свои фургоны я оставлял с тяжелым сердцем, не надеясь увидеть их вновь. На подъезде к краалю короля я увидел полк амавомба. Рослые, сильные, всем по пятьдесят, а кому и более, — почти четыре тысячи отборных воинов выстроились на площадке для плясок. Рота за ротой, белые боевые щиты, сверкающие наконечники копий, головные уборы из шкур выдры, короткие юбки и браслеты на предплечьях из хвостов белых буйволов и белоснежные эгреты (перья белой цапли) на головах — прекрасное и грозное зрелище. Мы подъехали к первой колонне, где я увидел Мапуту. Полк встретил нас приветственными криками: в те годы в Зулуленде белый человек был олицетворением силы. Вдобавок, как я уже рассказывал, зулусы хорошо знали и любили меня. Быть может, тот факт, что я буду вместе с ними наблюдать за ходом битвы, а то и участвовать в ней, поднимал дух амавомба. Мы стояли, пропуская длинную вереницу из несколько сотен юношей, нагруженных циновками и котлами для варки и ведущих скот, предназначенный для нашего пропитания. Тут неожиданно из своей хижины вышел Панда в сопровождении двух слуг и принялся бормотать что-то наподобие молитвы, бросая при этом в нашу сторону пыль или какое-то истолченное в порошок снадобье. Сути этого действа я не понял. Когда Панда закончил, Мапута поднял копье, и весь полк слаженно прокричал приветствие королю «Байет!», прозвучавшее словно удар грома. Трижды воины повторили это впечатляющее приветствие и умолкли. Вновь Мапута взмахнул копьем, и четыре тысячи грянули «Ингому»[266] — лихую боевую песнь, и под волнующие звуки грозной музыки полк выступил в поход. Не думаю, что слова той песни были когда-либо записаны, потому привожу их здесь:Глава 14
УМБЕЗИ И КОРОЛЕВСКАЯ КРОВЬ
Очевидно, прошло какое-то время с момента падения Умбелази, когда на скалу поднялось несколько человек узуту, которым, как я услышал, или мне показалось, что я услышал, Садуко приказал: — Макумазана и его слугу не трогать. Они мои пленники. Тот, кто обидит их, умрет вместе со всей своей семьей. Едва живого, меня усадили на мою лошадь, а Скоула понесли на щите. Когда я пришел в себя, то увидел, что нахожусь в маленькой пещере или, скорее, под нависшими скалами на склоне холма. Рядом я увидел Скоула — он оправился от своего припадка, но как будто все еще пребывал в каком-то ошеломлении. Более того, ни тогда, ни впоследствии он ничего не мог вспомнить о смерти Умбелази, а я ему никогда о ней не рассказывал. Как многие другие, Скоул думал, что принц утонул, пытаясь переплыть Тугелу. — Они собираются прикончить нас? — спросил я у него. Судя по ликующим крикам снаружи, мы находились в лагере победивших узуту. — Не знаю, хозяин, — ответил Скоул. — Надеюсь, нет. Мы столько всего натерпелись, жаль будет умирать. Лучше бы мы погибли в начале битвы. Я согласно кивнул, и в этот момент к нам подошел зулус с блюдом поджаренных крупных кусков говядины и кувшином с водой. — Макумазан, это посылает тебе Кечвайо, — объявил он. — Он сожалеет, что нет молока или пива. Когда поешь, выходи, стража ждет тебя, чтобы проводить к нему. — Зулус удалился. — Ну что ж, — сказал я Скоулу, — если бы они собирались нас убить, вряд ли удосужились бы сначала накормить. Поэтому не будем падать духом и хорошенько подкрепимся. — Кто их разберет… — проговорил приунывший Скоул, запихивая в рот большой кусок мяса. — Но, пожалуй, лучше помирать с полным желудком, чем с пустым. Мы утолили голод и жажду и, поскольку страдали больше от усталости, чем от легких ран, почувствовали, как к нам снова возвращаются силы. Когда мы покончили с трапезой, к нам в пещеру просунул голову зулус и спросил, готовы ли мы. Я кивнул, и, поддерживая друг друга, мы со Скоулом заковыляли из пещеры. Снаружи нас поджидали около полусотни солдат, и, хотя они встретили нас криками вперемежку со смехом по поводу нашего плачевного состояния, меня поразило то, что открытой враждебности я не заметил. В толпе этих людей стояла, понурив голову, моя лошадь. Мне помогли усесться на нее, Скоул взялся за стременной ремень, и нас повели за четверть мили к Кечвайо. Мы застали его сидящим в лучах заходящего солнца на восточном склоне одного из холмов вельда, откуда открывался вид на расстилавшуюся внизу широкую равнину. Это было странное и дикое зрелище. Победитель Кечвайо, сын короля, сидел в окружении своих военачальников и индун, а мимо него бегом проносились победоносные полки, выкрикивая его титулы на самом экстравагантном языке. Также перед Кечвайо бегали взад-вперед изимбонги (то есть «профессиональные» воспеватели), разодетые в яркие и пышные наряды, и, на бегу прославляя его подвиги, называли его Владыкой Земли и выкрикивали имена великих вождей, сложивших головы в битве. Между тем группы воинов то и дело приносили сюда на щитах тела погибших предводителей и знатных воинов и выкладывали их рядами — так в Англии выкладывают рядком добытую на охоте дичь. Похоже, Кечвайо захотелось взглянуть на них, и, будучи слишком утомленным битвой, чтобы бродить по полю сражения, он приказал сносить тела сюда. Среди мертвых я разглядел тело моего друга Мапуты, полководца амавомба: оно было буквально изрешечено ударами копий, как почти и каждый принесенный. На лице Мапуты застыла улыбка. В начале одной их таких печальных верениц трупов лежали три гиганта, в которых я узнал братьев Умбелази, сражавшихся на его стороне, Кечвайо они приходились сводными братьями. Среди них — те три принца, на которых осела пыль, когда Зикали «разоблачал» Масапо, мужа Мамины. С помощью Скоула я слез с лошади и, хромая, стал пробираться между тел павших воинов царской крови — животы всех были распороты: зулусы верили, что так они освобождали духов мертвецов, иначе они станут преследовать живущих. Наконец я предстал перед Кечвайо. — Сийякубона, Макумазан. — Он протянул мне руку, которую я принял, хотя не нашел в своем сердце готовности пожелать ему доброго дня в ответ. — Слышал я, ты командовал амавомба, которых мой отец, король, выслал в помощь Умбелази, и я очень рад, что ты избежал смерти. Также я горжусь тем, как доблестно они сражались, ведь ты знаешь, Макумазан, что прежде я, как самый близкий королю, командовал тем полком… потом, правда, мы поссорились. Тем не менее они порадовали меня своей службой, и я отдал приказ пощадить всех оставшихся в живых амавомба, дабы сделать из них командиров нового, возрожденного полка амавомба. Известно ли тебе, Макумазан, что вы почти полностью уничтожили три полка узуту, перебив больше моих людей, чем вся армия брата? О, ты великий воин! Если бы не преданность, — в этом слове я уловил легкий сарказм, — Садуко, сегодня ты бы взял победу для Умбелази. Что ж, теперь с распрей покончено, и, если ты останешься при мне, я сделаю тебя главнокомандующим целой дивизией армии короля, поскольку отныне у меня будет голос в государственных делах. — Ошибаешься, о сын Панды, — ответил я. — Слава доблестной стойкости амавомба по праву принадлежит Мапуте, советнику короля и индуне Великого Черного (Чаки), ныне покойному. Вот он лежит здесь в блеске своей славы. — Я показал на истерзанное тело Мапуты. — В рядах его полка я бился как простой солдат. — О да, мы все знаем это, Макумазан, и Мапута был своего рода умной обезьяной, однако мы также знаем и то, что скакать и прыгать ту обезьяну учил ты. Что ж, теперь он мертв, как и почти все амавомба, а из трех моих полков уцелела лишь горстка людей, остальные достались стервятникам. Все кончено и забыто, Макумазан. По счастливой случайности копья летели мимо тебя: должно быть, ты волшебник, а иначе как бы ты со своим слугой вышли из боя, в котором полегли почти все амавомба, лишь с парой царапин. Тебе удалось спастись, как это и прежде бывало с тобой в Зулуленде, и теперь ты видишь, вот лежат воины, рожденные от моего отца. Не хватает лишь одного — того, против которого я сражался… Сражался, несмотря на то что любил его больше их всех. Прослышал я, что тебе одному ведомо, что с ним сталось, и я хочу знать, жив он или мертв, а если мертв, то от чьей руки он пал, чтобы в руку вложить награду. Я огляделся вокруг, размышляя, стоит ли сказать ему правду или лучше придержать язык. Глаза мои встретились с глазами Садуко, который с невозмутимым и даже равнодушным видом сидел среди командиров, хоть и чуть в стороне от них, как бы держась особняком, и я вспомнил, что лишь он да я знаем правду о кончине Умбелази. Не могу объяснить, почему я вдруг решил сохранить эту тайну. К чему мне было рассказывать упивающемуся победой Кечвайо, что именно он довел Умбелази до самоубийства? К чему раскрывать позорный поступок Садуко? Со всем этим пускай разбирается суд иного трибунала. Кто я такой, чтобы разоблачать или судить актеров этой ужасной драмы? — О Кечвайо, — сказал я, — да, так случилось, что я был свидетелем гибели Умбелази. Погиб он не от руки врагов. На скале над рекой он умер от разбитого сердца. О том, что было дальше, спрашивай у Тугелы, в которую он упал. На мгновение Кечвайо прикрыл глаза ладонью. — Вот, значит, как… — проговорил он. — Что ж, и снова повторю: если бы не Садуко, сын Мативане, который поссорился с моим братом из-за женщины и воспользовался шансом отомстить ему, на той скале над рекой с разбитым сердцем мог лежать я. О Садуко, я в огромном долгу перед тобой и щедро отплачу тебе, но другом своим я тебя не сделаю: вдруг мы с тобой тоже не поделим женщину и поссоримся, после чего уже я окажусь на скале с разбитым сердцем. О Умбелази, я горько плачу по тебе, брат мой, ведь мы с тобой играли вместе, когда были маленькими, и любили друг друга, и вот теперь поссорились и бились из-за игрушки, что зовется троном, поскольку, как сказал отец, два быка не уживутся в одном загоне, братишка… Что ж, ты ушел, а я остался, и кто знает, может статься, твой удел счастливее моего. Ты умер от разбитого сердца, Умбелази, а какая смерть ждет меня?..[269] Я привел наш разговор во всех подробностях, поскольку именно благодаря ему по стране разошлась весть о том, что Умбелази умер от разбитого сердца. Но ведь, по сути, так все и произошло: прежде чем наконечник копья пронзил его сердце, оно уже было разбито. Подметив, что Кечвайо в добром расположении духа и как будто благосклонен ко мне, хоть я и сражался против него, я подумал, что сейчас неплохой момент, чтобы испросить у него позволения уехать. Скажу откровенно, после всего пережитого нервы мои были расшатаны до предела и мне страстно хотелось быть подальше от видов и звуков жуткого поля сражения, от места гибели многих тысяч людей в этот судьбоносный день — редко я так страстно желал чего-либо прежде. Однако, пока я гадал, как мне лучше подступиться к принцу, произошло событие, из-за которого шанс свой я потерял. Неожиданный шум за спиной заставил меня обернуться. Я увидел толстого, жирного человека в пышном боевом наряде. В одной руке у него было окровавленное копье, а в другой — головное украшение из страусовых перьев. Он шел и кричал: — Пустите меня к сыну короля! У меня сообщение для победителя Кечвайо! Глаза мои округлились. Я потер их и снова посмотрел на него. Не может быть! Да, это был Умбези — Гроза слонов, отец Мамины. Через несколько мгновений, не дожидаясь разрешения приблизиться, он перешагнул через шеренгу мертвых принцев, на мгновение задержавшись, чтобы пнуть голову одного из них и осыпать ругательствами несчастного. Очутившись перед Кечвайо, он рассыпался в восхвалениях его подвигов. — Кто этот болван? — прорычал принц. — Пусть прекратит шуметь и говорит, иначе умолкнет навсегда. — О Детеныш Черной коровы, я Умбези, Гроза слонов, старший командир Садуко Хитроумного, выигравшего для тебя сражение, отец Мамины Прекрасной, на которой Садуко женился и которую Умбелази, дохлый пес, увел у него. — А-а, — зловеще протянул Кечвайо, щуря глаза: за эту его привычку грозно щуриться зулусы звали его Быком, который жмурится перед тем, как поднять на рога. — И что же за сообщение у тебя ко мне, Гроза слонов и отец Мамины, которую «дохлый пес Умбелази» увел у твоего господина Садуко Хитроумного? На этот раз Садуко как будто очнулся от своей задумчивости и поднялся на ноги, но Кечвайо резким жестом приказал ему молчать, а глупец Умбези, не замечая ничего, затрещал снова: — О принц, я встретился с Умбелази в бою, и, едва завидев меня, он бросился наутек, да, его сердце обратилось в воду при виде меня, закаленного воина, которого он опозорил и чью дочь он украл. — Я услышал тебя, — сказал Кечвайо. — Говоришь, сердце Умбелази обратилось в воду при виде тебя, потому что он опозорил тебя — тебя, который до сегодняшнего утра, когда переметнулся к Садуко, был одним из его шакалов? Ладно, говори, что произошло потом? — Он побежал, о Лев с черной гривой. Он мчался, словно ветер, я же погнался за ним, словно еще более сильный ветер. Забежал он далеко, в заросли, а оттуда — на скалу, что над рекой, и там остановился, дальше бежать было некуда. Вот там мы с ним и схватились. Он кинулся на меня, но я перескочил через его копье — вот так. — Умбези подпрыгнул на месте. — Он снова кинулся на меня, но я пригнулся — вот так. — Умбези резко наклонил свою огромную голову. — А потом он устал, и пришел мой час. Он повернулся и бросился бежать вокруг скалы, а я погнался за ним и на ходу ударил его копьем в спину вот так, раз, еще раз, и он упал, моля о пощаде, и вдруг покатился со скалы и полетел в воду. А когда он катился, я сорвал с его головы перья. Гляди — разве это перья не дохлого пса Умбелази? Кечвайо взял у него украшение и рассмотрел его, затем показал сидевшим рядом командирам, и те с серьезным видом покивали. — Верно, — сказал он. — Это боевое украшение Умбелази, любимца короля, мощной и блистательной опоры нашей Великой семьи. Нам хорошо знакомы эти перья, при виде которых у многих от страха подгибались колени. И убил его ты, Гроза слонов, отец Мамины. Ты, который еще нынче утром был одним из подлейших его шакалов. Что ж, какой награды ты попросишь у меня за это великое деяние, Умбези? — Великой награды, о Грозный владыка… — начал Умбези, но грозный окрик Кечвайо заставил его умолкнуть. — Да, великой! — проревел Кечвайо. — Слушай меня, шакал и предатель. Твои слова свидетельствуют против тебя самого. Ты, ты осмелился поднять руку на того, в чьих жилах течет королевская кровь, и своим мерзким лживым языком испоганить имя его! Только сейчас дошла до Умбези собственная глупость, и он было принялся лепетать извинения и уверять, что его рассказ выдумка от начала до конца. Его жирные щеки ввалились, он пал на колени. Но Кечвайо лишь плюнул в его сторону, как всегда делал, когда пребывал в ярости, и огляделся; взгляд его пал на Садуко. — Садуко, — велел он, — уведи убийцу принца, который похваляется пролитой королевской кровью, и, когда он будет мертв, сбрось его в реку с той самой скалы, на которой, по его словам, он заколол сына Панды. Садуко повел вокруг себя диким взглядом и замер в нерешительности. — Убери его! — прогремел Кечвайо. — И до темноты вернись и доложи. Затем по знаку Кечвайо на перепуганного Умбези накинулись стражники и поволокли его прочь, Садуко отправился за ними. Больше я не видел несчастного лжеца. Когда Умбези тащили мимо меня, он умолял меня спасти его ради Мамины, но я лишь покачал головой: я вспомнил, как недавно предупреждал его о судьбе предателей. Может показаться, что история эта повторяет библейскую историю Саула и Давида, но я могу лишь констатировать, что случилось все так, как случилось. Весьма похожие обстоятельства стали итогом аналогичной трагедии, только и всего. Каковы были истинные мотивы Давида, я, естественно, сказать не могу, однако нетрудно догадаться о мотивах Кечвайо, который, хоть и пошел ради трона войной на брата, все же счел благоразумным пресечь саму идею о том, что проливать королевскую кровь можно безнаказанно. Также, зная, что я был свидетелем смерти принца, он прекрасно понимал, что Умбези — всего-навсего хвастливый лгун, надеявшийся снискать расположение могущественного победителя. Что ж, этот трагический инцидент имел продолжение. К чести Садуко, выяснилось, что он отказался становиться палачом своего тестя Умбези: воины, что увели Умбези, сами исполнили приказ Кечвайо, а Садуко скрутили и привели к принцу пленником. Когда Кечвайо узнал, что его прямой приказ, высказанный в привычной и устрашающей формулировке «Убери его!», был нарушен, он пришел в неописуемую ярость (или же изобразил ее). По моему убеждению, принц лишь искал повода к ссоре с Садуко, который, как он думал, был человеком весьма сильным во всех отношениях и потому опасным для него; человеком, который при случае может поступить с ним так же, как с Умбелази. Тем более сейчас, когда все сыновья Панды погибли, за исключением его и подростков Мтонги, Сикоты и Мкунго, которые бежали в Наталь, Садуко может замахнуться на трон как муж дочери короля. Однако Кечвайо опасался или же считал необдуманным одним махом убирать с дороги военачальника многих легионов, сыгравшего решающую роль в битве. Поэтому он приказал держать Садуко под стражей и отвести в Нодвенгу, где расследование должен будет провести король Панда, пока что правящий страной, хотя отныне лишь номинально. Под предлогом того, что мои свидетельские показания могут понадобиться, Кечвайо приказал и мне ехать в Нодвенгу. Так, не имея выбора, я отправился туда, где мне суждено было стать свидетелем финала драмы.Глава 15
МАМИНА ТРЕБУЕТ ПОЦЕЛУЯ
Едва добравшись до Нодвенгу, я заболел и почти две недели провалялся в своем фургоне. Что за болезнь свалила меня, не знаю, поскольку рядом не было доктора, способного сообщить мне об этом: на время войны страну покинули даже миссионеры. Возможно, лихорадка на фоне переутомления, нервного и физического, причем осложненная жуткой головной болью, вызванной, по-видимому, полученным в сражении ударом, — таковы были главные симптомы моей хвори. Когда я начал поправляться, Скоул и несколько моих приятелей-зулусов, пришедших меня проведать, рассказали, что по всей стране вспыхивают массовые беспорядки, что все еще продолжаются охота на приверженцев Умбелази исигкоза и их убийства и как будто даже кое-кто из узуту предлагал, чтобы я разделил их судьбу, но на этот счет Панда оставался непреклонен. В действительности король заявил публично: кто посмеет угрожать оружием мне, его гостю и другу, тем самым поднимет его против короля и станет разжигателем новой войны. Так что узуту оставили меня в покое, быть может, еще и потому, что сочли более разумным довольствоваться добытыми на этот час плодами победы. И действительно, они завоевали все: Кечвайо отныне сделался верховным правителем — по праву ассегая, — а у его отца осталось лишь имя. И хотя Панда по-прежнему являлся «главой» нации, Кечвайо был всенародно объявлен ее «ногами», и вся сила была в этих дееспособных и энергичных «ногах», а не в склоненной и сонной «голове». По сути, у Панды осталось так мало власти, что он не смог бы защитить даже свой домашний очаг. Как-то раз я услышал сильный шум и крики, доносящиеся из-за забора королевского крааля. Позже мне рассказали, что Кечвайо, вернувшись из крааля Амангве, объявил жену короля Номантшали умтакати, то есть колдуньей. Несмотря на мольбы и слезы отца, принц настоял на ее казни, причем на глазах Панды, — жестокое и бесчеловечное деяние. Столько лет прошло, и я уже не припоминаю, была ли Номантшали матерью Умбелази или одного из павших в сражении принцев[270]. Когда несколько дней спустя я, уже оправившись от болезни, не рискнул идти в королевский крааль, Панда прислал мне с гонцом подарок — вола. От имени короля гонец поздравил меня с выздоровлением и передал, что я не должен тревожиться о своей безопасности. Он добавил, что Кечвайо поклялся королю, что ни один волосок не упадет с моей головы: — Если бы я хотел убить Бодрствующего в ночи в отместку за то, что он сражался против меня, я бы сделал это еще там, на Тугеле. Но в этом случае мне пришлось бы убить и тебя, моего отца, поскольку это ты послал Макумазана, кстати, против его воли, со своим отборным полком. Но я люблю его, он храбр и принес мне благую весть о том, что принц, мой враг, умер от разбитого сердца. Кроме того, я не желаю ссориться с Белым домом (то есть с англичанами). Так что дай ему знать, что он может спать спокойно. А еще гонец сообщил, что завтра будут судить Садуко, мужа Нэнди, дочери короля, и главного индуну Умбелази. Суд состоится в присутствии короля и его советников, а также Мамины, дочери Умбези. Мое присутствие на нем желательно. Я спросил, в чем обвиняют Садуко. Гонец ответил, что против Садуко выдвинуто два обвинения. Первое: он стал зачинщиком гражданской войны в стране; и второе: втянув Умбелази в схватку, в которой погибло несколько тысяч человек, он совершил предательство, дезертировав на сторону противника в разгар битвы вместе со своими полками, — чудовищное преступление в глазах зулусов, к представителю какой бы партии он ни принадлежал. Также были выдвинуты три обвинения против Мамины. Первое: ребенка Садуко и других людей отравила она, а не ее первый муж Масапо, невинно пострадавший за ее преступление. Второе: она оставила Садуко, своего второго мужа, и ушла жить с другим мужчиной, а именно с ныне покойным принцем Умбелази. Третье обвинение: затянув в сеть своих колдовских чар принца Умбелази, именно Мамина тем самым вынудила его добиваться трона, права на который он не имел, и именно ее действия привели к исилило, то есть оплакиванию погибших, в каждом краале Зулуленда. — По узкой тропинке с этими тремя волчьими ямами Мамине придется шагать очень осторожно, чтобы их избежать, — заметил я. — Да, инкози, особенно если ямы те вырыты во всю ширину тропинки и на дне каждой торчит острый кол. О, Мамина уже, считай, покойница, и она заслуживает смерти, поскольку является величайшей умтакати к северу от Тугелы. Я вздохнул: что ни говори, а Мамину мне было жаль, хотя почему она должна избежать наказания, когда так много хороших людей погибло по ее вине, я не знал. Гонец же продолжал: — Черный владыка (то есть Панда) послал меня сказать Садуко, что перед судом ему разрешат увидеться с тобой, Макумазан, если он того пожелает, поскольку Панда знает, что ты был добрым другом Садуко, и подумал, что, возможно, ты захочешь дать показания в его пользу. — И что сказал на это Садуко? — спросил я. — Что благодарит короля, но ему нет нужды говорить с Макумазаном, чье сердце так же бело, как кожа, и чьи уста если и вымолвят что-то, то это будет истинная правда, не больше и не меньше. Услышав слова своего мужа, принцесса Нэнди, которая находится сейчас с ним, — она решила не бросать его в беде, как это сделали остальные, — сказала, что Садуко прав и что по этой причине, хоть ты и друг ему, она тоже не видит смысла в этой встрече. Я не стал комментировать слова Садуко и Нэнди, но «моя голова подумала», как говорят местные, что истинная причина нежелания Садуко видеть меня заключается в том, что ему было стыдно, а Нэнди просто боялась узнать больше о вероломстве мужа, чем она уже знает. — С Маминой же дело обстоит иначе, — рассказывал гонец. — Как только ее привели сюда вместе с Зикали Мудрым, у которого она будто бы скрывалась, и она узнала, что ты, Макумазан, здесь, в краале, она попросила разрешения увидеться с тобой… — И что, ей разрешили? — резко прервал я гонца, поскольку не испытывал никакого желания встречаться с ней с глазу на глаз. — Не бойся, инкози, не разрешили. — Гонец улыбнулся. — Король сказал, что стоит ей только увидеть Макумазана, как она тут же околдует его и навлечет на его голову беду, как поступает со всеми мужчинами. Кстати, именно поэтому ее охраняют одни женщины. Мужчинам запрещено даже приближаться к ней, а на женщин ее чары не действуют. Но говорят, что она весела, поет и смеется. Она рассказывает, что у старика Зикали ей было очень скучно, но что теперь она попадет в такое место, где так красиво, как на поле весной после первого теплого дождя, и где будет много мужчин, которые станут оспаривать ее друг у друга и сделают ее счастливой и великой. Вот что говорит она, и, может быть, она, как колдунья, знает, как выглядит обиталище духов. Видя, что я не собираюсь ничего отвечать или передавать с ним на словах, гонец отбыл, предупредив, что утром отведет меня к месту суда. Ночь я провел беспокойную, мне не давало уснуть тревожное ожидание судилища. Наутро, как подоили коров и выпустили скот из краалей, явился гонец с конвоем человек из тридцати амавомба, выживших после великой битвы. Едва я выбрался из фургона, как эти воины — некоторые из них едва залечили раны — разразились приветственными криками «Инкози!» и «Баба!». Меня тронула их радость и то, что простые зулусы по-прежнему любили меня и считали своим товарищем. По дороге, а шли мы неторопливо, командир отряда рассказал, как они боялись, что я погиб вместе со всеми, и как обрадовались, узнав, что я жив. Еще он рассказал, что после того, как третий полк Кечвайо атаковал их и прорвал кольцо, небольшому отряду амавомба, от восьмидесяти до ста человек, удалось пробиться сквозь ряды неприятеля и спастись, бежав не по направлению к Тугеле, где погибло столько тысяч, а к Нодвенгу, куда они явились с рапортом к королю как единственные выжившие в том страшном бою. — А теперь вы в безопасности? — спросил я командира. — О да, — ответил он. — Видишь ли, мы же были людьми короля, а не Умбелази, поэтому Кечвайо не питает к нам зла. Он даже благодарен нам за то, что мы дали узуту возможность насладиться настоящей битвой, не то что эти коровы — воины Умбелази. Зуб у него только на Садуко, потому что никогда не следует тащить утопающего из бурной реки, а Садуко сделал именно это. Ведь если бы не его предательство, Кечвайо сам утонул бы в водах Смерти. Тем хуже, что Садуко совершил предательство только ради того, чтобы досадить женщине, которая его ненавидит. И все же, может, Садуко еще и удастся избежать наказания, потому что он муж Нэнди, а Кечвайо побаивается своей сестры. Поживем — увидим. Но вот мы и пришли… Мы проследовали во внутренний двор королевского крааля, снаружи которого собралось довольно много народу. Люди кричали, шумели и ссорились, поскольку в то смутное время о порядке и дисциплине в Великом дворце никто и не вспоминал. Снару жи по всему периметру ограды стояла стража, внутри же находилось лишь человек двадцать советников, сам король, принц Кечвайо, сидевший по правую руку Панды, жена Садуко принцесса Нэнди, несколько слуг и два мощных молчаливых гиганта, вооруженных дубинками. Я сразу догадался, что это были палачи. В углу, в тенечке, пристроился Зикали Мудрый. Как он попал сюда, я не знал. По-видимому, тот суд являл собою исключительно частное разбирательство, что и объясняло необычное присутствие на нем двух «убийц». Даже мои охранники-амавомба остались за оградой, заверив меня, что они явятся мне на помощь по первому зову и что в таком узком кругу собравшихся я могу себя чувствовать в полной безопасности. Я смело приблизился к Панде. Король, хоть и остался таким же толстым, выглядел весьма уставшим и заметно постаревшим. Я отвесил ему поклон, а он пожал мне руку и справился о моем здоровье. Следом я пожал руку Кечвайо, увидев, что он тянет ее мне. Воспользовавшись случаем, принц сказал, что слышал, будто в столкновении у Тугелы я пострадал от удара по голове, и надеется, что я не испытал болезненных последствий этого ранения. Я ответил отрицательно, но выразил опасение, что некоторым другим, должно быть, повезло меньше, особенно тем, которые наткнулись на полк амавомба, вместе с которым мне довелось в тот день осуществлять мирную рекогносцировку. Это было дерзко с моей стороны, однако я твердо намеревался ответить ему баш на баш, и, между прочим, он принял мой выпад без обиды, от души рассмеявшись шутке. После этого я поздоровался с теми немногими членами совета, которых знал, поскольку большинство моих старых приятелей было убито, и уселся на скамью, приготовленную для меня неподалеку от Зикали. Карлик посмотрел на меня вполне равнодушно, будто видел впервые. Последовала пауза. Затем по знаку Панды открыли боковую калитку в изгороди, и в ней показался Садуко. Гордо расправив плечи, он прошел к месту напротив короля, поприветствовал его и по команде уселся на землю. Следующей из той же калитки в сопровождении женщин появилась Мамина. Она как будто совсем не изменилась и даже, по-моему, стала еще прекрасней, чем когда-либо. В плаще из серого меха, с коротким ожерельем из синих бус и блестящими медными браслетами на запястьях и лодыжках она выглядела настолько прелестной, что невольно приковала к себе всеобщие взоры, когда грациозно проплыла к королю и низко ему поклонилась. Затем она повернулась, увидела Нэнди и поклонилась ей, а также справилась о здоровье ее ребенка. Не дожидаясь ответа, которым, она знала, ее не удостоят, Мамина проследовала ко мне и схватила за руку, которую тепло пожала, проговорив, что рада видеть меня невредимым после стольких пережитых опасностей, хотя, на ее взгляд, и очень похудевшим. Вот только на Садуко, не сводившего с нее печального взгляда, она не обратила ни малейшего внимания. Я было даже подумал, что она не заметила его. Точно так же она якобы не узнала Кечвайо, хотя он и не сводил с нее глаз. Но как только взгляд ее упал на двух палачей, мне показалось, что Мамина задрожала, как тростинка. Затем она уселась на указанное место, и суд начался. Дело Садуко разбиралось первым. Сведущий в законах советник короля — могу уверить читателя, что у зулусов весьма замысловатые и прочно установившиеся законы, — полагаю, должность его можно было бы назвать «генеральный прокурор», поднялся и изложил обвинения против арестованного. Он поведал, как Садуко, не имевший в свое время положения в обществе, был возвеличен королем, который отдал ему в жены свою дочь, принцессу Нэнди. Затем обвинитель заявил, что, как будет доказано, Садуко убедил принца Умбелази, к чьей партии примкнул сам, пойти войной на Кечвайо, а когда война началась, в разгар великой битвы при Тугеле совершил предательство в отношении Умбелази, перейдя с тремя полками, находившимися под его командованием, на сторону Кечвайо, тем самым приведя Умбелази к поражению и гибели. По завершении краткого изложения обвинения Панда спросил Садуко, признает ли он себя виновным. — Виновен, о король, — ответил Садуко и умолк. Тогда Панда спросил его, что он может сказать в свое оправдание. — Ничего, о король, за исключением того, что я честно служил Умбелази, и когда ты объявил, что Умбелази и Кечвайо могут воевать друг с другом, то я, как и другие приверженцы Умбелази, обеими руками работал для того, чтобы он одержал победу. — Почему же тогда в разгар битвы ты бросил моего сына, принца Умбелази? — спросил Панда. — Потому что я увидел, что из двух быков, о которых ты говорил, принц Кечвайо сильнее, и захотел оказаться на стороне победителя… Все этого хотят… Не было иной причины, — спокойно ответил Садуко. Участники процесса, не исключая Кечвайо, с удивлением воззрились на него. Панда, как и все мы, слышавший совсем другую версию, выглядел озадаченным, в то время как Зикали в своем углу залился громовым смехом. После долгой паузы король, как верховный судья, приступил к вынесению приговора. Мне, по крайней мере, именно таким показалось его намерение. Однако не успел он произнести и трех слов, как поднялась со своего места и заговорила Нэнди: — Отец, прошу, выслушай меня, прежде чем произнесешь слова, которые нельзя будет взять назад. Хорошо известно, что Садуко был полководцем и советчиком брата моего Умбелази, и если его следует казнить за принадлежность к партии Умбелази, то и меня следует казнить, и бесчисленное множество других лиц, которые были на стороне Умбелази, хотя не принимали участия в битве. Хорошо известно также, отец мой, что во время битвы Садуко перешел на сторону Кечвайо, хотя стало ли это причиной поражения Умбелази, я не знаю. Почему он перешел? Он утверждает, что хотел быть на стороне победителя. Это неправда! Он перешел, чтобы отомстить Умбелази, который увел у него вот эту колдунью, — и Нэнди показала пальцем на Мамину, — эту ведьму, которую любил и продолжает любить до сих пор и которую станет защищать, даже если навлечет на свое имя бесчестье. Я не отрицаю: Садуко согрешил. Но взгляни, отец, вот сидит настоящая изменница, она красна от крови Умбелази и всех тех тысяч погибших, кто отправился с ним в царство духов. Поэтому, о король, умоляю тебя, пощади жизнь Садуко, моего мужа, а если все же он умрет, то знай: я, твоя дочь, умру вместе с ним. Я все сказала, о король. Полная спокойного достоинства, она вновь опустилась на свое место дожидаться судьбоносных слов. Однако Панда не произнес их, сказав лишь: — Рассмотрим дело этой женщины — Мамины. Вновь поднялся тот же советник короля и огласил обвинения против Мамины, а именно: что не Масапо, а она отравила ребенка Садуко; что, выйдя замуж за Садуко, она оставила его и ушла жить с принцем Умбелази; и, наконец, что она околдовала вышеназванного Умбелази и побудила его развязать гражданскую войну в стране. — Если второе обвинение, а именно что эта женщина оставила своего мужа ради другого мужчины, будет доказанным, то это преступление карается смертью, — объявил Панда, как только умолк говоривший советник. — А в таком случае нет необходимости разбирать первое и третье обвинения, пока не будет рассмотрено это. Женщина, что ты можешь сказать по поводу этого обвинения? Все поняли, что король по какой-то одному ему известной причине не желает объединять все три обвинения — в убийстве, измене мужу и колдовстве, — и повернулись к Мамине в ожидании ее ответа. — О король, — заговорила она своим тихим, мелодичным голосом. — Не могу отрицать, что я оставила Садуко ради Умбелази Красивого, точно так же как и Садуко не может отрицать, что он бросил побежденного Умбелази ради победителя. — Почему ты ушла от Садуко? — спросил Панда. — О король, быть может, потому, что полюбила Умбелази, не напрасно же его звали Красивым! Ты сам знаешь, что принц, твой сын, заслуживал любви. — Она помедлила, глядя на несчастного Панду, который болезненно поморщился. — Или, может, потому, что мне хотелось стать великой. Ведь Умбелази был сыном короля, и, если бы не Садуко, разве он не стал бы когда-ни будь королем? А может, я больше не в силах была переносить оскорбления принцессы Нэнди: она жестоко обращалась со мной и угрожала поколотить, потому что Садуко чаще бывал в моей хижине, чем в ее. Спроси Садуко, обо всем этом он знает больше меня. — Мамина пристально посмотрела на Садуко, а затем продолжила: — О король! Как может женщина назвать причины, о которых не ведает сама? — Вопрос, услышав который некоторые слушатели улыбнулись. И тут поднялся Садуко и медленно заговорил: — Выслушай меня, о король, и я назову причину, которую скрывает Мамина. Она бросила меня ради Умбелази, потому что это я велел ей так сделать. Я знал, что Умбелази грезит ею, и хотел покрепче связать себя с тем, кто, как я полагал, унаследует трон. Более того, мне просто надоела Мамина, которая день и ночь скандалила с принцессой Нэнди, моей инкози-каас. Нэнди изумленно ахнула (не удержался и я), но Мамина рассмеялась и продолжила: — Да, король, это были настоящие причины, о которых я позабыла. Я оставила Садуко по его приказу, потому что он хотел сделать подарок принцу. К тому же я ему надоела: по нескольку дней подряд не говорил он со мною, сердясь за то, что я ссорилась с Нэнди. Кроме того, была еще причина, о которой я забыла сказать. У меня не было детей, а потому я думала, что это не имеет значения, уйду я или останусь. Если Садуко пороется в своей памяти, то он вспомнит, что мы с ним об этом говорили. И вновь она посмотрела на Садуко, и тот поспешно ответил: — Да-да, я говорил ей, что не хочу держать в своем краале бесплодных коров. На этот раз некоторые присутствующие откровенно рассмеялись, но Панда нахмурился. — Сдается мне, — сказал он, — что уши мои набили ложью, но где здесь правда, я сказать не могу. Что ж, если женщина оставила мужчину по его собственному желанию и ради соблюдения его интересов, как она утверждает, значит вина лежит на нем, а не на ней. А посему это дело закрыто. Теперь, женщина, что ты можешь рассказать о колдовстве, которое, как утверждают, ты использовала против покойного принца и тем самым вынудила его развязать войну в стране? — Думаю, меньше, чем ты хотел бы слышать, о король, и мне… неловко говорить об этом, — ответила она, скромно опустив голову. — Единственное колдовство, которым я пользовалась, живет здесь, — она коснулась своих прекрасных глаз, — и здесь, — она коснулась своих изящно изогнутых губ, — и в моем бедном теле, которое некоторые находят прекрасным. Что же касается войны, то какое отношение к войне имею я, женщина? Я никогда не говорила с Умбелази, который был мне так дорог, о войне, ни о чем таком не говорила, кроме… — Она подняла голову, по щекам ее бежали слезы. — Кроме как о любви. Скажи, неужели только за то, что Небеса одарили меня красотой, которая привлекает мужчин, меня надо казнить как колдунью? Ни у Панды, ни у кого другого не нашлось ответа на этот аргумент. К тому же все хорошо знали, как лелеял Умбелази свои честолюбивые мечты о наследстве задолго до знакомства с Маминой. Так отпало и это обвинение. Осталось первое, самое тяжкое, — в убийстве ребенка Нэнди. Только теперь, когда огласили это последнее против нее обвинение, я впервые заметил тревогу, появившуюся в нежных глазах Мамины. — О король, — сказала она, — ведь с этим делом покончено давным-давно, еще когда великий ньянга Зикали разоблачил колдуна Масапо, бывшего мне мужем, и Масапо казнили. Разве меня нужно снова судить за это? — Не совсем так, женщина, — ответил Панда. — Зикали только выведал, что преступление было совершено при помощи яда, а поскольку яд нашли у Масапо, его и казнили как колдуна. Однако не исключено, что яд применил не он. — Тогда королю следовало бы подумать об этом прежде, чем убивать его, — пробормотала Мамина. — Но вот что я вспомнила: Масапо всегда враждебно относился к дому Сензангаконы. Панда ничего не ответил на это последнее замечание, быть может, потому, что оно было неопровержимым, даже в стране, где считалось обычным делом сначала убить подозреваемого в колдовстве, а уж потом расследовать, действительно ли он был в нем повинен. А может, король счел благоразумным проигнорировать предположение, что Масапо вдохновила личная вражда. Панда лишь взглянул на свою дочь — Нэнди поднялась и сказала: — Отец, ты позволишь мне вызвать свидетеля по делу об отравлении? Панда кивнул, и Нэнди сказала одному из советников: — Позовите мою служанку Наану, она ждет за оградой. Советник вышел и вскоре вернулся с пожилой женщиной, которая, как выяснилось, была нянькой Нэнди и, так и не выйдя замуж вследствие некоего физического недостатка, осталась служанкой в их семье навсегда. Ее знали все и уважали за скромный образ жизни. — Наана, — обратилась к ней Нэнди, — тебя привели сюда, чтобы ты повторила королю и его совету то, что рассказала мне о женщине, заходившей в мою хижину незадолго до смерти моего первенца, и о том, что она там делала. Сначала скажи, присутствует ли здесь эта женщина? — Да, инкосазана, — ответила Наана. — Вот она сидит. Как такую не узнаешь? — С этими словами она показала на Мамину, которая ловила буквально каждое ее слово. — Тогда расскажи об этой женщине и о том, что она сделала, — попросил Панда. — Слушаюсь, о король. За две ночи до того, как ныне покойный ребенок заболел, я видела, как Мамина прокралась в хижину госпожи Нэнди. В той хижине спала я, а хижина большая, и я лежала в углу, куда не доставал свет очага. В тот момент госпожи Нэнди и ее сына в хижине не было. В женщине той я узнала жену Масапо Мамину, она приятельствовала с инкосазаной и пришла ее навестить, так мне подумалось, и я не стала себя обнаруживать. Сначала я не придала значения тому, что она посыпала чем-то маленькую циновку, на которой обычно спал малыш: я решила, что это какое-то лекарство, потому что слышала, как она обещала инкосазане порошок, который выведет насекомых. Потом она подсыпала порошок в стоявший у очага сосуд с теплой водой для купания малыша и все время шептала какие-то слова, но я не разобрала, какие именно. А еще она сунула что-то в солому у входа. Все это показалось мне странным, и я было хотела окликнуть ее, но не успела, Мамина ушла. И так вышло, о король, что почти сразу ко мне в хижину явился посланник с известием о том, что в своем краале, а он в четырех днях пути от Нодвенгу, умирает моя старая мать и что она умоляет меня прийти повидаться с ней в последний раз. Я совсем забыла о Мамине с ее порошком и бросилась искать принцессу Нэнди. Я умолила ее отпустить меня с посланником к моей матери, и она разрешила мне уйти, сказав, что я могу не возвращаться, пока не похороню мать. И вот я ушла. Однако мать моя умирала долго, много лун сменилось, прежде чем я закрыла ей глаза, и все это время она не отпускала меня, да и сама я, конечно, не хотела оставлять родного человека. Наконец все было кончено, и настали дни скорби, затем несколько дней отдыха, за ними минуло несколько дней, когда делили скот… В итоге прошло шесть месяцев или более, прежде чем я вновь приступила к своей работе у принцессы Нэнди. И тогда я узнала, что Мамина теперь вторая жена господина Садуко, и что первый ребенок госпожи Нэнди умер, и что Масапо, первый муж Мамины, уличен в колдовстве и казнен как убийца ребенка. Но все эти страшные дела в прошлом, а Мамина была очень добра ко мне, дарила подарки и брала часть моих забот на себя, и, поскольку я видела, что мой господин Садуко очень любит ее, мне и в голову не приходило рассказать о том порошке, что насыпала Мамина на циновку. После же того, как Мамина сбежала с принцем, ныне покойным, я обо всем рассказала госпоже Нэнди. А госпожа Нэнди в моем присутствии проверила солому при входе в хижину и нашла в ней какое-то зелье, завернутое в мягкую кожу, похожее на те, что продают ньянги пришедшим к ним за советом; с помощью подобных снадобий можно наслать злые чары на своих врагов, или заставить любить себя, или внушить ненависть к мужьям или женам… Вот все, что мне известно об этом, о король. — Нэнди, мои уши слышали правдивую историю? — спросил Панда. — Или эта женщина лгунья, как все остальные? — Не думаю, что она лжет, отец. Взгляни: вот то мути (снадобье), что нашли мы с Нааной спрятанным у входа в хижину, которую я весь тот день оставляла открытой. И принцесса положила на землю небольшой мешочек из кожи, очень аккуратно сшитый сухими жилами и перетянутый вокруг горловины бечевкой. Панда велел одному из советников открыть мешочек, что тот проделал весьма неохотно, явно страшась стать жертвой колдовства, и высыпал содержимое на внутреннюю сторону кожаного щита, который затем пронесли покругу с тем, чтобы все могли посмотреть. Насколько мне удалось разглядеть, снадобье представляло собой какие-то сухие корни, маленький фрагмент бедренной кос ти человека, возможно младенца (причем отверстие кости было заткнуто миниатюрной пробкой из дерева), и ядовитый зуб змеи. Едва взглянув на это, Панда отпрянул и проговорил: — Зикали Мудрый, ты искусен в магии. Подойди сюда и скажи нам, что это за снадобье. Зикали, до этого неслышно сидевший в своем углу, тяжело поднялся со скамьи и заковылял через открытое пространство к тому месту, где напротив короля лежал щит. Когда он проходил мимо Мамины, она наклонилась к карлику и что-то быстро ему зашептала, однако он, не останавливаясь, закрыл ладонями уши и пригнул голову, чтобы, как я полагаю, не слышать ее слов. — Какое я имею отношение к этому делу, о король? — спросил он. — Полагаю, большое, о мудрый Открыватель дорог, — сурово проговорил король. — Учитывая, что именно ты разоблачил Масапо, что именно в твоем краале эта женщина пряталась, когда ее любовник, мой ныне покойный сын, отправился на битву, откуда ее и доставили сюда вместе с тобой. Скажи нам, что это за мути, и, будучи мудрым, а мы знаем, что ты мудр, смотри скажи нам правду, чтобы никто не мог назвать тебя, о Зикали, не ньянгой, а умтакати. Иначе, — добавил он с нажимом и тщательно подбирая слова, — иначе, Зикали, я, возможно, буду вынужден проверить, можно ли тебя убить, как других людей, или нельзя. Тем более что недавно мне рассказали, будто твое сердце исполнено злобой по отношению ко мне и моему роду. Зикали помедлил в нерешительности — думаю, чтобы выиграть время для достойного ответа: он понял, что ему грозит. Неожиданно он зашелся своим жутким смехом и сказал: — Ого! Король полагает, что выдра попалась в ловушку. — И он бросил взгляд на охраняемую воинами изгородь и на свирепых палачей, пристально наблюдавших за ним. — Что ж, много раз казалось, что эта выдра сидит в ловушке, да-да, еще раньше, чем твой отец увидел свет, о сын Сензангаконы, и после этого. Однако вот он я, еще живой. Не стоит проверять, о король, смертен я или нет, ведь когда смерть приходит за таким, как я, то она забирает вместе с ним и многих других. Разве не слышал ты поверья о том, что, когда Открыватель дорог подойдет к концу своего пути, на свете не будет больше короля зулусов, как не было его в те дни, когда Открыватель дорог начинал свой путь, поскольку ему суждено увидеть при жизни всех зулусских королей? Так говорил Зикали, поглядывая исподлобья то на Панду, то на Кечвайо, и те ежились под его взглядом. — Вспомни, — продолжил он, — что Лютый Владыка, которого давно уже нет в живых, грозил тому, кого он называл Тот, кому не следовало родиться, и убил всех, кого он любил, но потом и сам был убит теми, кого уже тоже нет в живых, и что ты один, о Панда, не грозил ему и что ты один, о Панда, не был убит. Теперь, если ты хочешь произвести опыт, могу ли я умереть, как другие люди, прикажи своим собакам напасть на меня. Зикали готов. — И, скрестив руки на груди, он умолк в ожидании. Все мы тоже ждали, затаив дыхание: мы поняли, что страшный карлик противопоставил себя Панде и Кечвайо и бросил им вызов. И вскоре стало ясно, что победа осталась за ним, поскольку Панда лишь сказал: — Зачем мне убивать того, к кому прежде я относился по-дружески? И зачем, о Зикали Мудрый, ты бросаешь мне эти страшные слова о смерти, ведь в последнее время я только и слышу о ней? — Он вздохнул и добавил: — А теперь, будь так любезен, расскажи нам об этом снадобье, в противном случае я пошлю за другими ньянгами. — Почему бы и не сказать, коль ты просишь так мирно и не угрожая мне, о король? Гляди, — Зикали взял несколько скрученных корней, — это корешки ядовитой травы, которая расцветает ночью на горных вершинах, и горе тому волу, который отведает ее. Корешки эти выварили в желчи и крови, и, если их спрятать в хижине, произнеся при этом слова силы, беда непременно придет в этот дом. А это — кость младенца, у которого еще не начали выпадать молочные зубы, думаю, его бросили умирать в лесу одного, потому что был нежеланным для своих родителей, а других для него не нашлось. Такая косточка обладает силой нести несчастье другим детям, к тому же она наполнена заколдованным зельем. Смотри! — И, вытянув деревянную пробку, он высыпал из кости немного серого порошка и снова заткнул ее. — А это, — продолжил он, беря в руку змеиный зуб, — это зуб смертельно ядовитой змеи, который, после того как из него извлекут яд, используют женщины, чтобы приворожить сердце мужчины, отвратив его от другой. Я все сказал. Он повернулся уходить. — Постой! — сказал король. — Кто сунул эту мерзость в солому у входа в хижину Садуко? — Я не могу сказать этого, пока не сделаю должных приготовлений, не брошу кости и не разоблачу злодея. Ты же слышал рассказ этой женщины, Нааны. Прими его или отвергни — поступай, как подсказывает тебе сердце. — Если она рассказала нам правду, о Зикали, то как же получилось, что ты сам указал на Масапо как на убийцу ребенка, чем обрек его на смерть, а не на Мамину? — Ты заблуждаешься, о король. Я, Зикали, разоблачил тогда семью Масапо. Затем исследовал яд, попытавшись обнаружить его прежде всего в волосах Мамины, но нашел на плаще Масапо. Я никогда не утверждал, что яд подсыпал Масапо. Это было решение короля и его совета. О король, я хорошо знал, что в том деле скрывалось что-то еще, и, заплати ты мне тогда щедрее и попроси меня продолжить использовать свою мудрость, я бы, несомненно, нашел, где в хижине таилось это колдовское зелье, и, быть может, узнал бы и имя спрятавшего его. Но в тот день я был таким уставшим, ведь я очень стар, и не все ли мне было равно, решишь ты убить или отпустить Масапо, который был твоим тайным врагом и заслуживал смерти — если не за это деяние, то за другие. Все это время я наблюдал за лицом Мамины: она сидела по-зулусски и вслушивалась в слова убийственного свидетельства с едва заметной улыбкой, не пытаясь прервать его или что-либо объяснить. Заметил я и то, что, пока Зикали осматривал зелье, глаза Мамины пытались отыскать глаза Садуко, но тот молча сидел на месте и как будто не проявлял интереса ни к самому процессу, ни к кому-либо из присутствовавших на нем. Как-то неловко отвернув голову, он явно старался избегать взгляда Мамины, и все же глаза их встретились. Сердце его забилось, грудь начала вздыматься, и на лице его вдруг появилось мечтательное, даже счастливое выражение. С этого мгновения и до окончания суда Садуко не отрывал глаз от этой удивительной женщины, хотя, думаю, кроме меня, поднаторевшего в наблюдательности, и карлика Зикали, видевшего и знавшего все, никто не заметил этого любопытного обстоятельства. Король взял слово. — Мамина, — сказал он, — ты все слышала. Тебе есть что сказать в свою защиту? Если нет, то это будет означать, что ты колдунья и убийца и должна будешь умереть. — Одно только слово, о король, — спокойно ответила Мамина. — Наана говорит правду. Я действительно входила в хижину Нэнди и спрятала там зелье. И сейчас говорю это, потому что не в моих правилах скрывать правду или пытаться подвергнуть сомнению даже слова простой служанки. — И она посмотрела на Наану. — Выходит, ты сама себе подписываешь приговор, — сказал Панда. — Не совсем, о король. Я лишь сказала, что подложила зелье в хижину. Я не говорила и не стану говорить, каким образом и зачем я это сделала. Пусть это расскажет вам Садуко — тот, который был моим мужем, которого я оставила ради Умбелази и который, как настоящий мужчина, должен за это ненавидеть меня. Я соглашусь со всем, что он скажет. Если он объявит меня виновной, значит я виновна и буду готова заплатить за свой грех. Но если Садуко скажет, что на мне нет вины, тогда, о король и принц Кечвайо, я без страха отдам себя вашему правосудию. Что ж, говори, Садуко! Говори правду, какой бы они ни была, если на то воля короля! — Такова моя воля, — объявил король. — И моя, — подал голос Кечвайо, по-видимому сильно заинтересованный происходящим. Садуко встал. Это был тот самый Садуко, которого я хорошо знал, и в то же время это был другой Садуко. В нем словно угас огонь жизни: от горделивого и самоуверенного вида не осталось и следа. Никто не узнал бы в нем самонадеянного и отважного воина, которого прежде зулусы называли Самоедом. Это была лишь тень прежнего Садуко, наполненная неким новым, чужим и недобрым духом. Тусклые, мутные глаза его удерживали взгляд прекрасных глаз Мамины, в то время как он нерешительно и неторопливо начал свой рассказ. — Все правда, о Лев. Правда, что Мамина посыпала ядом циновку моего ребенка. Правда, что она спрятала смертоносное зелье в соломе у входа в хижину Нэнди. Только она не понимала, что делает, она выполняла мои приказания. Вот как все было. Я всегда любил Мамину, с самого начала, как никогда не любил другой женщины и как никакая другая женщина никогда не была любима. Однако, пока я ходил с Макумазаном, который сидит здесь, в поход против Бангу, вождя амакоба, убившего моего отца, Умбези, отец Мамины, которого принц Кечвайо скормил стервятникам за то, что тот солгал о смерти Умбелази, так вот, отец Мамины заставил ее против воли выйти замуж за Масапо Борова, которого потом казнили за колдовство. Здесь, на твоем пиру, когда ты устроил смотр племенам Зулуленда, о король, уже после того, как ты отдал мне в жены госпожу Нэнди, мы с Маминой встретились вновь и полюбили друг друга сильнее прежнего. Но, как честная женщина, Мамина оттолкнула меня, сказав: «У меня есть муж, которому, хоть он и не люб мне, я останусь верна, пока живу с ним». И тогда, о король, я послушался совета злого духа в моем сердце и придумал план избавиться от Масапо Борова, погубить его, а когда он умрет, жениться на Мамине. Замысел мой был таков: отравить нашего с принцессой Нэнди сына, но устроить все так, чтобы в смерти его обвинили Масапо и казнили его как колдуна, а я бы женился на Мамине. Все ахнули при этом поразительном показании. Самый хитрый и самый жестокий из этих дикарей не мог бы придумать такой гнусности. Даже Зикали поднял голову и вытаращил глаза. Нэнди вышла из своего обычного спокойствия и вскочила, как бы желая что-то сказать, но, взглянув сперва на Садуко, а потом на Мамину, снова села и замерла в ожидании. А Садуко продолжал тем же безучастным и размеренным голосом: — Я дал Мамине порошок, который купил за двух телок у одного великого знахаря; он тогда жил за Тугелой, но теперь умер. Я сказал ей, что порошок этот для Нэнди, моей инкози-каас, что он поможет вывести жучков, появившихся в хижине, и рассказал ей, где его насыпать. Также я дал ей мешочек со снадобьем и велел засунуть его в солому у входа в хижину, якобы он принесет благо в мой дом. Повторяю, все это она проделала, чтобы угодить мне, и не ведала, что порошок — яд, а снадобье заколдовано. В итоге ребенок мой умер, а сам я заболел, потому что случайно коснулся порошка. Потом старый Зикали разоблачил Масапо как колдуна, ведь это я велел зашить кожаный мешочек с ядом ему в плащ, что бы обмануть Зикали. По твоему приказу, о король, Масапо был казнен, и Мамину отдали мне в жены также по твоему приказу, о король. Я получил то, чего добивался. Позднее, как я уже говорил, я от нее устал и, желая угодить принцу, который удалился от двора, я велел ей отдаться ему, что Мамина и сделала ради любви ко мне и ради моего дальнейшего продвижения. Она ни в чем не виновата. Садуко закончил свою речь и вновь опустился на землю, как автомат, у которого выдернули шнур, по-прежнему не спуская взгляда потухших глаз с лица Мамины. — Ты все слышал, о король, — сказала Мамина. — Выноси приговор, но знай: будь на то твоя воля, я готова умереть ради Садуко. Неожиданно Панда пришел в ярость и вскочил на ноги. — Увести его! — рявкнул он, показав на Садуко. — Смерть этому псу, который пожрал свое дитя ради того, чтобы отправить на казнь невиновного и украсть у него жену! Палачи ринулись вперед. Я почувствовал, что больше не в силах выносить происходящего, и, решив сказать свое слово, начал уже подниматься на ноги, но едва я успел распрямить их, как заговорил Зикали. — О король! Выходит, за то преступление ты казнил невинного человека — Масапо. И сейчас решил сделать то же самое с другим? — О чем это ты? — в сердцах воскликнул король. — Разве ты не слышал, что говорил этот подлец, которого я возвеличил, дав ему править другими племенами и женив на своей дочери? Ты не слышал его признаний в том, как он убил собственного ребенка, дитя моей крови, только лишь затем, чтобы сорвать росший у дороги плод, от которого всякий мог откусить кусочек? — И он грозно глянул на Мамину. — Да, дитя Сензангаконы, — ответил Зикали. — Я слышал все это из уст Садуко, но голос, что лился из его уст, не был голосом Садуко, ведь, будь ты таким же умудренным ньянгой, как я, ты бы сразу понял это, как понял я и как понял белый человек, Бодрствующий в ночи, умеющий читать в сердцах людей… Слушай меня, о король, и вы, знатные советники, сидящие вокруг короля, я расскажу вам историю. Мативане, отец Садуко, был моим другом, как и твоим, о король. И когда Бангу убил его и его людей с позволения Дикого Зверя (Чаки), я спас его сына, да, вырастил и воспитал его в своем доме и полюбил его. Позже, когда он вырос и стал мужчиной, я, Открыватель дорог, показал ему две дороги, по каждой из которых он был волен пуститься в путь, — дорогу мудрости и дорогу войны и женщин: белая дорога бежит через мир к знанию, красная дорога бежит через кровь к смерти. Однако на красной дороге его уже кое-кто поджидал и манил — вот эта женщина, и он последовал за ней, и я знал, что так и будет. С самого начала она была ему неверна, выйдя замуж за человека побогаче. Позже, когда Садуко стал богат и знатен, она горько пожалела о содеянном и пришла ко мне за советом, как ей избавиться от Масапо, которого, клялась она, люто ненавидела. И тогда я сказал ей, что она может уйти от него к другому или дожидаться, когда ее дух уберет Масапо с ее пути, однако я никогда не сеял зла в ее сердце: я видел, что оно уже поселилось там. Она, и никто другой, влюбив в себя Садуко так, что он совсем потерял голову, убила ребенка Нэнди, его инкози-каас, и, добившись казни Масапо, змеей вползла в объятия Садуко. Здесь она мирно переждала некоторое время, пока не пала на нее новая тень — тень Слона с хохолком, которому больше не бродить по лесам. Она соблазнила принца, замыслив с его помощью добиться большей власти, и бросила Садуко, разбив ему сердце. И тогда в груди Садуко, там, где прежде было сердце, завелся злой дух ревности и мести, и в битве при Тугеле дух тот оседлал и погнал его — так скачет верхом на лошади белый человек. Он заранее сговорился с принцем Кечвайо — не отрицай, о принц, я все знаю. Разве не заключили вы сделку на третью ночь перед битвой там, в зарослях кустарника, а потом не разбежались в разные стороны, когда между вами вдруг выпрыгнул кролик? — Тут Кечвайо, собравшийся было перебить Зикали, вдруг набросил угол меховой накидки себе на лицо. — И вот, как они сговорились, так Садуко и сделал — перешел со своими полками от исигкоза к узуту и тем самым обрек Умбелази на поражение, а многие тысячи людей — на смерть. Да, и сделал это он лишь по одной причине — из-за того, что вот эта женщина ушла от него к принцу, а он больше всего на свете любил ее, ту, что до краев наполнила его безумием, как наполняют молоком сосуд. И вот только что, о король, ты слышал, как этот человек рассказывал тебе свою историю. Ты услышал, как он громогласно заявил, что подлее его на земле не сыскать; что он убил собственное любимое дитя, лишь бы заполучить эту ведьму; что впоследствии он отдал ее своему другу и господину, лишь бы заполучить от него побольше милостей, и что, наконец, он предал этого своего господина, потому что решил, что предательством своим он получит еще больше милостей у нового господина. Не так ли он говорил, о король? — Все так, — ответил Панда. — И поэтому Садуко должно бросить на съедение шакалам. — Погоди немного, о король. Я утверждаю, что Садуко говорил не своим голосом — это в нем говорила Мамина. Я утверждаю, что она величайшая колдунья во всей стране. Она одурманила его зельем своих глаз, и он не ведает, что говорит. Точно так же, как она одурманила принца, который нынче мертв. — Тогда докажи это, иначе Садуко умрет! — воскликнул король. Старый карлик подошел к Панде и шепнул ему что-то на ухо, Панда, в свою очередь, что-то прошептал двум своим советникам. Эти двое, невооруженные, поднялись со своих мест и сделали вид, будто покидают место суда. Но когда они проходили мимо Мамины, один из них вдруг обхватил ее, крепко сжав ей руки, а второй сорвал с себя плащ — в тот день было холодно, — накинул ей на голову и завязал у нее за спиной так, что плащ укрыл ее всю, кроме щиколоток и ступней. И хоть Мамина не сопротивлялась и даже не двигалась, ее продолжали крепко удерживать. Карлик заковылял к Садуко и велел ему встать. Садуко повиновался, и Зикали устремил на него долгий пристальный взгляд, производя руками какие-то движения перед его лицом. Спустя некоторое время Садуко вдруг шумно вздохнул и удивленно огляделся вокруг. — Садуко, — обратился к нему Зикали, — прошу, скажи мне, твоему приемному отцу, правду ли говорят, что ты продал свою жену Мамину принцу Умбелази ради того, чтобы на тебя проливным дождем обрушились его милости? — Что ты мелешь, Зикали! — возмущенно воскликнул Садуко. — Будь ты обычным человеком, я бы убил тебя на месте, жаба, за то, что позоришь гнусной ложью мое доброе имя. Она сбежала с принцем, обольстив его чарами своей красоты. — Только не бей меня, Садуко, — продолжил Зикали. — Или хотя бы не бей сразу, пока не ответишь еще на один вопрос. Правда ли то, что в битве при Тугеле ты переметнулся к узуту вместе со своими полками, решив, что Умбелази будет разбит, а ты хотел принять сторону победителя? — Это клевета! — заорал Садуко. — Была только одна причина перейти к Кечвайо — я хотел отомстить принцу за то, что он отнял у меня ту, что была мне дороже жизни и чести. Да, и в тот момент, когда я перешел, победа склонялась на сторону Умбелази, а когда я перешел, он проиграл битву и умер, чего я и хотел. Но теперь, — грустно прибавил он, — я сожалею, что довел его до гибели, так как вижу, что он, подобно мне, был только орудием честолюбивых замыслов этой женщины… О король! — обратился он к Панде. — Молю тебя, убей меня! Я недостоин жизни: тот, кто обагрил руки кровью друга, достоин лишь одной награды — смерти, он достоин лишь разделить свой сон с рассерженными духами, которые сейчас грозно наблюдают за ним. — Не слушай его, отец! — воскликнула Нэнди, вскочив со своего места. — Он безумен, а значит, безгрешен, ибо стал блаженным![271] Он сделал то, что сделал, но, как сам только что сказал, был при этом лишь орудием в чужих руках. Что же касается нашего первенца, то Садуко любил его так сильно, что скорее умер бы, чем причинил ему вред, а когда мы похоронили нашего малыша, он рыдал три дня и три ночи и не прикасался к еде. От дай мне этого несчастного человека на мое попечение, отец мой, мне, его жене, которая любит его, и позволь нам уйти отсюда в другую страну. — Помолчи, дочь, — велел ей король. — И ты, о Зикали, тоже помолчи. Они повиновались. Панда, поразмыслив немного, сделал знак рукой, и два советника сняли накидку с Мамины. Женщина как ни в чем не бывало огляделась и спросила, не участвует ли она в какой-то детской игре. — Да, женщина, — ответил ей Панда, — ты принимаешь участие в большой игре, но отнюдь не в детской, — а в игре жизни и смерти. Итак, слышала ли ты рассказ Зикали Мудрого и слова Садуко, приходившегося когда-то тебе мужем, или им следует повторить тебе сказанное? — В этом нет нужды, о король, мех накидки не приглушил мой чуткий слух, и я не буду занимать понапрасну твое время. — Тогда что скажешь ты на это, женщина? — Немного, — пожала плечами Мамина. — Скажу лишь, что игру эту я проиграла. Ты не поверишь, но, если бы ты отпустил меня, о король, я бы рассказала то же самое, потому что не хочу, чтобы этого глупца Садуко убивали за то, чего он никогда не совершал. Однако он рассказал тебе свою историю не потому, что я заколдовала его, а потому что безумно любит меня и пытается спасти. Это Зикали заколдовал его, Зикали — враг твоего дома, который в итоге изведет весь твой род, о сын Сензангаконы! Он околдовал тебя и всех вас и силой чар своих вытянул правду из подневольного сердца… Что же мне еще сказать вам? Совсем чуть-чуть. Все, в чем меня обвиняют, — дело моих рук, как и то, о чем не было рассказано. О, ставки в моей игре были высоки. Я мыслила стать инкосазаной зулусов, и все складывалось так, что я была на волосок от выигрыша… и проиграла. Я думала, что все просчитала, но весом того волоска, который склонил чашу весов не в мою пользу, стала безумная ревность этого глупца Садуко, не принятая мной в расчет. Теперь-то я понимаю, что, прежде чем бросить Садуко, мне следовало его убить. Трижды я думала об этом. Один раз даже подмешала яд ему в питье, но он пришел ко мне такой утомленный своими интригами и, прежде чем выпить, поцеловал меня, вот тогда-то мое женское сердце и смягчилось, и я опрокинула чашу, которую он уже нес к губам. Помнишь, Садуко? Так-то вот. За одно только это безрассудство я заслуживаю смерти, поскольку та, что мечтает править, — и красивые глаза Мамины сверкнули по-царски, — должна обладать сердцем тигрицы, но не женщины. Что ж… Я была слишком добра и потому должна умереть. Но не страшно умереть той, которую в царстве теней встретят тысячи и тысячи воинов под предводительством твоего сына, Слона с хохолком, которых я послала туда раньше меня. Они будут приветствовать меня, как инкосазану смерти, поднятыми вверх окровавленными копьями и королевским салютом! Вот и все. Я все сказала. Ступайте своей жалкой дорогой, о король, и принц, и советники, пока не дойдете до края бездны, которая поглотит вас всех. О Панда, когда ты встретишь меня вновь на дне той бездны, какую же историю поведаешь ты мне, жалкая тень короля? Ты, чье сердце отныне будет глодать червь по имени Любовь к усопшим? О принц и победитель Кечвайо, какую историю тебе придется рассказать мне, когда я поприветствую тебя на дне той бездны, — тебя, который приведет свой народ к гибели и наконец умрет, как должна умереть я — всего лишь раба и исполнитель воли других. Нет, не спрашивай меня ни о чем. Спроси старого Зикали, моего хозяина, который видел зарю твоего рода и станет свидетелем его заката. О да, ты прав, я ведьма, и я знаю, я знаю! Ведите меня, я устала. Как же я устала от вас, мужчин! Вы всегда раздражали меня своей тупостью, тем, что вас так легко напоить, а когда вы пьяные, вы совершенно омерзительные. Уф-ф! Я устала от вашего здравомыслия и вашего коварства, устала от вашего пьянства и вашей грубости, ведь вы всего лишь дикие звери, которым Творец Мвелинганги дал головы, и головы ваши способны думать, да только думают они всегда неправильно. А теперь, король, погоди еще чуть-чуть, прежде чем спустить на меня своих собак. Я сказала, что презираю всех мужчин, но, как известно, ни одна женщина не способна говорить правду — всю правду. Есть здесь мужчина, которого я не презираю и не презирала никогда, которого, наверное, даже люблю — люблю потому, что он не любит меня. Вот он сидит, — и, к моей крайней растерянности и острому интересу присутствующих, Мамина указала на меня, Аллана Квотермейна! — Лишь однажды своими чарами, о которых вы уже достаточно наслышались, я одержала верх над этим мужчиной против его воли и рассудка. Но по доброте своей отпустила его. Да, я отпустила редкую рыбу, когда она уже была у меня на крючке, потому что знала: стану удерживать — испорчу прекрасную сказку и сделаюсь со временем лишь служанкой белого господина, и, когда белая инкози-каас придет наслаждаться этим «блюдом», меня выставят за дверь — меня, Мамину, которая не терпит стоять за дверью, которая должна всегда оставаться на виду. И вот, когда он уже был у моих ног, я отпустила его, а он дал мне обещание, пустяковое обещание, но исполнит его сейчас, когда нам суждено ненадолго расстаться. Макумазан, не обещал ли ты поцеловать меня еще раз в губы, когда бы и где бы я ни попросила тебя об этом? — Обещал, — упавшим голосом ответил я: глаза ее, казалось, удерживали мои, как это было с Садуко. — Так подойди, Макумазан, и подари мне на прощанье этот поцелуй. Король позволит, а поскольку мужа своего я предала смерти, никто не скажет тебе «нет». Я поднялся. Я чувствовал, что не в силах противостоять силе, что влечет меня к ней. Я подошел к Мамине — женщине, окруженной неумолимыми врагами, женщине, игравшей большую игру и все потерявшей, женщине, так хорошо знавшей, как надо проигрывать. Я стоял перед ней, сгорая со стыда и не ощущая его, поскольку что-то в ее величии, возможно пагубном, развеивало мой стыд, и я понимал, что мое безрассудство тонуло в глубочайшей трагедии. Медленно и томно Мамина подняла руку и обвила мою шею, медленно она потянулась яркими губами к моим и поцеловала меня — сначала в губы, затем — в лоб. Но между этими двумя поцелуями она сделала нечто настолько стремительное, что глаза мои едва успели уследить за ее движением. Мне показалось, что она мазнула левой ладонью себя по губам, а затем я увидел движение ее горла, будто она что-то проглотила. И тотчас оттолкнула меня от себя со словами: — Прощай, о Макумазан! Никогда тебе не забыть этого поцелуя. А когда мы встретимся вновь, нам будет много о чем поговорить, поскольку между теперь и потом твоя история наполнится событиями. Прощай, Зикали. Пусть все твои замыслы будут успешны, поскольку тех, кого ненавидишь ты, ненавижу и я, и не питаю к тебе зла за то, что ты наконец раскрыл правду. Прощай, принц Кечвайо. Никогда тебе не стать тем, кем мог бы стать твой брат, и ждет тебя участь лютая, поскольку ты обречен разрушить дом, который построил Тот, кто был велик. Прощай и ты, Садуко, глупец, растоптавший свою судьбу ради глаз женщины, когда мир полон других женщин. Нэнди Ласковая и Великодушная будет ухаживать за тобой до самой твоей кончины. О! Почему Умбелази склоняется над твоим плечом и смотрит на меня так странно? Прощай, Панда — тень короля. Все, спускай своих убийц! О, спускай скорей, иначе не видать им моей крови! Панда взметнул вверх руку, и палачи устремились вперед, но, прежде чем они достигли Мамины, она задрожала всем телом, раскинула в стороны руки и упала навзничь. Смертельный яд подействовал почти мгновенно. Так закончила жизнь Мамина — Дитя Бури. Наступила глубокая тишина, наполненная изумлением и благоговейным страхом. И тут вдруг ее расколол ужасный смех — это хохотал Зикали Древний, Тот, кому не следовало родиться.Глава 16
МАМИНА… МАМИНА… МАМИНА!
По окончании суда король позволил мне уехать, исполнив мое самое заветное на тот момент желание — покинуть страну зулусов. Перед самым отъездом на закате я заметил странную, похожую на жука фигуру, ковыляющую вверх по склону в мою сторону и поддерживаемую двумя крепкими парнями. Это был Зикали. Карлик молча прошел мимо меня, жестом велев мне проследовать за ним. Полагаю, я повиновался из чистого любопытства, потому что, призываю в свидетели искренности моих слов святые Небеса, я нагляделся на старого колдуна на всю оставшуюся жизнь. Он достиг плоского камня ярдах в ста выше по склону от моего лагеря, где не было кустов, способных укрыть кого-либо, и уселся на него, указав мне на камень напротив, на котором я и устроился. Сопровождавшим он велел отойти подальше, так, чтобы они не могли слышать нас. — Уезжаешь, Макумазан? — спросил Зикали. — Да, — бодро ответил я. — Будь моя воля, давно бы уже уехал. — Да-да, знаю, но было бы очень жаль, не правда ли, если бы ты уехал, не увидев финала этой странной истории. Ты, который так любит изучать сердца мужчин и женщин, не почерпнул бы столько мудрости, сколько ее в тебе нынче. — Да, и столько же печали. О несчастная Мамина! — Я спрятал в ладонях лицо. — Да-да, понимаю, Макумазан. Все это время ты любил ее, хотя гордыня белого человека не допустила бы, чтобы черные пальцы тянули нити твоего сердца, верно? Она была изумительной женщиной, эта Мамина, и пусть тебя утешит то, что играла она нитями не только твоего сердца, но и других. Например, Масапо. И Садуко. И Умбелази. Никому из них не принесла удачи эта ее игра… Досталось даже моему сердцу. Этот вздор, подумал я, не стоит моих возражений, но, поскольку он касается и меня лично, я решил среагировать на его последнее замечание. — Если твоя любовь к Мамине проявляется так, как ты это продемонстрировал сегодня, Зикали, то молю, чтобы ты никогда не питал ничего подобного ко мне, — сказал я. Он сокрушенно покачал огромной головой и ответил: — Разве никогда тебе не приходилось любить ягненка, а потом зарезать его, когда ты был голоден? Или, например, когда он вырос в барана и бодал тебя, или когда он прогонял твоих овец и те попадали в руки воров? Вот и я голоден, жду не дождусь крушения дома Сензангаконы, а ягненок Мамина подросла и сегодня она едва не уложила меня на лопатки, чуть-чуть не дотянувшись острием наконечника копья. Помимо этого, она охотилась на мою овцу — Садуко и гнала его в такую западню, откуда он никогда бы не выбрался. Поэтому, против своей воли, я вынужден был рассказать правду о ягненке Мамине и ее выкрутасах. — Осмелюсь заметить, — воскликнул я, — Мамины нет в живых, к чему теперь говорить о ней! — Ох, Макумазан, Мамины нет в живых, или ты так полагаешь, хотя это странное заявление для белого человека, который верит во многое такое, о чем мы даже представления не имеем… Ее нет в живых, но, по крайней мере, остались дела рук ее, и какие дела! Суди сам. Умбелази, и почти все сыновья короля, и тысячи тысяч зулусов, которых я, ндванде, ненавижу, — мертвы, мертвы! И это дело рук Мамины. Панда обессилен от горя, и глаза его ослепли от слез — и это тоже дело рук Мамины. Кечвайо — король во всем, кроме титула; Кечвайо, который повергнет дом Сензангаконы в прах, — дело рук Мамины, Макумазан! О, какие грандиозные дела! Воистину она прожила яркую и достойную жизнь и умерла ярко и достойно! Заметили твои глаза, Макумазан, как ловко между поцелуями она приняла яд, что дал ей я, — славный яд, не так ли? — А по-моему, все это дело твоих рук, а не Мамины, — невольно вырвалось у меня. — Это ты держал в руках нити, ты был ветром, который гнул к земле траву, пока ее не охватил огонь и не запылал город — город твоих врагов. — Как же ты мудр, Макумазан! Если разум твой станет слишком острым, в один прекрасный день тебе перережут горло, как уже пытались сделать несколько раз. Да-да, я знаю, как потихоньку тянуть за веревочки, пока не захлопнется западня, и как дуть на тлеющую траву, пока ее не охватит пламя, и как раздувать это пламя, пока оно не спалит дом короля. Правда, западня захлопнулась бы и без меня, но тогда в нее попались бы другие крысы; и трава могла бы загореться, если б я не подул, но тогда она спалила бы другой дом. Не я породил те силы, Макумазан, я всего лишь направлял их в нужное русло, к великой цели, за что Белый дом (то есть англичане) когда-нибудь скажет мне спасибо. — Зикали ненадолго задумался, а затем продолжил: — Какой, однако, толк говорить с тобой, Макумазан, об этих делах, если в свое время ты сам станешь их участником и постигнешь их для себя. Когда они завершатся, тогда и поговорим. — Но я не желаю говорить о них, — возразил я. — Я все сказал, что хотел. Скажи ты — с какой целью ты дал себе труд прийти сюда? — О, всего лишь попрощаться с тобой… ненадолго. А еще сообщить, что Панда, или, скорее, Кечвайо, поскольку Панда нынче лишь его голова, а голова должна идти туда, куда ее несут ноги, — так вот, Панда пощадил Садуко, уступив мольбам Нэнди, однако изгнал его из страны, позволив захватить с собой скот и столько людей, сколько захотят разделить с ним его изгнание. Во всяком случае, Кечвайо говорит, что сделано это было по просьбе Нэнди, и по моей, и по твоей просьбе, однако он полагает, что после всего случившегося было бы благоразумнее, если бы Садуко умер от самого себя. — Ты хочешь сказать, если бы он лишил себя жизни? — Нет-нет. Я хочу сказать, что его собственный идхлози (дух) убьет его понемногу. Видишь, Макумазан, ему и теперь уже кажется, что дух Умбелази преследует его. — Иными словами, он сошел с ума, ты об этом, Зикали? — Да, Макумазан, он живет с духом, или дух поселился в нем, или он сошел с ума — называй, как тебе хочется. Потерявшие разум имеют обыкновение жить с духами, и духи делятся с безумцами своей пищей. Теперь ты все понимаешь, не так ли? — Разумеется, — ответил я. — Ясно как день. — О! Разве не я говорил, что ты умен, Макумазан, ведь ты знаешь, где заканчивается безумие и начинаются призраки, а они суть одно и то же? Однако солнце уже зашло, и тебе пора отправляться в путь, если желаешь до утра быть подальше от Нодвенгу. Ты же будешь пересекать долину, где проходила битва, не так ли, и затем переходить Тугелу вброд? Оглядись там, Макумазан, не узнаешь ли кого из старых друзей. Умбези, подлеца и предателя, например; или кое-кого из принцев. Если так, я хотел бы передать им сообщение. Что! Ты не можешь ждать? Что ж, тогда вот тебе маленький подарок, я сделал его своими руками. Откроешь, когда взойдет солнце. Этот подарок будет напоминать тебе о Мамине, Мамине с пламенным сердцем. Знать бы, где она теперь?.. — Он закатил огромные глаза и принюхался к воздуху, как охотничья собака. — Прощай, Макумазан! До следующей встречи! Эх, если бы ты уехал с Маминой, насколько иначе все могло бы сложиться! Я вскочил с камня и помчался прочь от этого нагоняющего ужас старого карлика, которому я поистине верил… Я бежал от старика, оставив его сидящим на камне в сгущающихся вечерних сумерках, и вдогонку мне летел его громкий, леденящий душу смех. Наутро я развернул сверток, который мне вручил накануне Зикали, сделав это не сразу, но по некотором размышлении, — может, лучше сунуть его, не раскрывая, в нору муравьеда? Но решимости на это у меня тогда не хватило, о чем нынче я очень сожалею. Внутри я увидел вырезанную из черной сердцевины дерева умзимбити фигурку Мамины, на ней было оставлено немного белой древесины, чтобы обозначить глаза, зубы и ногти. Конечно, работа была грубая, но сходство было — или, вернее, есть, поскольку я до сих пор храню ее, — поразительное; трудно сказать, был ли Зикали колдуном или не был, умелым художником он был определенно. Вот она стоит передо мной, слегка наклонившись вперед, с протянутыми руками, с полураскрытыми губами, как бы собираясь поцеловать кого-то; в одной руке она держит человеческое сердце, тоже вырезанное из белой древесины умзимбити, — я предполагаю, что это сердце Садуко или Умбелази. Но это было не все. Фигура была завернута в женские волосы, в которых я сразу признал волосы Мамины, а вокруг волос было обмотано ожерелье из крупных синих бус, то самое, которое она всегда носила на шее.Минуло почти пять лет. Много всего произошло со мной за это время, о чем я не стану здесь рассказывать. Упомяну лишь о том, как однажды я очутился в довольно отдаленной части Наталя, в районе Умвоти, в нескольких милях к востоку от невысокой горы, называемой Холмик Эланда[272]. Сюда я прибыл для заключения крупной сделки по маису, в результате которой, кстати, потерял приличную сумму денег. Так судьба всякий раз «награждала» меня, когда я ввязывался в рискованные коммерческие предприятия. Однажды вечером мои фургоны, сверх меры нагруженные этим проклятущим маисом, к тому же подпорченным долгоносиком, застряли посреди брода через небольшой приток Тугелы, совсем некстати разлившийся от дождей. Лишь с наступлением ночи удалось мне выбраться с фургонами на берег в самый разгар обрушившегося ливня, вымочившего меня до нитки. Надежды развести огонь и достать приличной еды не было никакой, и я уже было решил забраться в фургон спать без ужина, когда яркая вспышка молнии выхватила из темноты большой крааль, приютившийся на склоне холма, всего в полумиле от выбранного мной места стоянки. В голове моей тотчас созрела идея. — Кто вождь вон того крааля? — спросил я одного из кафров, что собрались вокруг нас и глазели на наши мытарства по обыкновению местных бездельников. — Тшоза, инкози, — ответил тот. — Тшоза… Тшоза… — Словно пробуя на вкус, я повторил несколько раз это показавшееся знакомым имя. — Кто такой Тшоза? — Не знаю, инкози. Он пришел из Зулуленда несколько лет назад вместе с Садуко Безумным. И тут я его вспомнил, и память вернула меня в ту ночь, когда старый Тшоза, брат Мативане, отца Садуко, выпустил из загонов скот Бангу, а потом мы вместе сражались в ущелье. — О, неужели? — воскликнул я. — Тогда веди меня к Тшозе, получишь за это «шотландца»[273]. Соблазненный моим великодушным предложением — а предложенная мною плата была поистине таковой, поскольку я думал лишь о том, чтобы поскорее добраться до крааля, прежде чем его обитатели отправятся спать, — и немало удивленный моей щедростью, кафр согласился провести меня по темной и извилистой тропе, что бежала через заросли кустарников и вымокшие поля кукурузы. Наконец мы прибыли — если по прямой до крааля было не более полумили, то по петляющей тропке мы ехали добрых две, — и я был бесконечно рад, когда мы перешли последний ручеек и очутились перед воротами. В ответ на обычные расспросы, сопровождаемые оглушительным лаем собак, мне сообщили, что Тшоза живет не здесь, а где-то в другом месте; что он слишком стар, чтобы видеть кого-либо; что он ушел спать и беспокоить его нельзя; что он умер и на прошлой неделе похоронен, и так далее и тому подобное. — Послушай-ка, дружище, — не выдержал я, прервав на полуслове того, кто из-за забора плел мне небылицы. — Раз так, сходи к могиле Тшозы и передай ему, что, если сей же час он не вылезет оттуда живым, Макумазан поступит с его скотом точно так же, как он — со скотом Бангу. Явно озадаченный моим странным сообщением, мужчина удалился и вскоре в призрачном свете умытой до ждем луны я увидел спешащего ко мне низенького старичка: Тшозе было немало лет уже в начале этой истории, не сделали его моложе и тяжелая рана в битве при Тугеле, и многие иные напасти. — Макумазан! — воскликнул он. — Неужели ты? Я слышал, тебя давно нет в живых, да-да, и я даже пожертвовал вола во благо твоего духа. — А потом слопал его, провалиться мне на этом месте! — ответил я. — О, это точно ты! — обрадованно залепетал старик. — Вот уж кого не обманешь, ведь я и вправду съел того вола, почему бы не объединить приятное с полезным — жертву твоему духу и сытный пир; к тому же в доме бедняка ничто не должно пропадать, верно? Да-да, это точно ты, кто же еще может заявиться на ночь глядя в крааль к человеку, как не Бодрствующий в ночи? Входи, Макумазан, я очень рад тебе. Я вошел. Тшоза вкусно накормил меня, и, пока я угощался, мы повспоминали былые дни. — А где сейчас Садуко? — неожиданно спросил я его, раскурив трубку. — Садуко? — переспросил Тшоза, переменившись в лице. — О, Садуко здесь, где же ему быть… Знаешь, я ведь вместе с ним покинул Зулуленд. Почему? Ну, по правде говоря, после того, что мы сотворили в битве при Тугеле — честное слово, Макумазан, не по своей воле, — я подумал, что безопаснее будет покинуть страну, где предатели не могли рассчитывать на друзей. — Верно говоришь, — сказал я. — Но что же Садуко? — Разве я не сказал? Он рядом, в соседней хижине… умирает! — Умирает! От чего же, Тшоза? — Не знаю, — таинственно выдохнул старик. — Думаю, его околдовали. Вот уже более года он почти ничего не ест, а еще не выносит оставаться один в темноте. Да он с самого начала, как ушел из Зулуленда, был очень… странным. Тут я вспомнил, как несколько лет назад мне говорил Зикали о том, что Садуко живет с духом внутри себя — духом, который со временем убьет его. — Скажи, Тшоза, он много думает об Умбелази? — спросил я. — О Макумазан, только о нем он и думает. Дух Умбелази не дает ему покоя ни днем ни ночью. — Вот как… Могу я видеть его? — спросил я. — Не знаю, Макумазан… Побегу спрошу у госпожи Нэнди, ведь, поверь, нельзя терять ни минуты. — И он поспешно выбрался из хижины. Десять минут спустя он вернулся с женщиной. Это была Нэнди Ласковая собственной персоной, такая же красивая и полная спокойного достоинства, какой я ее помнил, разве что от многочисленных забот она выглядела немного уставшей и чуть старше своих лет. — Приветствую, Макумазан, — поздоровалась она. — Я рада видеть тебя. Однако так странно, что ты явился именно сейчас. Садуко покидает нас… Он отправляется в долгий-долгий путь, Макумазан. Я ответил, что слышал об этом и разделяю ее горе, а затем спросил, не захочет ли он повидать меня. — Да, он будет очень рад, Макумазан, только приготовься увидеть Садуко… не таким, каким ты его знал. Пожалуйста, иди за мной. Оказавшись во дворе, мы пересекли его и вошли в другую большую хижину. Внутренность освещала хорошая лампа европейского производства; яркий огонь пылал в очаге, и в хижине было светло как днем. У стены на одеялах лежал мужчина, прикрыв рукой глаза; при нем была сиделка. Он стонал: — Прогоните! Прогоните его! Неужели он не может дать мне умереть спокойно? — Садуко, ты хочешь прогнать старого друга Макумазана? — ласково спросила его Нэнди. — Макумазана, который пришел издалека, чтобы повидаться с тобой? Садуко сел, одеяла сползли, обнажив его тело, — передо мной был живой скелет. О, как же не похож был этот доходяга на стройного и красивого вождя, которого я когда-то знал. Губы его тряслись, в глазах метался ужас. — Это действительно ты, Макумазан? — слабым голосом спросил он. — Подойти, стань рядом со мной, чтобы он не смог влезть между нами. — И Садуко протянул костлявую руку. Я пожал ее — холодную как лед. — Да, Садуко, это я, — бодро проговорил я. — И ни одному мужчине не стать между нами. Здесь, в хижине, лишь твоя жена, госпожа Нэнди, да я; сиделка твоя вышла. — Нет-нет, Макумазан, мы не одни, здесь еще тот, кого ты не можешь видеть. Вон он стоит. — И он показал в сторону очага. — Смотри! Он пронзен копьем, и перо его лежит на земле! — Кто пронзен, Садуко? — Как — кто? Принц Умбелази, которого я предал ради Мамины. — Зачем говорить попусту, Садуко? — спросил я. — Много лет назад я своими глазами видел, какСлон с хохолком умер. — Умер! Мы не умираем, Макумазан. Умирает лишь наша плоть. Да-да, я познал это с тех пор, как мы расстались. Помнишь его последние слова: «Я до самой смерти не дам тебе покоя, не дам тебе его и после смерти, когда мы встретимся вновь»? О, с той самой минуты и поныне он не дает мне покоя, Макумазан, — он и другие. И вот уже совсем скоро настанет час, когда мы вновь встретимся, как он обещал. Тут Садуко вновь прикрыл глаза и застонал. — Он безумен, — шепнул я Нэнди. — Может, и так. Кто знает? — ответила она, покачав головой. Садуко отнял ладонь от глаз. — Подкормите огонь очага, пусть разгорится ярче, — хватая ртом воздух, проговорил он. — Я хочу лучше видеть его… Макумазан, он смотрит на тебя и шепчет что-то! Кому он шепчет? О, вижу — Мамине! Она тоже смотрит на тебя, она улыбается… Они говорят о чем-то… Тише! Я хочу… Я должен послушать… Мне страстно захотелось очутиться вне стен этой хижины: толку от этого жуткого разговора с безумцем не было никакого. Я спросил разрешения выйти, но Нэнди не пустила меня. — Останься со мной до конца, — тихо попросила она. Делать нечего, я остался, гадая, что же услышал Садуко в шепоте Умбелази Мамине и с какого боку от меня он увидел ее. Садуко начал бредить. — Хитроумную ловушку ты устроил для Бангу, Макумазан. Однако ты не взял своей доли скота, поэтому кровь амакоба не пала на твою голову. Ах, как славно бились амавомба при Тугеле. Ты был с ними, Макумазан, помнишь? Но почему я сражался не вместе с тобой? О, тогда бы мы смели узуту, как ветер сметает пепел. Почему я не праздновал победу вместе с тобой? А, вспомнил — из-за Дочери Бури. Она предала меня ради Умбелази, а я предал Умбелази ради нее. И теперь она преследует меня, потому что я обратил ее величие в прах. И волк узуту Кечвайо свернулся в клубок и жиреет, обжираясь. И… И, Макумазан, все было напрасно, потому что Мамина ненавидит меня. Да, я вижу ненависть в ее глазах. Она смеется надо мной и мертвой ненавидит меня еще сильнее, чем когда была живой, и говорит, что… Она говорит, что это не ее вина… потому что она любит… потому что любит… Недоумение вдруг отразилось на его несчастном, измученном лице, затем Садуко внезапно раскинул в стороны руки и заговорил, захлебываясь от рыданий, и с каждой секундой голос его слабел: — Вот и все… Все напрасно! О! Мамина, Ма-ми-на, Ма-ми-на! — И он замертво рухнул на одеяла. — Садуко покинул нас, — проговорила Нэнди, накрывая одеялом его лицо. — Однако хотела бы я знать… — добавила она с легким истерическим смехом, — о, как бы мне хотелось знать, о ком это дух Мамины сказал ему, кого же все-таки любила Мамина, эта женщина без сердца? Я не ответил, потому что в этот момент услышал очень странный звук, который, казалось, пронесся где-то над хижиной. Он напомнил мне что-то. Да-да, точно, — звук очень напоминал жуткий смех Зикали Мудрого, Открывателя дорог, Того, кому не следовало родиться. Нет, конечно же, это всего лишь кричала напуганная грозой ночная птица. А может, хохотала гиена… почуявшая мертвеца.
ОБРЕЧЕННЫЙ
Апрель 1877 года, Южная Африка. Аллан Квотермейн, охотившийся неподалёку от Лиденбурга, поддавшись своей главной слабости — любопытству, решает заехать в Преторию, где, по слухам, готовится одно большое событие. Англичане задумали что-то там такое аннексировать… Квотермейн всегда помнил поговорку — «когда в саванне дует ветер, небольшая искра может стать причиной сильного пожара». Но что толку от поговорок, когда любопытство всё равно окажется сильнее. Задремавших ненадолго британцев и весь Чёрный континент ждут широкомасштабные войны с бурами и зулусским королевством мудрого Кечвайо.
* * *
Полковнику Теодору Рузвельту, Сагамор-Хилл, СШАДорогой мой Рузвельт! Вы, давний почитатель Аллана Квотермейна, разделяете его взгляды на жизнь и понимаете, чем он руководствовался, пускаясь в свои многочисленные приключения. Посему исполняю Вашу просьбу и, в память о путешествиях, взаимной поддержке и товарищеском участии, а также о страшных испытаниях на обагренной кровью дороге, которая вывела нас к истинной вершине свободы, посвящаю Вам эту историю, повествующую о событиях и тревогах моей молодости.
Ваш искренний друг, Генри Райдер Хаггард.Дитчингем, Норфолк, май 1917 года
Предисловие
Эта книга является частью трилогии наряду с романами «Мари» и «Дитя Бури», хотя ее вполне можно читать как отдельное произведение. Устами Аллана Квотермейна она повествует о свершившемся возмездии колдуна Зикали, Открывателя дорог, Того, кому не следовало родиться, над домом Сензангаконы и Кечвайо, нашим врагом в войне 1879 года и последним правителем страны зулусов. Хотя многое приукрашено в угоду романтике, исторические факты я старался передать с предельной точностью. Автор познакомился с этими героями еще лет тридцать назад, когда ему посчастливилось стать участником событий, предшествовавших Англо-зулусской войне. Более того, он считает себя единственным выжившим из тех, кто вместе с сэром Теофилом Шепстоном, или Сомпезу, как его прозвали туземцы от Замбези до мыса Доброй Надежды, стал очевидцем аннексии Трансвааля в 1877 году. Разумеется, если не считать полковника Филлипса, который, в ту пору еще лейтенант, командовал отрядом конной полиции в двадцать пять душ. Кроме того, недавно его призвали в Южную Африку, на этот раз как государственного служащего, и он, конечно же, воспользовался случаем и поехал через страну зулусов, чтобы освежить в памяти нравы и обычаи этого народа и лучше подготовиться к написанию романа. Он постоял на вершине роковой горы Изандлвана, упомянутой на этих страницах вместе с кратким описанием битвы, и постоял у могил своих давних знакомых, полковников Данфорда и Пуллейна и многих других. Проехал по равнине Улунди, где до сей поры не изгладился отпечаток войны, и поговорил со старым зулусом, который участвовал в атаках со своим полком, павшим под градом пуль винтовок Мартини и осколков артиллерийских орудий. Он назвал эту битву «Стеной из железа», возможно из-за сплошного ряда сверкающих штыков. Наконец он отыскал памятное место на поле с чахлой кукурузой, где испустил дух Кечвайо. Разумеется, короля отравили, словно в подтверждение его крааль носил зловещее название Джази, что в переводе означает «Обреченный». Трагедия случилась давным-давно, но даже теперь добродушный старик, вспоминая об этом, настороженно оглядывался и не желал говорить начистоту. «Да, — говорил он, — я был молод, когда все случилось, а теперь всего не упомнишь, и я мало что знаю… инкози Лундада — то есть летописец, как последние годы зулусы звали автора, — стоит как раз там, где король умер, он всегда спал слева от входа». И далее в том же духе, но ни полслова о причинах этой внезапной смерти и о том, кого следует в ней винить. Имя королевского душегубца так и осталось тайной. В этой истории непосредственным поводом для объявления войны англичанам послужило появление белой зулусской богини или духа, которую зовут, вернее, звали Номкубулвана или инкосазана зулусов, то есть Небесная принцесса. Теперь уж трудно разобраться, что на самом деле побудило зулусов принять такое решение, бесспорно одно — советники и капитаны короля не были единодушны в этом вопросе, а король Кечвайо, по мнению многих, в том числе и самого автора книги, не желал войны с англичанами, его давними союзниками. Друг автора, мистер Джеймс Янг Гибсон, в настоящее время представитель союза племен зулусов, пишет в своем замечательном историческом труде: «Зулусская знать Улунди никак не могла прийти к единому мнению, однако сейчас нет никакой возможности установить, кто помог им принять решение». Позднее еще один его друг дней минувших, мистер Ф. Б. Финней, член Королевского географического общества, в свое время знавший зулусов и их язык лучше, чем любой чиновник, за исключением сэра Теофила Шепстона, писал об их легендарной богине: «Помнится, как раз накануне войны каким-то непостижимым образом появилась богиня Номкубулвана с неким откровением, которое сильно подействовало на жителей всей страны». Поэтому присутствие в романе этого необычного традиционного ангела-хранителя зулусов нельзя безоговорочно причислить к полету фантазии, то же самое можно сказать и о многих других эпизодах. К примеру, зачитывание документа о провозглашении аннексии Трансвааля в Претории в 1877 году. Данный отрывок был введен для создания романтической атмосферы. Мамина, которая в прямом и переносном смысле неотступно следует по страницам книги, стала героиней романа «Дитя Бури», его названием послужило ее собственное поэтическое прозвище.Автор. 1916 год
Глава 1
АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН ЗНАКОМИТСЯ С ЭНСКОМОМ
Надеюсь, друг мой, однажды, находясь в добром здравии, вы прочтете мои каракули, ибо вам должны быть памятны события, произошедшие в Претории 12 апреля 1877 года. Сэр Теофил Шепстон, или Сомпезу — мне как-то сподручнее звать его на местный манер, — два с небольшим месяца инспектировал положение дел в Трансваале и в итоге объявил об аннексии страны в пользу британской короны. Как нарочно, я, Аллан Квотермейн, охотился в окрестностях Лиденбурга, в ту пору там было вдоволь дичи. Прослышав о знаменательных событиях, я решил не возвращаться прямиком в Наталь, а побывать в Претории, — выходил не такой уж великий крюк. Меня всегда тянуло ко всему увлекательному. Так вот, добрался я, стало быть, до города к одиннадцати утра 12 апреля, пришел на Церковную площадь, где, по обыкновению, собирались в те годы, и присоединился к остальным. Вокруг было много народу, англичан и голландцев. Мне сразу бросилось в глаза, что первые были в приподнятом настроении и возбужденно между собой переговаривались, а последние хмурились и выглядели подавленными. Вскоре я разглядел в толпе знакомого, Робинсона — высокого, смуглого, добрейшего малого и превосходного стрелка. Да вы его знаете, в пору войны с зулусами он служил в Претории офицером кавалерии, в которой вы проводили смотр. Я окликнул его и спросил, что случилось. — Много всего, Аллан, — ответил он, пожимая мне руку, — нам еще повезет, если к концу дня все закончится. Собираются зачитать сообщение Шепстона об аннексии Трансвааля. — А как это воспримут наши приятели-буры? — удивленно присвистнул я. — По-моему, они не слишком-то счастливы. — Кто знает, Аллан. Говорят, их губернатора подкупили, назначили ему пенсию. Так что для него это единственно возможное решение. В большинстве своем здешние голландцы недовольны таким развитием событий, вопрос в том, насколько далеко они готовы зайти и каковы их дальнейшие действия. Тут буров порядком, и все они вооружены, а за городом и того больше. — А ваше мнение? — Не знаю, всякое может случиться. Они или пристрелят Шепстона вместе с его людьми и двадцатью пятью полицейскими, или слегка поворчат и разойдутся по домам. Скорее всего, у них нет четкого плана. — А что англичане? — О, мы безумно счастливы, однако неорганизованны и лишь немногие из нас вооружены. — Что ж, я приехал сюда за острыми ощущениями и, кажется, нашел их. В последнее время жизнь стала какой-то пресной. Впрочем, бьюсь об заклад, дальше протестов дело не пойдет. Они не дураки и прекрасно понимают: обстрел безоружной делегации настроит против них Англию. — Я бы не был столь уверен. С одной стороны, Шепстон им нравится, ведь он относится к ним с пониманием, и его храбрый натиск застал их врасплох. Однако кафрская мудрость гласит: если подует сильный ветер, даже маленькая искорка способна поджечь целую степь. Вот развяжут англичане и буры войну, и тогда уже никто не поручится за последствия. Теперь я вас покину, нужно доставить послание. Если повезет, этим же вечером обедаем дома, в противном случае можем вообще остаться голодными. Я согласно кивнул, и он удалился. Вернувшись к фургону, я наказал своим людям не пускать волов на пастбище, а оставить в упряжи, ведь в такой неразберихе их могут украсть. Затем, как подобает истому англичанину, надел по такому случаю свое лучшее пальто и шляпу, умылся, причесался, впрочем, без особого успеха — волосы, как обычно, непокорно топорщились, — сунул во внутренний потайной карман заряженный револьвер «смит-вессон» и отправился взглянуть на потеху. Обходя группки угрюмых буров, я смешался с людьми, столпившимися перед длинным приземистым строением с просторной верандой. Надо полагать, там размещалось правительство. Вскоре я очутился рядом с высоким мужчиной довольно рыхлого телосложения. Он показался мне весьма заметным — чисто выбритое, загорелое лицо нельзя было назвать привлекательным из-за неправильных черт, картину портил и чересчур длинный нос. Впрочем, весь его облик производил неплохое впечатление, а в пристальном взгляде синих глаз плясали искорки, что выдавало в нем натуру веселую. На вид ему было около тридцати. Отсутствие пальто, брюки из грубой ткани да простая фланелевая рубаха не могли скрыть от меня его английского происхождения. За по ясом у него торчал пистолет. Какое-то время мы стояли молча. Даже вдали от дома англичане скупы на слова. Притом меня полностью увлекли воинственные речи кучки буров, которые пристроились у нас за спиной. Я сунул в рот трубку и принялся охлопывать себя в поисках табака, желая в то же время как бы невзначай продемонстрировать рукоять револьвера. Оказалось, что я забыл кисет в фургоне. — Могу с вами поделиться, если вы не против бурского табака, — предложил незнакомец. Голос понравился мне так же, как и лицо, не оставалось никаких сомнений: передо мной джентльмен. — Благодарю вас, сэр, но я курю только свой, — остановил я его, видя, как он достает из кармана брюк мешочек из львиной шкуры необычного темного цвета. — Мне лишь однажды довелось повстречать такого черного льва, на границе со страной инкози Лобенгулы, близ его столицы Булавайо, — заметил я просто так, чтобы поддержать разговор. — Какое совпадение, — ответил незнакомец, — этого зверя я подстрелил там несколько месяцев назад. Мне хотелось сохранить всю шкуру, но термиты постарались на славу. — Вы там торговали? — Нет, просто охотился в свое удовольствие. Эта страна одна из немногих, где я раньше не бывал. Пробыл здесь всего год, мне, в общем-то, хватит. Не подскажете судно, идущее из Дурбана в Индию? Хочу взглянуть на диких баранов Кашмира. Я ответил, что не знаю, потому что никогда не интересовался Индией, а охочусь на слонов и торгую исключительно в Африке. Но скорее всего, корабли из Индии приходят сюда довольно часто. В эту минуту мимо прошел Робинсон. — Квотермейн, они скоро будут, но Сомпезу не появится. — Вы, случайно, не Аллан Квотермейн? — спросил незнакомец. — В таком случае я много наслышан о вас и о вашей поразительной меткости в стране Лобенгулы. — Он самый! А насчет меткости туземцы часто преувеличивают. — Обо мне они всегда говорили чистую правду, — ответил он и лукаво подмигнул. — Словом, я рад нашему знакомству, хотя, сказать по совести, вы мне порядком надоели, я слышу о вас даже слишком часто. Стоит мне промахнуться, как мой носильщик, видимо успевший послужить у вас, всякий раз ворчит: «Эх, если бы на вашем месте был инкози Макумазан, он-то уж не промахнулся бы». Меня зовут Энском, Морис Энском, — представился он, слегка смутившись. Впоследствии я узнал из справочника, что он был младшим сыном лорда Маунтфорда, богатейшего пэра Англии. Мы дружно посмеялись. — Скажите, мистер Квотермейн, вы понимаете, о чем говорят эти буры у нас за спиной? Наверняка что-то обидное, да только по-голландски я знаю всего два выражения: «Guten Tag» и «Vootsack» — «добрый день» и «убирайся», а этого маловато для беседы. — В целом они заявляют, что прогонят британское правительство в лице сэра Теофила Шепстона. Они завоевали эти земли ценой собственной крови, и развеваться тут должен их собственный флаг. — Их можно понять, — вставил Энском. — А еще они хотят перестрелять проклятых англичан, особенно Шепстона и его людей, и сделали бы это хоть сейчас, если бы не боялись, что проклятое английское правительство отправит им в отместку тысячи английских «ройбаджес», то есть красных мундиров. — Вполне резонно, — рассмеялся Энском. — На их месте я не стал бы рисковать. Тсс! Потеха начинается. Я оглянулся: и правда, люди в черных сюртуках прошествовали вслед за офицером в форме полковника инженерных войск. Словно похоронная процессия усопшей республики. Они подошли к веранде и остановились перед нами. Присутствующие англичане разразились аплодисментами, а буры, стоявшие позади, громко выругались. Вперед вышел согбенный старик в бакенбардах, сам мистер Осборн, начальник штаба. Кафры дали ему прозвище Малимати. Рядом с ним стоял высокий молодой человек с бумагами в руках, совсем еще юный, — это были вы, друг мой. Остальные стояли по бокам, вытянувшись в струнку. Вы протянули документы мистеру Осборну, он надел очки и еле слышно забормотал. Его рука дрожала. Вдруг он запутался, потерял нужную строчку, нашел и снова потерял и совсем умолк. — Какой робкий, — заметил мистер Энском. — Может, он боится получить пулю от этих людей. — Он их не боится, — возразил я, так как хорошо знал старика. — Его страхи чисто психического свойства. Так оно и было, ведь этот самый мистер Осборн, как я описал в своей книге «Дитя Бури», в одиночку переплыл реку Тугела и оказался в гуще битвы при Индондакасака, а в другой раз, не моргнув глазом, убил двух кафров, бросившихся на него с обеих сторон. В ступор его вводил этот документ, а не всякие возможные случайности. Повисла неловкая тишина, как всегда бывает, когда оратор сбивается с мысли. Сотрудники штаба смотрели на старика и переглядывались, и тут вы, друг мой, выхватили бумаги из его рук и громко и отчетливо стали читать дальше. — Крепкие нервы у этого парня, — заметил мистер Энском. — Да, — прошептал я, — в самом деле. Быть беде, если бы всё сорвалось. Итак, документ был дочитан без заминок и Трансвааль объявлен собственностью Англии. Британцы одобрительно возликовали, однако затихли, готовясь выслушать официальный протест так называемого бурского правительства. Да и как же иначе, если вся прежняя система рухнула, а представители власти подкуплены. Не помню, зачитывал ли текст сам президент республики или поручил офицеру, государственному секретарю. В общем, протест озвучили, и повисло тягостное молчание, как будто все ждали, не случится ли чего. Я оглянулся — буры, стоящие рядом с нами, что-то бормотали и нервно теребили ружья в руках. Найдись среди них зачинщик, горячие головы отважились бы открыть стрельбу. Однако никто не вызвался, и опасность миновала. Толпа начала редеть. Англичане, уходя, кричали «ура» и подбрасывали в воздух шляпы, а буры хмурились. Представители штаба удалились обратно в здание с растущими у входа эвкалиптами, впоследствии оно стало домом правительства. Все разошлись, кроме вас. Вы в одиночку пересекли площадь, сжимая в руке кипу листов с текстами декларации, и направились выполнять поручение — распространить их во всех присутственных местах. — Пойдемте за ним, — предложил я Энскому. — Без поддержки он, чего доброго, попадет в беду. Тот согласно кивнул, и мы незаметно отправились вслед за вами. И что же, у первой же двери вы чуть не нажили себе неприятностей. У входа стояла компания буров. Двое здоровенных парней нарочно преградили вам путь. — Господа, — сказали вы, — прошу пропустить меня по делам ее величества. Они и ухом не повели, лишь дерзко ухмылялись и еще плотнее придвинулись друг к другу. Вы повторили просьбу, никакой реакции. Тогда вы в отместку наступили одному на ногу, да так, что он, вскрикнув, отпрянул. В ту секунду я ожидал самого худшего. Однако буры одумались — наверное, увидели у вас за спиной двух англичан и заметили пистолет Энскома. Как бы то ни было, вы победоносно проследовали внутрь и вручили документ кому следует. — Ловко, — одобрил мистер Энском. — Безрассудно и весьма опрометчиво, — возразил я, качая головой. — Что ж, это простительно, ведь он еще молод. С той самой минуты, друг мой, я почувствовал к вам расположение и, возможно, именно поэтому задавался вопросом, хватило бы мне отваги, окажись я на вашем месте. Ведь я англичанин и радуюсь, когда мои сограждане могут постоять за себя и защитить честь своей родины. Все же я сочувствую бурам, они оставили свои земли без сопротивления, хоть и сами во всем виноваты. Потом случались неоднократные столкновения, вам об этом известно не хуже моего, ведь вы жили в ту пору неподалеку от Маджуба, но я не в силах писать о тех событиях. Неужели беспорядки будут продолжаться и после моей смерти, а я так и не узнаю, к чему они в конце концов приведут. Подробности тех событий и вашего в них участия я решил опустить и упомянуть лишь вскользь, поскольку именно в то время я познакомился с мистером Энскомом. Оттого и отвел вам так мало места в истории о поражении зулусов, свершившейся мести колдуна Зикали над их краалем под названием Обреченный и, наконец, о зарождении любви, к которой старик приложил руку. К сожалению, без меня тоже не обошлось. Мистер Энском прибыл в Преторию, опередив свои фургоны дня на два. Поскольку он не мог попроситься на постой к европейцу, а к туземцу и подавно, я пустил его к себе, вернее, в мою палатку по соседству с фургоном. Он согласился, и вскоре мы очень сдружились. Накануне нашего знакомства я узнал о его службе в кавалерийском полку, однако несколько лет назад он добровольно подал в отставку. Я спросил его о причине. — После смерти матери я получил приличное наследство и мог оставить карьеру военного. За границей меня все устраивало, а когда полк вернулся домой, я заскучал. Многовато светских условностей, на мой взгляд. А мне хотелось приключений. Путешествия — вот моя единственная отрада. — Вам скоро надоест. В средствах вы не стеснены, так что очень скоро женитесь на прелестной барышне и остепенитесь. — Едва ли! Я слишком разборчив и вряд ли буду счастлив в браке. Пышущие здоровьем ангелочки, желающие пойти под венец, на дороге не валяются. Тут я рассмеялся. — К тому же, — добавил он с потухшим взглядом, — я знавал много прелестных барышень и представляю, каковы они. — Лучше вступить в брак, чем постоянно обжигаться. — Пусть так, но и в браке можно ошибиться. Нет уж, я никогда не женюсь, правда, мой брат бездетен, поэтому вся надежда на меня. «Ты женишься, дружок, — подумал я, — как только заживут душевные раны». Несомненно, он не раз страдал по вине женщин. Увы, я так и не узнал подробностей, а я так люблю узнавать о чужих любовных драмах! Однако мы сменили тему. Фургоны Энскома задерживались на пару дней, вроде бы у колеса полетела ось или они застряли в трясине, а мне до отбытия почтового фургона особо нечем было заняться. Поэтому мы коротали время, прогуливаясь по окрестностям, благо в те дни деревушка еще не успела разрастись, и болтали с каждым встречным. По пути зашли в губернаторскую резиденцию, как теперь ее называют, и оставили свои визитные карточки, вернее, нас про сто записали в книге посетителей. Сотрудник штаба, которого мы повстречали на пути, велел нам отметиться подобным образом. Спустя час нам прислали записку с приглашением на ужин и просили не беспокоиться о форме одежды. Об отказе не могло быть и речи. Энском спешно нарядился в мой отличный сменный костюм, который был ему коротковат, сатиновый бант и лаковые туфли он купил в лавке Бекета. В тот вечер, друг мой, мы с вами и познакомились. Тогда же, если помните, случились неприятности. Мы перепутали время и явились на полчаса раньше. Нас провели в просторную комнату, выходящую на веранду. Там мы застали вас за копированием какой-то депеши. В ту пору, если память мне не изменяет, вы работали личным секретарем. Полагаю, это был отчет об итогах аннексии. Тусклая керосиновая лампа у вас за спиной не могла разогнать сумрак, свет шел через приоткрытые ставни. Наш провожатый, не желая вас обеспокоить, провел нас в дальний темный конец комнаты. Там мы коротали время, тихо беседуя. Внезапно открылась дверь в глубине комнаты и вошел его превосходительство сэр Теофил Шепстон. Полноватый мужчина среднего роста с вдумчивым лицом. Я всегда считал его величайшим государственным деятелем в истории Африки. На нас он даже не взглянул, а едва увидев вас, сказал раздраженно: — Вы обезумели?! — Не больше обычного, я надеюсь, сэр, а что случилось? — Разве я не велел вам опускать на ночь занавески? Так нет же, вы практически высовываете голову в окно! Лучшей мишени и не придумаешь. — Охота бурам покушаться на мою жизнь, сэр. Будь вы здесь, я бы обязательно опустил занавески и закрыл ставни, — отвечали вы, смеясь. — Идите переоденьтесь, если не хотите опоздать к ужину, — добавил он строго. Вы удалились. Но как только за вами закрылась дверь и Шепстону доложили о нашем приходе, он улыбнулся и сказал нечто такое, что я и теперь не возьмусь вам повторить. Кажется, речь шла о дне объявления аннексии, когда вы пришли ему на помощь в трудную минуту. Упоминаю о сем весьма показательном случае, ибо он всплывает в памяти всякий раз, как я думаю о Шепстоне, с которым мы в течение многих лет изредка пересекались как охотник и выдающийся чиновник. Несмотря на осторожность, предчувствие опасности, приобретенные после длительного пребывания в этой стране, и притворную строгость, он никогда не скрывал своей любви к друзьям. В этом человеке ощущалось внутреннее благородство, хотя кое-кто и называл его африканским Талейраном. Однако каждый местный житель от мыса Доброй Надежды до реки Замбези знал и уважал его, как ни одного белого человека. Впрочем, вернемся к нашему повествованию, а рассуждения об исторических событиях оставим более знающим людям. Мы провели весьма приятный вечер за ужином. Хотя я немного стыдился своего одеяния, когда вокруг собрались такие нарядные джентльмены в элегантных мундирах с белыми галстуками. Энском все время ерзал на стуле, новые туфли оказались ему малы и немилосердно жали. Все пребывали в прекрасном настроении, отовсюду приходили известия о благосклонном принятии аннексии. Стало быть, опасность миновала. Эх, если бы мы только знали, чем все закончится. На обратном пути к фургону я невзначай упомянул о стаде буйволов, все еще пасущемся в нескольких днях пути от Лиденбурга. Двух самцов я подстрелил меньше месяца назад. — Неужели, боже мой! — воскликнул Энском. — Ведь я до сих пор так и не добыл буйвола. Почему-то наши пути все время расходятся, а вернуться из Африки с чужими рогами я тоже не могу. Давайте съездим туда и немножко поохотимся. Я покачал головой и сказал, что и так долго бездельничал, пора бы и поработать. Мой ответ его явно огорчил. — Слушайте, вы только не обижайтесь, но дело есть дело. Соглашайтесь, внакладе не останетесь. Я снова покачал головой. Энском был крайне разочарован. — Ну что ж, — ответил он, — придется мне ехать одному. Я обязательно поохочусь на буйволов, а если они меня убьют, моя кровь останется на вашей совести! Странное дело, но я и впрямь почувствовал, что никогда себе не прощу, если с ним что-нибудь случится. — Эти звери гораздо опаснее львов, — заметил я. — И у вас еще хватает совести отправлять меня, одинокого и беззащитного, к ним на растерзание! — В его глазах запрыгали озорные искорки, не меркнущие даже при свете луны. — Ах, Квотермейн, как я в вас ошибся. — Послушайте, мистер Энском, не тратьте понапрасну ваше красноречие. Прямо сейчас я не могу отправиться с вами на охоту. Сегодня я получил известия из Наталя, что мой сын нездоров. Ему нужна рискованная операция, после чего он будет прикован к постели два с половиной месяца. Поэтому я должен, пока не поздно, вернуться в Дурбан. К тому же я связан контрактом с провинцией Матабелеленд, откуда вы недавно прибыли. Целый год мне предстоит быть управляющим торговым складом. Может, еще удастся добыть для себя немного слоновой кости. Так что я освобожусь только, скажем, в октябре тысяча восемьсот семьдесят восьмого года, то есть через восемнадцать месяцев. Пожалуй, к тому времени меня уже не будет в живых. — Восемнадцать месяцев, — невозмутимо протянул молодой человек. — Меня вполне устраивает. Сначала я съезжу в Индию, как и собирался, потом заскачу домой ненадолго. Давайте встретимся первого октября тысяча восемьсот семьдесят восьмого года и отправимся в Лиденбург пострелять этих буйволов или каких-нибудь других. По рукам? Я воззрился на мистера Энскома, решив, что шампанское ударило ему в голову. — Вздор! Кто может знать, где он окажется через восемнадцать месяцев. Да к тому времени вы обо мне и не вспомните. — Если я буду жив и здоров, то первого октября тысяча восемьсот семьдесят восьмого года я обязательно вернусь сюда, на эту самую площадь в Претории с одним или несколькими фургонами, полностью готовый к охоте. Мне понятны ваши сомнения, поэтому готов заплатить неустойку в случае, если нарушу этот договор. Даже при неблагоприятном исходе нашей экспедиции. Тут он достал из бумажника чековую книжку и разложил ее на столике в палатке, под рукой также были перо и чернила. — Итак, мистер Квотермейн, примете ли вы чек на двести пятьдесят фунтов? — Нет, сумма чрезмерна для наших целей. Однако если вас не смущают возможные накладки с моей стороны, не говоря уже о вас, то можете вписать сумму в пятьдесят фунтов. — У вас слишком скромные запросы, — заметил он и протянул мне чек. Я сунул его в карман, сообразив, что теперь смогу оплатить операцию сына. — А у вас безумные идеи. Объясните, почему вы совершаете такие необдуманные поступки? — Как вам сказать, мне внутренний голос подсказывает, что мы обязательно должны поехать. Итог нашего путешествия изменит всю мою жизнь. Учтите, мы должны отправиться именно в район Лиденбурга, и больше никуда. А теперь давайте спать, я сегодня так устал. Утром мы распрощались, и каждый пошел своей дорогой.Глава 2
МИСТЕР МАРНХЕМ
Покончив с предисловиями, переходим к самой истории. Восемнадцать месяцев прошли в рискованных приключениях, черная и белая полоса сменяли друг друга. Однако это дело прошлое. И вот я, разгоряченный и сильно уставший, прибыл почтовым из Кимберли. Там мне удалось вложить свой капитал, накопленный за время контракта с провинцией Матабелеленд, в весьма перспективное предприятие. Увы, дальше обещаний дело не пошло. Мне пришлось сорваться с места и уехать в большой спешке из-за неудачной сделки. Я был убежден, что никогда больше не увижу мистера Энскома, ведь все это время он ни разу не давал о себе знать. Вряд ли он вообще был в Африке. Тем не менее я взял у него пятьдесят фунтов, и нельзя исключать возможности, что он все-таки появится. Кроме того, мне присуща обязательность. Фургон резко затормозил напротив европейской гостиницы. Помятый и уставший, я вылез из его нутра и оказался нос к носу с Энскомом, курившим трубку на веранде! — Привет, Квотермейн, — произнес он своим приятным, тягучим голосом, — вот и вы, как раз вовремя. А я тут поспорил с этими господами, появитесь вы или нет. — Он кивнул на пятерых бездельников, стоящих рядом. — Ставка виски с содовой — десять к одному. Вам придется прикончить пять порций, а иначе ребята выпьют пятьдесят, и их заберут в городскую полицию. Я рассмеялся и сказал, что уплачу долг в указанном размере. Выпив, мы с Энскомом поболтали немного. Он рассказал, как съездил в Индию, поохотился, перестрелял там всю дичь, повидался с родными в Англии, а оттуда отправился в Африку на встречу со мной. В Дурбане обзавелся двумя фургонами с возницами и несколькими волами на смену, а накануне выехал в Преторию. Все готово для путешествия в район Лиденбурга, и самое время отправиться на поиски буйволов. — А если буйволы уже ушли? Кроме того, сейчас там война с Сикукуни, вождем народа басуто. Он правит той страной, и вопрос о его землях до сих пор не решен. Конечно, какое-то подобие мира установлено, но охотиться в тех местах опасно. Почему бы не поискать в другом месте, к примеру к северу от Трансвааля? — Квотермейн, я проделал весь этот долгий путь из Англии и не откажусь от охоты на буйволов в районе Лиденбурга, с вашей помощью или без. Даже если мне не улыбнется удача, то я хотя бы попытаюсь. Оставайтесь, если опасаетесь меня сопровождать. Я поеду один или найду другого надежного попутчика. — Раз такое дело, я еду с вами, но с одним условием. Если буйволы ушли или мы не сможем их догнать, то либо прекращаем охоту, либо находим другое место, например в глубине залива Делагоа. — Согласен. Мы обговорили условия, и он заплатил мне аванс. Поразмыслив, мы решили не брать один фургон и половину волов — в этой поездке они без надобности — и доверили их заботам почтенного фермера, который жил в пяти милях от Претории, прямо за перевалом, совсем рядом с местным дивом — знаменитым Чудо-деревом[274]. Пошлем за фургоном, если будет в том нужда, а если Лиденбург, навязчивая идея Энскома, окажется непригодным для охоты, вернемся в Преторию через горное пастбище, заберем фургон и продолжим поиски где-нибудь еще. Приготовления заняли у нас пару дней. На третий мы наконец отправились в путь. К сожалению, нам не удалось проститься ни с вами, друг мой, ни с кем-либо другим. В ту пору все, как нарочно, отлучились из Претории по делам. Вы, насколько мне известно, тогда уже вступили в должность судебного распорядителя в верховном суде и, как мне сказали у вас на службе, объезжали подведомственный округ. Стояло на редкость прекрасное утро, и мы ехали в приподнятом настроении. Так часто случается, когда в конце пути вас поджидает какая-нибудь беда. Тут и рассказывать-то нечего. В общем, до края пастбища мы добрались благополучно, счастливые, как страна, не имеющая истории. Наш путь лежал мимо шахтерского поселка Пилгримс-Рест. Храбрецы, жившие в нем, в основном выходцы из Англии, увлеченно мыли золото. Как-то раз я тоже захотел попробовать, где-то совсем рядом с этим местом, но, увы, удача мне так и не улыбнулась. Местный горный пейзаж, надо сказать, поражал красотой, холмы круто вздымались, а хуже дорог я и мои фургоны в жизни не видели. Однако тише едешь — дальше будешь, как говорят местные. Обошлось без происшествий, и поселок остался позади. Дорога пошла под уклон, и началась равнинная саванна. Здесь, насколько я знал, еще встречались стада буйволов. Благодаря войне с вождем Сикукуни на них последнее время никто не охотился. Войну прекратили только на время, и безопаснее всего охотиться на границе с владениями вождя, как я узнал от поселкового старосты, хотя он, по его словам, рисковать не стал бы. Мелкой дичи здесь оказалось вдоволь. Вскоре после полудня мы разбили лагерь примерно в десяти милях от поселка. В мягком грунте я заметил следы голубых гну или каких-то других животных, и нам захотелось подстрелить парочку. Оставив фургон на берегу дивно журчащей речки, проторившей себе дорогу в гранитном ложе, мы оседлали выносливых лошадей, которых тоже приобрел Энском, и весело поскакали. Пол часа шли по следам, продираясь сквозь колючки, и наконец вышли на полянку. С краю в каких-нибудь пятидесяти ярдах от нас под кронами деревьев стоял самец гну. Я обратил внимание Энскома на это уродливое существо, самую нелепую антилопу. — Давайте, у вас получится, — прошептал я, — ружье заряжено крупной дробью, промашки не будет. — Нет, не могу, давайте лучше вы. Я наотрез отказался, тогда он спешился, отдал мне поводья и, опустившись на четвереньки, медленно и осторожно подкрался к самцу. Бах! Ветка, висевшая над головой гну, с треском упала животному на спину. Самец метнулся стрелой, а Энском замахнулся, стукнул наудачу стволом винтовки и каким-то чудом попал, перебив зверю переднюю ногу. — Отличный удар! — воскликнул он и вскочил в седло. — Превосходный, но что вы задумали? — Я его догоню, нельзя же заставлять раненое животное мучиться. — И пустился вслед. Конечно же, я его не бросил, и в этой погоне мне выпали самые тяжкие минуты за всю мою охотничью практику. Колючий кустарник царапал лицо и рвал в клочья одежду. Мы то и дело проваливались в норы муравьедов, один раз моя лошадь угодила в одну такую, и я ударился животом о ее голову. Мы скатывались по островным холмам, сложенным из гранита, — самое худшее испытание. И всякий раз перед нами маячила эта проклятая антилопа, а я ждал с надеждой, когда же мы потеряем ее из виду. Через полчаса такой охоты мы вышли на пересеченную местность. Шагах в пятидесяти от нас, точно заяц, скакал гну. Вот уж, право, не знаю, как он умудрялся бегать на трех ногах. Мы погнали его, словно две борзые. Опередив меня, Энском поравнялся с обессиленной антилопой, а та вдруг резко повернулась и ринулась прямо на него. Он прицелился, взвел курок, но, так как забыл перезарядить ружье, вышла пантомима. В ту же минуту началась неразбериха, и я уже не мог понять, где антилопа, а где Энском с лошадью. Они вертелись клубком в облаке пыли. Наконец суета чуть улеглась, и все прояснилось. Лошадь каталась по земле, Энском лежал на спине, раскинув руки, будто в молитве, а антилопа выбирала, на кого первого напасть. Я разрешил сомнения бедного животного, прикончив его выстрелом в сердце. Утешаю себя мыслью, что просто не мог поступить иначе. После чего спешился и осмотрел Энскома, полагая, что ему пришел конец. Как бы не так! Он приподнялся, пыхтя, словно кузнечный мех. — Славная скачка. Неплохой результат? Даже вы не смогли бы выстрелить так мастерски. — Да, можете в этом убедиться, если вас не затруднит счесть патроны в вашем ружье. И имейте в виду, если мы продолжим охоту, мне бы впредь хотелось избежать такой нелепой погони. Он поднялся, открыл винтовку и убедился, что магазин пуст. Две стреляные гильзы, оставшиеся после охоты в горной долине, он выбросил, а новые патроны, как всегда, не вставил. — Вот черт! Стало быть, это ваш трофей. Как же так, ведь я готов поклясться, что стрелял. Странная штука воображение, не правда ли? — Пропади оно пропадом! Давайте лучше посмотрим, что с лошадью. Если она охромела, вы поскачете обратно верхом на своем воображении, а это добрых шесть миль. Нам надо найти фургон до темноты. Он повиновался, глубоко вздыхая и ворча о приземленности некоторых. К счастью, лошадь отделалась синяками и просто запыхалась. Энском тут же заметил, что не стоит нарочно кликать беду, но я ему возразил, что все напасти уже давно обещаны в Писаниях. Затем мы обсудили, как поступить с мертвым гну, не оставлять же его тут гнить. Тут Энском отошел немного в сторону от дерева, бросавшего на нас тень. — Эй, Квотермейн! — воскликнул он. — Идите-ка сюда и скажите, я сошел с ума или вон в том райском уголке и впрямь стоит необыкновенный дом в древнегреческом стиле? Взглянув туда, я не поверил своим глазам. — Не иначе, храм Дианы, — ответил я, присоединяясь к нему. В полумиле от нас, в уютной бухточке, среди обширных холмов стоял замечательный дом с видом на необозримые просторы саванны. Такое не часто встретишь в наше время, да еще и в Африке. Ну, во-первых, место было выбрано на редкость удачное. Стены возвышались на поросшем травой холме, а за ним пролегало лесистое ущелье, по дну которого бежал поток, низвергаясь водопадом с крутого утеса. А перед фасадом здания открывался великолепный вид на саванну. Она простиралась вплоть до реки Элефантес и терялась в туманной дали. О таком райском уголке можно только мечтать. Сам дом был не очень большой, зато подобное строение я видел впервые в жизни. Нависающая крыша фасада покоилась на четырех колоннах, образуя просторную веранду. Стены из белого мрамора походили на снег, мерцающий на закате. Словом, со стороны дом казался святилищем позабытого божества, заброшенным в глуши. — Мне что-то не по себе, — подал я голос. — Согласен, — ответил Энском. — Узнать бы, кто здешний архитектор. Я бы его нанял. Хотя природа сообщает дому особую прелесть. Э, нас заприметили! Правда, он не очень похож на архитектора, скорее на злобного баронета, переодетого буром. И действительно, из-за кустов, верхом на отличном скакуне, показался странный тип. Высокий, сухопарый старик с длинной седой бородой, в одежде из грубого полотна, выглядел он довольно крепким. Приятное лицо с правильными чертами, крючковатый нос и серые, налитые кровью глаза. Держался он учтиво и благосклонно, первые же слова выдали в нем человека благородного и воспитанного. И все же обстановка меня настораживала. В тот же вечер я почувствовал, что кем бы он ни был, но перед нами грешник, а не праведник, да еще и буйного нрава. Старик подъехал к нам. — По какому праву вы охотитесь в наших землях? — спросил он вежливо на ломаном голландском, хотя сам вопрос вежливым не назовешь. — А я не знал, что нам требуется разрешение. В этих краях это как-то не заведено, — ответил я так же вежливо по-английски. — Причем самец этот был ранен далеко отсюда. — О! — воскликнул он. — Это меняет дело, но я все же думаю, это случилось в наших владениях. Земля здесь не дорогая, и у нас ее много. — Старик остановился и пригляделся к нам. — Вы, должно быть, приняли меня за чудака, — добавил он виновато. — Все дело в моей дочери, она не выносит, когда животных убивают рядом с домом. Поэтому их так много в округе. — В таком случае передайте ей наши глубочайшие извинения, — попросил Энском. — Такого больше не повторится. Старик спешился и разглядывал нас, поглаживая свою длинную бороду. — Господа, могу я узнать ваши имена? — Разумеется, сэр. Меня зовут Аллан Квотермейн, а это мой друг, мистер Морис Энском. Он вздрогнул. — Об Аллане Квотермейне и его переселении в наши края мне рассказывали туземцы. А вы, сэр, сын лорда Маунтфорда, не так ли? С вашим батюшкой мы старые знакомые, служили вместе в гвардии. — Как странно… — удивился Энском. — Отца убили, и мой брат стал новым лордомМаунтфордом. А вам здесь больше по душе, чем в гвардии? Держу пари, мне бы понравилось. — В обоих случаях есть свои плюсы, — ответил старик уклончиво. — Думаю, вы, как человек военный, меня поймете. Однако не зайти ли нам в дом? Моя дочь Хеда вернется не скоро, а мой компаньон, мистер Родд, — при упоминании этого имени у него на виске вздулась жилка, будто от сдерживаемых чувств, — очень застенчив. Поначалу он кажется нелюдимым, но, узнав его поближе, понимаешь, что ошибался. В общем, у нас есть все необходимое, чтобы вы почувствовали себя как дома, и даже недурственное вино. — Нет, — ответил я, — большое спасибо, мы лучше вернемся к фургонам, не то наши люди решат, что с нами стряслась беда. А гну забирайте себе, если хотите. — Пожалуй, вы правы, — сказал старик то ли с сожалением, то ли с облегчением. А об антилопе ни полслова, будто считал это само собой разумеющимся. — Вы знаете дорогу? Скорее всего, ваш фургон обосновался на востоке, у ручья, мы зовем его Гранитный. Следуйте этой тропой кафров, — он указал на протоптанную неподалеку дорожку, — и она выведет вас к тому месту. — А куда ведет эта дорога? — поинтересовался я. — Нет ли там какой деревни? — О, она ведет к Храму. Так моя дочь прозвала наш дом, — пояснил он. — Мы с моим компаньоном вербуем туземцев на рудники в Кимберли. А где вы собираетесь охотиться? — спросил старик, помолчав немного. Я объяснил. — А вы не боитесь? Помяните мое слово, скоро он начнет мутить воду, хоть у них и перемирие с англичанами. Как раз сейчас он, может быть, посылает своих людей прочесать дорогу. Любопытно, откуда наш новый знакомый так хорошо осведомлен о намерениях Сикукуни? Вслух я сказал лишь, что мне не впервой иметь дело с туземцами и я их не боюсь. — А, ну что ж, дело ваше. Но если вдруг попадете в беду, возвращайтесь прямо к нам. Здесь вас басуто не достанут. Меня так и подмывало спросить, почему это место так священно для племени, но я предпочел держать язык за зубами. — Большое спасибо, мистер… — Марнхем. — Большое спасибо, мистер Марнхем, — повторил я. — Будем иметь в виду. Прощайте, и спасибо вам за вашу доброту. — Последний вопрос, — встрял Энском, — только не сочтите меня грубым. Как зовут создателя этого фантастического дома? Он в самом деле из мрамора? — Его придумала моя дочь, вернее, подсмотрела на каких-то старинных рисунках. Да, вы угадали, он из мрамора. Примерно в ста ярдах от дороги целые залежи. Так что материал нам обошелся выгоднее любого другого. Надеюсь, на обратном пути вы остановитесь и рассмотрите его как следует. Хотя вблизи он не так хорош. Что ж, после стольких лет было приятно вновь увидеться с английским джентльменом. На этом мы простились с хозяином. В глубине души я был уязвлен, что он и не подумал пригласить меня. — Не сходите с тропинки, идущей через просеку, — напутствовал он нас, — земля вокруг болотистая, и скоро стемнеет. Вскоре мы вышли к месту, где росли разбросанные тут и там деревья, разновидность желтого дерева, довольно крупные для Южной Африки, а в промежутках с сухой голой земли тянулись к небу своими пальцами-отростками гигантские молочаи. В угасающих сумерках печальные серые краски создавали ощущение нереальности происходящего. Помня предостережения, мы шли гуськом вдоль узкой тропинки, а иначе, стоило чуть оступиться, и мы бы увязли в трясине. Дальше начиналась высокогорная местность, усыпанная колючим кустарником. — О чем вы думаете, глядя на эти заросли? — спросил Энском через пару минут. — Думаю, как бы нам не подхватить лихорадку. Сырой туман так и стелется по земле. Я развернулся в седле и указал дулом ружья на белые клочья, похожие на куски ваты. Сквозь эту пелену едва пробивался последний отблеск заката, создавая на редкость причудливые, неземные образы. — Тысячи лет назад тут наверняка плескалось озеро, вот почва и стала благодатной для всех этих древесных исполинов. — Квотермейн, какой же вы все-таки приземленный. Я ему толкую о высоких материях, а он мне читает лекции о плодородии и темпах роста. Разве вы не ощущаете вокруг нечто необыкновенное? — Я ощущаю только холод, — ответил я резко, умирая от усталости и голода. — К чему вы клоните, черт возьми? — Фляжка с джином при вас? — Ах, вот на какие материи вы намекали, — подколол я его, передавая горячительный напиток. — Вовсе нет, — отхлебнув, возразил он, — разве что, как учит Библия, вино веселит сердце человека. Но я не о том. — Энском посерьезнел и добавил: — Ничто и никогда не угнетало меня так сильно, как эта треклятая тропа посреди болота. — Почему же? — спросил я, стараясь разглядеть его лицо в сумерках. Сказать по правде, меня терзали сомнения, не повредил ли он голову, падая с лошади. — Признайтесь, Квотермейн, я похож на преступника? Так вот, я вступил на ту тропу вполне честным человеком, а сошел с нее убийцей. Как будто там случилось нечто ужасное, как будто я кого-то убил. Брр! — Он вздрогнул и снова отхлебнул из фляги. — Вздор! А даже если и так, что с того. Признаться, мне пришлось убить немало людей, мешавших в работе, да только я не вижу их на каждом шагу. — А вам приходилось убивать из-за женщины? — Ни в коем случае, это уже настоящее убийство. Ну и вопросы у вас! Однако я убивал, стремясь отбить скот, — продолжал я, рассуждая вслух, и вдруг вспомнил, как отправился в поход с зулусским предводителем Садуко против Бангу, предводителя амакоба, и прочие случаи в моей практике. — Квотермейн, это совершенно разные вещи. Убийство ради скота — допустимая самооборона, а убийство ради женщины пре вращает тебя в преступника. — Верно, — согласился я. — Таковы африканские ценности. Женщина считается более совершенным созданием, чем корова, поэтому преступление, совершенное ради нее, признают более тяжким. Отсюда и различия между допустимой самообороной и убийством. — Господи, ничего себе резон! — воскликнул Энском и задумался. Привыкнув к туземцам и их обычаям, он бы лучше в них разбирался. Хотя, признаюсь, объяснить все это непросто. К фургону мы вернулись без происшествий. Пока мы курили послеобеденные трубки, я спросил у Энскома, как ему показался мистер Марнхем. — Подозрительный тип. Безусловно, джентльмен, умеет себя держать. Ну что ж тут удивительного, если он в самом деле из благородного семейства Марнхем. Но странно как-то он упомянул о службе с моим отцом. — Он ушел от разговора. Одинокие люди склонны иногда прихвастнуть, о чем впоследствии могут сожалеть. Вот и этот туда же. А что же тут странного? — Он не солгал. Я только что вспомнил, как отец рассказывал мне о человеке по имени Марнхем, с которым они вместе служили. Подробности я не помню, однако речь шла о карточной игре с высокими ставками и о ссоре со старшим по званию, дело дошло до кулаков и отставке зачинщика. — Может, это однофамилец. — Не исключено, тем более в полку служило несколько Марнхемов. Но отец вспоминал, как бы в оправдание виновнику, будто тот отличался буйным нравом. Покинул страну и поступил на службу в Америке. Порасспросить бы старика как следует. — Вряд ли это удастся. Даже если ваши пути снова пересекутся, сдается мне, мистер Марнхем будет держать язык за зубами. — Любопытно, какова из себя мисс Хеда, — продолжал он, помолчав немного. — Хоть одним глазком взглянуть на девушку, пожелавшую жить в подобии древних развалин. — Видно, не судьба, ведь она куда-то уехала. Кроме того, мы сюда пришли за буйволами, а не за девушками. От женщин никакой пользы, кроме вреда. Я был настроен решительно, ибо сразу невзлюбил мистера Марнхема и иже с ним. Поэтому я всячески противился фантазиям о возможной встрече. — Да, этому не бывать. Однако же меня не покидает ощущение, будто мне суждено вернуться в это проклятое болото. — Вздор, — ответил я, поворачиваясь на другой бок. Ах, если б я только знал, что нас ждет впереди!Глава 3
ЗАГНАННЫЕ ОХОТНИКИ
Только я разулся, как снаружи раздалось бормотание на местном наречии сисуту. Обуваться было лень, поэтому я послал на разведку возницу, кафра из Капской колонии. Он принадлежал к племени финго, но у него в роду были и готтентоты. Мастерски управлял фургоном, лучше любого другого, и превосходно стрелял. Европейцы прозвали его Футсек — слово голландских буров, которое применялось к приставучему псу и означало «пошел прочь». Сказать по правде, будь я его хозяином, сразу прогнал бы. Уж боль но он любил выпить, да и вообще не внушал доверия. А вот Энском к нему привязался, тот, видите ли, показал себя настоящим храбрецом во время их совместных охотничьих приключений в Матабелеленде. Вероятно, тогда мой спутник и заполучил свой трофей — шкуру черного льва, ставшую причиной нашего знакомства около двух лет назад. Более того, Энском уверял меня, что Футсек спас ему жизнь, хотя, поразмыслив, я решил, что тут лишь верхушка айсберга. Кафр побывал во многих охотничьих экспедициях, говорил на голландском языке и неплохо понимал английский. Такой человек в походе незаменим. Футсек вскоре вернулся с докладом. Тридцать туземцев племени басуто возвращались из Кимберли, где работали на руднике под началом метиса Карла. Они просили разрешения скоротать ночь в лагере, как будто боялись идти в Храм по темноте. Поначалу я даже не понял, о чем речь, ведь у них в языке нет такого слова, и тут вдруг вспомнил, как мистер Марнхем называл свой дом Храмом. Похоже, он превратил его в дом торговли, ведь они с компаньоном занимались вербовкой рабочей силы. — Чего они боятся? — Хозяин, они не хотят идти через лесное болото, где живут призраки. Потому что очень боятся духов. — Чьи же это духи? — Не знаю, хозяин, они говорят о ком-то, кого убили. — Глупости. Скажи, пусть проваливают и ловят своего призрака. Нам не улыбается всю ночь слушать их завывания. Тут в разговор встрял Энском. — Квотермейн, откуда в вас столько жестокосердия? — упрекнул он меня с шутливым пафосом. — После всего ужаса, какой мне довелось пережить, я и мула не пустил бы на болота в такую кромешную тьму. Пускай бедняги останутся, они так изнурены. Пришлось уступить. Ночь выдалась знойная, сквозь приподнятые края белого брезента виднелись полыхающие костры. Я вдруг проснулся и услышал чьи-то голоса, спросонья мне даже показалось, будто говорил Футсек. Встав, как обычно, спозаранку, я выглянул из фургона и в утренней дымке заметил Футсека в компании с гнусным типом. Судя по всему, это был Карл. В нем смешалась кровь пятнадцати туземных племен, белым он был разве что на одну шестнадцатую часть. Обезображенное оспинами лицо и бегающий взгляд добавляли штрихов к портрету. Футсек как будто передал ему нечто, подозрительно смахивающее на бутылку джина, обернутую в пучок сухой травы, а взамен получил маленький предмет и сунул его себе в рот. Похоже, штука ценная, раз он спрятал ее во рту, да и конфеты не в его вкусе. Что же это — золотая монета, кусок жевательного табака или камешек? Монета — слишком большая плата за бутылку, а табак — недостаточная. А как насчет камня? Да, но кто же станет совать его в рот? Вдруг я вспомнил, ведь эти люди пришли из рудника в Кимберли, и присвистнул от осенившей меня мысли. Довольно густой туман все еще стелился по земле, и я видел толь ко их лица, а что у них в руках, разобрать не мог. Туземец легко опровергнет обвинение, уличит меня во лжи, и тогда совсем вый дет из повиновения. Поэтому я прикусил язык и затаился до времени. Мне не повезло, не успел я одеться, как басуто во главе с Карлом ушли. Солнце, видите ли, уже высоко, и они больше не боятся призрака в кустах. Удобный случай представился чуть погодя. Мы двигались вперед по проторенной дорожке, сквозь колючий кустарник, поэтому Футсек сидел на козлах фургона, а другой парень шел впереди и вел волов под уздцы. Энском ехал рядом, лелея надежду подстрелить цесарку на обед. Надо сказать, что охотничьим ружьем он орудовал лучше, чем винтовкой. Равнодушный к мелкой дичи, я сидел подле Футсека и курил. От него несло джином, и вообще, он был какой-то рассеянный. — Покажи мне алмаз Карла, за который ты расплатился хозяйским джином, — попросил я вдруг. Я целился наудачу и, как видно, попал в точку. Футсек чуть не выронил длинный бамбуковый хлыст, я вовремя перехватил его, а сам он скорчился на козлах, будто получил пулю в живот. — Хозяин, как ты узнал?! — выдохнул он. — От меня ничего не скроешь, — ответил я важно. — Показывай алмаз. — Хозяин, я не брал джин у хозяина Энскома. Я купил его в Пилгримс-Рест. — Видел я эту бутылку и прекрасно знаю, чья она, — ответил я неопределенно, поскольку откровенно блефовал. — Давай показывай. Футсек ощупал свои волосы, порылся в карманах жилета, даже в меховой набедренной повязке, и наконец, выудив камень, протянул его мне. По насыщенности цвета и размеру я оценил алмаз как минимум в двести фунтов. Осмотрев как следует, я положил его себе в карман. — За камень уплачено джином твоего хозяина, а значит, он единственный законный владелец. Говори, как он попал к этому Карлу, иначе тебе будет худо. — Хозяин, откуда мне знать? — ответил Футсек, дрожа всем телом. — Он работал на руднике вместе с остальными. Небось там его и нашел. — Вот как? Стало быть, у него есть еще? — Думаю, да. Ведь он мне признался, что всю дорогу от Кимберли покупал выпивку таким вот манером. Карл тот еще пьяница. Кому и знать, как не мне, чай, мы не первый год знакомы. — Давай не темни, что он еще сказал? — настаивал я, не сводя с Футсека глаз. — Он боится возвращаться к хозяину Марнхему по прозвищу Белобородый теперь, когда пропил все камни. — Почему боится? — Потому что Белобородый, живущий в Храме, очень не любит, когда его водят за нос. От этого он звереет, и Карл боится, как бы старик не убил его, как того, другого. Ведь это его призрак бродит на болоте, куда эти олухи боятся ходить по ночам. — Кого же убили и кто это сделал? — Хозяин, откуда мне знать, — ответил Футсек и впал в угрюмую молчаливость, типичную для кафра, сболтнувшего лишнее. Я не стал на него давить, на первый раз достаточно. Итак, что в сухом остатке? Господа Марнхем и Родд занимаются незаконной торговлей алмазами, так называемой НТА. Ловко же они устроились, проворачивают махинации вдали от места преступления и безнаказанно нарушают закон. Вероятно, они также совершают бесчестные сделки с кафрами и поставляют им оружие для войны с белыми. Битва с Сикукуни отгремела совсем недавно, и наверняка торговля винтовками шла бойчее. Тогда легко объяснить удивительную осведомленность Марнхема о намерениях вождя. С другой стороны, он, возможно, ничего не знал и лишь притворялся, стараясь от нас избавиться. Позднее я поделился этой историей и своими подозрениями с Энскомом. Мой рассказ произвел на него впечатление. — Вот ведь прохвосты! Мы обязательно должны вернуться в этот Храм. Всегда мечтал побывать в логове нечестной торговли. — Скорее всего, вы в таком уже бывали, сами того не ведая. Впрочем, если вы твердо решили посетить это злачное место, дело ваше, а меня увольте. — Не правильнее ли назвать его «гроб повапленный»? — весело заметил Энском. — Ведь он, если мне не изменяет память, скрывает кости мертвецов? Тогда я спросил, что он думает делать с Футсеком и бутылкой джина, а он тут же задал мне аналогичный вопрос об алмазе. — Отдам его вам как хозяину Футсека, — ответил я и, согласуя слово с делом, протянул ему камень. — Не желаю участвовать в сомнительных сделках. Затем последовал долгий спор о том, кто настоящий владелец камня. Наконец решили алмаз припрятать и вернуть владельцу, если он объявится. А Футсеку — устроить хозяйский нагоняй за украденную дюжину бутылок да пригрозить расправой от первого попавшегося мирового судьи, ежели его вина еще горше. Назавтра мы достигли низкого вельда, жаркой саванны, где, по слухам, обитало стадо буйволов, а утром следующего дня уже начали было охоту, как вдруг появился кафр племени басуто. Он поведал нам, что якобы вождь Сикукуни отправил его за двумя потерявшимися волами. Я сразу усомнился в этом, ибо он, скорее, походил на разведчика, и лишь спросил его, не встречались ли ему по пути буйволы. Оказалось, туземец видел стадо в тридцать с лишним голов вместе с телятами, только по ту сторону реки Элефантес, в долине, лежащей между далекими холмами и скалистыми горами, в двадцати пяти милях отсюда. Дальше начинались владения вождя Сикукуни. Подтверждая сказанное, он показал следы недельной давности, ведущие в ту сторону. На мой взгляд, следовало держаться подальше от Сикукуни. Лучше махнуть рукой и поискать другое место для охоты. Однако Энском был иного мнения. Он яростно настаивал, чтобы мы пошли вслед за кафром, поскольку наше стадо могло оказаться единственным на сотню миль в округе, если по эту сторону горной цепи Лебомбо вообще водятся буйволы. Поскольку я ни в какую не соглашался, Энском весьма любезно предложил мне остаться и, покуда они с Футсеком поищут стадо, разбить лагерь подле фургона и ждать, раз уж я не решаюсь пойти на риск. Я ответил, что привык к опасности, ведь в моей работе ее хватает, а так как на мне все-таки лежит ответственность и я думаю в первую очередь о нем, то готов немедля отправляться и даже перебраться через горы. Боясь задеть мои чувства, Энском извинился и предложил мне самому выбрать маршрут. Наконец решили отправиться к реке Элефантес, встать лагерем на берегу, верхом перебраться вброд и обследовать кустарник. Мы договорились не отлучаться далеко от фургона и вернуться обратно до темноты. Итак, под вечер мы расположились лагерем у живописной реки Элефантес, словно застывшей от зноя. На ее берегах обитали бегемоты и тьма-тьмущая крокодилов. Одного мы успели подстрелить перед сном. Утром перекусили холодной цесаркой, забрались в седла, по тропе кафров приблизились к берегу и перешли реку вброд — глубина оказалась в самый раз. Футсека и остальных оставили с фургоном. Наконец мы приступили к охоте в заболоченных зарослях, протянувшихся на восемь-десять миль от этого берега к склону близлежащего холма. Я не слишком рассчитывал тут что-нибудь найти, и басуто сказал, что они ушли в сторону холмов. Либо он лжет, либо они вернулись обратно. В каких-то полумилях от реки я преследовал водяного козла, которого заприметил среди бурьяна. Но не успел я слезть с лошади, как взгляд мой упал на следы буйвола, оставленные, судя по всему, каких-нибудь пару часов назад. Видно, стадо кормилось тут ночью, а на рассвете ушло отсыпаться в заросли сухого кустарника у подножия холма. Подозвав Энскома, я показал ему находку, и мы тут же пустились по следу. К счастью, он не увидел козла, иначе перепугал бы буйволов своей стрельбой. Вскоре следов стало больше, мы насчитали где-то сорок животных. Теперь выслеживать их не составляло труда, пока мы не ступили на твердую почву. Видно, буйволы ушли уже довольно далеко. Больше часа мы брели, отдалившись уже на семь миль от реки, и вдруг я различил впереди, в шаге от подножия холма, тенистое ущелье, поросшее лесом. — Тут им проще всего укрыться, — заметил я. — Теперь будьте внимательны и ступайте осторожно. Мы подъехали ко входу в ущелье, где начались более четкие и свежие следы, спешились и привязали коней к стволу боярышника, чтобы топот копыт не нарушал тишину, и дальше пошли пешком. Не миновали мы и двухсот ярдов, продираясь сквозь кусты, как, проходя бочком под тенистым навесом двух деревьев, шагах в пятидесяти я увидел величавого старого самца с громадными рогами. — Стреляйте, — шепнул я Энскому, — вам повезло — это страж стада. Бледный от волнения, он опустился на колени и направил дуло винтовки в сторону буйвола. — Не горячитесь, — шепнул я снова, — и цельтесь чуть сзади лопатки. Вряд ли он меня понял, ибо тут же раздался выстрел. Буйвол был ранен, однако не смертельно. Он развернулся и, невредимый, с грохотом ломанулся из ущелья. Энском пустил ему вдогонку вторую пулю, но на сей раз промазал. Вдруг, откуда ни возьмись, отовсюду стали появляться другие буйволы, должно быть, они спали в укромном месте. Стадо бросилось к реке, громко мыча и фыркая. Они явно не желали угодить в ловушку. Мне удалось уложить наповал лишь одну крупную самку с длинными рогами. Если б и я выстрелил повторно, пуля только ранила бы другое животное, а мне это не по нутру. Все было кончено в мгновение ока. Мы подошли к трупу буйволицы. Пуля поразила ее в самое сердце. — Жестоко убивать буйволов для забавы, ведь мы даже не знаем, куда ее девать. Они тоже имеют право на жизнь, как и мы. — Мы отрежем ей рога, — предложил Энском. — Дело ваше, только не кинжалом. — Верно, такое по плечу только Футсеку. Вот пусть завтра и займется. А теперь идемте и прикончим моего буйвола. Эти парни без труда унесут и две пары рогов. Прекрасно зная повадки раненого буйвола, я озабоченно разглядывал сплошной кустарник. «Да, та еще работенка нам предстоит», — думал я, но благоразумно молчал. Если я начну колебаться, Энском, чего доброго, решит идти туда в одиночку. Поэтому мы пошли дальше, без труда находя дорогу по кровавым следам, — видно, зверь был всерьез ранен. Однако же он с успехом отходил к краю ущелья, где с уступа стекал поток в сто шагов шириной, а по обе стороны высились еще два скальных уступа. Едва мы спустились по одному, протрубил боевой рог племени басуто. Вообразите, в пылу азарта я пропустил этот звук мимо ушей. Охота на раненого самца буйвола на каменистой тропе лесистого ущелья — это не игрушки. Порой эти животные возвращаются по своим следам обратно, бросаются на вас и поднимают на рога. Поэтому я шагал впереди Энскома со все нарастающей тревогой. Однако то ли наш самец от ранения плохо соображал, то ли родители не обучили его коварным приемам, да только, окончательно выбившись из сил, он стал поджидать в зарослях, а завидев нас, просто-напросто выскочил из кустов. Я уступил Энскому право самому подстрелить буйвола, а он как-то умудрился промахнуться оба раза. В решающую секунду, когда зверь опустил голову, я прицелился и с первого раза перебил ему пулей хребет — выстрелом в голову его не одолеть. Зверь упал замертво к нашим ногам. — Теперь эта великолепная пара рогов ваша, — заметил я, разглядывая поверженного гиганта. — Да уж, — ответил Энском, лукаво подмигнув, — если бы не вы, остался б я и впрямь с рогами. Едва он произнес эти слова, как некий снаряд пронесся мимо моего уха, по звуку казалось, будто от кипящего котла отвалились ножки. Видимо, стреляли из гладкоствольного орудия с большим количеством отсыревшего пороха. Тогда я припомнил, как трубил боевой рог, и догадался, что к чему. — Уходим, мы у кафров в ловушке. В самом деле, как только мы стали выбираться из ущелья, с вершины скалы на нас посыпался нескончаемый град пуль, но, к счастью, мимо цели. Вокруг со свистом проносились куски свинца и чугунные осколки, пока наконец, целые и невредимые, мы не укрылись за деревьями, где оставили коней. Тут Энском вдруг начал прихрамывать, но все-таки как-то ухитрился, добежал и, вскочив в седло, сунул в стремена только левую ногу. Вмиг мы пустились галопом. — Что с вами? — Кажется, мне прострелили ступню, — рассмеялся он, — а почти не больно. — Боль придет позже. Слава богу, это случилось теперь, когда мы выбрались из ущелья. Пешком они нас не догонят и не додумаются подстрелить сперва лошадей. — Оглянитесь, кажется, они решили попытать счастье. Из ущелья появились около тридцати туземцев и пустились за нами в погоню. — Жаль, не успеем подобрать рога, — с сожалением вздохнув, заметил Энском. — Увы, если только вы не решили попрощаться с жизнью, когда вас пригвоздят к термитнику под раскаленными лучами солнца. Дальше мы ехали в тишине. Как же я сглупил, пойдя на поводу у Энскома, когда перешел реку и не обратил внимания на боевой рог. Болотистая почва затрудняла передвижение, а жара отнимала силы у лошадей. Поэтому у брода мы опередили преследователей, резвых бегунов, привыкших к здешней местности, всего лишь на десять минут. Видно, у них был приказ взять нас живыми или мертвыми, раз они не оставили погоню и следовали за нами по пятам. Кони прошлепали по мелководью реки и благополучно выбрались на другой берег. Там нас поджидал Футсек. Он сразу заподозрил неладное. — Запрягай! — крикнул я ему с ходу. — И пошевеливайся, если хочешь дожить до утра. За нами гонятся басуто. Весь позеленевший от страха, он пулей метнулся исполнять приказ. — Нам придется оборонять брод, пока фургон не будет готов к отъезду, — сказал я Энскому, пока мы поили умирающих от жажды коней. — Не то эти черти до нас доберутся. Слезайте, я привяжу лошадей к дереву. Он с трудом спешился, и я, мигом управившись с поводьями, разрезал шнуровку на его ботинке, который уже наполнился кровью, и окунул раненую ногу в прохладную воду. Помог ему спрятаться за достаточно толстый ствол колючего боярышника, а сам встал за соседний в паре шагах от него. Вскоре появились басуто, они бежали трусцой, сомкнув ряды. Энском тут же дал по ним залп из обоих стволов с расстояния двести ярдов. Глупая затея. Во-первых, он промазал, и пули просвистели у них над головами, а во-вторых, они бросились врассыпную и стали осторожнее. Сбитых в кучку мы могли застать их врасплох и показать, почем фунт лиха. Все же я оставил упреки при себе, не желая его смутить. Тем временем эти мерзавцы опустились на четвереньки и, укрывшись за камнями и кустами, открыли по нам огонь со своего берега. Они были вооружены разномастным оружием, и нас разделяла лишь сотня ярдов воды. Мы тоже не сидели сложа руки, мне удалось уложить двоих туземцев, а третьего ранил Энском. Наше положение становилось незавидным. Стволы боярышника едва скрывали нас. Три или четыре туземца, вероятно охотники, стреляли неважно, зато остальные палили как бешеные. Одна пуля сбила шляпу с головы Энскома, когда он выглядывал из-за ствола, чтобы прицелиться, а другая прошила лацкан моей куртки. Затем случилась большая неприятность. Либо по чистой случайности, либо по злому умыслу конь Энскома был ранен в шею. Он упал и подпрыгивал, пытаясь подняться на ноги. Мой конь в испуге сорвался с привязи и во весь опор поскакал к фургону. Вот где надо было сразу оставить лошадей, а мне показалось, разумнее держать их под боком, если придется спешно отступать или отвезти хромого Энскома. Время тянулось бесконечно долго, наконец я оглянулся и увидел волов. Их привели с отдаленного пастбища и теперь спешно запрягали. Это не ускользнуло от глаз туземцев. Они боялись нас упустить и ринулись в атаку с новой силой. Выскочили из укрытий и с неожиданной прытью бросились в реку, собираясь на нас напасть. Тут бы нам, право слово, и пришел конец, если бы я вовремя не открыл по ним огонь. Увидев немалые потери в своих рядах, они спешно отступили, оставляя убитых и даже одного раненого, который цеплялся за камень. Несчастный страшно боялся вновь попасть под наши пули, чего у меня и в мыслях не было. Хотя, возможно, в его случае гуманнее было его пристрелить, пуля Энскома раздробила ему ногу выше колена. Он все молил нас о пощаде, уверял, что вождь приказал ему напасть, отобрать оружие и скот. И будто бы вождя о нашем прибытии предупредил белый человек. — Какой белый человек?! — крикнул я. — Говори, а не то пристрелю. Он не успел ответить, лишился чувств от потери крови и утонул. Тогда другой туземец, возможно их начальник, обратился к нам из своего укрытия в кустах: — Не надейся на спасение, белый человек. Скоро придет много наших людей, и мы убьем тебя ночью, когда твои глаза потеряют зоркость. Как раз в эту минуту Футсек крикнул, что фургон готов. Я колебался. То ли мы пойдем к фургону, ковыляя из-за больной ноги Энскома, но тогда нам придется пересечь семьдесят или восемьдесят ярдов открытого пространства, то ли останемся здесь до ночи, рискуя нарваться на пулю, или нас атакуют другие туземцы. Есть и третий вариант развития событий. Перепуганные слуги могут удрать, спасая свою шкуру, и оставить нас одних. С этих, пожалуй, станется, ведь они не обладают храбростью зулусов. Я решил поделиться проблемой выбора со своим спутником. Энском взглянул на свою ногу и покачал головой. Затем достал из кармана монетку. — Доверимся судьбе. Орел — геройски спасаемся бегством, решка — храбро остаемся на месте. — И он подкинул монетку. Я изумленно уставился на него разинув рот, даже с некоторым восхищением. Никогда еще крайние затруднения, подобные нашим, не решались таким нехитрым способом. — Орел, — сказал он спокойно, поймав монетку. — Что ж, друг мой, бегите, а я поползу за вами следом. Если я не вернусь, вы знаете адрес моего поверенного. Вам я завещаю все свои африканские пожитки в память о самом увлекательном путешествии. — Не валяйте дурака, — твердо заявил я. — Давайте, обнимите меня за шею правой рукой и прыгайте на левой ноге так быстро, как только сможете. Мы продвигались довольно бойко. Басуто открыли по нам огонь, но, как видно, лучшие стрелки полегли, ни одна пуля не достигла цели, хотя, пока мы не отошли на безопасное расстояние, пару раз чуть не зацепило. — Вот, — заметил Энском, сделав последний спасительный прыжок к фургону, — теперь вы убедились, как мудро иногда полагаться на Провидение. — Ну да, в образе монетки, — проворчал я, подсаживая его. — Безусловно, а почему бы Провидению не воспользоваться монеткой так же, как и любым другим обычным предметом? О друг мой Квотермейн, разве вас никогда не учили, что пенс фунт бережет? — Бросьте молоть чепуху, лучше позаботьтесь о ноге, будет немного трясти. Мы перешли на крупную рысь. Никогда я не видел более послушных и проворных волов, чем у Футсека с приятелями. Как только мы выехали на ровную дорогу, я велел Энскому лечь внутри фургона и осмотрел рану, насколько это было возможно. Пуля прошла под большим сухожилием, а кость, судя по всему, осталась цела. Мне оставалось только втереть в рану карболовую мазь, по счастью оказавшуюся в походной аптечке Энскома, потуже перевязать чистым носовым платком и, сверх того, замотать ногу полотенцем не первой свежести. Наступил вечер. Прямо на ходу мы утолили зверский голод из своих запасов. Кажется, это были сыр и сухое печенье. Вскоре совсем стемнело, и, пока не взошла луна, нам пришлось сделать привал у маленькой речушки. По счастью, ночное светило не заставило себя долго ждать, оно, как видно, только-только пошло на убыль. Мы поехали дальше с короткими остановками пару раз за ночь. Всю дорогу я просидел на запятках фургона и зорко следил за дорогой. Однако хоть колдобины и причиняли Энскому боль, он спал безмятежно, как дитя. Я очень устал, и только страх, как бы кто не напал на нас врасплох, не давал мне сомкнуть глаз. Вдруг мелькнула нелепая мысль, что такова уж моя участь, быть все время начеку, пока другие спят. Ночь прошла без происшествий. На рассвете мы остановились напоить волов, черпая воду из реки ведрами, и дали им пощипать травки, насколько позволяло ярмо. Мы не решались их распрягать. Только собрались ехать дальше, как возница, которого я послал на разведку, прибежал с выпученными от страха глазами и сообщил, что в зарослях рыщут басуто с копьями, как будто идут по нашим следам. Нельзя было медлить ни минуты. Весь день мы упорно продвигались вперед, нахлестывая изнуренных волов, которые норовили прилечь на каждой стоянке. С наступлением ночи разбили лагерь совсем рядом с домом под названием Храм. Здесь мы повстречали кафров, возвращавшихся с алмазных копей. Обратный путь занял вдвое меньше времени. Нам пришлось устроить здесь привал, животные устали и проголодались. В эту ночь мы заснули без всякой опаски. Навряд ли басуто последуют за нами в такую даль, а поселок Пилгримс-Рест всего в дне пути отсюда. Туда мы и отправимся на рассвете. Как же я ошибался. Тут-то и вышла промашка. Вот с этого все и начинается. Тут-то я и оплошал.Глава 4
ДОКТОР РОДД
Ночью я не выспался — спал вполглаза. Однако встал ни свет ни заря и, среди прочего, накормил оставшихся лошадей кукурузой из наших припасов. Волов пришлось выпрячь из ярма, чтобы не мешало щипать травку и пить вдоволь, а иначе, чего доброго, им не хватило бы сил даже встать на ноги. Бедняги так намучились, что еле могли жевать и при первом же удобном случае все разом улеглись на земле. Разбудив Футсека и остальных, я велел им быть в полной боевой готовности, чтобы мы убрались отсюда с первыми лучами солнца. Затем отхлебнул разбавленного джина и поел сухого печенья. Энском тоже перекусил немного. Нам бы в самый раз глоток кофе, но я решил не разводить костер, ни к чему лишний раз привлекать к себе внимание. На востоке едва забрезжил рассвет. Рядом с фургоном росло высокое дерево с зеленой пышной кроной. Взобраться по стволу даже при тусклом сиянии звезд мне не составило труда. Я поднялся над утренней мглой, окутавшей землю, и огляделся вокруг, пытаясь определить, куда нам ехать дальше. Понемногу прояснилось, небосклон озарился светом, из-за горизонта показался краешек солнца и брызнул во все стороны лучами. Густой туман, словно шерстяным одеялом, окутал всю землю. Лишь в миле от нас виднелось голое пятнышко, небольшой холм, можно сказать, морщинка на поверхности земли, который мы миновали прошлым вечером. Его безлесная верхушка, сложенная твердым гранитом, всплывала из окружающей пелены. Ничего не добившись, я велел привести волов, которые уже были на ногах и снова щипали травку. Только я хотел спуститься, но вдруг заметил, как вдалеке что-то блеснуло. Менее опытный охотник вовсе не обратил бы на это внимания — с такого-то расстояния. Да, и как раз на том самом одиноком холмике. Я глянул в бинокль, и мои худшие опасения подтвердились. Там шли туземцы, солнечные лучи отражались от их копий и орудийных стволов. Мигом соскочив с дерева, точно напуганный дикий кот, я бросился к фургону, пытаясь собраться с мыслями. Басуто не отстали и, как только совсем рассветет, перейдут в атаку. Через каких-то десять минут они будут здесь. Запрягать нет времени, да и что толку, дальше сотни ярдов по этим колдобинам фургон не уйдет. Что же нам делать? Бежать? Исключено — Энском слишком слаб. Тут на глаза мне попался конь, дожевывающий последний кукурузный початок. — Футсек, — сказал я, стараясь сохранять спокойствие, — бог с ними, с волами, немедля седлай коня. Он взглянул на меня с подозрением, но все же подчинился, оставаясь в неведении. Узнай он о грозящей нам опасности, удрал бы, это уж точно. Затем я нашел двух его приятелей в хвосте фургона и тоже велел им оставить упряжку в покое и подойти ко мне. — Энском, раздайте всем ружья и патроны. Не задавайте вопросов, просто делайте, что вам говорят. Эти двое будут вам вместо костылей. Захватите свой револьвер, а я помогу вам спуститься. Да не забудьте свою шляпу. Энском мигом все исполнил, и вот уже стоял рядом со мной на одной ноге. Видно, она затекла, и он едва сохранял равновесие. — Басуто у нас на хвосте, — сказал я ему по секрету. Энском присвистнул и намекнул на второе действие спектакля. — Футсек, приведи коня, — велел я, — твой хозяин хочет проехаться верхом, чтобы не натрудить ногу. Он повиновался, а на обратном пути только раз остановился, чтобы как следует подтянуть подпругу. Мы помогли Энскому забраться в седло. — Куда теперь? — спросил он. Я взглянул на дальний склон впереди, крутой и непроходимый. Еще не известно, сможет ли Энском сам взобраться на холм и оторваться от преследования. Я бы справился, если конь выдержит двоих седоков, а это вряд ли. А как же наши слуги? Энском догадался, какие сомнения меня терзают. — Помните, — заметил он с присущим ему спокойствием, — наш белобородый друг предложил, если возникнут проблемы с племенем басуто, бежать прямо к нему? По-моему, самое время. — Знаю, только я еще не решил, кого нам стоит опасаться больше — Марнхема или басуто. Сдается мне, это он натравил на нас туземцев. — Сейчас не самое подходящее время для дилемм. Некогда раздумывать и бросать монетку. Мой голос в пользу Храма, — сказал Энском. — Что ж, у нас нет выбора. В конце концов, вам решать. Так что вперед. Басуто идут по нашему следу! — крикнул я нашим кафрам. — Мы найдем убежище в Храме! Бегите! Уж они припустили! Лучшие спортсмены не пробегут четверть мили за такое короткое время. Мы тоже понеслись, вернее, наш конь. Я висел одной ногой в стремени, а Энском держал винтовки под рукой. Наш скакун, уставший и наевшийся утром до отвала, бежал не слишком быстро. Когда между нами и фургоном было уже двести ярдов, я оглянулся и увидел туземцев. Заметив нас, они издали боевой клич и пустились следом. А потом началось. Я вскарабкался на коня позади Энскома, однако умное животное, почувствовав двойную нагрузку, снизило скорость в три раза и ни в какую не соглашалось прибавить шаг. Поэтому я соскользнул с его крупа и продолжал ехать, как и прежде, держась одной ногой в стремени. Тем временем басуто, эти шустрые малые, сокращали разрыв, а впереди маячило пресловутое лесное болото с желтыми деревьями. Назревал вполне резонный вопрос — кто первым до него доберется? Пожалуй, следует упомянуть, что Футсек со товарищи уже достигли спасительного крова. Энском лягнул коня в бок здоровой пяткой, а я стукнул кулаком, понукая его перейти на легкий галоп. Как только мы достигли отдельно стоящих деревьев, появился тощий туземец с огромным ртом и метнул в нас копье. Оно пролетело между спиной Энскома и моим носом. Тогда он взялся за второе. Не успел я опомниться, как Энском, бросив поводья, выхватил пистолет и пустил пулю в лоб этого дитя природы. Тот упал как подкошенный. Оказывается, мой спутник был не такой неловкий, как я о нем думал. — А говорите, я плохо стреляю, — произнес он. — Простое везение, — вырвалось у меня, ибо даже в минуту опасности я не желал кривить душой. — Это мы еще посмотрим, — ответил он, взводя курок. Собственно, нужда в дальнейшей перестрелке отпала, поскольку, подойдя к краю трясины, туземцы остановились. Вряд ли их напугала участь товарища, они даже не обратили на него внимания. Казалось, они уперлись в какую-то невидимую границу, которую не имеют права переступить. Просто застыли как вкопанные, а потом забрали у мертвеца копье и щит и, более о нем не заботясь, смиренно побрели обратно к фургону. Наш конь тоже притормозил, перейдя на шаг. — Ну?! — воскликнул Энском. — Теперь вы убедились? Разве я не предсказывал, что убью человека в этом проклятом болоте? — Да, — ответил я, отдышавшись немного, — но в ваших предчувствиях была еще и женщина, а я что-то ни одной не вижу. — Верно. Как бы нам с ней позже не встретиться. Мы поехали дальше, правда, не так быстро, как хотелось бы, в страхе, что туземцы передумают и возобновят погоню. Но с каждой минутой опасность отступала, и мы приободрились. Пусть фургона и волов нам не видать, зато остались в живых, что уже само по себе большая удача. Вскоре перед нами раскинулась поляна, где около недели назад мы подстрелили антилопу гну. На земле лежал ее остов, начисто обглоданный коршунами, частыми гостями саванны. Несколько птиц и сейчас сидело на соседних деревьях. — Что ж, едем к Храму, как условились, — едва слышно произнес Энском, видно, рана причиняла ему изрядную боль. Тут из-за дерева, как и в прошлый раз, появился мистер Марнхем, восседавший на том же коне и одетый в ту же одежду. С одной лишь разницей, что тогда был поздний вечер, а сейчас раннее утро. — Вот мы и снова встретились! — воскликнул он весело. — Да, — ответил я, — и, как ни странно, в том же месте. Вы нас ждали? — Как и всякого путника, — ответил мистер Марнхем, окинув меня проницательным взглядом. — Я просыпаюсь с восходом солнца, а сегодня услышал выстрелы вдалеке и пошел взглянуть, в чем дело. На рассвете на вас напали басуто, верно? — Верно, мистер Марнхем, но как вы об этом узнали? — От ваших слуг. Они прибежали сюда, страшно напуганные. Мистер Энском, а вас ранили? — Да, пару дней назад на границе с владениями вождя Сикукуни, когда нас чуть не убили туземцы. — А… — протянул он без особого удивления. — А я ведь предупреждал вас об опасности. Заходите в дом, там вы познакомитесь с моим компаньоном, мистером Роддом, весьма опытным доктором, он вас осмотрит. По пути мистер Квотермейн поведает мне о ваших приключениях. Пока мы поднимались по склону, я рассказал ему обо всем, что с нами приключилось. Мистер Марнхем внимательно слушал и ни разу не перебил. — Скорее всего, кафры разворовали фургон, — подытожил он мой рассказ, — и сейчас уже возвращаются к себе с вашими волами. — А вы не боитесь, что они придут за нами сюда? — О нет, мистер Квотермейн! У нас же с этими людьми дела, а заболев, они приходят к доктору Родду. Для них эта земля священна. Вспомните, они ведь отстали от вас на лесном болоте? Как раз там начинаются мои владения. — Да, но теперь мне хочется отыграться. Можно рассчитывать на вашу помощь? Волы устали и натерли ноги, так что мы их быстро нагоним. — Нас тут совсем мало, — покачал головой мистер Марнхем. — Вы можете вызвать людей из лагеря золотоискателей в Барбертоне, хотя вряд ли тамошний начальник в состоянии вам помочь, даже если захочет. К тому времени ваши волы будут уже далеко. Кроме того, — понизив голос, добавил он, — давайте-ка договоримся. В моем доме вас ждет радушный прием и все необходимое, однако, если вы захотите снова устроить свару, я буду вынужден попросить вас покинуть мою землю. Мы мирные люди, торгуем с туземцами и не желаем с ними ссориться. Они могут напасть на нас, или у нас возникнут проблемы с британским правительством, которое объявило аннексию, но не завоевало их страну. Я ясно выразился? — Вполне. Что ж, пока мы ваши гости, можно и потерпеть. Однако, простившись с вами, мы будем действовать по своему усмотрению. — О, конечно! Меж тем надеюсь, вам и мистеру Энскому у нас понравится, можете оставаться у нас столько, сколько захотите. Про себя я подумал, что мы здесь не задержимся. — Так любезно с вашей стороны, — заметил я вслух, — приютить в своем доме совершенно чужих людей. Хотя не совсем чужих, — спохватился я, кивнув на Энскома, которыйехал в нескольких шагах позади на усталом коне. — Вы, кажется, знали его отца? — Отца? — повторил он, удивленно вздернув бровь. — Нет, что вы. Ах, припоминаю, той ночью я ошибся, спутал его с кем-то другим. Ведь прошло столько лет. — Понимаю, — ответил я, но, вспомнив историю Энскома, решил, что наш почтенный хозяин заправский лгун. А еще вероятнее, не хочет вспоминать грехи молодости. Вскоре мы подошли к дому. Парадный вход украшал прекрасный ухоженный цветник. Его окружала ограда из проволочной сетки, чтобы козлы не полакомились цветами. У ворот, присев на корточки, ждали наши слуги. Они переводили дух, и вид у них был довольно пристыженный. — Футсек, господин благодарит тебя за поддержку, какую ты оказал ему в трудную минуту. От себя поздравляю вас всех с резвыми ногами, — сказал я по-голландски. — О хозяин, басуто с их острыми копьями было так много, — начал оправдываться он. — Замолчи, подхалим! Лучше помоги хозяину слезть с лошади. Мы прошли через ворота по тропинке, усаженной бенгальскими розами. Мистер Марнхем и я вели Энскома под руки. Вблизи дом оказался столь же очарователен. Разумеется, если рассматривать в деталях, он был неказистый и аляповатый. Стены и колонны представляли собой нагромождение грубо отесанных мраморных глыб из соседней каменоломни. Создавалось впечатление незавершенности, и, если взглянуть внимательней, дом мог показаться уродливым. Однако, благодаря задумке автора, в целом был красивым. Он походил на робкие мазки художника, едва постигшего азы живописи, на произведение талантливого писателя, не в полной мере овладевшего искусством изложения мысли. Впервые в жизни чей-то дом произвел на меня столь сильное впечатление. С другой стороны, как вспомнил позже Энском, творение, поразившее меня, — только копия, а оригинал воздвигли, когда мир был еще молод, так сказать, на заре человечества. В ту пору человек, преодолев наконец первобытную дикость, увидел во сне нечто прекрасное и попытался изобразить это в камне. По ступеням из неотесанных мраморных глыб мы поднялись на широкую веранду. На кушетке из местной породы дерева сидел или, скорее, возлежал мужчина в халате и читал книгу. При нашем появлении он поднял голову. Веранда выходила на солнечную сторону, свет падал прямо на него, и я достаточно хорошо разглядел незнакомца: лет сорока, темноволосый, широкоплечий, с усталым и, я бы даже сказал, недобрым лицом. Скажу больше, он походил на того, кто не только поддался духу-искусителю, что всем нам по природе свойственно, а даже охотно отдался ему в плен по собственной воле. В Псалмах или в другой части Писания мы часто читаем о праведниках и нечестивцах и не понимаем значения этих слов. Только годы спустя я постиг их смысл или, вернее, думал, что постиг. Мы должны быть судимы не по нашим делам, а по желаниям, вернее, по моральным устоям. В развитии личности важно не столько то, что мы делаем, сколько наши старания. Все мы спотыкаемся, делаем ошибки, но в итоге праведниками становятся те из нас, кто, пытаясь спастись из ловушки и потерпев неудачу, старается исправить свои недостатки. Нечестивцы же, погрязшие в делах мира, каждый день вкушают плод лжи. Умышленно и без нужды грешат они против духа, не оставляя места прощению. Вот к таким скромным выводам пришел я. Такие мысли посещают меня всякий раз при встрече с личностями, подобными доктору Родду. Кроме того, мой усталый и опустошенный разум послужил для них благодатной почвой и посему оказался больше обычного восприимчив к первому впечатлению о незнакомце. Скажу больше, я горд, ибо мое суждение было не совсем ошибочно. Если бы этот негодяй попал в хорошую компанию, то, вероятно, стал бы добропорядочным человеком. Однако по иронии судьбы или из-за дурной наследственности он покатился по наклонной плоскости. — Родд, вы нам нужны. — Вот как? — бодро ответил Родд и поднялся. Судя по голосу, он, как и его компаньон, принадлежал к британской интеллигенции. — Что случилось? Падение с лошади? Тем временем нас впустили в дом, а Энском начал рассказ. — Хм! — мрачно произнес доктор и испытующе взглянул на него своими черными глазами. — Ране несколько дней, и медлить больше нельзя. Вы же едва держитесь на ногах, так что не утруждайте себя, вашу историю я услышу от мистера Квотермейна. Сейчас же ложитесь в постель, а пока нам готовят завтрак, я вас осмотрю. Родд привел нас в красивую комнату с двустворчатой остекленной дверью, выходящей на веранду, и двумя кроватями. Уложил Энскома и, вздернув ему штанину, снял мою грубую повязку и осмотрел рану. — Больно? — спросил он. — Еще как, — ответил Энском, — аж в бедро отдает. Доктор стянул с него брюки для полного осмотра. — Необходимо промыть рану. Лежите, а я пока схожу за всем необходимым. Мы вышли вместе, и, когда оказались на веранде, я спросил, как дела у больного. Нога выглядела неважнецки. — Плохи его дела — настолько, что я подумываю, не лучше ли ампутировать ногу по колено. И как можно скорее. Вы сами видели, как загноилась рана, и воспалительный процесс быстро распространяется. — Господи! Неужто гангрена? Он кивнул. — Кто знает, чем в него стреляли, пулей или ржавым куском железа. Гангрена или столбняк, а может, и то и другое. Все возможно. Он деятельный человек? — По-моему, да. Родд задумался, а я не сводил с него глаз. — Это меняет дело, — наконец решительно произнес он. — Для некоторых потеря ноги хуже смерти. Подождем немного, но, если за сутки симптомы не уйдут, придется оперировать. Доверьтесь мне, я работал когда-то… старшим хирургом в лондонской больнице и не растерял еще былую сноровку. По счастью, вы пришли прямо к нам. Доктор взял все необходимое, помыл руки, потом вернулся к больному и, промыв рану обеззараживающим средством, снова натянул на него брюки, перевязав ногу выше колена. Затем напоил Энскома горячим молоком, предварительно вбив туда два яйца, велел отдыхать и не есть пока твердую пищу. Наконец укрыл его одеялом, сдвинул циновку и кивнул мне на выход. — В молоко я добавил немного снотворного, так что он проспит несколько часов, — объяснил он уже на веранде. — Ему нужен покой. Не хотите ли пока освежиться? — Куда вы ведете мистера Квотермейна? — спросил сидящий тут же Марнхем. — В мою комнату. — Почему? Комната Хеды тоже годится. — Хеда может вернуться в любую минуту, — возразил доктор. — К тому же мистеру Квотермейну лучше переночевать в комнате мистера Энскома. Неплохо, если за больным кто-нибудь присмотрит. Марнхем хотел возразить, затем передумал и промолчал, словно слуга, которого поставили на место. Этот незначительный эпизод немного приоткрыл завесу взаимоотношений между этими двоими. Вне всякого сомнения, доктор Родд помыкал своим компаньоном даже в таких пустяках, как распорядиться комнатой девушки. Вдвоем они составляли весьма колоритную парочку, и, если бы не тревога за Энскома, я бы уж наверняка выяснил, что за всем этим стоит. Итак, я отправился мыться в комнату доктора. Пока я умывался, он вышел, и я, воспользовавшись случаем, немного осмотрелся. Стены, как и во всем доме, были отделаны местной породой дерева и служили задней стенкой книжному шкафу и буфету. На полках теснились лекарства и хирургические инструменты. Труды по медицине, философии, истории странным образом соседствовали с романами, по большей части французскими. Прочие фолианты, видимо, хранились под замком, в том числе и об оккультных науках. Стояла там и Библия. Я открыл ее наугад из простого любопытства, читает ли он ее, и собирался тут же вернуть на полку. Но вдруг мое внимание привлекло одно место, помнится, это была моя любимая глава из Книги пророка Исаии. На странице стоял штамп тюрьмы ее величества, не помню, какой именно. Однако этот ключ помог мне в последующие годы в разгадке тайны, какое событие в жизни этого человека сыграло не последнюю роль в его загубленной жизни. Не стоит в это углубляться, скажу лишь, что азартные игры и врачебная практика в корыстных целях, дабы погасить долги, окончательно довершили его растление. Странно, что он держал при себе книгу, полученную, скорее всего, от тюремного священника. Что ж, все мы порой ведем себя неосмотрительно. А может, книга ему дорога как память, он ее не раскрывал и печати, привлекшей мое внимание, в глаза не видел. Теперь я мог строить догадки о его прошлой жизни. Возникли проблемы, он уехал в Южную Африку и на новом месте начал врачебную практику. Каким-то образом его разоблачили, быть может, конкуренты из зависти раскопали его прошлое. Все дело развалилось, и он решил перебраться в Трансвааль. В ту пору, еще до аннексии, провинция стала приютом для разношерстной публики, окруженной дурной славой. Но и в городе он не задержался, а затерялся в глуши. Там случай свел его с подозрительным типом, Марнхемом. Вместе они приступили к сомнительным сделкам, приносящим немалую прибыль. Попутно он с удовольствием лечил и оперировал туземцев и стал, таким образом, весьма влиятелен. В самом деле, еще до заката я обнаружил на задворках дома маленькую больницу с двумя или тремя койками. Их занимали кафры, а ухаживали за больными медсестры из местных, обученные самим доктором. Другие пациенты просто приходили к доктору на прием, кое-кто даже издалека. Время от времени он навещал белых, когда те оказывались поблизости. Позже мы втроем завтракали в уютной комнатке с прекраснейшим видом из окна. Нам прислуживали вышколенные кафры в аккуратной белой униформе. Повар постарался на славу. Стол был сервирован настоящими серебряными приборами — в этой части Африки такое не часто встретишь. На стене среди гравюр и картин висел портрет прекрасной девушки, брюнетки с агатовыми глазами, написанный маслом. — Мистер Марнхем, это ваша дочь? — Нет, ее мать, — ответил он хмуро. Тут его кто-то позвал по делу. — Она иностранка, как видите, — сказал Родд. — Венгерка. Женщины в этой стране красивы и обаятельны. — Да, я вижу. А эта дама живет здесь? — О нет, она умерла, — ответил доктор. — По крайней мере, мне так кажется. Не поручусь, ведь я взял за правило не вмешиваться в личные дела окружающих. Знаю лишь, что Марнхем женился в зрелые годы на континенте, тогда ей не исполнилось и восемнадцати. Само собой, он страшно ее ревновал. Вскоре она родила ребенка и, кажется, в тот же год умерла. Несчастье подкосило Марнхема, и он перебрался с дочкой в Южную Африку, где начал жизнь сызнова. Вряд ли они имеют какие-то связи с Венгрией. Даже с дочерью он никогда не говорит о ее матери, а значит, она, скорее всего, умерла. Мне подумалось, что эти обстоятельства можно было бы истолковать совсем в ином свете, но промолчал и благоразумно не стал углубляться в эти дебри. Вскоре вернулся Марнхем с известиями. Оказывается, басуто удрали с моими волами, как он и предвидел, а фургон со всем содержимым не тронули. Оставили даже запас оружия и боеприпасов. — Какое везение! — ответил я в изумлении. — Однако как странно. Мистер Марнхем, чем вы можете это объяснить? — Мистер Квотермейн, — пожав плечами, ответил он, — это же вы у нас всем известный знаток местных нравов и обычаев. — У меня есть лишь две версии. То ли они по какой-то причине приняли мой фургон за логово тагати, то есть колдуна, и боялись прикоснуться к нему, чтобы не навлечь на себя беду, хотя волов тронуть осмелились. То ли считали фургон собственностью некоего друга и не хотели повредить. Марнхем резко вскинул голову, но промолчал. Тем временем я рассказывал ему подробности нападения, пережитого нами недавно. — Странное дело, главарь басуто проболтался, что какой-то белый мерзавец предупредил Сикукуни о нашем появлении, да еще велел его людям отобрать наше оружие и патроны. А раненый туземец, умоляющий нас пощадить его, утонул прежде, чем успел назвать имя этого белого человека. — Бур, наверное, — пробормотал Марнхем. — Сейчас они не особо жалуют нас, сами знаете. Мне известно, что некоторые в сговоре с Сикукуни против англичан, через «уста вождя», его премьер-министра Макурупиджи. Старый плут хитер и пытается усидеть на двух стульях. — В конце концов он упадет с обоих. Что ж, теперь вы убедились, что я был прав. Кафр упомянул только о ружьях, волах и наших жизнях в придачу. О фургоне речи не было. — Верно, мистер Квотермейн, и я пошлю кого-нибудь из наших людей, вместе с вашими слугами они живо перенесут сюда все содержимое фургона. — Может, одолжите волов, чтобы дотащить его до дома? — Нет, у нас совсем не осталось молодняка. Много скота в этом сезоне полегло из-за «красной воды»[275] и легочных болезней. Вряд ли вам удастся выпросить, одолжить или украсть упряжку волов в этой части Претории. Волы есть разве что у некоторых голландцев, так они не дадут. — Плохо дело. Через пару дней я хотел продолжить путь. — Ваш друг еще долго не сможет путешествовать, — возразил доктор, до сих пор безучастный к нашему разговору. — Почему бы вам не съездить туда на лошади, когда она отдохнет. — Помните, вы говорили об упряжке волов, которую оставили в Претории, — вмешался Марнхем. — Можно привести ее сюда или послать кого-то из слуг, если не хотите оставлять мистера Энскома одного. — Спасибо за совет, я подумаю. Тем же утром Футсек, возница и кое-кто из хозяйских слуг отправились за содержимым нашего фургона. Но я слишком устал и остался дома. Убедившись, что Энском все еще спит, я решил последовать его примеру. Отыскал кушетку на веранде, устроился на ней и надолго погрузился в сладкую дремоту. Вдруг сквозь сон где-то поодаль от меня послышались голоса Марнхема и Родда. Наяву я бы их нипочем не расслышал с такого расстояния. Глубоко убежден, что наши органы чувств, я бы даже сказал, наша духовная сущность более восприимчива, когда мы почти погрузились в объятия Морфея, а не в часы бодрствования. Тогда наш организм работает на пределе своих возможностей, и мы порой оказываемся за гранью бытия. К несчастью, пробуждение стирает все из нашей памяти. Другое дело полудрема, когда некоторые воспоминания все же удается сохранить в памяти. В таком-то необычном состоянии ума и духа я и услышал, как Родд обратился к Марнхему. — Зачем вы привели этих людей? — Их привел не я, а Удача, Рок, Судьба, Бог или Дьявол, называйте как угодно. Хотя, будь ваша воля, они бы, конечно, здесь не появились. Впрочем, я рад им. Для меня, живущего в этом аду, большой подарок перед смертью снова перекинуться словечком с английскими джентльменами. — Джентльмены… — задумчиво процедил Родд. — Что ж, Энском, пожалуй. А другой? В конце концов, чем он лучше других охотников, кафров-торговцев и странников, коих полным полно в этой чужой земле? «А действительно, чем?» — подумал я в полусне. — Я не смогу объяснить, если вы сами этого не видите. Знаю лишь одно: он не хуже меня и гораздо лучше вас, — добавил Марнхем с оттенком высокомерия. — Вдобавок у него хорошая репутация среди белых и черных, а в этой стране доброе имя дорогого стоит. — Согласен, — поразмыслив, ответил доктор, — допустим, он тоже джентльмен. Объясните, наконец, зачем вы привели их сюда, когда достаточно одного вашего слова, и проблема разом… — Он умолк. — Говорю вам, я тут ни при чем. К чему вы клоните? — Думаете, это разумно, учитывая наши дела, держать под боком двух таких проницательных джентльменов — и еще не ясно, как долго, — особенно сейчас, когда мы снова под британским флагом? И все лишь для того, чтобы вы могли насладиться их обществом. А может, лучше было бы велеть басуто отпустить их в Преторию? — Не знаю я, что лучше. Ответьте на вопрос: к чему вы клоните? — Через день-другой вернется Хеда. Она появится здесь в любую минуту, — ответил Родд, выбивая пепел из трубки. — Да, ведь это вы заставили меня написать ей, что я хочу с ней увидеться. В чем же дело? — Ничего такого, просто я не хотел бы, чтобы она общалась с «английским джентльменом», таким как этот Энском. — А, понимаю, — презрительно усмехнулся Марнхем, — слишком честный и правильный. Могут возникнуть сложности и все такое. Что ж, молю Бога, чтобы так и случилось. Я хорошо знаю семейство Энском, вернее, раньше знал и имею представление о таких людях, как Родд. — Не зарывайтесь, иначе однажды вы доиграетесь. За все содеянное я заплатил сполна, а вы… еще нет. — Этот молодой человек очень плох, а вы опытный доктор. Почему бы вам не убить его, если вы так его опасаетесь? — с горькой усмешкой спросил Марнхем. — А вы на что? Запомните: человек может лишиться многого, но не профессиональной чести. Я в лепешку расшибусь, но вылечу мистера Энскома, а это задачка не из легких, скажу я вам. Когда я проснулся, их не было и в помине. Так сон это был или явь? В итоге я решил, что пошлю Футсека за волами в Преторию, а сам останусь тут.Глава 5
ИГРА В КАРТЫ
Ночь я провел в комнате Энскома, присматривая за ним. Его мучил жар, боль в ноге не давала сомкнуть глаз. Бедняга мне признался, что не выносит доктора Родда и желает как можно скорее убраться отсюда. Мне пришлось долго втолковывать ему, что никак нельзя уехать, пока из Претории не доставят запасных волов, но об опасном состоянии его ноги я не сказал ни слова. Когда под утро Энском забылся сном, я возблагодарил Небо и тоже решил отдохнуть. Едва я переоделся к завтраку — ведь мне уже доставили одежду из фургона, — пришел Родд и тщательно осмотрел своего пациента. Я тем временем ждал его на веранде, не находя себе места от волнения. Наконец доктор вышел ко мне. — Что ж, думаю, нам удастся сохранить ему ногу. Хотя для полной уверенности мне нужны еще сутки. Опасные симптомы поутихли, а температура снизилась на два градуса. В любом случае ему придется остаться в постели и есть легкую пищу, пока состояние не придет в норму. Потом он сможет переместиться на кушетку на веранде. Но пусть ни в коем случае не пытается вставать. Поблагодарив Родда вполне искренне, я спросил, не видел ли он Марнхема, так как хотел переговорить с ним об отправке Футсека в Преторию за волами. — Думаю, он еще не встал после вчерашней попойки, которую устроил на радостях от встречи гостей. — Попойки? — переспросил я, желая внести ясность. — Да. Он отличный старик, самый лучший, но у всех нас есть свои маленькие слабости. Марнхем пьет как извозчик. Я сказал это вам, чтобы вы не удивлялись и не вздумали спорить с ним — в таком состоянии его нрав, хм… весьма вздорный. А теперь я должен пойти и напоить его теплым молоком. Это его любимое средство от похмелья. Оно и правда помогает. Что за милое общество нас окружает, и кто знает, на сколько дней мы привязаны к нему буквально за ногу. Не скажу, что я при деньгах, но с радостью заплатил бы сто фунтов, лишь бы выбраться отсюда. А совсем скоро буду готов пожертвовать всем, что у меня есть, но, к счастью, в ту минуту я об этом еще не догадывался. Мы завтракали вдвоем с Роддом и болтали о нравах кафров. Он был весьма подкован в этой области. Затем я пошел с ним в больницу к его туземным пациентам. Составив о нем мнение как о совершенно никчемном человеке, я с удивлением заметил, как нежно и терпеливо он обращается с этими людьми. А о его мастерстве и говорить нечего, тут все было ясно без слов. Он как раз собирался делать операцию одному дородному старику. Полагаю, случай оказался серьезный, раз потребовался хлороформ. Родд спросил, не хочу ли я ему ассистировать. Я вежливо отказался, так как не чувствую к таким занятиям особой склонности. Когда я уходил, он кипятил свои инструменты, облачившись поверх одежды в нечто, похожее на чистую ночную рубашку. На веранде я встретил Марнхема. За исключением опухших глаз и трясущихся рук, старик выглядел как обычно. Он пробормотал что-то вроде «я проспал» и вежливо, прямо-таки светским тоном поинтересовался, как здоровье больного и достаточно ли удобно мы устроились и все в таком духе, а я, в свою очередь, спросил, по какой дороге нашим слугам лучше ехать в Преторию. Позже, напутствуя их, я объяснил Футсеку, по каким приметам найти правильный путь до места, где ждала упряжка. Дал ему денег, заплатить тому, кто присматривал за волами, и строго наказал возвращаться как можно скорее. Скрепя сердце я отпустил этих троих, хоть Футсек — бывалый путешественник и обещал в точности следовать всем моим указаниям. Казалось, он радуется походу, и я спросил его о причине такого странного поведения, ведь после наших мытарств ему следовало мечтать лишь об отдыхе. — О хозяин, по-моему, этот Храм — не самое подходящее мес то для цветных. Я ведь говорил тебе о тех, кто здесь умер. Наверное, Карл, который дал мне алмаз, тоже умер. Прошлой ночью его призрак явился мне. Он стоял передо мной и тряс головой, парни тоже его видели. — Ох, бросьте вы эту болтовню о призраках, скорее возвращайтесь с волами, а не то я сам тебя убью и сделаю призраком. — Я вернусь, хозяин, вернусь! — воскликнул он и побежал прочь. Мне вдруг стало не по себе. Само собой, я не верил в рассказ о призраке Карла, чего не скажешь о Футсеке. А если страх помешает ему вернуться? Мне бы самому съездить, но как же я оставлю больного Энскома наедине с нашими странными хозяевами? А больше и послать некого. Можно, наверное, поехать в Пилгримс-Рест и поискать там белого помощника. Позже я сожалел, что не решился на этот шаг, но тогда мне пришлось бы в такое тревожное время отлучиться по крайней мере на сутки. Честно говоря, я тогда не задумывался об этом всерьез, да и вряд ли бы там нашелся хоть кто-нибудь, кому можно довериться. Я проводил Футсека и остальных до вершины соседнего горного хребта, откуда указал ему нужную тропу. На обратном пути я заметил Марнхема. Он скакал прочь от дома, но, завидев меня, приблизился. Старик якобы направлялся к Гранитному потоку — договориться кое с кем об охране фургона. Я огорчился: мол, приходится ему заниматься моими делами, пока я не могу отлучиться. Ничего, говорит, ему только в радость немного проехаться и чем-то себя занять. — А чем вы заполняете свой досуг? — спросил я так, между прочим. — Занимаетесь хозяйством? — О нет, торговлей! — выпалил он и, кивнув, пустил коня в галоп. Какая же торговля без магазина и что, интересно, они продают? Так случилось, что уже спустя час я удовлетворил свое любопытство. Заглянув к Энскому и убедившись, что он всем доволен, я решил побывать в каменоломне, откуда брали мрамор для дома. А если камня еще много, в будущем, возможно, стоит как-нибудь заняться его разработками. Как мне сказали, всего в нескольких ярдах от дома, в самой гуще колючих зарослей, поперек основного ущелья лежал глубокий овраг. Тропа, по которой некогда вывозили камни, вела к небольшому углублению, и, похоже, гора действительно была из чистого белого мрамора. Я хорошенько осмотрелся, пробираясь среди зарослей кустарника, укоренившегося в почве, смытой сверху. За кустами оказалось большое отверстие, достаточное, чтобы можно было протиснуться. Я полез внутрь, желая узнать, как далеко идет жила, и вдруг, в шаге от входа, наткнулся на крепкую дверь из желтого дерева. Сообразив, что тут наверняка содержались работники или инструменты с взрывчаткой, толкнул ее. Может, кто-то забыл запереть или замок был неисправен, так или иначе, дверь с треском распахнулась. Продолжая исследовать месторождение, я смело шагнул вперед. Стало темно, и я зажег спичку. Судя по сверкающей крыше пещеры, мрамор не иссякал. Меж тем ее пол представлял для меня не меньший интерес. Он был весь заставлен ящиками, похожими на гробы, с печатью известной фирмы в Бирмингеме и этикеткой «железная ограда», адресоваными «господам Марнхему и Родду, Трансвааль с заходом в залив Делагоа». Я сразу догадался, в чем дело, а стоило заглянуть внутрь, и все сомнения долой. По счастью, один ящик был открыт и стоял наполовину пустой. Просунув руку, я нащупал ружья, какие обычно продают кафрам. Их себестоимость в Африке порядка тридцати пяти фунтов, а для местного вождя — десять наличными или в обмен на скот. При бойкой торговле получается не плохой навар. Наверняка эти ящики всего лишь малая толика еще больших запасов. Теперь понятно, за счет чего Сикукуни оказал столь дерзкое сопротивление правительству. Так вот откуда взялось ружье, прострелившее ногу Энскому и чуть не изрешетившее пулями нас обоих. При свете горящей спички я нашел и другого рода, мм… товары. Бочонки с порохом, бочки с дешевой выпивкой, свинцовые чушки и ящики с этикетками «формы для отливки пуль» и «ударные взрыватели». Были там безобидные сумки, полные четок, и несколько коробок с древками для копий, изготовленные в Бирмингеме. Возможно, я нашел бы еще много всего, однако решил не задерживаться. Собрал с полу обгоревшие спички, вынул носовой платок и, подметая за собой каменный пол, на случай если остались следы, вернулся туда, откуда начал исследовать это прекрасное месторождение, то есть на дно карьера. Кусты теперь росли иначе, чем снаружи, и я спустился другим путем, прыгая с камня на камень, как горный козел. Как раз вовремя, ибо через несколько минут появился доктор Родд. — Операция прошла успешно? — спросил я как ни в чем не бывало. — Вполне, благодарю вас, хотя этот кафр, едва отошел от наркоза, попытался стукнуть по голове моего медбрата. А вы увлекаетесь геологией? — Немного, зависит от того, можно ли выручить за этот мрамор какие-то деньги. Он, кажется, не хуже каррарского. Вот кремневые орудия не мой конек, тут я невежда и любитель, чего не скажешь о вас, ведь я видел такие в вашей комнате. Гляньте на мою находку. Что скажете, это ведь скребок? — С этими словами я вынул из кармана камень, найденный в саванне неделю назад. Доктор тотчас забыл о подозрениях, которые поначалу весьма явственно читались на его лице. Этот любознательный человек и впрямь души не чаял в кремневых орудиях и мог многое о них рассказать. — Вы нашли его здесь? Я отвел его на несколько шагов от входа в пещеру и показал место, где якобы среди карьерного мусора подобрал камень. Тогда Родд пустился в познавательные рассуждения, мол, это орудие столь ценное и редкое — он не удивился бы, если бы узнал, что оно принадлежало самому патриарху Ною или Иов скрёб им свою кожу, пораженную проказой. И каким только чудом оно оказалось среди отходов? Вопрос так и остался открытым, я подарил находку Родду, за что он сердечно меня поблагодарил и, радостный, вернулся в дом, как человек, совершивший важное открытие. Следующие три дня ничем особенным не запомнились, разве что были самыми скучными за всю мою жизнь. Дом прекрасен, еда превосходна, богатый выбор напитков. Вдобавок Родд сообщил, что угроза ампутации миновала и выздоровление Энскома лишь вопрос времени. Только ему по-прежнему нельзя ходить и позволять крови бурно циркулировать, что значило: он должен оставаться в горизонтальном положении. Беда в том, что я смертельно скучал, а из доступных развлечений было лишь наблюдение за хозяевами, которые производили на меня весьма неприятное впечатление. Мне бы на охоту, но, увы, подобные забавы в здешних владениях под запретом — в угоду пресловутой мисс Хеде, таинственной юной особе, которую все ждали с нетерпением, а она все не появлялась. Кроме того, я боялся по пути столкнуться с басуто. Можно съездить в Пилгримс-Рест или Лиденбург и доложить о подлых делах этих дикарей, но дорога в лучшем случае займет дня два, а чиновники могут задержать и дольше — эти господа ценят только собственное время. Выходит, придется оставить Энскома одного, а мне этого никак не хотелось. Поэтому я продолжал скучать, слонялся без дела и курил больше обычного во вред своему здоровью. Постепенно Энском перебрался на веранду, где лежал, задрав ногу кверху, и тоже скучал. Особенно после того, как его попытка выведать у старика Марнхема правду о его службе в гвардии не увенчалась успехом. Однажды вечером, совсем повесив носы, мы решили поиграть в карты. Не то чтобы мы были заядлыми игроками. Лично я всегда питал к ним отвращение. Покерные фишки разного цвета, заменяющие деньги, которые никогда не выплачивались, в юности доставили мне немало душевных мук. Так досадно, когда выиграешь, тебе выдают стартовые зеленые фишки и сообщают, что в них заключены многие сотни и тысячи фунтов, или, наоборот, они ничего не стоят, если проиграешь. Мой дорогой отец всегда играл на огромные ставки. Я же никогда в жизни не терял голову. Энском тоже недолюбливал карты. Наверное, его предки играли фишками в тысячи и тысячи гиней где-нибудь в шоколадном клубе на Сент-Джеймс-стрит или других злачных местах прошлого века. А наутро фишки выкупались за наличные. Так его семейство и пришло к полному разорению. — Могу себе представить, какого полета эти птицы, — сказал он, когда наши соперники ушли за подходящим столиком. Ночь выдалась душная, и мы расположились на веранде, при свете керосиновой лампы и нескольких свечей. Я возразил, мол, не могу себе позволить расстаться с крупной суммой, тем более отдать ее людям, которые, возможно, метят карты. — Понимаю, не беспокойтесь, старина. Предоставьте все мне. Ради такой потехи я не прочь и заплатить, а потеха будет, не сомневайтесь. — Идет, в таком случае весь выигрыш ваш. По мне, так скорее снег выпадет на экваторе, чем мы выиграем у этой парочки. Вскоре они вернулись со столиком, покрытым зеленым сукном. Края его свисали почти до пола. Слуга принес поднос со спиртным. Судя по развязному виду старика Марнхема, уже получившего свое за обедом, он и по дороге успел угоститься. Наконец мы расселись по местам, мой партнер Энском восседал против меня на своей кушетке. Игра началась. Не помню, какой был расклад, но ставки оказались высоки и продолжали расти. Хотя началось все с малого, и мы выиграли, так как нам, по-моему, поддались. Не прошло и получаса, как Марнхем поднялся и налил себе коньяка, разведенного чисто символически водой. Я хлебнул голландского джина, а Энском и Родд набили свои трубки табаком. — Что-то скучновато, — обратился Родд к Энскому, — не повысить ли нам ставки? — Сколько угодно, — ответил Энском с манерной медлительностью, а в глазах его замелькали озорные искорки, показывая, как он доволен. — Мы с Квотермейном прирожденные игроки. Не глядите так строго, Квотермейн, сами ведь знаете, какой вы. Только в случае нашего проигрыша, доктор, вам придется взять чек, у меня при себе крайне мало наличных. — Что ж, извольте, — спокойно ответил доктор. — Однако вы еще не проиграли. Ставки взлетели до небес, отчего у меня волосы на голове зашевелились. Игра тем временем набирала обороты. Гляньте-ка — свершилось чудо, мы выиграли! Не знаю, как так вышло, то ли старик Марнхем по ошибке пошел не той картой, то ли он не разобрал многочисленных сигналов напарника, не ускользнувших от моего опытного глаза. Так или иначе, мы выиграли! Более того, после нескольких неудач мы снова стали выигрывать со значительным отрывом, пока на нашем приходе не образовалась кругленькая сумма. При этом Марнхем на каждом круге все больше налегал на бренди, а доктор вскипал от ярости, стараясь держать себя в руках. Я не на шутку тревожился, так как Энском находился на грани безудержного веселья, а дотянуться и пнуть его под столом не представлялось возможным. — Давайте прервемся, — предложил я, — моему напарнику пора в постель. — Поддерживаю, — ответил Родд, наградив Марнхема суровым взглядом. Тот слизывал капли бренди со своей длинной бороды. — Ч-черта с два я соглашусь! — воскликнул почтенный старик. — В дни моей молодости джентльмены всегда давали соперникам возможность отыграться. — Что ж, — ответил Энском, метнув на него взгляд, — последуем примеру того джентльмена, с которым вы играли в молодости. Предлагаю удвоить ставки. — Вот это дело! Вот это по-нашему! — одобрил старик. Доктор привстал и снова сел. Наблюдая за ним, я решил, что он в сговоре со своим партнером, этим завзятым пропойцей, который вовсе не такой пьяный, каким хочет казаться, и явно припрятал козырь в рукаве, в прямом и в переносном смысле. В любом случае старик им, верно, не воспользовался, ведь мы снова выиграли, каким-то образом поймав удачу за хвост. — Что-то я притомился, — протянул Энском. — Лимонад недостаточно бодрит. Может, хватит? — О нет, ради всего святого! Энском согласился сыграть последнюю партию. — Будь по-вашему, — согласился Марнхем, — только ставим на кон все до последнего. Он говорил спокойным и неожиданно трезвым голосом. Похоже, Родд действительно верил в игру Марнхема и старик задумал какую-то хитрость. Как бы там ни было, возражать он не стал. Однако мне приходилось видеть, как пьяные люди трезвеют от сильного волнения, но такое состояние очень скоро проходит. — Вы серьезно? — вмешался я в разговор, обращаясь к доктору. — Не знаю, какая в итоге выходит сумма, но, видать, не маленькая. — Разумеется, — ответил он. Вспомнив, что Энскому все равно терять нечего, я промолчал и только пожал плечами. Что ж, Марнхем сам напросился. На него почти не падал свет от лампы, а догоревшие свечи оплыли, и все-таки я заметил, как мошенник орудует картами, но почел за лучшее помалкивать. Видно, что-то не заладилось, и у него оказалось полно козырей, а у Родда ни одного. Последовала довольно жаркая битва, и в итоге туз попал к Энскому. Он оказался неплохим игроком, удачно разыграл партию, и мы вновь одержали победу. — Боюсь, я не силен в сложении, — весело заметил Энском, прервав тягостное молчание, — завтра мы все перепроверим, но сдается мне, джентльмены, что вы должны нам с Квотермейном семьдесят четыре тысячи девятьсот десять фунтов. Тут вмешался доктор. — Проклятый старый дурак! — зашипел он, иначе и не скажешь. — Как ты собираешься отдавать все эти деньги, пьяная скотина? — А запросто, каторжник! — крикнул Марнхем. — Вот! — Он сунул руку в карман, выудил несколько алмазов и бросил их на стол. — Тут вдвое больше, а там, откуда они взялись, есть еще много таких камушков, не правда ли, эскулап-арестант? — Да как ты смеешь?! — задыхаясь и теряя разум от ярости, заорал доктор. — Ты… ты, убийца! О, когда-нибудь я тебя прикончу! — Он поднял свой полупустой стакан и плеснул содержимым в лицо Марнхему. — Каков будущий зятек, а? — воскликнул старый плут и, схватив графин, швырнул его в голову Родда. Едва не попал. — Джентльмены, не пора ли вам спать? Не то наговорите друг другу такого, о чем завтра пожалеете. Наверное, они разделяли мое мнение, ибо тут же без лишних слов поднялись и разошлись в разные стороны по своим комнатам. Мы слышали, как они оба заперли двери. Я взял со стола долговую расписку и алмазы, а Энском проверил карты. — Вот так так! Крапленые! Ах, мой дорогой Квотермейн, это был самый забавный вечер в моей жизни! — Помолчите, вы, глупец! Теперь следует ожидать убийства, только бы не мы оказались жертвами.Глава 6
МИСС ХЕДА
Наутро я ожидал тягостных объяснений, однако ничего подобного не произошло. Игнорирование неприятных проблем — величайшее искусство, способное сохранить мир даже среди диких племен. Два действующих лица минувшего спектакля как будто обо всем забыли. В этом есть доля правды. Жар горячительного напитка одного и гнева другого обратил паутинку их воспоминаний в пепел. Они лишь в общих чертах помнили о неприятном событии, детали которого стерлись из памяти. Наверное, эти двое не считали себя ответственными за те слова и поступки, а раз так, то и в головах отпечатываться нечему. Этот случай не укладывался в рамки их обычного поведения. Так, по крайней мере, мне казалось, и поступки наших хозяев красноречиво подтверждали мои догадки. Доктор первым заговорил о случившемся: — Боюсь, прошлой ночью я вышел из себя. Такое и раньше бывало за карточной игрой и наверняка еще не раз повторится. Однако я должен как-то объясниться. Марнхем, как вы сами убедились, любит выпить, и тогда он превращается в неисправимого лгуна. Сам я тоже хорош — увы, никак не могу обуздать свои приступы гнева. Все же не судите нас слишком строго. Будь вы доктором, знали бы, что черты характера в человеке наследственные и он не властен над своей плотью. Кофе не желаете? В отсутствие Родда старик Марнхем завел тот же разговор и, как обычно, был сама любезность. — Я очень виноват перед вами и мистером Энскомом. Всего мне и не вспомнить, знаю только, что ночью, пока мы играли в эти проклятые карты, случилась крупная ссора. Порой слабости берут надо мной верх. Что тут поделаешь. Надеюсь, вы, как такой же простой смертный, со своими недостатками, отнесетесь ко мне снисходительно. Если я вчера сболтнул лишнего или повел себя недостойно, вы не станете придавать всему этому большого значения? Да, особенно тяжко сознавать, что все произошло на глазах моих гостей. Такое показное благородство заставило меня припомнить каждый мелкий его грешок, и отчего-то они показались мне еще более тяжкими. — Конечно-конечно, не будем больше к этому возвращаться. Хотя… — вырвалось у меня, — вы наговорили друг другу столько ужасного… — Что ж, пожалуй, — рассеянно улыбнувшись, ответил он, — но на самом деле мы так не думаем. — Понимаю — что-то вроде ссоры влюбленных. Только вот как быть с алмазами, которые вы оставили на столе, а я убрал с глаз кафров от греха подальше? Сейчас я их принесу. — Я? Да, пожалуй, и вместе с долговыми расписками, которые могли бы сгодиться для раскуривания трубки. Мы сможем сравнить их ценность. Не знаю, равнозначны ли бумаги алмазам. Только ради всего святого, не показывайте мне эту мерзость, у меня ее и так с избытком. — Я поговорю с Энскомом, ведь это он делал ставки. — Говорите с кем хотите, только не позволяйте мне снова взглянуть на алмазы, — ответил старик, от вскипающего гнева у него вздулись вены на лбу. — Выбросьте их в сточную канаву, если хотите, с глаз моих долой, а не то быть беде. — С этими словами он, хлопнув дверью, скрылся в своей комнате. К завтраку даже не притронулся. То ли этот стреляный воробей боялся попасть под перекрестный допрос, имея при себе столько нешлифованных алмазов, то ли их стоимость не покрывала его карточный долг, а может, они вообще из обыкновенного стекла. Я рассказал обо всем Энскому, но тот лишь рассмеялся. У меня, видите ли, алмазы будут в большей безопасности, а то вдруг что случится. Мы ведь, мол, с самого начала чего-то ожидали, еще до того, как попали сюда. Пока я прятал камни в безопасное место, послышался стук колес. Вышел взглянуть, в чем дело, и как раз в эту минуту подъехала двухколесная повозка с верхом, запряженная четырьмя резвыми лошадками. На козлах сидел готтентот в щеголеватой шляпе и красном кушаке. Он остановился перед садовой оградой, из недр повозки появилась опрятно одетая дама, молодая, стройная и довольно высокая. Вот и все, что я разглядел, а когда она повернулась ко мне спиной, ее рыжие волосы вспыхнули огнем. — Вот! Я знал, что-то обязательно случится! И появилась Хеда. Квотермейн, вы должны пойти и помочь ей, ведь поблизости не видно ни ее почтенного родителя, ни любящего жениха, то бишь доктора. Тяжело вздохнув, я повиновался, всем сердцем желая, чтобы все это было не на самом деле. Чуяло мое сердце: ее приезд лишь усугубит создавшееся положение. У ворот она велела весьма дородной девушке из цветных, по-видимому горничной, вынуть из повозки корзинку с саженцами цветов, резко повернулась — и мы столкнулись нос к носу по разные стороны ограды. Некоторое время мы разглядывали друг друга. Хеда и впрямь оказалась очень красивой, правильные черты, дышащие здоровьем и свежестью, длинные черные ресницы и прелестный гибкий стан. Уж не знаю, что она подумала обо мне, скорее всего, ничего хорошего. Вдруг ее большие серые глаза тре вожно распахнулись, а на лице отразился страх. — Что с отцом? Где он? — Если вы о мистере Марнхеме, — учтиво приподняв шляпу, ответил я, — то, вероятно, доктор Родд и он… — Бог с ним, с доктором Роддом, — прервала она, презрительно вздернув подбородок, — как себя чувствует отец? — Полагаю, как обычно. Они с доктором Роддом были тут совсем недавно, но, кажется, ушли куда-то. — Так в самом деле и было, только ушли они в разных направлениях. — Ну и прекрасно, — вздохнув с облегчением, ответила Хеда. — Понимаете, мне сообщили о его болезни, вот почему я здесь. Стало быть, она любит этого старого плута и… не выносит доктора. Жди беды, это уж как дважды два четыре. Нам тут только разгневанной женщины не хватало. Открыв ворота, я с почтительным поклоном принял у нее саквояж. — Меня зовут Квотермейн, а вон там мой друг Энском. Мы тут остановились. — В самом деле? — сказала Хеда с очаровательной улыбкой. — Какая странная идея — остановиться в таком месте. — Дом прекрасен, — заметил я. — Он недурен, в каком-то смысле, это и моя задумка. Однако я имела в виду его обитателей. Такой ответ сразил меня. Хеда вздохнула — наверняка она чувствовала, какого я нелестного мнения о хозяевах дома. Бок о бок мы прошли по тропинке, обсаженной розами, к веранде. Энском поджидал нас на своей кушетке, аккуратно подстриженный мной еще вчера. Они встретились взглядами, и оба залились румянцем. Нелепость, по-моему. — Энском, позволь представить тебе… — начал я и замялся, сомневаясь, носит ли она фамилию отца. — Хеда Марнхем, — подсказала она. — Да… мисс Хеда Марнхем, а это достопочтенный Морис Энском. — Простите, что не встаю вам навстречу, мисс Марнхем, — произнес Энском своим приятным голосом. Надо сказать, что голос девушки был под стать ему, проникновенный и мягкий, с легким акцентом. — К сожалению, мне прострелили ступню. — Кто стрелял в вас? — спросила она. — О, всего лишь кафр. — Как жаль. Надеюсь, вы скоро поправитесь. Теперь я вас покину, мне нужно повидать отца. — Редкая красавица, — заметил Энском, — и леди к тому же. Нужно отдать должное старому греховоднику, он произвел на свет очаровательную дочь. — Даже слишком, — проворчал я. — Доктор Родд, наверное, того же мнения. Как не совестно отдавать девушку за такого мошенника, как доктор Родд. Интересно, она его любит? — Любит, как канарейка кота. У меня была возможность в этом убедиться. — Квотермейн, вы чудо! Никто лучше вас не сумеет воспользоваться случаем. Потом мы ждали в тишине, сомневаясь, вернетсяли мисс Хеда. Девушка пришла на удивление скоро, успев за это время переодеться в белое платье с цветком гибискуса, приколотым к корсажу, как яркий штрих к наряду. — Отца нигде нет, — сообщила она, — слуги говорят, он уехал верхом. Забавно, правда? Никто меня не встречает, а ведь вызвали из такой дали! Я торопилась, терпела неудобства. — Не обижайтесь, мисс Хеда. В Южной Африке фургоны и повозки не ходят, как скорые поезда, — заметил Энском. — Я вовсе не обижена, мистер Энском. Теперь, когда я спокойна за здоровье отца… Лучше расскажите, как вас ранили? Он рассказал ей всю историю с самого начала, на свой лад, с забавными подробностями. Хеда внимательно слушала, наморщив лобик, и прервала его только один раз. — Интересно, кто этот белый человек, предупредивший людей Сикукуни о вашем приезде. — Не знаю, но он напросился на пулю в лодыжку. — Да, но мало кого в этом грешном мире настигает заслуженная кара. — Эта мысль и мне не дает покоя. Будь все иначе, я бы… — Что? — спросила она с любопытством. — …стрелял бы лучше мистера Квотермейна и стал бы красив, как дама, которую я встретил однажды в юности. — Бросьте молоть вздор, да еще перед ланчем, — заметил я строго, и мы дружно рассмеялись. Впервые за время нашего пребывания здесь стены дома огласил благотворный смех. С появлением этой девушки дом оживился и озарился счастьем. Припоминаю, мне даже подумалось, как она похожа на благоухающий персиковый сад в цвету посреди холодной пустынной степи. Вскоре мы стали очень дружны. Она показала нам старинную гравюру, по которой возвели Храм. Ее хитрость обошлась дешевле, чем если бы они решили строить обыкновенный дом. — Повезло, до мрамора рукой подать, — сказал Энском. — О да! — скромно согласилась Хеда. — Образно говоря, одним все удается, ведь у них мрамор под рукой, а другим, и таких большинство, достается лишь известняк и глина. — Браво! — одобрил Энском. — А мне попадается только известняк. — А мне глина, — задумчиво проговорила она. — А мне и то, и другое, и третье, — встрял я, устав быть сторонним наблюдателем, — ведь земля богата мрамором, известняком и глиной, не говоря уже о золоте и драгоценных камнях. Однако эта парочка не обратила на меня особого внимания. Лишь Энском проронил из вежливости какую-то нелепицу, что в земле еще есть деготь и подземные пожары. Хеда принялась рассказывать ему свои детские воспоминания, связанные с Венгрией, довольно смутные, надо сказать. А потом они перебрались сюда и жили в двух больших кафрских хижинах. Вдруг разбогатели. Она уехала учиться в Марицбург и завела друзей. Наконец я встал и пошел прогуляться. Спустя час я вернулся, а эта парочка еще болтала. Так продолжалось, пока не появился доктор Родд. Поначалу они его не заметили, так как он наблюдал из-за угла. В то время как я с величайшим любопытством следил за его реакцией. Отвратное лицо отражало целую гамму чувств: ненависть, страх, ревность, особенно ревность. Будто дикий зверь застал своего соперника за кражей добычи. Что ж, неудивительно, ибо эти двое отлично смотрелись вместе. Они были под стать друг другу. Хеда, конечно, лучшая половина дуэта, красивая, по-настоящему привлекательная молодая женщина, однако живость Энскома, радостный блеск его синих глаз и особая стать заставляли забыть о неправильных чертах его лица. Видно, он как раз рассказал ей одну из историй, таких уморительных, благодаря его безобидным выдумкам. Они дружно рассмеялись. Тут девушка заметила доктора, и ее веселость испарилась, как капля на раскаленной от солнца лопате. Она вся сжалась, будто приготовилась к чему-то. — Как поживаете? — быстро проговорила она и протянула ему смуглую руку. — Впрочем, незачем спрашивать, и так понятно — все хорошо. — А вы как поживаете, дорогая? — неторопливо заговорил Родд, делая особое ударение на последнем слове. — Впрочем, я и сам вижу, что вы в добром здравии и в прекрасном расположении духа. — Доктор подался вперед для поцелуя. Каким образом она уклонилась от проявления нежности или заявления о своих правах, понятия не имею. Не желая наблюдать неприятную сцену, я отвернулся. Когда же вновь поднял взгляд, Родд хмурился, Хеда напустила на себя ложную скромность, а Энском откровенно веселился. Она спросила об отце, доктор ответил, что тот вполне здоров. — Зачем же вы писали о его болезни и настаивали на моем приезде? — нахмурив брови, спросила она. Родд не успел ответить, так как в эту минуту появился Марнхем. — О, отец! — воскликнула Хеда, бросившись в его объятия, а тот нежно расцеловал ее в обе щеки. Выходит, она действительно любит этого греховодника, а он ее. Стало быть, и в нем есть что-то хорошее. А вообще, бывает ли абсолютное зло или добро? Может, не все решает наследственность? Мне так и не удалось найти ответ на этот вопрос, ни тогда, ни позже. Во всяком случае, встреча этих двоих согрела мне сердце. С появлением мисс Хеды в доме многое переменилось. Слуги стали расторопнее и переоделись в чистую униформу. В некоторых комнатах появились вазы с цветами, а в наших прибрались, предварительно выпроводив нас, к нашему неудовольствию. Более того, к обеду Родд и Марнхем нарядились в короткие мундиры, а мы с Энскомом сгорали от стыда, ведь у нас не было сменной одежды. Любопытно, как эти переодевания, несомненно пробудившие в Марнхеме старые воспоминания, изменили его до неузнаваемости. Пуская по кругу бутылку с вином и произнося тост за ее величество, он и впрямь походил на полковника кавалерийского полка, держался учтиво и изыскано. Кто бы мог подумать, что старый пройдоха, представший перед нами всего сутки назад, и этот господин, который попивал кларет — надо сказать недурственный — и внимательно ловил каждое слово из рассказа своей дочери, — это один и тот же человек. Даже доктор в своем парадном одеянии теперь казался совершенно таким же, каким выглядел раньше, — настоящим джентльменом. В общем, установилось некое подобие перемирия. Родд больше не звал мисс Хеду «моя дорогая» и не позволял себе вольности, а она звала его подчеркнуто вежливо — не иначе как «доктор Родд». Так прошла эта и последующие ночи. Дни мы проводили в удовольствии и праздности. Хеда прогуливалась под руку с отцом, по-дружески общалась с доктором, хотя следила за ним, как кошка следит за собакой, ожидая нападения. В остальное время она старалась держаться поближе к нам. Особенно, мне казалось, девушка искала защиты у моей скромной персоны — наверное, решила, что я безобиден и могу пригодиться. Однако я чувствовал, что это затишье перед бурей. Во всяком случае, немалую толику туч, словно Юпитер, сгущал Марнхем, и вскоре мне, да и, без сомнения, Родду, стало очевидно, что старик всеми силами поощряет близость между его дочерью и Энскомом. Каким-то образом он разузнал о блестящих перспективах молодого человека. Кроме того, симпатизировал отпрыску благороднейшего семейства в Англии, как подсказывали ему остатки былой осведомленности. Вдобавок Хеде тоже нравился Энском, столь же сильно, сколь она не выносила Родда. Марнхем даже завел разговор со мной как-то издалека. Мол, избранница Энскома будет счастлива, а ее отец сможет спокойно умереть, зная, что оставляет свое дитя в надежных руках. Я с ним согласился, если, конечно, девушка уже не питает иную привязанность. — Привязанность! — воскликнул он. — Вот уж чего нет в этой проклятой сделке, — думаю, вам хватило ума это заметить. — Как я понял, речь идет о помолвке, — заметил я. — Возможно, она больше нужна мне, а не дочери. Ох, Квотермейн, разве вы не понимаете, что в крайних обстоятельствах человек вынужден идти против своей воли? Вспомнив, как они друг друга обзывали в ту ночь за карточной игрой, я подумал, что все прекрасно понимаю, однако решил не поднимать эту тему. — В конце концов, брак важен для дочерей больше, чем для их отцов, и лишь ей решать, за кого выходить. — Все так, Квотермейн, а все же иные дочери готовы пойти ради отцов на большие жертвы. Что ж, скоро она станет совершеннолетней, мне бы только до тех пор найти способ отсрочить неизбежное. Но как, как? — простонал он, развернулся и ушел. Что ни говори, а шея старика в петле, и совсем непросто из нее спастись. Меж тем на кону счастье девушки. Немного погодя ко мне обратился Энском, на этот раз по имени: — Аллан, о волах по-прежнему ничего не слышно? — Нет, я уже и не надеюсь. А почему вы спрашиваете? Он, как обычно, дурашливо улыбнулся: — Потому что, как ни здорово с хозяевами этого дома, пора и честь знать, во всяком случае мне. — Энском, вам пока нельзя путешествовать, хотя Родд и говорил о значительных улучшениях. — Да, но, сказать по правде, меня одолевает иной недуг, неведомый ни моему дорогому эскулапу, ни мне. Сдается, всему виной здешняя природа. Высота влияет на сердце, не правда ли? А этот дом забрался высоко. — Полно упражняться в остроумии, — сказал я серьезно. — О чем вы? — Аллан, если вы не смогли оценить красоту Хеды, тогда вам пора на пенсию. Рано или поздно наступает возраст, когда мужчину привлекают только красоты архитектуры, природы и изысканных блюд. — Черт возьми! Я вам кто, Мафусаил? Не хотите ли вы сказать, что влюбились в эту девушку? Почему же, скажите на милость, вы не признаетесь ей, а попусту тратите мое время, да и свое тоже? — На то и время, чтобы тратить. На мой взгляд, не самый худший способ его применения, во всяком случае безобидный. К тому же мне нужен ваш совет, правильно ли я поставил диагноз. Признаться, немного страшновато услышать положительный ответ. — Что ж, вы любите Хеду. Чему же я, такой древний старец, далекий от любви, могу вас научить? — Ничему, Аллан. Увы, бывают минуты, когда остается надеяться лишь на собственный разум, а мне мой подсказывает скорее убираться отсюда. Однако я не смогу ехать, даже если удастся взгромоздиться на лошадь, а вы побежите следом. И волов еще не привели. — Может, возьмете у мисс Марнхем повозку напрокат и сбежите от нее, — съязвил я. — Это идея. Правда, моей ноге вредно трястись в повозке несколько дней, да и лошадей куда-то отослали. Послушайте, старина, — посерьезнев, продолжал он, — как-то неловко попадать впросак из-за женщины, которая к тому же помолвлена с таким подозрительным типом. А ведь с кем поведешься, от того и наберешься. Кажется, дело плохо, я подхватил лихорадку, и, если вовремя не принять меры, она перерастет в хроническую. — О нет, Энском, на худой конец, в перемежающуюся. Африканская малярия частенько зависит от погоды. — Такой циник и женоненавистник, как вы, не способен понять нежные порывы неопытного сердца. О Квотермейн, черт вас возьми, не издевайтесь, а лучше подскажите, как поступить. Ведь я оказался в затруднении. — Да, и еще в каком! К счастью, в мои годы, как вы любезно заметили, таких проблем не бывает. Даже не знаю, какой вам дать совет. Лучше поговорите с дамой. — Ну, мы уже поговорили… не напрямую, конечно. Просто о неких общих знакомых, оказавшихся в подобном положении. Увы, разговор ни к чему не привел. — Вот как? А я и не знал, что у вас есть общие знакомые. Что же она сказала, как отреагировала? — Ничего не сказала, лишь вздохнула, казалось, она вот-вот разрыдается, и просто ушла. Я бы пошел за ней, но при мне не было костыля. Между нами как будто выросла стена, словно Хеда не может или не желает поделиться со мной своими мыслями. — Понимаю, и, если хотите, я расскажу, что ее гложет. Марнхем на крючке у Родда, если доктор откроет рот, старик, ни больше ни меньше, окажется на виселице. За молчание Марнхем обещал доктору руку дочери. Хеда знает о власти этого человека над отцом, однако не догадывается, в чем там дело. А поскольку она любящая дочь… — Ангел, вы хотели сказать, зовите ее так, как она того заслуживает, особенно здесь, в жилище ангелов. — Что ж, как угодно. Поскольку она ангел, девушка обещала выйти за ненавистного ей человека, дабы спасти шкуру родителя. — Это я и уловил в ссоре этих двоих. Еще неизвестно, кто больший негодяй. Ну, Аллан, тогда все. Мы с вами встаем на сторону ангела. Вы освободите ее из лап злодеев, а я, если она согласится, женюсь на ней. Если же получу отказ, что ж, так тому и быть. По-моему, разумное распределение обязанностей. Какой у вас план? У меня никаких идей, да я и не дерзну тягаться с тем, кто гораздо старше и умнее. — Сдается мне, когда вы появились на свет, игра «Орел — мой выигрыш, решка — ваш проигрыш» приказала долго жить! — фыркнув от возмущения, ответил я. — Пожалуй, лучше я возьму лошадь и поищу волов, а вы сами легко решите свои проблемы с присущей вам гениальностью. Только постарайтесь никого не убить и остаться в живых. — Старина, вы же не уедете? — спросил он серьезно. — Не оставите меня одного в этом отвратительном месте? До сих пор я не донимал вас расспросами и был уверен, что человек с вашим умом и опытом играючи отыщет выход из любой передряги. Правда, я не лгу. — Неужели? Что ж, пока мне вас нечем обрадовать, но, если вы перестанете болтать без умолку, я постараюсь что-нибудь придумать. Мисс Хеда срезает цветы в саду, пойду-ка помогу ей. Иногда приятно сменить обстановку. Я оставил Энскома одного, а он проводил меня ревнивым взглядом.Глава 7
ВЕРАНДА
Мисс Хеда составляла букет из бенгальских роз с едва распустившимися бутонами. Затрудняясь, с чего начать, я сказал что-то приличествующее случаю: о красоте цветов. Во всяком случае, я озвучил свои реальные мысли и ее тоже, судя по ответу. — Да, я собираю их, пока еще не поздно. — Хеда вздохнула и украдкой взглянула на веранду, а может, мне так показалось, ведь поля ее шляпы почти скрывали лицо. Мы немного поболтали о пустяках. Помогая ей срывать розы, я уколол палец. Хеда спросила, как себя чувствует Энском, скоро ли он сможет отправиться в дорогу. Я ответил, что за этим лучше обратиться к доктору Родду, однако надеюсь, полное выздоровление займет не больше недели. — Недели! — воскликнула она, стараясь казаться беззаботной, однако в голосе ее звучал испуг. — Но даже если он и будет готов ехать, волов все равно еще не привели, и я не знаю, когда это случится. — Слишком быстро! — воскликнула она. — Слишком быстро! Ах, если б вы только знали, как ценны для меня в этом глухом месте такие гости, как вы. — Ее темные глаза наполнились слезами. Мы прошли за угол дома, где в тени росли другие цветы, кажется резеда. Веранда пропала из виду, и мы оказались совсем одни. — Мистер Квотермейн, — заторопилась Хеда, — не знаю, могу ли я с вами посоветоваться в одном деликатном вопросе. Здесь мне совершенно некому открыться, — жалобно прибавила она. — Решайте сами. Я гожусь вам в отцы и постараюсь помочь, чем смогу. Мы пришли к апельсиновой рощице в сорока ярдах от дома, якобы собрать немного фруктов. На самом деле мы скрывались от посторонних ушей и заметили бы любого, кто мог приблизиться. — Мистер Квотермейн, — заговорила Хеда вполголоса, — я в самой большой беде, в какую только может попасть женщина. Меня обручили с ненавистным мне человеком. — Почему же вы не разорвете помолвку? Это неприятно, но ведь куда лучше разом решить проблему, чем всю жизнь прожить с человеком, к которому вы не питаете никаких чувств. Чего уж хуже. — Я не могу. Не смею. Это мой долг. — Мисс Марнхем, сколько вам лет? — Через три месяца мое совершеннолетие. Понимаете, почему мне не хотелось сюда возвращаться до срока? Он заманил меня в ловушку, написал, что отец очень болен. — В любом случае скоро они потеряют власть над вами. Ждать осталось недолго. — Для меня это целая вечность. Однако дело не только в послушании. Я люблю отца и осознаю свой долг перед ним. Несмотря на свои пороки, он всегда относился ко мне со всей добротой. — Уверен, отец любит вас. Почему бы не открыться ему? — Он все знает, мистер Квотермейн, и этот брак ненавистен ему даже больше, чем мне, если такое возможно. У него нет выбора, как и у меня. О, я должна признаться! Доктор держит его на крючке. В прошлом отец совершил нечто ужасное, не знаю, что именно, и не хочу знать. Если правда выплывет наружу, это навредит отцу, если не хуже, намного хуже. А цена за молчание доктора — я. В день нашей свадьбы он уничтожит улики против отца. Если я откажу ему, он пустит их в ход и тогда… — Это проблема. — Это не проблема, а кошмар! Если бы вы могли почувствовать то же, что чувствую я, тогда поняли бы весь ужас моего положения. — Думаю, я могу себе представить, мисс Хеда. Не говорите больше ничего, дайте мне немного подумать. В случае чего, приходите ко мне снова, не сомневайтесь, я сумею вас защитить. — Но вы уедете через неделю. — За это время много воды утечет. Для каждого дня достаточно своих тревог. К концу недели мы найдем выход, если он уже не найден. Следующие сутки я, как никогда в жизни, ломал голову над этой изрядной задачкой. Итак, девушку нужно как-то защитить от негодяя, а это непросто, ибо сама девушка защищает другого негодяя, собственного отца. Есть ли выход? Вряд ли, потому что Марнхем, скорее всего, совершил убийство, а может, и не одно. У Родда есть против него улики, и он запросто отправит старика на виселицу. Могла бы Хеда, не раздумывая, обвенчаться с Энскомом? Да, если они договорятся, но тогда Марнхем обречен. Могли бы они сбежать? Возможно, но итог тот же. Мог бы я забрать ее в Преторию под защиту закона? Да, и снова тот же итог. Интересно, что бы мне посоветовал Ханс, мой слуга-готтентот? Он всегда находил выход. За это его и прозвали Светочем во мраке. Этот дикарь был по-своему умный и самый хитрый из всех, кого я знал. Увы, он не встанет из могилы, чтобы со мной поговорить. Впрочем, я догадываюсь, как бы он ответил. — Хозяин, — сказал бы он, — эту веревку может перерубить только Седой Старик, то есть смерть. Пусть умрет доктор или отец, и девушка станет свободной. Эти двое наверняка метят в Небеса, а я мог бы указать им путь. Я улыбнулся своим мыслям, белому человеку не пристало допускать их даже в шутку. Однако воображаемый Ханс прав, смерть одного из них распутает этот гордиев узел. Мне стало не по себе от подобных выводов. Ночью я спал тревожно и видел сон, будто сижу на краю Черного ущелья в стране зулусов, перед их хижинами, а рядом на корточках сидит старый колдун Зикали в накидке из звериных шкур. Его называют Тот, кому не следовало родиться. Много лет прошло с нашей последней встречи. Старик возится с потухшим костром, при помощи пепла он обычно делал предсказания. Взглянул на меня и разразился своим жутким смехом. — Макумазан, вот ты и вернулся в назначенный час. Постарел, но не изменился. Что тебе нужно от Открывателя? В этот раз, верно, не Мамина? О нет, Макумазан, теперь она сама ищет тебя. Однажды она уже нашла тебя, не правда ли? Далеко на севере среди странного племени, они поклонялись статуе «Дитя из слоновой кости». В юности и в зрелые годы я знал их. Не был ли их прорицателем Харут, мой друг и собрат по ремеслу? Она нашла тебя под бивнями слона Джана, в которого искусный охотник Макумазан так и не попал. О, не удивляйся. — Как ты узнал? — спрашиваю я. — Нет ничего проще, Макумазан. Часом раньше ко мне явился маленький желтый человек, Ханс, и поведал эту историю. Тогда я послал за Маминой, узнать, правдивы ли его слова. Она будет рада встрече с тобой. Ее жаждущее сердце все помнит. Не бойся, я говорю про наш земной мир. Ей ни к чему встречаться с тобой на Небесах, ведь она будет вечно жить здесь. — Зикали, — помнится, спросил я, — зачем ты лжешь? Как мог мертвец говорить с тобой и как я могу встретиться с умершей? — Спроси об этом в час битвы, когда белые люди, твои собратья, падают от ударов копий, как сорная трава под мотыгой, а лучше перед битвой. Довольно разговоров о Мамине, она никогда не состарится и может ждать сколько угодно. Не о ней ты хотел поговорить со мной, а о прекрасной белой женщине, Хеддане и ее возлюбленном. Ты всегда старался держаться подальше от чужих проблем, а теперь тебе придется нести их бремя на своих плечах, взамен не получив за это ничего, кроме уважения. Время дорого, слушай же. Когда над ними нависнет угроза, приведи прекрасную деву Хеддану и белого господина Маурити ко мне, и я возьму их под свою защиту — ради тебя. Им больше некуда идти. Приведи их сюда, если им удастся сбежать. Я буду рад тебе, Макумазан. В скором времени я поражу моих врагов, дом Сензангаконы, рыбьим пузырем, полным крови. И он окрасит их дверные косяки. Тут я проснулся, объятый страхом, как после ночного кошмара. Мерный храп Энскома у другой стены комнаты меня успокоил. «Маурити. Почему Зикали назвал его Маурити? — размышлял я в полусне. — А, так его же зовут Морис, а на языке зулусов звучит как Маурити, точно так же Хеда стала Хедданой». Я снова задремал и думать забыл о своем сне, пока последующие события о нем не напомнили. Однако именно сон надоумил меня пуститься в страну зулусов в ту сложную минуту, которая была не за горами[276]. Вечером Родд не явился к ужину, и я поинтересовался, где он. Оказывается, доктор навещает пациента, старосту-кафра, живущего далеко отсюда, и, вероятно, останется там до утра. Разговор меж тем зашел о том, где точно пролегает граница между Трансваалем и землями, которыми по праву владеет Сикукуни. По словам Марнхема, она проходила в какой-то паре миль от его дома. Когда мы встали из-за стола, луна ярко светила, и старик предложил взглянуть на то место, куда много лет назад расставили вехи, еще до того, как буры получили полномочия. Я согласился: приятно окунуться в ночную прохладу после жаркого дня. К тому же мои мысли блуждали, пытаясь найти выход, и старика они тоже касались. Молодые люди остались на веранде. Влюбленные выглядели такими счастливыми, а вскоре им предстоит разлука, так что лучше всего оставить их наедине. Мы поднялись на вершину холма, на котором возвышался наш дом. Марнхем показал мне веху: внизу в серебристой мгле саванны — я бы сам ее не разглядел. От нее где-то вдалеке тянулась линия к следующей вехе. — Вам уже знакомо древесное болото. Граница проходит аккурат через него. Поэтому эти басуто преследовали вас лишь до окраины болота. Впрочем, по их мнению, стрелять в вас они имели полное право, так как граница проходит ровно посредине. На это я ему заметил, что границы теперь и вовсе не существует, ведь вся земля перешла к Британии. Затем мы вернулись домой, пройдя мимо роз к веранде, погруженные каждый в свои мысли. И тут вдруг пред нами предстала милая картина. Энском и Хеда сидели там, где мы их оставили, только плотнее прижались друг к дружке. Он обнял ее, и они самозабвенно целовались. Ошибки быть не могло, поскольку прямо над их кушеткой, обтянутой полосками кожи, висела лампа. Не самое удачное место для подобных ласк. Однако разве этим двоим было дело до каких-то ламп и света? Разве им не хватало сияющих счастьем глаз друг друга? Сейчас мир вокруг для них не существовал, словно они остались только вдвоем, как Адам и Ева в Эдемском саду, продолжая целоваться и шептать друг другу заветные слова. Разве помнят они о змее, обвившемся вокруг ствола древа познания, с которого они сорвали спелый плод, лишивший обоих рассудка? Мы с Марнхемом, не сговариваясь, тихонько отступили, собираясь войти в дом с другой стороны, покашлять у ворот или как-то еще привлечь к себе внимание с подобающего расстояния. Не успели мы отойти далеко, как послышался треск в кустах. — Опять бабуин забрался в сад, — сказал задумчиво Марнхем. — Кажется, он собрался залезть и в дом, — отозвался я, заметив, как тень вскочила на веранду. Следом послышался испуганный крик Хеды. — Вот вы и попались! — тихо и яростно произнес мужской голос. — Видимо, доктор вернулся от больного раньше срока. Лучше нам быть рядом, — сказал я и прямиком бросился к веранде, старик не отставал. Я подоспел как раз вовремя, еще немного, и случилась бы беда. Родд с револьвером в руке возвышался над несчастными, злой как черт и снедаемый ревностью. Хеда, бледная, с лихорадочным блеском в глазах, сидела на кушетке, судорожно вцепившись в нее пальцами. А рядом с ней сидел Энском, как всегда спокойный и собранный и все же явно озадаченный происходящим. — Если вы собрались стрелять, — сказал он, — начните с меня. Его спокойствие вывело Родда из себя. Он прицелился. Однако и я не зевал, ведь мое оружие всегда при мне с тех пор, как мы поселились в этом доме. Нельзя было терять ни минуты, а до Родда было не меньше пятнадцати футов, но я не хотел его ранить. Поэтому мне ничего не оставалось, как выстрелить в пистолет в его руках и не промахнуться. Прежде чем доктор нажал на курок, если, конечно, не собирался их только припугнуть, моя пуля угодила в рукоятку и сбила прицел дула. — Отличный выстрел, — заметил Энском, увидев меня. А Родд все еще сжимал в руке револьвер и таращился на его рукоятку. — Повезло, — ответил я и подошел к ним. — Доктор Родд, извольте объясниться, чего ради вы тут махали револьвером перед дамой и безоружным джентльменом, да еще небось и заряженным? — А вам какое дело? — спросил он. — И чего это вы вздумали палить в меня? — Как же мне не вмешаться, если вы побеспокоили девушку и моего друга. А если бы я стрелял в вас, вы бы сейчас не задавали вопросов. Моей целью был пистолет, однако в следующий раз это может оказаться его владелец. — И я взглянул на свой револьвер. Он понял, что со мной лучше не связываться, и обратился к Марнхему, стоящему за моей спиной. — Твоя работа, старый плут, — глухо произнес он в ярости. — Ты обещал свою дочь мне. Она моя невеста, и вот я застаю ее в объятиях чужака. — Что я могу поделать? — ответил Марнхем. — Может, она передумала, вот ее и спрашивай. — Не утруждайтесь, — вмешалась Хеда. Она будто очнулась. — Да, мое намерение изменилось. Я никогда не любила вас, доктор Родд, и замуж за вас не пойду. Я люблю мистера Энскома. Он предложил мне стать его женой, и я согласилась. — Я так и понял, — ухмыльнулся он. — Наверняка вы рассчитываете стать однажды супругой пэра. Что ж, я постараюсь не допустить этого. Славный джентльмен, может быть, и сам не захочет взять в жены дочь убийцы. Его слова прозвучали для всех нас как гром с небес. Мы ошарашенно переглядывались, будто на поле боя, когда отгремели выстрелы, дым рассеивается и бойцы устраивают перекличку. Энском заговорил первым. — Не знаю, о чем вы и какие у вас доказательства, — произнес он спокойно. — Как бы то ни было, эта дама, оказавшая мне честь, ни в чем не повинна. Пусть даже все ее предки были убийцами, я все равно женюсь на ней. Девушка взглянула на него с бесконечной благодарностью в сияющих глазах. Марнхем шагнул или, вернее, качнулся вперед. На виске у него пульсировала жилка. — Он лжет, — прохрипел старик, дергая себя за бороду. — Я расскажу вам, как все было. Однажды, больше года назад, я перебрал и в ярости выстрелил в кафра, желая его напугать, но по какой-то роковой случайности он упал замертво. Вот и все, а доктор называет это убийством. — А у меня другая сказка, — произнес Родд, — но я не стану докучать вам сейчас. Послушайте, Хеда, выполните уговор, или вашего отца повесят. Она охнула и рухнула на кушетку, будто от выстрела. Тогда подал голос я: — Вы обвиняете в преступлениях других? А не вы ли, доктор, провели несколько месяцев в английской тюрьме? — Тогда я еще помнил ее название. — Но сейчас мы не станем вдаваться в подробности. — Как вы узнали? — Не важно, знаю, и все, а тюремные записи подтвердят мои слова. Вы промышляете продажей оружия и патронов людям Сикукуни, а они враги ее величества, хоть военные вылазки против них временно приостановлены. Отрицать бесполезно, у меня есть доказательства. Далее, это вы послали басуто убить нас, когда мы пришли в их земли поохотиться. Вы боялись, как бы мы не узнали, кто поставляет им ружья. — Это я сказал наудачу, но, видно, попал в точку, раз он раскрыл рот от удивления. — Кроме того, вы незаконно скупаете алмазы и снова условились с басуто нас прикончить. Впрочем, два последних обвинения я доказать не могу. Итак, доктор Родд, я повторяю свой вопрос. Считаете ли вы себя вправе обвинять кого-либо, а если и попытаетесь, поверят ли вам, когда обнаружатся ваши собственные преступления? — Если бы я действительно был виновен, тогда мой компаньон становится соучастником во всех этих преступлениях, кроме первого. Так что, донося на меня, вы и его подставляете, а ведь это отец Хеды, будущий тесть вашего друга, а тут выяснится, что он незаконно торгует оружием, ворует, да еще пытался убить своих гостей. Мистер Квотермейн, на вашем месте я бы оставил это дело. Хоть он и негодяй, его находчивость и смелость меня восхитили. — Я последую вашему совету, только если вы последуете моему и оставите девушку и ее отца в покое. — Делайте что хотите, только держите свое мнение при себе. Берегитесь, как бы привычка всюду совать свой нос не обернулась против вас. Хеда, ты выйдешь за меня и предложишь молодому человеку завтра же покинуть этот дом. Как доктор, я могу тебя уверить, он уже вполне готов к путешествию. И эту ищейку, Квотермейна, пусть забирает с собой. Можешь одолжить им свою повозку. Иначе я предъявлю кому следует доказательства и выдвину против твоего отца обвинение в убийстве. Даю тебе время подумать до утра. Обсудите все хорошенько на семейном совете. Спокойной ночи. — Спокойной ночи, — ответил я, когда он проходил мимо, — и позаботьтесь, пожалуйста, чтобы мы вас до утра не встретили. Как вы наверняка слышали, местные называют меня Тот, кто встает после полуночи. — И я бросил взгляд на свой револьвер. После его ухода я по-хозяйски как можно беззаботнее заметил, что пора спать. Никто не возражал. — Не тревожьтесь, юная леди, — добавил я. — Если не хотите оставаться в комнате одна, пусть ваша храбрая горничная заночует с вами. И сегодня так жарко в доме, что я, пожалуй, вздремну на веранде, прямо под вашим окном. Все, ни слова больше. Завтра все обсудим. Девушка поднялась, перевела взгляд с Энскома на меня, с сожалением посмотрела на отца и с возгласом отчаяния прошла в свою комнату за застекленной дверью. Потом позвала горничную и велела ей спать в ее комнате. Марнхем проводил дочь взглядом и ушел к себе, понурив голову и немного пошатываясь. Энском тоже встал и поковылял в свою комнату, я следом. — Ну и заварили вы кашу, молодой человек. — Да, Аллан, боюсь, вы правы. Зато какая каша заварилась, сколько всего любопытного в ней намешано. — Любопытная каша! Намешано! — передразнил я его. — Почему бы не назвать ее адским варевом? Он вдруг посерьезнел: — Послушайте, я люблю Хеду, и каковы бы ни были ее родные, я на ней все равно женюсь, даже наперекор семье. — Вам ничего иного и не остается. А что касается недовольства вашей семьи, сдается мне, девушка готова разделить с вами любую участь. Вот только как же вы на ней женитесь? — Ну, что-нибудь наверняка случится, — ответил он беспечно. — Тут вы правы, случится, знать бы только, что именно. Когда я подошел к веранде, вы и Хеда были на волосок от подобного случая, к счастью для вас обоих, я умею управляться с револьвером. Дайте-ка посмотрю вашу ногу, и больше ни слова о деле. Утром, на трезвую голову, у меня обязательно появится какая-нибудь идея. Осторожно осматривая ногу, я согласился с доктором Роддом. Энском по-прежнему хромал, однако рана почти зажила, а воспаление спало. А совсем скоро к суставам вернется былая подвижность. Во время моих манипуляций он в красках расписывал достоинства и прелести Хеды, а я помалкивал. — Лягте и постарайтесь уснуть, — посоветовал я, покончив с осмотром. — Дверь запирается, а я расположусь так, что опасность со стороны окна вам не будет грозить. Спокойной ночи. Оставив его, я нашел себе местечко рядом с висящей лампой, откуда видел комнату Хеды и мою, так что никто не проскочил бы незаметно. Мне не привыкать к ночным бдениям, заряженный револьвер был наготове. Никогда еще я не чувствовал себя бодрее, неумолимо текли часы, а мысли не давали покоя. Не важно, о чем я думал, поскольку это никак не связано с последующими событиями. Скажу лишь, что к рассвету мне стало не по себе. Не знаю, что меня так напугало, но встревожился я не на шутку. Мимо комнаты Хеды и нашей никто не ходил, в этом я лично убедился. Казалось бы, мои страхи беспочвенны, а все же они никак не унимались, а лишь нарастали. У меня появилось предчувствие: что-то происходит в этом доме или на другом конце Африки, нечто ужасное, чему я не в силах помешать. Подавленность нарастала и достигла предела, как вдруг все про шло. Я вытер пот со лба и осмотрелся, уже начинало светать. Нежные краски чудесной зари показались мне добрым знаком на нашем туманном пути. Пустяк, конечно, всего лишь приход нового дня, и все же я получил утешение и надежду. С рассветом все страхи улетучились, а осталась только радость. Теперь я не сомневался, что мы преодолеем все трудности и все закончится хорошо. Уверившись в этом, я решил вздремнуть, все равно любой шорох или движение меня разбудят. Проспал я где-то шесть часов, когда послышался звук шагов. Я тут же вскочил. Передо мной стоял наш туземный слуга. Он весь трясся и будто онемел, темнокожее лицо стало пепельно-серым. Только склонил голову набок и безвольно свесил, изображая мертвеца. Раскрыв рот и выпучив глаза, он поманил меня за собой. Я встал и пошел за ним.Глава 8
ПОСЛЕДНИЙ КОЗЫРЬ РОДДА
Мы пришли в комнату Марнхема, прежде я у него не бывал. Все, что мне удалось разглядеть при закрытых ставнях, — это просторные габариты спальни, типичные для Южной Африки. Понемногу глаза привыкли к полумраку, и я увидел тело человека. Он сидел в кресле, склонившись над столом, который стоял посреди комнаты у кровати. Я распахнул ставни, и в комнату хлынул утренний свет. Этим человеком оказался Марнхем. На столе лежали писчие принадлежности, стояла опорожненная бутылка коньяка. Стакан, разлетевшийся вдребезги, оказался на полу. — Он пьян, — сказал я. — Нет, хозяин, он холодный, значит мертвый, — испуганно, впервые прервав молчание, ответил слуга по-голландски. — Я только что нашел его таким. Я наклонился к телу и обследовал его, ощупал лицо. Марнхем, безусловно, скончался. Нижняя челюсть отвисла, кожа похолодела, и от него жутко несло алкоголем. Немного поразмыслив, я послал слугу за доктором Роддом и велел особо не болтать. Когда он ушел, мое внимание привлек большой конверт в опущенной руке покойного, адресованный Аллану Квотермейну. Я взял его и сунул к себе в карман. Пришел полуодетый Родд. — В чем дело?! — рявкнул он. — Хороший вопрос, — ответил я, указав на Марнхема. — Ох, снова набрался, — предположил он и проделал те же манипуляции, что и я. Мгновение спустя он в ужасе отшатнулся. — Боже мой, он умер! — воскликнул доктор. — Три часа назад, если не больше. — Похоже на то, но кто его убил? — Откуда мне знать?! — огрызнулся он. — Думаете, я его отравил? — Я никого не подозреваю, но, учитывая вашу давешнюю крупную ссору, кто-то может так подумать. Удар попал в цель. Родд занервничал. — Возможно, у старика случился приступ или он упился до смерти. Без вскрытия нельзя ничего утверждать. Но я этого делать не стану. Поеду, предупрежу судью и найду другого врача. Тело пусть никто не трогает, пока я не вернусь. Я взвесил все за и против. Стоит ли мне его отпускать? Если это его рук дело, то он, конечно, попытается сбежать. Что ж, тем лучше для Хеды, в конце концов, не моя обязанность отдавать его под суд. Кроме того, улик против него нет. Все его поведение говорило скорее об обратном, впрочем, он мог и притворяться. — Что ж, ладно, но возвращайтесь как можно скорее. На миг доктор застыл в замешательстве. Должно быть, ему пришло в голову, что теперь, со смертью Марнхема, он потерял власть над Хедой. Даже если так, виду он не подал. — Хотите поехать вместо меня? — Думаю, не стоит, — ответил я. — Вдруг я виновен, тогда мой рассказ — а мне придется давать объяснения — окажется не в вашу пользу. — Вы правы, черт возьми! — воскликнул Родд и вышел из комнаты. Спустя десять минут он уже скакал в Пилгримс-Рест. Прежде чем покинуть эту обитель смерти, я все кругом тщательно обследовал в поисках яда или иного орудия убийства. Безрезультатно. Однако кое-что я все-таки нашел. Перевернув промокательный лист бювара, лежавшего у локтя старика, я наткнулся на страницу, где его рукой был написан обрывок фразы: «Нет больше той любви, как…»[277] То ли он забыл конец библейского стиха, то ли передумал писать, то ли не хватило сил его завершить. Этот лист я тоже сунул в карман. Захлопнув ставни и заперев дверь, я вернулся на веранду. Весь дом еще спал, и там никого не оказалось. Тут я вспомнил о письме и вынул его из кармана. В нем содержался следующий текст:Дорогой мистер Квотермейн! Мне известно, как внезапно и скоропостижно умирают те, кого угораздило поссориться с Роддом, и потом, в моем возрасте нужно быть готовым к любой неожиданности. Поэтому я решил написать завещание и оставить его Вам, как честному человеку, на сохранение завтра утром. Надеюсь, вернувшись в Преторию, Вы отнесете его в «Стандарт банк», а квитанцию перешлете мне, если я к тому времени буду еще жив. Как Вы убедитесь, я оставляю все состояние моей горячо любимой дочери, а сверх того и мою долю в поместье, если удастся таковую востребовать. Этого хватит, чтобы держать волка подальше от ее двери. После случившегося этой ночью я неважно себя чувствую и не в силах писать далее. Засим остаюсь искренне Ваш, Марнхем.На письмо самоубийцы не похоже. Я взглянул на документ, повинуясь воле завещателя. Текст небольшой, а составлен по всем правилам, подписан и заверен. Он оставил девять тысяч фунтов, лежащих на счету в «Стандарт банке», и остальное имущество, движимое и недвижимое, своей дочери Хеде, в ее личное пользование, свободное от долгов и посягательств ее будущего мужа. Ей запрещалось единовременно тратить более одной тысячи фунтов. В общем, капиталы дочери были надежно защищены. Вместе с завещанием лежали и другие бумаги, видимо касающиеся недвижимости в Венгрии, унаследованной ею. Однако это уже не моя забота. Сунув документы в потайной карман подкладки моего жилета, я вернулся в комнату и растолкал Энскома. Почему-то его крепкий сон вызвал у меня раздражение. Наконец он проснулся. — Вам повезло, друг мой. Марнхем мертв. — О бедная Хеда! — воскликнул он. — Ведь она любила его. Сердце ее разорвется от горя. — Зато дочерняя любовь больше не велит ей выходить за Родда. Это ее утешит. Тут-то вам и улыбнулась удача. Я поведал ему все, как было. — Так он убит или покончил собой? — подытожил мой рассказ Энском. — Не знаю, да и знать не хочу. И вам не советую, если в вас есть хоть капля здравого смысла. Достаточно того, что он мертв. И ради дочери не стоит углубляться в обстоятельства кончины ее отца. — Бедная Хеда! — повторил он. — А кто ей сообщит? Я не смогу. Давайте вы, Аллан, тем более, вы же его нашли. — Так и знал, что все будет на мне. Что ж, чем скорее покончим с этим, тем лучше. Одевайтесь и приходите на веранду. Выйдя от Энскома, я сразу столкнулся с дородной горничной Хеды по имени Кетье, глуповатой, но добродушной. Она как раз выходила из комнаты хозяйки с кувшином в руках, видимо, хотела набрать горячей воды. — Кетье, вернись к мисс Хеде и передай, что мне нужно с ней поговорить, и как можно скорее. Забудь о горячей воде, лучше помоги хозяйке одеться. Та беззлобно поворчала, но, взглянув мне в глаза, умолкла. Вернулась в комнату, а спустя десять минут передо мной уже стояла Хеда. — Мистер Квотермейн, что случилось? Наверняка что-то ужасное. — Боюсь, что так, дитя мое. Если смерть ужасна. Ваш отец скончался прошлой ночью. — О нет! — Она рухнула на стул. — Мужайтесь, все мы смертны, а ваш отец дожил до преклонных лет. — Но я любила его, — простонала Хеда. — Он не был святой, я знаю, но он был мне дорог. — Такова жизнь, Хеда, все мы теряем тех, кого любим. Однако вам есть за что быть благодарной, ведь с вами любимый человек. — О да, хвала Небесам, вы правы. Если это Божий промысел… правда, так говорить нехорошо. Я стал рассказывать ей о случившемся, в это время к нам присоединился Энском. Он приковылял, опираясь на палку. Потом я показал им письмо Марнхема, адресованное мне, и завещание, а об остальных бумагах умолчал. Девушка сидела очень бледная и притихшая, слушая мой рассказ. — Я хочу его видеть, — сказала она наконец. — Возможно, так будет лучше, — ответил я. — Тогда, если у вас хватит мужества, давайте прямо сейчас. Энском, идите с ней. Мы вошли в комнату. Энском и Хеда держались за руки. Я отпер дверь, вошел и распахнул ставни. Мертвец выглядел по-прежнему, только голова немного запрокинулась. Хеда взглянула на него, вздрогнула и, сделав над собой усилие, поцеловала холодный лоб. — Прощай, отец, — шептала она, — прощай. Вдруг меня осенило: — А где ваш отец хранил ценные вещи? Вы его наследница, и теперь все в этом доме принадлежит вам. — В углу стоит сейф, а ключ отец всегда держал в кармане брюк. — Тогда я открою его при вас, если не возражаете. Я обыскал карманы покойного и нашел связку ключей. Взяв ее, я подошел к сейфу, накрытому покрывалом из шкур, и запросто отпер его. Внутри оказались два мешочка с золотом, по сотне фунтов каждый, а на других было написано: «Драгоценности моей жены. Принадлежат Хеде». Еще какие-то бумаги, изображение в миниатюре той леди, портрет которой висел в гостиной, и несколько неупакованных золотых слитков. — Кто все это возьмет? Небезопасно оставлять золото здесь. — Разумеется, вы, кто же еще, — ответил Энском, Хеда согласно кивнула. Тяжело вздохнув, я распихал все эти ценности по своим необъятным карманам. Затем запер сейф,вернул ключи на место, и мы с Энскомом вышли из комнаты. Хеда, всхлипывая, вышла следом. Мы решили подкрепиться, уговаривая девушку последовать нашему примеру. Выйдя из-за стола, я стал свидетелем любопытного зрелища. Пациенты доктора Родда, которых он принимал в своей маленькой больнице, уходили в саванну, причем те, кто мог передвигаться самостоятельно, помогали своим товарищам. Они были уже слишком далеко, и я не стал догонять их, не хотелось оставлять дом без присмотра. У меня появились дурные предчувствия, и я вернулся обратно, выяснить, в чем дело, но никого не мог найти. Проходя мимо дверей больницы, я услышал чей-то голос, зовущий на наречии сисуту: — Братья мои, не бросайте меня! Войдя, я увидел человека, которого Родд оперировал, когда мы только приехали. Он лежал там совсем один. Я спросил, куда делись остальные. Больной не ответил, и я уже хотел уйти, но тут он сказал, что все ушли в свою родную землю. Короче говоря, мне наконец удалось выведать у него правду. Оказывается, скоро на этот дом нападут люди Сикукуни, и они хотят быть подальше, когда меня и Энскома убьют. Сам он идти отказался или не смог, — похоже, он ничего не знал о смерти Марнхема. Только я попытался на него надавить, как он застонал, страдая от боли и жажды, и стал просить воды. Я хотел узнать, кто велел нас убить, но больной отказался отвечать. — Ладно, оставайся один и помирай от жажды, — сказал я и направился к двери. — Я все расскажу! — закричал он. — Это лекарь, который тут живет. Он меня резал. Задумал несколько дней назад убить вас, ведь он тебя ненавидит. Прошлой ночью он уехал, чтобы сказать воинам зулусов, когда приходить. — И когда же? — спросил я, держа кувшин с водой у него на виду. — Сегодня, как только взойдет луна, задолго до рассвета. Мой народ жаждет вашей крови, твоей и другого белого вождя, за всех тех, кого вы убили у реки, а остальных они не тронут. — Как ты об этом узнал? — спросил я, но он не ответил, только бормотал что-то бессвязное о том, что остался один, потому что его не могли унести. Я дал больному воды, и он тут же уснул, а может, притворился спящим. Кто знает, бредил он или говорил правду. В конюшне стоял мой конь — лошадей в тех местах запирали на ночь, охраняя от заразной болезни. А четырех животных из упряжки Хеды, привезенных ею из Наталя, как не бывало. Однако, судя по всему, они стояли тут всего пару часов назад вместе с повозкой. Подкинув моему коню корма, я вернулся в дом с черного хода. В кухне никого, зато у комнаты Марнхема, прислонившись к двери, сидел парень, который нашел старика мертвым. Он был слишком привязан к хозяину и казался ошеломленным. Я спросил, где остальные слуги, и узнал, что все они разбежались, а лошадей Родд, еще до своего отъезда этим утром, приказал увести. Я предложил кафру пойти со мной к веранде, не желая упускать парня из виду, он нехотя согласился. Там рядышком на кушетке сидели Энском и Хеда. По щекам девушки текли слезы, а он, взволнованный, держал ее за руку. Такой образ Хеды навсегда запечатлелся в моей памяти. Горе к лицу некоторым женщинам, и ей в том числе. Прекрасные темно-серые глаза не опухали от слез, капли просто наворачивалась и падали, как росинки с цветка. Хеда сидела очень прямо и неподвижно, а Энском не сводил с нее глаз. Луч солнца падал на густую копну ее волнистых каштановых волос. Эта парочка напомнила мне статуи мужа и жены, которые я когда-то видел в старой египетской гробнице. Сотни лет назад женщина сидела так же, с надеждой устремив взгляд в будущее. Смерть опечалила ее, но мало-помалу на ее губах расцветала задумчивая улыбка, казалось, ее печальные глаза уже видели сквозь тьму пробуждение новой жизни. Кроме того, рядом не было любимого, спутника надежд, ведь он разделил ее горестную участь. Вот такие чудные мысли завладели мной посреди грозящих нам бед, словно одинокий цветок посреди колючек в каменистой пустыне или звезда во мраке ночи. Наваждение прошло, и я рассказал им о случившемся. Они слушали не перебивая. — Вдвоем нам не под силу защитить дом, — протянул Энском, когда я умолк. — Надо уходить. — Ваши выводы весьма разумны, — заметил я, — конечно, если кафр сказал правду. Только как мы уйдем? Втроем мы на одной кляче не уедем, ведь вы еще калека. — Есть моя повозка, — подсказала Хеда. — Да, но лошадей выпустили, и я не знаю, где их искать. А этого парня я отправить за ними не решаюсь, вдруг он убежит, как остальные. Думаю, лучше вам одной сесть на мою лошадь и ехать, а мы вдвоем останемся и попытаем счастья. Наверняка все это ложь, и нам ничто не угрожает, — добавил я, чтобы ее не волновать. — Я не сделаю ничего подобного, — ответила Хеда с такой убежденностью, что спорить было бесполезно. На миг я задумался, в каком сложном положении мы оказались. Слуге доверять нельзя, и, если я пойду с ним, придется оставить эту парочку совсем одну, а учитывая состояние Энскома, они, считай, совсем беззащитны. Однако, как мне казалось, другого вы хода нет. Тут я поднял взгляд и у садовой калитки заметил Футсека, возницу Энскома. Того самого, кого я послал в Преторию за быками. Он озирался в страхе, выпучив глаза, и тяжело дышал. Шляпа его пропала, а из раны на лице сочилась кровь. Завидев нас, он пробежал по тропинке и сел в изнеможении. — Где волы? — спросил я. — О хозяин, они у басуто. От черной старухи мы узнали, что Сикукуни призвал воинов, и стали ждать на вершине холма, в часе езды оттуда, правду ли она сказала. Вдруг прискакал хозяин-доктор, тогда я выбежал к нему и спросил, безопасно ли продолжать путь. Он узнал меня. «Да, вполне безопасно, — ответил он, — я не раз ездил этой дорогой и не встречал никого, кроме детей. Поспешите, ваши хозяева будут рады волам, ведь они хотят пуститься в дорогу до наступления сумерек», — улыбнулся и уехал. Мы пошли вперед, ведя за собой волов. Ступив в колючие заросли у подножия холма, мы поняли, что доктор либо лгал, либо сам тут не был. Высокая трава по обе стороны тропинки вдруг ощетинилась копьями. Да, копья были повсюду. Двоих разведчиков тут же убили. А я не стал отступать, а побежал вперед, ведь позади тропу загородили кафры, они разгоняли волов. Набросились было на меня, а я прыгал то туда, то сюда, ускользая от них. Тогда они стали метать копья, видишь, один щеку задел, но промахнулся, как и остальные. У них были пистолеты в руках, но они не стреляли, наверное, не хотели шуметь. Один крикнул мне вдогонку: «Передай Макумазану, что мы навестим его ночью, когда меткость ему откажет! У нас к нему послание от наших братьев, убитых у реки Элефантес». Тогда я побежал сюда без оглядки, никого больше не встретил. Вот и все, хозяин. Я тут же подверг этого малого перекрестному допросу, дабы просеять ложь в его словах и найти крупицы истины. Очевидно, он столкнулся с басуто, вернее, угодил в ловушку Родда, потерял скот и попутчиков, которых убили, если им не удалось убежать. — Послушай, мне нужно найти лошадей. Ты останешься здесь с юной мисс, поможешь уложить вещи в повозку и подготовишь упряжь. Не вздумай удрать, иначе я тебя найду и тогда тебе не уйти от расправы. Ты меня понял? Футсек поклялся исполнить наказ и пошел утолить жажду, а я объяснил Энскому и Хеде, ссылаясь на новые сведения, что до темноты опасаться нападения не следует и у нас впереди еще целый день. Я вызвался пойти и поискать лошадей, иного выхода нет. Тем временем Хеда должна собраться в дорогу и подготовить повозку при помощи Футсека, а Энском пусть остается за главного и руководит сборами, ведь он теперь, со своей тростью, вполне ходячий. Разумеется, им было не по душе оставаться одним. Однако, учитывая обстоятельства, никто не возражал. Я отправился в дорогу, взяв с собой молодого слугу. Кафр шел с неохотой, до сих пор горевал или боялся, но после моего обещания застрелить его, если выкинет фокус, парень передумал. Оседлав мою кобылу, посвежевшую и откормленную, мы пошли дальше. Слуга привел ее за повод к ущелью с небольшой долиной, где в изобилии росла сочная трава, излюбленное пастбище животных. Здесь мы нашли пару лошадей, они были в уздечках и привязаны к деревьям за поводья из сыромятной кожи. Две лошади повозку не утащат, так что мне пришлось продолжить поиски. Ох! Чего же мне стоила эта охота. Лошади гуляли на свободе — Родд велел помощнику конюха не стреноживать их, чтобы они разбрелись кто куда. Насытившись, животные возвращались на ферму, где родились, проходя около пятидесяти миль, по пути пощипывая травку. Тогда я об этом не знал и бродил много часов взад-вперед среди соседних ущелий. Грунт оказался слишком плотный, и нечего было надеяться найти их по следам. Тут мне пришла в голову идея спросить у парня, откуда взялись эти лошади, ведь, как оказалось, именно он привел животных, когда их купили год назад. Уяснив, куда нужно держать путь, я выехал на поперечную дорогу, которая вела к нужной нам тропе, а слуге велел бежать сбоку, держась за стремя. В третьем часу пополудни мы вышли на ту тропу, вернее, колею в десяти или двенадцати милях от Храма. Дорога пошла в гору, и там мы наткнулись на двух лошадей, они безмятежно брели нам навстречу. Если бы мы разминулись на четверть часа, животные уже растворились бы в колючих зарослях. Мы запросто их поймали и повели к дому, взяв под уздцы. Выйдя на поляну, где остались две другие лошади, мы собрали их вместе и направились к дому. Вернулись мы к пяти часам. Все было спокойно, я поставил свою кобылу в стойло, протер ее, дал немного корма. Затем обошел вокруг дома и нашел там Энскома и Хеду, горящих от нетерпения, зато целых и невредимых и под охраной кафра. Пока Футсек впрягал лошадей в повозку, я поспешно утолил голод. Через четверть часа все было готово к отъезду. Тут ни с того ни с сего Хеда, подчиняясь женской логике, заявила, что никуда не поедет, не похоронив отца по-человечески. — Милая барышня, если мы тут задержимся, нас всех похоронят вместе с ним. К счастью, она вняла голосу разума и, пока я выводил свою кобылу из конюшни, пошла под руку с Энскомом в последний раз проститься с отцом. Сказать по правде, я уже насмотрелся на старика и даже за пятьдесят фунтов не войду снова в его комнату. Проходя с лошадью мимо дверей больницы, я услышал крик старого кафра и послал молодого слугу узнать, что там стряслось. Больше я не видел ни того ни другого и вряд ли увижу на этом свете. Интересно, что с ними сталось? Когда я снова обошел вокруг дома, повозка стояла у ворот, Футсек держал под уздцы лошадей, а Хеда с Энскомом стояли рядом. Вещи Хеды и наши аккуратно упаковали — сколько вместилось в повозку, включая оружие и боеприпасы. Остальное при шлось оставить. Не забыли и две корзины с едой, бутылками коньяка, захватили и пальто с пледами. Я велел Футсеку взять поводья, так как он умелый возница, и помог Энскому забраться в повозку. Хеда со служанкой устроились позади, для равновесия. Я решил ехать верхом, во всяком случае пока. — Куда, хозяин? — спросил Футсек. — К Гранитному потоку, где стоит фургон. — Неужели снова через древесные болота? — взволнованно спросил Энском, казалось, он очень нервничал. — Может, поедем в Пилгримс-Рест, Лиденбург или Барбертон? — Нет, если не хотите напороться на тех басуто, которые украли волов. И доктор Родд скоро вернется, если он, конечно, не передумал. — О! Едемте через древесное болото! — воскликнула Хеда. Она скорее предпочла бы встретиться с дьяволом, чем с доктором Роддом. Ах, знал бы я, что мы угодим прямиком в лапы к этому человеку, я бы дважды схлестнулся с басуто. Ведь я хотел как лучше, полагая, что он вернется с коллегой или мировым судьей по короткой и безопасной дороге, которой ехал утром. Это лишний раз доказывает, насколько тщетны бывают все наши старания и предусмотрительность и как сильна рука судьбы. Мы устремились вниз по склону. Я скакал позади повозки и заметил несчастный взгляд Хеды в сторону ее мраморного дома — издали он казался еще прекраснее. Девушка смотрела туда, где осталось тело ее непутевого отца, которого она все еще любила. Мы спустились в лесистую лощину и подъехали к тому месту, где лежал остов гну, застреленного нами. Казалось, с того случая прошли годы. Затем мы переправились через Гранитный поток. Прежде чем мы ступим в древесное болото, где повозка станет неповоротлива из-за деревьев и вязкого грунта, я поехал вперед на разведку. А вдруг басуто устроили там засаду? Я быстрым галопом поскакал вперед и забрался далеко вглубь, но никого не встретил. Затем, на выходе из леса, где деревья росли плотнее, мне вдруг послышалось, будто кто-то кашлянул. Напряженно всматриваясь в темноту, куда едва проникали лучи заходящего солнца, я не заметил ничего подозрительного. Видно, мне просто показалось или кашлял какой-нибудь бабуин, хотя обычно они не забредают в такие низины, где нечем полакомиться. Это жутковатое место напоминало истории о призраках, которые, должно быть, кишели тут повсюду, и еще почему-то о предчувствии Энскома, исполнившемся, когда был убит басуто. Гляньте-ка, да тут лежит его оскаленный череп с клоком волос, — наверное, гиена утащила его от скелета. Я поскакал вниз по лесистому склону, сквозь редкие колючие заросли, к потоку, на берегу которого остался фургон. Однако на том месте оказались лишь свежая колея, оставленная колесами всего час или два назад. Мне все сразу стало ясно. Басуто украли наших волов, привели их сюда, впрягли в фургон и удрали со своей добычей. В общем, я даже порадовался, ведь они теперь вернутся в свою землю и оставят нас в покое. Повернув обратно, я направился к повозке. Только добрался до опушки леса на вершине холма, как раздался пронзительный свист. Эхо разнесло его в неподвижном воздухе на пару миль вокруг. Еще я услышал мужские голоса, кто-то бранился, и до меня долетели обрывки фраз: «Пропусти, или, ей-богу…» Раздался дикий хохот и другой голос произнес: «Через пять минут здесь будут кафры, а через десять вы будете мертвы. Что я могу поделать, если они вас убьют, ведь я предупреждал, поворачивайте обратно». Затем вскрикнула женщина. Это были голоса Родда, Энскома и крик Кетье, служанки Хеды! Я пришпорил коня, оставляя позади последний лесистый участок. Вдруг раздался выстрел. Вскоре они уже оказались в поле моего зрения. Повозка стояла по ту сторону потока, лошади фыркали. Их держал за поводья Родд, а свою лошадь он оставил поблизости. Доктор пошатывался. Я спешился и подбежал ближе. Лицо его исказила гримаса боли и дикой ярости. Свободной рукой он показывал на Энскома. Тот сидел в повозке с пистолетом в руках. Из ствола все еще струилась струйка дыма. — Ты убил меня из-за нее, — задыхаясь, прохрипел Родд, пуля попала ему прямо в легкие. Он махнул рукой в сторону Хеды, выглядывающей из повозки. — Ты убийца, как и ее отец, как царь Давид… Надеюсь, она не станет твоей… Презренный вор, ты тоже умрешь… и разобьешь ее коварное сердце… Он говорил медленно, делал паузы между словами и с трудом ворочал языком. Кровь, сочащаяся из раны, затрудняла дыхание, и вдруг хлынула изо рта. Родд упал навзничь в болотную жижу, все еще с осуждением указывая на Энскома, и тут же утонул, даже не пытаясь удержаться на плаву. От такого жуткого зрелища Футсек, наш возница, соскочил с повозки и с воем бросился к лошади Родда, вскочил в седло и, стукнув ее кулаком, ускакал в неизвестном направлении. Энском закрыл лицо руками, Хеда повалилась в повозку, как сноп, а чернокожая Кетье била себя в грудь и что-то бормотала на голландском о проклятии и колдовстве. К счастью, я не поддался общей панике, взял лошадей под уздцы, а то как бы они не утопили повозку. — Придите в себя, этот парень получил по заслугам. Вы правильно поступили, застрелив его. — Рад, что вы так думаете, — рассеянно отозвался Энском, — а все-таки это убийство. Помните, я говорил, что мне придется убить человека, и о женщине? — Меня волнует только одно: если мы сейчас не поторопимся, нами займутся. Эта скотина свистела и удерживала лошадей, ожидая, что басуто вот-вот придут и убьют нас. Возьмите же себя в руки, держите поводья и следуйте за мной. Энском подчинился, довольно искусно управляясь с хлыстом. Как я потом узнал, у себя дома он привык управлять экипажем, запряженным четверкой лошадей. Забравшись в седло, я вывел повозку из лесу, и мы спустились по склону. Наконец мы нашли прежнее место стоянки, и я сперва предложил следовать изначально намеченным маршрутом: до Пилгримс-Рест. Однако, взглянув в ту сторону, заметил в пятистах ярдах целое полчище басуто, оно неслось прямо на нас. Их копья блестели в лучах закатного солнца. Как видно, тот шпион или разведчик по сигналу Родда вызвал их из засады на дороге в Пилгримс-Рест, где они нас поджидали. Нам оставалось только одно. В этом месте тропа, протоптанная туземцами, пересекала поток, взбиралась по склону и бежала дальше. Когда мы впервые разбили тут лагерь, я ради любопытства взобрался на этот холм, прикидывая, сможет ли наш фургон на него заехать, хоть это и не так просто. На вершине оказалась просторная плоская равнина, почти что горный вельд, ведь кустов по обе стороны тропы было раз два и обчелся. Продолжая разведку, я понял, что ее использует народ свази и другие туземцы для набегов на басуто, а еще их работники ходят этим путем на рудник. — За мной! — крикнул я, пересек поток в мелком месте и повел маленький отряд вверх по каменистому склону. Упряжка лошадей благополучно преодолела препятствие, и повозка, сработанная на совесть, выдержала подъем. На вершине холма я оглянулся. Басуто не отставали. — Не жалейте кнута! — крикнул я Энскому, и мы перешли на быстрый аллюр. Повозка покачивалась и подпрыгивала на дорожных колдобинах. Солнце клонилось к закату, и до полной темноты оставалось полчаса. Сможем ли мы опережать их все это время?P. S. Еще… мне бы хотелось признаться со всей откровенностью, что я всем сердцем желаю освобождения Хеды от этого злодея и убийцы Родда и ее свадьбы с мистером Энскомом. Он мне нравится, и я уверен, что этот молодой человек будет для моей дочери хорошим мужем.
Глава 9
БЕГСТВО
Солнце опустилось за горизонт в ореоле славы. Оглянувшись, я увидел в багряном зареве последних лучей очертания одинокой фигурки туземца. Он стоял на холме в миле от нас или около того. Видно, ждал своих отставших товарищей. Они не оставляли нас в покое. Как же быть? Скоро совсем стемнеет, и мы не сможем ехать дальше. Чего доброго заблудимся, лошади угодят в нору муравьеда и переломают ноги. Или того хуже: утонем в болоте. Придется дожидаться, пока не взойдет луна, а это может затянуться на пару часов. Меж тем проклятые басуто будут следовать за нами по пятам даже в темноте. Они, разумеется, замедлят ход, однако тропа им хорошо знакома, ноги помнят каждую неровность. Хуже того, земля размякла после дождя, след колес легко прощупывается. Я огляделся. К северо-западу от нашей тропы шло ответвление, возможно, оно приведет нас в Лиденбург. Слева, всего в ста ярдах, высокий вельд заканчивался и спускался по склону к кустарниковой низине. Может, выбрать дорогу, которая уходит по широкой равнине на запад? Нет, тогда нас заметят за целую милю и не дадут сбежать. И потом, если мы спасемся от туземцев и вернемся в цивилизацию, придется рассказать всю правду о случившемся. Родд, конечно, получил по заслугам, однако убийство произошло на территории Трансвааля, что потребует тщательной проверки. К счастью, кроме нас, никто ничего не видел. Да, еще есть Футсек, возница, он запрыгнул в седло и был таков. Честно говоря, я ему ни капли не доверяю. Жутко даже представить Энскома на скамье подсудимых, с обвинением в убийстве, где мы с Футсеком даем показания перед бурским судом присяжных, весьма суровым к англичанам. И у них тело с пулей как улика. Вдруг я вспомнил тот явственный сон, в котором мне явился Зикали, и подумал, что в стране зулусов никого не станет волновать смерть Родда. Однако Зулуленд далеко, и есть лишь один способ попасть туда в обход Трансвааля — через землю свази. Благо среди народа свази нам нечего опасаться басуто, ведь эти племена страшно враждовали. Вдобавок мы с их королем и начальниками давние знакомые. Ведь я здесь постоянно торговал и мог притвориться, будто пришел вернуть себе должок. Правда, была одна загвоздка. Между Кечвайо, королем зулусов, и английским правительством мало-помалу нарастали трения. Верховный комиссар, сэр Бартл Фрер[278], даже собирался предъявить королю ультиматум. Мы окажемся в неловком положении, если его пришлют во время нашего пребывания у них в гостях. Хотя и в этом случае мне и моим спутникам нечего бояться, ведь я связан узами дружбы с зулусами всех сословий. Эти мысли мигом пронеслись в моей голове, пока я искал выход из положения. Советоваться с остальными было ни к чему, в подобных вопросах они словно дети. Я, и только я должен взять на себя ответственность и принять решение, больше некому. Надеюсь, не промахнусь. В следующую минуту я уже принял твердое решение. Подав Энскому знак следовать за мной, я проехал около ста ярдов на северо-запад, круто повернул на довольно каменистую полоску земли, повозка не отставала. Затем вернулся обратно тем же путем, стараясь запутать кафров, которые наверняка выслеживают нас по следам. Мы оказались на краю пологого склона, который уходил к кустарниковой саванне, пересекли ее и направились к опустевшему загону для скота, сооруженному из камней. В плодородной почве росли разнообразные деревья. Видно, это место оставили на произвол судьбы, как и прочие, когда в 1838 году правитель Мзиликази продвигался на север, уничтожая все на своем пути. Путь к загону оказался легким, ведь предыдущие поколения собрали для постройки камни со всей окрестности. В наступающих сумерках мы преодолевали склон. — Смотрите! — воскликнула Хеда и показала туда, откуда мы пришли. Вдали к небу поднимался столб пламени. — Дом горит! — Да, похоже на то, — согласился я, а про себя подумал: «Вот повезло, теперь старого Марнхема не вскроют». Кто совершил поджог, я так никогда и не узнал. Возможно, басуто, слуга Марнхема, или Футсек, а может, случайная искра на кухне вызвала пожар. Как бы там ни было, огонь весело пылал, ведь, кроме мрамора, в стенах дома хватало деревянной обшивки и соломы. Впрочем, лично я подозревал молодого слугу, он мог здорово испугаться, как бы на него не повесили убийство хозяина. Теперь с домом покончено, а вместе с ним кануло в небытие и прошлое Хеды. Еще вчера ее отец был жив, находился у Родда в рабстве и совершал преступления. Ныне от него осталась лишь кучка пепла, Родд мертв, а она и ее любимый свободны и перед ними открыты все пути. Хотелось бы верить, что они еще и в безопасности. Впоследствии Хеда призналась мне, что в ее голове в ту минуту родились те же мысли. Спешившись, я завел лошадь в загон через отверстие, бывшее некогда воротами. Внутри оказалось просторно. Вероятно, в давние времена тут держали скот какого-то вождя, чей город некогда возвышался на холме. Он был настолько велик, что растущие вокруг деревья не помешали мне поставить повозку вместе с лошадьми посередине. Вдобавок на благодатной почве густо росла трава, и, когда мы вынули удила, лошади стали пастись прямо в упряжке. Неподалеку бежал ручеек, рождавшийся из потока, который струился с вершины холма. Мы с Кетье, сильной женщиной, напоили их из ведра, висевшего на повозке. Затем в полнейшей темноте мы сами утолили жажду и поели. Велев служанке следить за лошадьми, чтобы они не шумели, я забрался в повозку, и мы втроем стали шепотом совещаться. Странные получились переговоры. Мы сидели лицом к лицу в кромешной тьме, но не видели друг друга, лишь однажды в небе вспыхнула зарница и осветила наши странные и бледные, словно у призраков, лица. О насущных и отнюдь нетривиальных опасностях я пока упоминать не стал, а лишь остановился на проблеме выбора, бежать ли нам в цивилизованный Лиденбург или в первобытную страну зулусов. Мой долг был показать наше истинное положение. — Короче говоря, — неспешно подытожил Энском, — если я правильно понял, в Трансваале меня схватят как убийцу и, возможно, осудят, а если мы спрячемся в стране зулусов, все, может быть, и обойдется. — По-моему, — прошептал я в ответ, — нас обоих схватят, если появится Футсек и даст показания. Правда, в этом деле есть и другие свидетели, Кетье хотя бы и, если уж на то пошло, Хеда. Разумеется, ее показания будут в нашу пользу, но для разъяснения дела судья задаст ей кучу всяких вопросов, а она пожелает на них не отвечать. Далее, в случае благополучного исхода, дело получит огласку в английской печати, что станет досадной неприятностью для вас и ваших родственников. В особенности учитывая тот факт, что вы, как я понимаю, намерены пожениться. — Думаю, я это переживу, — признался он откровенно, — пусть даже никогда не смогу вернуться в Англию. В конце концов, чего мне бояться? Я застрелил негодяя, исполняя свой долг. — Да, но вам придется убедить в этом присяжных, а они станут искать мотив преступления в прошлом Родда и в вашем настоящем, его и ваши отношения с одной дамой. А что же она сама думает? — О себе я не беспокоюсь, — ответила Хеда. — Но мне будет невыносимо выслушивать, как перемывают косточки моему бедному отцу. А потом они возьмутся за Мориса. Я не переживу, если его арестуют, а то и хуже. Поедемте в страну зулусов, мистер Квотермейн, а оттуда покинем Африку. Вы согласны, Морис? — А как думает сам мистер Квотермейн? — спросил Энском. — Он старше и мудрее нас, я доверяю его мнению. Я все взвесил и заговорил: — Порой попадаешь, как говорится, из огня да в полымя, не зная, какие напасти ждут впереди. Зулуленд как кипящий котел. Если разразится война, мы все можем погибнуть. С другой стороны, может, все и обойдется. Тогда вы доберетесь до залива Делагоа, сядете на корабль и вернетесь домой, если хотите держаться подальше от британских законов. Я же вынужден остаться в Африке и не могу взять на себя ответственность за ваш побег, ведь, если все сорвется, мне придется несладко. Однако, если вы предпочтете отправиться в Трансвааль или Наталь, учтите, что я пойду к первому же попавшемуся судье и расскажу ему правду обо всем. Я не смогу жить спокойно, постоянно ожидая, как бы мне не приписали участия в расстреле белого человека, и некому будет сказать слово в мою защиту. Возможно, меня оправдают, но репутация останется запятнанной навсегда. С другой стороны, в стране зулусов нет судей, которые подвергнут меня допросу, а если об этом деле станет известно, я всегда смогу оправдаться, что мы бежали туда от басуто. Теперь я пойду проверю, как там лошади, а вы тут потолкуйте и решите между собой, какой путь нам избрать. Я приму любое ваше решение и всеми силами помогу его осуществить. — С этими словами, не дожидаясь ответа, я слез с повозки. Проведав лошадей, которые щипали травку, до какой могли дотянуться, я дополз до стены загона, чтобы уж совсем не слышать их голосов. Стояла глубокая ночь, какая бывает только в Африке. Приближалась гроза, о чем говорили вспышки зарницы — ее предвестницы. Воздух был точно наэлектризован. Из обширной долины, покрытой кустарником, что лежала под нами, слышался дикий протяжный гул, видно, ветер гулял среди деревьев. А здесь, наверху, я его не чувствовал. Вдруг вдалеке молния пронзила небо. Гнев природы заставил мое сердце затрепетать от страха, и даже больше, чем наши насущные проблемы, хотя они были нешуточные. Ведь в эти часы над нами висела вполне реальная угроза расстаться с жизнью. Многие годы я каждый день встречаюсь с опасностями и уже свыкся с ними. Они, так сказать, постоянный пункт в моем меню. Как уже упоминал однажды, я фаталист. То есть верю, что Бог призовет меня к себе, когда пожелает, — если только Ему есть польза от такого жалкого, грешного создания. Никакие мои дела или планы ни на миг не отсрочат и не ускорят исполнение Его намерения. Разумеется, мой долг — бороться со смертью и избегать ее так долго, как только возможно, ибо в этом состоит часть Его плана. Мы все — часть великого узора, наша жизнь связана с жизнью других людей, поэтому жить — большая ответственность. Нет, мой страх сидел гораздо глубже. Впереди маячило нечто неизбежное и ужасное, в чем я пока не отдавал отчета, а тем более не понимал. Сейчас-то я во всем разобрался, но кто бы мог подумать, что судьбы многих тысяч людей зависели от решения тех двоих, совещающихся в повозке? Как я узнал в последующие дни, если бы Энском и Хеда решили отправиться в Трансвааль, то никакой зулусской войны могло и не быть, а следовательно, и восстания буров. Тогда изменился бы весь ход истории. Я стряхнул оцепенение и вернулся в повозку. — Итак? — прошептал я, но никто не отозвался. Тут же сверкнула молния. — Сколько ты насчитал? — спросила Хеда. — Девяносто восемь, — ответил Энском. — А я девяносто девять. В любом случае это не сто. Мистер Квотермейн, мы выбираем страну зулусов, если вы будете так любезны и проводите нас туда. — Договорились, а позвольте узнать, как ваше решение связано с этими подсчетами? — Понимаете, мы никак не могли договориться. Морис был за Трансвааль, а я — за Зулуленд. Поэтому мы решили, если молния сверкнет до того, как мы сосчитаем до ста, тогда поедем в страну зулусов, в противном случае — в Преторию. Здорово придумано, верно? — Отлично! — ответил я. — «Для тех, кто принимает решения таким образом». Честно говоря, не знаю, кто из них до такого додумался, да я и не спрашивал. Потом я вспоминал, как Энском подбросил монетку, когда у реки Элефантес мы гадали, доберемся ли до фургона. Помню, я спросил, как он может довериться монетке, и Энском ответил, что Провидение может воспользоваться любым предметом, даже монеткой, а он хочет дать ему, Провидению, шанс. Насколько же больше доводов он привел бы для вспышки молнии, которая со времен римского Юпитера и задолго до него считалась божественным проявлением. Сорок или тридцать поколений назад, что не такой уж большой срок, наши предки придавали большое значение поведению грома и молнии. Мы, безусловно, унаследовали все их инстинкты, равно как и суеверия о луне, дошедшие до нас с тех времен, когда она была предметом поклонения. Они так жили десятки, сотни и даже тысячи лет, так можем ли мы надеяться, что внешний лоск, который мы между собой договорились называть цивилизацией, изгладит человеческие инстинкты, старательно им скрываемые? Впрочем, во времена катаклизмов, подобных войнам, маски частенько спадают. Ответ мне неизвестен, хотя, на мой взгляд, эти молодые люди никогда не думают о последствиях. По примеру древних они действовали по наитию, тяга к общению с высшими силами по приметам и символам, вероятно, и сблизила их. А может, Энском решил, раз с монеткой получилось в первый раз, почему бы не дать Провидению второй шанс. В таком случае он снова попал в точку. Черт возьми! Откуда мне знать его мысли? Я упомянул об этом лишь из-за большой удачи, которая последовала за этим обращением к небесным «книгам Сивилл». Мои размышления, если они действительно были реальны, прервала внезапно разразившаяся буря. Как водится в этих местах, порывистая и сильная. Небо вдруг оживилось, раскаты грома прерывали неистовый рев ветра, молнии полыхали повсюду. Одна ударила в дерево рядом с загоном, и огонь, казалось, растворил его в своих объятиях, оставив лишь столб пыли над землей. Лошади страшно перепугались и притихли, к счастью, они всегда ведут себя так в подобных случаях. Пошел дождь, настоящий ливень, и я, находясь с упряжкой снаружи, промок до нитки. Однако вскоре капли дождя поредели, буря отступила. Вдруг между отголосками грома с вершины холма послышались голоса. Лошади уже успокоились, и я прокрался среди деревьев поближе к тому месту, где, по-видимому, притаились чужаки. Разумеется, голоса принадлежали басуто, нашим преследователям. Что еще хуже, они спускались по склону. Стена загона скрывала меня почти до подбородка. Сняв шляпу, я просунул голову в трещину между двух камней и хорошенько прислушался. Мужчины говорили на сисуту. Первым заговорил, как видно, старший: — Старый шакал Макумазан опять от нас улизнул. Он вернулся по своему же следу и погнал лошадей вниз по склону холма к нижней тропе в долину. Я чувствую колею, оставленную колесами повозки. — Ты прав, отец, — ответил другой, — но мы схватим его и остальных внизу, если доберемся туда до восхода луны. В темноте и в такой дождь они не смогут двигаться быстро. Позволь я пойду впереди и поведу тебя, ведь ты знал каждое дерево и каждый камень на этом склоне, когда пас скот, а я был еще ребенком. — Будь по-твоему, — согласился старший. — Но теперь, когда гроза прошла, ничего не видно. А я поклялся обагрить копье кровью Макумазана, вновь посмеявшегося над нами, и не отступлюсь, пока не поймаю его. — Лучше оставить его в покое, — подал голос третий. — По всей стране ходят легенды, будто удача отвернется от того, кто попытается поймать Бодрствующего в ночи. О, он как леопард, нападает и бесследно исчезает. Клыки его перегрызли не одно горло. Отпустим его, а иначе нас постигнет судьба белого доктора, который и послал нас на эту охоту. У нас его фургон и скот, и будем довольны этим. — Я буду доволен только тогда, когда Макумазан уснет навсегда, — ответил старший. — Он застрелил моего брата. И что скажет Сикукуни, если мы позволим ему уйти, а он приведет против нас свази? Да и белая дева нам нужна как заложница, если англичане снова вздумают напасть. Давай, веди нас. Послышалась возня, пока второй из них вставал впереди. Вереница двинулась вперед. Скоро они оказались в паре шагов от меня. Действительно, их главный почти поравнялся со мной, и тут, как назло, он споткнулся и налетел на стену. — Тут старый загон, — сказал он. — А вдруг в нем прячутся белые крысы? Мурашки побежали у меня по спине. Только бы лошади не заржали в эту минуту. Ведь шорох дождя не скроет даже малейший шум! Я не смел шелохнуться, боясь выдать свое присутствие. Кафры стояли так близко, что я чувствовал их запах и слышал, как капли дождя стучат по их голым торсам. Тихонько я достал мой охотничий нож. В тот же миг на прощанье сверкнула последняя молния и высветила щекастое лицо главного басуто со всем рядом с моим, он опирался о стену, а потому смотрел в мою сторону. В призрачной синеве он увидел мою физиономию с горящими глазами, торчащую между камней. — В стене голова мертвеца! — закричал он в ужасе. — Это призрак… Последнее слово уже готово было сорваться с его языка, и в эту минуту я со всей силы вонзил нож ему в горло. Он упал прямо на руки своих спутников. Тут же послышался топот множества ног, в ужасе убегающих вниз по склону. Что с ним сталось, я не знаю, а если остался жив, наверняка согласился со своим соплеменником, будто Макумазан, Бодрствующий в ночи, или его призрак, «как леопард, нападает и бесследно исчезает», и «удача отвернется от того, кто попытается его поймать». Говорю «призрак», потому как я уверен, он принял меня за дух мертвеца. Да и немудрено: мое бледное промокшее лицо, верно, так и выглядело среди камней в призрачно-синем отблеске молнии. Итак, они убежали, а было их человек сорок, не меньше. Я вернулся к повозке, где под непромокаемым верхом уютно устроились мои спутники. О случившемся я умолчал, ведь эти молодые люди в таких делах все равно что дети малые. В мокрой одежде холод пробирал до костей, и я отхлебнул коньяку. Затем, пока не взошла луна, я снова вставил лошадям удила — в темноте это оказалось довольно трудно. Наконец небо прояснилось и появилось ночное светило, буря как раз утихла, дождь перестал. Тогда я взял ведущую лошадь под уздцы и направился с повозкой на вершину холма. Подъем оказался не так-то прост, и я велел Кетье идти позади повозки с моей лошадью. Кругом никого не было, и мы двинулись дальше. Я ехал в сотне ярдов от повозки, зорко оглядывая окрестности на случай засады. К счастью, вельд был как на ладони, только голая холмистая равнина. Вначале мне почудилось, будто на одном гребне виднеется голова человека, но оказалось, что это всего лишь стадо антилоп-прыгунов, пасущееся на островках травы. Я им страшно обрадовался, выходит, по этой дороге еще не проходили люди. Мы ехали всю ночь, следуя тропой кафров, пока различали ее в темноте, а потом воспользовались моим компасом. Я знал, где течет Крокодиловая река, поскольку уже дважды пересекал ее. Теперь я искал глазами высокий холм, он возвышался где-то по ту сторону реки, в полумиле от потока, на земле свази. Наконец на фоне неба я с радостью заметил его неясные очертания и бросился туда. Примерно полмили я скакал по дороге, проложенной бурами для торговли или войны с землей свази. Река была совсем рядом, и я велел Энскому пришпорить уставших лошадей. Еще до рассвета мы подъехали к берегу. О ужас! Река разлилась после бушевавшего ночью ливня, и переправа теперь стала опасной затеей. И впрямь, какой-то одинокий туземец кричал нам с того берега, чтобы мы не вздумали переплывать реку, а иначе утонем. — Остается только ждать, пока вода спадет, — сказал я Энскому, а обе уставшие женщины спали. — Так-то оно так, — согласился он, — если только басуто… Я оглядел склон до самого подножия, откуда мы пришли. Никого. Приподнялся в стременах и взглянул на другую колею. Здесь она примыкала к дороге и бежала от кустарниковой саванны. Взошло солнце и разогнало туман, окутавший мокрые деревья. Среди ветвей замелькали огоньки. Без сомнения, их отбрасывали наконечники копий, проступавших сквозь пелену. — Эти черти следовали за нами понизу, — сообщил я Энскому. — Прошлой ночью я слышал, как они подобрались к старому загону. Они шли по склону холма по нашим следам, но в темноте потеряли их среди камней. Он присвистнул и спросил, как нам теперь быть. — Вам решать. По мне, так лучше переплыть реку, чем встречаться с басуто, — ответил я, взглянув на спящую Хеду. — Аллан, а может, вернемся обратно? — Лошади не выдержат, да и кто знает, может, там их еще больше, — возразил я и снова взглянул на Хеду. — Сложный выбор. Удивительно, как женщины усложняют жизнь. Наверное, потому, что становятся ее смыслом. — Он подумал немного и решился: — Давайте одолеем реку. Если мы потерпим неудачу, смерть наступит быстро. Лучше утонуть, чем быть пронзенным копьем. — Или оказаться в плену у ненавидящих нас дикарей, — добавил я, не отводя глаз от Хеды. И приступил к делу. В уздечках выносных лошадей было с запасом кожаных ремней. Я их расплел и крепко связал вместе свободные концы. Затем привязал получившийся длинный ремень к уздечке моей кобылы, а с другой стороны завязал петлю и продел в нее правую руку. — Я пойду первым и поведу лошадей, а вы следуйте за мной, чего бы вам это ни стоило, даже если их собьет с ног. В моей кобыле я уверен, она не подведет, надеюсь, и остальные от нее не отстанут, как прошлой ночью. Разбудите Хеду и Кетье. Энском кивнул, побледнев. — Хеда, дорогая, — позвал он, — простите, что разбудил вас. Мы должны переправиться через реку. Дно здесь неровное, так что вы и Кетье держитесь крепко. Не бойтесь, вы в безопасности, будто в церкви. «Бог не осудит его за эту ложь», — подумал я, затянул подпругу, забрался в седло и, вцепившись в уздечку, двинулся с места в карьер, а Энском пришпорил четверку. Мы спустились к краю бурлящего потока. С другого берега свази махали руками и убеждали нас вернуться. Я ступил в воду, надеясь, что остальные смело последовали за моей кобылой. Мы благополучно преодолели двадцать ярдов против течения. Вдруг моя лошадь поплыла. — Пришпорьте коней, не дайте им повернуть! — крикнул я Энскому. Проплыв десять ярдов, я оглянулся. Вся четверка плыла за нами, а повозка качалась, как лодка в бурном море. Повод натянулся, лошади норовили развернуться! Я резко дернул, подбадривая их окриками, а Энском, превосходный возница, изо всех сил старался направлять их вперед. К счастью, они снова развернулись и ринулись к другому берегу, промокшая повозка поплыла следом. А ну как перевернется? Этот вопрос не давал мне покоя. Прошло пять секунд, десять, повозка оставалась на плаву. Увы, я как в воду глядел. Моя кобыла едва коснулась дна, и я надеялся на лучшее. Она рвалась вперед, поминутно сопротивляясь течению. Запряженные в телегу лошади ощутили наконец почву под ногами, — казалось, мы уже спасены. Однако то ли узел на кожаном ремне развязался от сырости, то ли он лопнул, кто знает, и, почуяв слабину, пристяжные наскочили на коренников. Лошади сбились в кучу, а повозка плыла прямо на них. Кетье кричала, Энском работал во всю кнутом. Я соскочил с седла, погрузившись по самый подбородок, и бросился к пристяжным. Схватил их за удила, пытаясь удержать. Увы, у меня недоставало сил, и мы оказались на волосок от гибели. Не окажись на другом берегу храбрых людей из народа свази, так бы и окончились наши дни. Восемь человек бросились в воду, держась за руки, и где вплавь, а где почти пешком ухитрились до нас добраться. Они схватили лошадей за головы и растащили, а Эском тем временем орудовал кнутом. Последний рывок, и колеса снова коснулись дна. Очень скоро мы были в безопасности на берегу, куда моя кобыла добралась первой, а я лежал, переводя дух, отплевываясь и вознося благодарственные молитвы.Глава 10
НОМБЕ
Свази тряслись от ненавистного им холода. Они отряхнулись, как мокрые псы, столпились вокруг меня и с любопытством разглядывали. — Эге, да ведь это Макумазан, — заметил старший и, видимо, главный. — Бодрствующий в ночи, давний друг всех черных. Верно, духи наших предков хранили нас, пока мы рисковали своими жизнями ради бура и полукровки. — Свази, надо сказать, недолюбливали буров по весьма уважительной причине. — Да, я Макумазан, — садясь, подтвердил я. — Как же ты, известный своей мудростью, вдруг так поглупел? — спросил он, указывая на бурную реку. — Зачем же ты выставляешь себя глупцом, говоря, что я поглупел, если это не так и ты это знаешь? — возразил я. — Посмотри на тот берег и все поймешь. Там как раз собралось более пятидесяти запоздавших басуто. — Кто это? — Люди Сикукуни, думаю, вы знакомы. Они преследовали нас всю ночь, да и раньше, уж очень им хочется нашей смерти. А еще они украли наших волов, ровным счетом тридцать два прекрасных вола, и я подарю их твоему королю, если он отберет их у басуто. Теперь-то, надеюсь, ты понял, как мы оказались в бушующей Крокодиловой реке. При упоминании людей Сикукуни туземец весь напрягся, как терьер, учуявший крысу. Видно, этот старший со своим отрядом охранял тут границу. — Что?! — взревел он. — Да как эти грязные псы со своими копьями посмели близко подойти к нашей границе? Ведь мы им преподали хороший урок! — Он кинулся в воду и,потрясая копьем, закричал: — Ну погодите, блохи из меховой накидки Сикукуни, сейчас я до вас доберусь и раздавлю двумя пальцами. Или Макумазан возьмет свою винтовку. Опустите ваши ружья, иначе за каждый выстрел я перережу глотки десятерым басуто, когда мы в скором времени к вам нагрянем. — Помолчи, дай мне сказать, — начал я. И крикнул стоящим на том берегу, мол, пусть позовут их жирного главаря, ибо я буду говорить только с ним. Оказалось, он отстал, так как захворал, увидев призрака. — А, призрак, продырявивший ему горло? Да ведь это был я, и так будет с каждым, кто посмеет поднять руку на Макумазана и его друзей. Не ты ли прошлой ночью называл меня леопардом, который нападает в темноте, кусает и снова скрывается? — Да, Макумазан! — крикнул мой собеседник. — Мы знаем, что ты — призрак в стене, но не нападай на нас больше. О, это тот мертвец, белый доктор послал нас в безумную погоню. — Вспомни об этом, когда я вновь появлюсь посреди ваших холмов. Теперь уходи и передай Сикукуни, что англичанин, которого он якобы обратил в бегство, скоро вернется вместе с этими свази. Тогда вождь простится с жизнью, его город сгорит, а из племени никого не останется в живых. Уходите не мешкая, вода в реке, куда вы заманили нас, спадает, а воины свази собираются с вами поквитаться. Басуто даже не попытался ответить, а его люди не стали в нас стрелять. Они бросились наутек, как стая трусливых шакалов, под градом насмешек свази. Все-таки они остались довольны и торжествовали, внушив нам ужас и украв фургон и тридцать два вола. Пару лет спустя мне помогли отплатить им за пережитое нами и даже вернуть нескольких животных. Когда басуто удрали, свази проводили нас к туземному поселку в пяти милях от реки. Заранее отправили туда гонца с приказом подготовить хижину и угощение к нашему прибытию. Мы добирались туда из последних сил, так все были утомлены, да и наши лошади тоже. Пока шли, солнце пригревало. Наконец прибыли, я помог Хеде и Кетье слезть с повозки — бедняжки едва передвигали ноги — и проводил их в хижину для гостей. Внутри оказалось чисто и уже ждало щедрое угощение. Женщинам принесли меховые накидки — укутаться, пока мокрая одежда не просохнет. Доверив их заботам двух местных старух, я пошел взглянуть, как там Энском, ведь он был почти беспомощен, да и снять с лошадей упряжь. Их поместили в загон для скота, где бедные животные лежали без сил и даже не притронулись к приготовленному для них фуражу. Я оставил наш груз на хранение главе поселка, и славный старикашка, которого я прежде не видел, проводил меня к хижине, стоящей по соседству с пристанищем наших женщин. Мы выпили маас, скисшее молоко, поели немного баранины — усталость совсем притупила голод, стянули с себя мокрую одежду и оставили на солнце для просушки. — Мы были на волосок от гибели, — заметил Энском, завернувшись в меховую накидку. — Это верно, я даже подумываю, не приставлен ли к вам надежный ангел-хранитель, знакомый со здешними опасностями. — Да, старина, и на этой земле он всем известен под именем Аллан Квотермейн. После этого я отправился спать и провалялся в постели целые сутки. И немудрено, ведь я два дня и две ночи провел на ногах, почти не сомкнув глаз, страшно вымотался и сильно перенервничал. Проснувшись, я первым делом увидел Энскома при полном параде. Он энергично чистил мою одежду щеткой из своего несессера. Помнится, эта затейливая вещица из крокодиловой кожи, флакончики с серебристыми крышечками и бритвы с ручками из слоновой кости нелепо смотрелись в хижине кафров. — Пора вставать, сэр, ванна готова, — возвестил он весело, указывая на бутылочную тыкву, полную горячей воды. — Надеюсь, сэр, вам спалось так же хорошо, как и мне. — А вы, как видно, в прекрасном настроении, — заметил я, вставая, и принялся умываться. — Да, сэр, а почему бы и нет? У Хеды все хорошо, я уже виделся с ней. Эти свази — славные парни. Кетье знает их язык, и с ее помощью мы получаем все, что душе угодно. Беды позади, старик Марнхем мертв и, надо полагать, кремирован, Родд, будем наде яться, отправился на Небеса, басуто удрали. Утро прекрасное и теплое, и нас ждет обильный завтрак. — Я готов съесть две порции, просто умираю с голоду. — Лошадям обеспечен отдых и корм, они валятся с ног от усталости, а силки немного перетерлись. Я ходил в загон, вернее, меня проводил туда один парень с дурным запашком. Знаете, старина, мне кажется, будто не было и в помине ни басуто, ни почтенного Марнхема, ни отвратительного Родда, и они всего лишь плод нашего воображения или ночной кошмар. Вот ваша рубашка, к сожалению, я не успел ее постирать, но она фланелевая и как следует выжарилась на солнце, поэтому выглядит вполне сносно. — Хеда, во всяком случае, с нами, — перебил я его глупую болтовню, — и она не ночной кошмар и не видение. — Да, слава богу, — серьезно согласился Энском. — Ох, Аллан, я уж думал, утонет она в той реке, а без нее я бы лишился рассудка. И впрямь, пока я тащил и стегал этих лошадей, чувствовал, что вот-вот сойду с ума. — Ну вот, она жива, а утонули бы вы вместе. Не будем больше об этом. Главное, Хеда в безопасности, и мы не дадим ее в оби ду, ведь вы еще даже не женаты, мой мальчик, а на вас свет клином не сошелся. Но все-таки мы живы и здоровы, чего же больше, так будем благодарны за это Всевышнему. Одевшись и натянув сапоги, которые Энском натер жиром, за неимением ваксы, я выбрался из хижины. Всего в нескольких ярдах от нас в тени соседней хижины на выдубленной шкуре, заменявшей стол, сервировали завтрак, а Кетье готовила поблизости. Там я нашел и Хеду, она была немного бледна и печальна, но выглядела вполне здоровой и отдохнувшей. Да и оделась в прелестное платье, видимо, достала из своей скудной поклажи. В нем девушка была очаровательна, как, впрочем, и всегда. К тому же она отличалась безукоризненными манерами. Перво-наперво этим утром Хеда решила горячо поблагодарить меня за все, что я сделал для них с Энскомом, за неоднократное, по ее словам, спасение их жизней. — Ну что вы, милая барышня, — ответил я нарочито грубо, — не обольщайтесь на свой счет, я спасал свою шкуру. Хеда лишь мило улыбнулась, как могла только она, тряхнула головкой и заметила, что ее мне не обмануть, как кафров. Пришла дородная Кетье с едой, и мы принялись уписывать за обе щеки, я-то уж точно. Нет нужды подробно описывать поездку по земле свази, хоть это довольно-таки любопытно. Мы даже чувствовали себя в безопасности, насколько это возможно среди туземцев, нас везде принимали радушно. Итак, я продолжаю свой рассказ. В королевской хижине мы оказались спустя несколько дней, приходилось ехать не спеша, местность затопила река, дороги стали непроходимы, да и лошадей следовало поберечь. Там я встретил бура, судя по всему, он промышлял охотой — на законном основании. От него я узнал, как плохи дела в Зулуленде, вот-вот разразится война между зулусами и англичанами. Кечвайо, король зулусов, разослал вестников с целью настроить басуто и другие племена против белых людей. В итоге Сикукуни уже совершил набеги на Пилгримс-Рест и Лиденбург. Я притворился удивленным и простодушно спросил, не успел ли он чего-нибудь натворить. Бур рассказал об украденном скоте, двух убитых европейцах, если не больше, и сгоревшем дотла доме. Однако добавил, что не знает точно, кафры убили тех европейцев или другие белые, с которыми они чего-то не поделили. Во всяком случае, поговаривают, будто судья Барбертона, конная полиция и вооруженные местные жители выехали с целью разобраться в этом деле. Затем мы распрощались. Король Умбандина, перебрав с коньяком, подарком от бура, выдал ему разрешение на охоту, и тот торопился унести ноги, пока король не протрезвеет и не передумает. В самом деле, этот бур так торопился, что даже не спросил, какие дела привели меня в землю свази, не задумался, один ли я или со спутниками. Разумеется, он не заподозрил мою связь с заварушкой вокруг басуто, однако я встревожился из-за предстоящего расследования смерти Марнхема и Родда. Мне стало не по себе при мысли, что бур услышит что-нибудь по пути и смекнет, в чем дело. Впрочем, в глубине души я не слишком его опасался. Свази поведали мне подобную историю о вторжении зулусов. Старик Индуна, член Совета, мой старый знакомый, рассказал, как Кечвайо посылал к ним вестников и просил стать их союзниками в войне против белых людей. Однако король и советники отказали, они называли себя детьми королевы — это не совсем так, ведь они никогда не находились под британским владычеством — и «не желают кусать ее ноги, если она собирается сражаться руками». Я выразил надежду, что свази никогда не поступят вопреки этим красивым словам, и сменил тему. Вновь встал вопрос: стоит ли нам отправиться в Наталь или поспешить в Зулуленд? Слухи о предстоящей войне подталкивали к первому варианту, а история бура о расследовании склоняла чашу весов ко второму. Передо мной возникла дилемма, а Энском и Хеда, как обычно, решили положиться в этом вопросе на меня. Сдается мне, на сей раз Наталь одержал бы победу, если бы не один случай. Я уже почти решил рискнуть и сделать запрос о смерти Родда, к тому же эта парочка смогла бы там пожениться. Поскольку я был им вместо отца, решил, что с этим тянуть не следует — хотя бы освободят меня от обязательств. Там мне проще позаботиться о наследстве Хеды и отделаться от завещания ее отца. Оно и так уже слегка пострадало в Крокодиловой реке, благо я догадался, покидая дом, спрятать бумагу в несессере Энскома. А случилось вот что. Как-то утром я вылез из повозки, где обычно очень чутко дремал, сторожа ценности, — ведь мы везли украшения Хеды и немалую сумму в золотых слитках. Туземец сообщил, что меня желает видеть какой-то вестник. Я спросил, кто он и откуда пришел. Оказалось, явилась знахарка по имени Номбе из страны зулусов и утверждает, будто я знаю ее отца. Я велел привести ее ко мне, гадая, кто же она такая и от кого пришла. Зулусы обычно не делают женщин посланцами. Однако я не сомневался, как она выглядит. Отвратительная старуха, жутко воняющая прогорклым салом и еще чем похуже, вся в потертых змеиных шкурах и человеческих костях. Вскоре она появилась в сопровождении свази. Тот усмехнулся, догадавшись о моих мыслях. Я не верил своим глазам, думал, не снится ли мне все это. Вместо старой толстой карги, изанузи, передо мной стояла высокая изящная девушка. У нее была довольно светлая кожа, кроткий взгляд темных глаз, но лицо, замечу, лишенное привлекательности. На губах играла загадочная, будто приклеенная улыбка. Двух мнений быть не могло, она в самом деле знахарка. В волосы она вплела мочевые пузыри, на шее висело ожерелье из зубов бабуина, а талию опоясывал кушак с притороченными мешочками всяких снадобий. Мы разглядывали друг друга, я решил не заговаривать первым. Наконец, изучив меня с ног до головы, она в знак приветствия подняла вверх руку с открытой ладонью. — Точно, как на картинке, — произнесла девушка нежным, проникновенным голосом, — значит, передо мной господин Макумазан. Мне это показалось странным, не припомню, чтобы кому-то в Зулуленде оставлял свою фотографию. — Не нужно обладать магией, знахарка, чтобы это понять, но где ты видела мою фотографию? — Далеко отсюда. — А кто ее тебе показал? — Тот, кого ты знал. О Макумазан, задолго до того, как я вышла из Мрака. Он зовется Открыватель, а с ним еще один, кого ты знал в прежние времена: Тот, кто скрылся во тьме. По неведомой причине, я не решился спросить имя Того, кто скрылся во тьме, хоть и чувствовал, что она ждала вопроса. Лишь заметил с напускным безразличием: — Разве Зикали еще жив? Ему давным-давно полагается умереть. — Ты сам знаешь, Макумазан, что он жив. Как он мог уйти, не завершив начатое им дело. Кроме того, вспомни его слова в последнюю четверть луны, перед новолунием. То сновидение, Макумазан, он послал тебе через меня, хотя ты меня и не видел. — Тьфу ты! — воскликнул я. — Брось свои россказни о сновидениях. Кто в них верит? — Ты, — ответила она спокойнее прежнего. — Оно привело тебя и твоих спутников сюда. — Врешь ты все! — грубо ответил я. — Сюда нас заманили басуто. — Бодрствующему в ночи угодно обвинить меня во лжи, пусть так и будет, — ответила девушка и улыбнулась шире. Затем она скрестила руки на груди и умолкла. — Ты — посланница. Провидица, читающая по пыльной фотографии, вестник судьбоносных сновидений, — съязвил я. — Чье послание передали твои уста и каков его смысл? — Мои духовные владыки отправили послание устами учителя Зикали, а он передал его тебе устами твоей рабы, знахарки Номбе. — Ты такая молодая и уже знахарка? — спросил я, отдаляя минуту, когда мне придется выслушать ее послание. — О Макумазан, я слышала голоса, чувствовала боль в спине, целый год пила снадобья черных и снадобья белых, меня посещали духи, я видела тени живых и мертвых, ныряла в реку и достала со дна змею, видишь, вот ее шкура. — Она распахнула накидку и показала шкуру змеи, видимо черной мамбы, обернутую вокруг ее стройного тела. — Я оставалась в дикой пустоши одна и прислушивалась к голосам, сидела у ног моего учителя, Открывателя, заглядывала в будущее и впитывала его мудрость. Так что я в самом деле знахарка. — Что ж, после таких испытаний твоя мудрость сравнится лишь с твоей красотой. — Однажды, Макумазан, ты уже говорил деве из моего народа о том, как она красива, и это погубило ее. Пусть та кончина и была славной. Больше не говори о моей красоте, но мне приятно, что ты так думаешь, ведь ты знал многих женщин и тебе есть с кем меня сравнить. — Она немного смутилась и потупила взор. Первая человеческая реакция, и я обрадовался, найдя в ее броне слабое место. Более того, с той минуты она стала мне другом. — Будь по-твоему, Номбе. Приступим к посланию. — Мои духовные владыки передали слова устами Зикали, подобно тому, как музыкант извлекает музыку из камышовой дудочки. Они сказали… — Бог с ними, — перебил я. — Главное, что сказал Зикали? — Что ж, Макумазан. Вот слова Зикали: «О Бодрствующий в ночи, приближается время, когда с Тем, кому не следовало бы родиться, случится так, словно он никогда и не рождался, а затем он восторжествует. Но сначала ему нужно многое успеть, и ты сыграешь в его замысле важную роль, как он и предупреждал триста лун тому назад. Об этом он расскажет тебе позднее. Макумазан, не получил ли ты видение, когда лежал без сна в доме из белого камня, ныне сгоревшего дотла? Я, Зикали, послал тебе видение посредством моего дитя, Номбе, и ее искусства и направил в помощь духа, он укажет ей правильный путь. Иди за ней, Макумазан, и ты преуспеешь. А если изберешь иной путь и решишь вернуться в город белых, тебя и твоих спутников убьют — как, не важно. Вот я говорю тебе устами Номбе, откажись от замысла идти в Наталь, ибо, поступив так, ты и твои спутники найдете там лишь стыд и огорчения из-за убитого в лесном болоте белого доктора, а для тебя такой исход горше смерти. В Натале тебя и твоих спутников схватят и вернут в Трансвааль на судилище перед человеком, волосы у которого, как лошадиная грива, выкрашенная в белый цвет. Если же ты отправишься в землю зулу, эта опасность минует, поскольку назревают великие дела, а о подобных пустяках никто более и не вспомнит. Я, Зикали, не лгу и обещаю тебе, как ни велика опасность в земле зулу для неоперившихся птенцов, которых ты, старый козодой, спрятал под свое крыло, что все же под конец они останутся невредимы. Я говорил тебе о них в твоем сне, о белом господине Маурити и белой госпоже Хеддане, они простирают руки навстречу друг другу. Я жду тебя в Черном ущелье, моя дочь Номбе проводит тебя. Король Кечвайо тоже будет рад встрече с тобой и еще кое-кто, чье имя я умолчу. Я сказал свое слово. Теперь выбор за тобой». — Пере дав это послание, Номбе безучастно застыла с неизменной улыбкой. — Откуда мне знать, что тебя послал Зикали? Может, это ловушка, а ты приманка. Тогда из складок своего балахона девушка достала нож и протянула его мне: — Учитель сказал, ты его узнаешь и поверишь, что я пришла от него. Он велел напомнить, что однажды вырезал этим ножом фигурку и отдал ее тебе в хижине Панды. Фигурка была завернута в волосы женщины, и ты до сих пор хранишь ее у себя. Я взглянул на нож и сразу его узнал. Этот шведский нож с деревянной рукояткой был со мной в первом путешествии по Африке. Мой подарок Зикали по возвращении в страну зулусов, накануне междоусобицы принцев. Деревянную фигурку, разумеется, я тоже прекрасно помнил. Женщину звали Мамина, она стала при чиной распри, а те волосы некогда вились по ее плечам. — Тебя действительно послал Зикали, — признал я, вернув нож, — но почему ты назвалась его дитём, ведь он слишком стар и не годится тебе в отцы? — Учитель сказал, что моя прабабушка была его дочерью, поэтому я его дитя. Теперь, Макумазан, я ухожу поесть со своими людьми, ведь со мной пришли слуги. После этого передам весть королю свази — сейчас я не могу поговорить с ним, ибо он еще пьян от напитка белых людей. И тогда я буду готова вернуться с тобой в землю зулу. — Номбе, я не говорил, что собираюсь туда. — Твое сердце уже в пути, Макумазан, и ты должен следовать его зову. Эта фигурка, вырезанная твоим ножом из обрубка дерева умзимбити, с белым человеческим сердцем в одной руке, вовсе не живая и не заколдованная, разве она не завладела всем твоим существом? Макумазан, не потому ли ты до сих пор не решился сжечь ее? — Давно надо было от нее избавиться, — проворчал я сердито. Однако, нанеся мне удар, она сверкнула глазами, развернулась и ушла. Умная женщина, да и обучили ее как следует. Что ж, Зикали вовсе не глупец, а девушка наверняка пешка в его игре. О да, она, вернее, он не заблуждается, моя душа лежит к стране зулусов, но по иной причине. На самом деле я не хотел пропустить, чем завершится борьба колдуна против деспота и его хозяев. Итак, все хорошенько обсудив, мы почли за лучшее отправиться в Зулуленд, тем более там нас наверняка радушно примут. В тот же день Номбе повторила свое приглашение Энскому и Хеде, подтвердив, что в стране зулусов им нечего опасаться. Забавно было наблюдать знакомство Номбе с Хедой. Только мы позавтракали, появилась знахарка. Встав из-за стола, Хеда встретилась с ней лицом к лицу. — Мистер Квотермейн, это и есть ваша ведьма? — спросила она весело. — Да, впечатляет. Я ее себе немного иначе представляла. А все-таки она меня немного пугает. Тогда Номбе спросила: — Макумазан, что обо мне сказала инкози-каас? — То есть женщина-вождь. — То же, что и я, она ожидала увидеть уродливую старуху, а ты молода и красива. — Все мы юны, прежде чем состариться, Макумазан, и в свой срок станем уродливы, даже инкози-каас. Но она еще сказала, что боится меня. — Номбе, ты понимаешь по-английски? — Нет, но я читаю мысли по глазам, а взгляд инкози-каас красноречив. Скажи, что ей не нужно меня бояться, мы даже можем стать друзьями, хоть она и принесет мне несчастье. Вряд ли следовало, но, учитывая тревогу Хеды, я перевел ответ Номбе, опустив последнюю фразу. — Передайте ей мою благодарность, ведь у меня почти нет друзей. Больше я не буду ее бояться. Я снова перевел, а Номбе в ответ протянула руку. — Скажи, пусть не брезгует, она чистая. На моих руках нет крови человека. — Тут она многозначительно глянула на Хеду. — Пусть у нее белая кожа, а у меня черная, но и я из благородного рода, племени воинов, не привыкших к праздности. Мы одного возраста, она красива, а я мудра и тоже не лишена дарований. Вновь я выступил переводчиком, на сей раз для Энскома, ведь Хеда неплохо понимала язык зулусов, хоть и притворилась, будто не поняла ни слова. Девушки пожали друг другу руки. Эта сцена позабавила Энскома, а я удивлялся, чувствуя в ней некую напряженность и недосказанность, будто здесь крылась какая-то тайна, неведомая мне. — Этот вождь ей нравится? — спросила Номбе, пристально вглядываясь в Энскома, когда Хеда покинула нас. — Что ж, он храбр, особенно в минуту опасности, и не так прост. И в мире, где родился, должно быть, займет высокое положение. Но, Макумазан, почему она выбрала его, когда встретила вас вместе? — Номбе, ты ведь только что назвала себя мудрой, — улыбнулся я. — А сдается мне, ты обыкновенная хвастунья, как и прочие, подобные тебе. Разве ты не разглядела седых волос под моей шляпой и не знаешь, что юность предпочитает равных? — Порой так случается, Макумазан, если их разум стар, поэтому я люблю духов, они древнее гор, и их слугу Зикали. Он был молод, когда зулусы еще не стали народом, и до сих пор год за годом накапливает мудрость, как пчела по капле собирает мед. Запрягай лошадей, Макумазан, я закончила свои дела и готова отправляться в дорогу.Глава 11
ЗИКАЛИ
Спустя десять дней я очутился у входа в Черное ущелье, логово колдуна Зикали. Путешествие в страну зулусов прошло скучно и без происшествий. Как ни странно, по пути нам попалось не так много местных жителей. Как будто население подверглось неожиданному истреблению. Даже проходя мимо крупных деревень, мы никого не встретили. Я спросил у Номбе, что бы это значило. Она и три ее молчаливых спутника служили нам проводниками. Один раз она сказала, мол, люди ушли на поиски пищи, так как сезон выдался засушливый и неурожайный, а в другой раз — что их созывают в королевскую резиденцию, близ Улунди. Так или иначе, людей не было, а те, кто изредка попадался, с любопытством нас разглядывали. Причем, кажется, им запретили вступать с нами в разговор. Хеда оставалась в повозке, и Номбе настояла на том, чтобы опустили задний край брезента и прикрыли повозку одеялом со стороны Энскома, сидящего на козлах. Вероятно, с целью спрятать девушку от посторонних глаз. Вскоре, когда мы ступили в страну зулусов, Номбе попросилась в повозку к Кетье и Хеде, ссылаясь на усталость от долгого пути, на самом же деле она просто не спускала с них глаз. Мы ехали непроходимыми тропами, останавливались на ночь в безлюдных местах, где нас неизменно ждало угощение. Надо полагать, не случайно. Удалось перекинуться парой слов с давним знакомым. Он меня тоже узнал, спросил, что на сей раз привело меня в землю зулу. Узнав о визите к Зикали, посоветовал остерегаться его. Вдруг нас прервали, появился слуга Номбе и сделал знак моему собеседнику. Я даже не успел ничего понять, как тот мигом исчез, оставив меня в недоумении. Нас будто изолировали от внешнего мира, однако на мой вопрос Номбе лишь улыбнулась: — О Макумазан, об этом ты должен спросить Зикали. Я ничего не знаю и делаю только то, что велел Учитель. Он ведь знает, как лучше. — Я подумываю убраться из земли зулу, — возразил я сердито, — в саванне, куда ты ведешь нас, царит лихорадка, чего доброго, болезнь или мухи цеце сгубят лошадей. — Макумазан, мне неведомо, какие люди пользуются дорогой, указанной Учителем, и все же послушайтесь меня и не пытайтесь покинуть землю зулу. — Хочешь сказать, мы в ловушке? — В стране полно солдат, а все белые давно сбежали. Поэтому, даже если тебя самого и отпустят, — ведь зулусы любят Макумазана, — твоим спутникам, возможно, придется остаться, и боюсь, они уснут вечным сном. Мне, как и тебе, будет жаль их. Я промолчал, прекрасно сознавая, что она пытается меня предупредить. Мы уже и так впутались, теперь придется идти до конца, к победе или поражению. Что же до Энскома и Хеды, то они казались абсолютно счастливыми. Новизна ощущений поглотила их целиком, и влюбленные ни о чем не тревожились, безоговорочно вверив себя моим заботам. Кроме того, мало-помалу радость любви помогала Хеде облегчить боль утраты и забыть все пережитое. Девушка очень привязалась к молодой знахарке и общалась с ней на зулусском языке, который, прожив столько времени в Натале, знала достаточно хорошо. Когда я посоветовал ей не слишком откровенничать с нашей провожатой, она рассердилась и ответила, что прожила среди туземцев всю жизнь и прекрасно разбирается в людях, а Номбе, мол, внушает ей доверие. Тогда я прикусил язык и ни словом не обмолвился о своих опасениях. Что толку, если Хеда не желает меня слышать, а Энском превратился в ее эхо? Бесконечно тянулась унылая дорога. На пару дней нас задержала разлившаяся река, оставалось только ждать и курить, а поохотиться так и не пришлось, даром что крупная дичь водилась тут в изобилии, да только Номбе попросила не шуметь. Наконец саванна сменилась живописными нагорьями близ Нонгомы. Оставив их по правую руку, мы направились в местечко под названием Джеза, природную цитадель в виде плоской равнины на вершине в обрамлении кустов. У подножия горы лежало Черное ущелье. Вот мы и пришли. В лучах потрясающего заката, предвещающего бурю, открылся пейзаж, точь-в-точь такой, каким он запечатлелся в моей памяти двадцать лет назад, когда я побывал тут впервые. Мы будто очутились у врат ада, кругом так уныло и пустынно. Нагромождения валунов образовали причудливые колонны, на крутых склонах попадались редкие деревья вперемешку с алоэ, которые походили на человеческие фигуры. За много веков наводнения отполировали каменистое дно ущелья почти до блеска, и теперь по нему струился маленький ручеек. Вот то самое место, где однажды я распрягал фургоны, готовясь к ночлегу, тогда еще мои слуги клялись, что видели имикову, то есть призраков умерших людей, вызванных колдуном. Те якобы проплыли мимо по воздуху в облике принцев и тех, кто вскоре погиб в битве у реки Тугела. Мы продолжали подъем. Я ехал верхом, а Номбе слезла с повозки и теперь шла рядом, поглядывая на меня. — Ты какой-то грустный, Макумазан, — наконец промолвила она. — Верно, Номбе, мне невесело. Это место навевает грустные воспоминания. — Место, Макумазан, или мысли о той, кого ты повстречал здесь однажды и кого уже нет в живых? Я взглянул на нее, изобразив недоумение. — Меня иногда посещают видения, Макумазан, таково мое ремесло, и порой я вижу призрак женщины. Она появляется в этом ущелье и как будто кого-то ждет. — В самом деле? Как же она выглядит? — спросил я с напускным равнодушием. — По счастью, я вижу ее прямо сейчас, она парит в воздухе перед тобой. Высокая и стройная, прекрасно сложена. Кожа светлее, чем у людей нашего народа. Глаза у нее большие, как у лани, и горят не от солнца, а внутренним светом, лицо нежное, и она так величава, что даже страшно. Одета в серую меховую накидку и перебирает пальцами синие бусы у себя на шее. В моей голове звучат ее слова: «Уже давно я жду в этом мрачном месте, высматривая день и ночь, когда же возвратится ко мне Бодрствующий в ночи. Но вот ты пришел, и моя изголодавшаяся душа сможет хоть ненадолго насытиться твоей душой в этом зачарованном месте. Благодарю тебя, я больше не одинока. Ничего не бойся, Макумазан, клянусь нашим поцелуем, пока не пробьет твой час и ты не присоединишься ко мне, я буду щитом и копьем в твоих руках». Вот все ее слова, Макумазан, теперь она ушла, и я больше ничего не слышу. Точно твой конь наехал на нее, а она прошла сквозь тебя. С этими словами Номбе вернулась в повозку, словно желая избежать расспросов. Там она принялась безучастно болтать с Хедой. Едва мы въехали в ущелье, ее слуги открыли брезент и опустили одеяло. У меня вырвался стон. Само собой, Зикали знал, как выглядит Мамина, и научил Номбе, о чем говорить со мной. Вероятно, он хотел произвести на меня впечатление по какой-то одному ему известной причине. Впрочем, ловко у него вышло. Мамина вполне могла произнести такие слова, а ее великий дух жаждал бы возвращения на землю. Только возможно ли подобное? Нет, вряд ли. Между тем, казалось, все вокруг пропитано ее аурой, воспоминания о былом и слова Номбе подстегнули мое воображение, и я почти ожидал появления Мамины. Пока я раздумывал, лошади обогнули небольшой изгиб сужающихся утесов, и прямо перед нами под нависшей скальной глыбой оказался крааль с камышовой оградой. Калитка была отперта, а за ней перед большой хижиной на табурете сидел Зикали. Даже издалека его невозможно спутать с кем-то другим на свете. Плечистый и крепкий карлик с огромной головой, глубоко посаженными глазами и седыми волосами, рассыпанными по плечам. В целом его фигура и лицо дышали древностью, однако благодаря гладкости и свежести кожи, как порой случается у стариков, он выглядел моложаво. Таков был великий колдун Зикали, живущий дольше любого из соплеменников и известный по всей стране как Открыватель — титул за способность к прорицанию, и Тот, кому не следовало родиться. Так Чака, первый и величайший король зулусов, прозвал колдуна за его уродливый вид. Зикали застыл в молчании, выпучив глаза на красный диск заходящего солнца, словно бесформенная статуя, а не человек. Появились его слуги с жесткими и решительными лицами. По-моему, двадцать три года назад меня здесь встречали они же, только теперь постарели. Пожалуй, так и есть, ведь они приветствовали меня по имени и салютовали копьями. Я спешился, а уже вполне здоровый Энском помог Хеде выбраться из повозки, которую слуги тут же убрали. Ему стало немножко жутко, и он заметил, что это место производит довольно странное впечатление. — Верно, — согласилась Хеда, — так это же чудесно! Мне здесь нравится. Тут она заметила перед хижиной Зикали и побледнела. — Какой жуткий человек… — прошептала она, — если это человек. Горничная Кетье глянула на старика и вскрикнула. — Вам нечего бояться, моя дорогая, — утешил Энском Хеду, — он всего лишь старый карлик. — Ну да, наверное, — нерешительно произнесла девушка, — но, по-моему, это сам дьявол. Номбе прошла мимо нас, сняла накидку из звериных шкур и предстала перед нами обнаженной, если не считать мучи и украшений. Она встала на четвереньки и в этой смиренной позе поползла к Зикали. Оказавшись перед ним, коснулась лбом земли, затем подняла правую руку над головой и приветствовала его как макози, великого колдуна, в котором будто бы обитает тьма духов. Но старик не обращал на нее никакого внимания. Номбе подползла ближе и присела на корточки у его правой руки. Тут из-за дома появились его слуги и встали между ним и дверным проемом, держа копья наготове. Минуту спустя Номбе подозвала нас к себе. Мы пересекли двор. Я чуть опередил остальных. Когда мы подошли ближе, Зикали открыл рот и разразился громким жутким смехом. О, мне хорошо знаком этот смех. Впервые я услышал его в пору моей молодости, во владениях правителя Дингаана, после гибели Ретифа и его спутников[279]. — Похоже, вы правы, этот старик действительно дьявол, — согласился с Хедой Энском. Воцарилась тишина. Решив не заговаривать первым, я принялся набивать трубку табаком. Зикали наблюдал за мной, не сводя при этом глаз с заходящего солнца. Он сделал знак, слуга убежал, но вскоре вернулся с горящей головешкой и предложил ее мне для разжигания трубки. Затем снова ушел, принес три резных стула из красного дерева и поставил перед нами. Взглянув на свой, я сразу узнал его по узорам. Когда я впервые встретился с Зикали, мне предложили этот же самый стул. Наконец старик заговорил своим тихим низким голосом: — Многие годы минули, Макумазан, с тех пор, как ты сидел на этом стуле. На ножке, которую ты держишь, остались зарубки, можешь их сосчитать. Я рассмотрел ножку стула и насчитал двадцать две или двадцать три зарубки. На других ножках зарубок оказалось гораздо больше, и я сбился со счета. — Не смотри на другие зарубки, Макумазан, ты тут ни при чем. Они остались с тех пор, как первый предводитель дома Сензангаконы сел на этот стул. Сначала Чака, потом Дингаан, а среди прочих и Мамина. Много воды утекло с того дня, когда ты на нем сидел. Ты ушел далеко от дома, повидал немало диковинного, побывал там, где другие давно бы простились с жизнью, ибо таков твой удел, но об этом мы после потолкуем. Теперь, когда голову покрыла седина, ты вернулся, как предсказывал Открыватель, и привел новых спутников. Даже под старость ты не растерял дар заводить друзей, а это дано не многим. Где же твои прежние попутчики, Макумазан? Где Садуко, Мамина и остальные? Никого не осталось, кроме Того, кому не следовало родиться. — При этих словах он громко рассмеялся. — И Тот, кто никак не умрет, — прервал я наконец молчание. — Верно, Макумазан, ведь я не хочу умереть, пока не завершу задуманное. Благодаря духам предков и моим я все еще живу, снедаемый жаждой мщения. И вот развязка близка, Макумазан, и ты непременно внесешь свою лепту, как я обещал в дни беспросветной тьмы. Помолчав, колдун продолжил, по-прежнему глядя на закат, как будто не видел нас, потому от его слов становилось немножко жутко. — Твой белый спутник храбр, знатен и любит сражаться, а дева прекрасна, мила и жизнерадостна. Про себя она думает, что я старый колдун, и хотела бы узнать свою судьбу, если бы так не боялась меня. Видишь, она поняла меня и вздрогнула. Что ж, однажды я ей расскажу, а пока открою лишь немногое: у нее будет пятеро детей, двое умрут, а один доставит много тревог, и она пожалеет, что и он не умер. А кто станет их отцом, я не знаю. Номбе, дитя мое, проводи белую женщину и ее служанку в хижину, приготовленную для нее. Смотри же, она наша гостья и пусть ни в чем не испытывает недостатка. Белый вождь Маурити пойдет следом к соседней хижине, где они с Макумазаном будут спать, — заодно убедится, что гостье ничего не угрожает. Он может позаботиться о лошадях, если пожелает, позади хижин есть привязь, а твой слуга поможет ему. Макумазан присоединится к ним, когда мы потолкуем вдвоем, и тогда они смогут утолить голод перед сном. Я перевел его распоряжения Энскому, и он весьма охотно пошел с Хедой. Оба побаивались старого карлика и не горели желанием сидеть рядом с ним в наступавших сумерках. — Солнце совсем скрылось, Макумазан, — заметил старик, когда они ушли, — и похолодало. Пойдем в мою хижину, я стар и промерз до костей, а в очаге жарко пылает огонь. Там нам никто не помешает. Сказав это, Зикали вполз в хижину, как гигантский жук с белой головой. Помнится, однажды мне уже приходило на ум его сходство с насекомым. Пришлось тащиться за ним с древним стулом в руках. Старик расположился на своей меховой накидке в стороне от огня, а я пристроился напротив. В огне потрескивали какие-то корни или поленья, они давали яркое пламя и не дымили. Колдун низко склонился над очагом, казалось, он почти сунул свою большую голову в огонь и уставился на него, не моргая, как до этого на солнце. Такая привычка добавляла жути к его облику и наводила меня на мысль о некой области и ее обитателях. — Макумазан, зачем ты вернулся? — спросил он, понаблюдав несколько минут за мной сквозь огненную завесу. — Ты сам привел меня, Зикали, посредством своей вестницы, Номбе, и сна, который ты послал мне. Так она сказала. — В самом деле? Должно быть, я забыл. Снов не счесть, как комаров у воды, во сне они нас кусают, а просыпаясь, мы тут же о них забываем. Впрочем, глупо верить, будто человек может посылать кому-то сны. — Тогда твоя посланница солгала, Зикали. Тем более она заявила, что сама принесла мне этот сон. — Конечно солгала, недаром я учил ее с малых лет. Да как ловко, догадалась, какой сон тебе приснится, когда ты раздумывал, отступить ли в землю зулу. — Зачем ты играешь со мной в прятки, Зикали, разве мы дети малые? — О Макумазан, тут ты ошибаешься, как бы мы ни были стары и мудры в своих глазах, в руках судьбы мы всего лишь дети. Ну, полно, полно, я расскажу тебе правду. Такому, как ты, глупо пускать пыль в глаза. Мне ведомо, что ты проходил по земле Сикукуни, мои шпионы следили за тобой. А в последние годы ты нигде не бывал, тогда я не посылал к тебе шпионов. Скажем, араб по имени Харут, первый, кого ты встретил в королевской хижине далекой страны. Это я его подослал, а недавно он пришел ко мне и многое порассказал о твоих делах. Не спрашивай о нем сейчас, у меня к тебе другой разговор… — Разве Харут еще жив? — перебил я старика. — Нашел ли он нового бога вместо Дитяти? — Макумазан, будь он мертвец, как он мог прийти и говорить со мной? Я следил за тобой у реки Элефантес, где на вас напали люди Сикукуни, и позже, в мраморной хижине, где умер белый старик, а ты нашел его в кресле, взял письмо и положил в свой карман. В нем написано о деве Хеддане. Потом твой белый друг убил доктора и тот утонул в болотной жиже, а басуто украли его волов и фургон. — Как ты обо всем узнал, Зикали? — Говорю же тебе, от моих шпионов. Не было ли с тобой метиса по имени Футсек? Разве не ходили туда-сюда басуто между Черным ущельем и городом Сикукуни, принося мне вести? — Да, Зикали, подобно ветру и птицам. — Верно! О Макумазан, мои шпионы так же хорошо наблюдали за тобой, как ты за повадками животных. Так я узнал о твоей беде, когда умер белый человек, и о твоем друге. Ты всегда был мне дорог, потому я и отправил мое дитя, Номбе, чтобы она привела тебя ко мне. Ведь ты скорее пошел бы за умной и красивой женщиной, а не за мужчиной, у которого нет ни того ни другого. Я велел ей убедить тебя, что здесь вы будете в большей безопасности, чем в Натале. Ты послушался ее и пришел. Вот так-то. — Да, я послушался и пришел. Но это не все, Зикали, сам знаешь, ведь ты привел меня сюда с каким-то умыслом, а не просто так. — Макумазан, кто помешает иголке проткнуть ткань, если она в твоих руках? Твой ум слишком остер для меня, Макумазан, твой взор проникает в мои мысли, спрятанные под покровом хитрости. Ты прав, я позвал тебя ради нас обоих. Мне нужен твой совет, Макумазан, и королю Кечвайо тоже. Вот почему я хотел повидать тебя, прежде чем ты предстанешь пред ним. Вот и вся правда. — Какой тебе нужен совет, Зикали? Старик склонился еще ближе к очагу, и, казалось, его седые лохмы смешались с языками пламени, а глаза засверкали, как угли. — Помнишь, Макумазан, давным-давно я рассказал тебе историю? — Прекрасно помню, Зикали, ты говорил, как ненавидишь дом Сензангаконы и всех королей земли зулу. Во-первых, ты потомок племени ндвандве, которое зулусы истребили и заставили склониться перед собой. Во-вторых, Лютый Зверь Чака прозвал тебя «Тот, кому не следовало родиться», и убил твоих жен. Вот почему ты стал причиной его гибели, давая ему плохие советы. В-третьих, ты много лет орудовал против всего могущества королевского дома и все-таки ухитрился остаться в живых. В особенности когда Панда во время суда над Той, что ушла в царство теней, пригрозил тебе в моем присутствии. Тогда ты предложил ему про верить, хватит ли у него смелости убить тебя. А теперь торжествуешь, ловко одержав победу над королевским домом. — Все так, Макумазан. У тебя крепкая память, особенно касаемо той женщины, ушедшей в царство теней. Моих рук дело, Макумазан, но я совсем запамятовал ее имя, ведь я так стар, и мой разум словно проваливается в черную яму, как и эта женщина. Как же звали Ту, что ушла в царство теней? Зикали умолк, и наши взгляды встретились сквозь пелену огня. Я не ответил, и он продолжал: — О, теперь я вспомнил, ее звали Мамина. Разве не ее голос звучит в завывании ветра? Внемли, и ты услышишь. Я прислушался и вздрогнул, вот-вот наступит кромешная тьма, лишь в скалах Черного ущелья стонет и завывает ветер, нарушая ночную тишину. — Ну, хватит о ней. Что проку беспокоиться о мертвецах, когда нам самим впору к ним присоединиться. Час пробил, Макумазан. По моему совету глупец Кечвайо поссорился с твоим народом, англичанами. Он посылал своих людей через реку в Наталь, и те убивали женщин, или позволял другим поступать так. Его вестники приходили ко мне за советом. Вот мой ответ: «Пре стало ли потомку Чаки бояться и оставлять злодеев без возмездия, раз они перешли на другой берег реки, и при этом называть себя королем зулусов?» Тогда этих женщин притащили обратно и убили. Теперь у слуги королевы с мыса Доброй Надежды большие требования, король должен отдать большое стадо волов, выдать убийц и распустить зулусскую армию, чтобы воины отбросили копья и, как старухи, взялись за мотыги. — А если король откажет? — Тогда, Макумазан, люди королевы объявят зулусам войну. Они уже собирают солдат для сражения. — А Кечвайо согласится? — Я не знаю, его ум колеблется и так и сяк прикидывает, он словно жердь, уравновешенная на гребне скалы. На обоих концах доводов поровну, и если даже кузнечик сядет на один, то сразу решит исход дела. — И ты хочешь, чтобы я стал этим кузнечиком, Зикали? — Кто же еще? Поэтому я и привел тебя в землю зулу. — Ты хочешь, чтобы я посоветовал Кечвайо лечь в могилу, которую для него выроют англичане? Что ж, буду только рад, если он последует моему совету. Не сомневаюсь, поспать ему не мешает. — Зачем ты дразнишь меня, Макумазан? Пусть Кечвайо бросит упрек в лицо королевского подданного и развяжет войну с Англией. — Тогда зулусам придет конец, погибнут тысячи, и не только они, но и люди из моего народа. Останется лишь мучиться угрызениями совести. Думаешь, я совсем выжил из ума, или считаешь таким дурным, раз предлагаешь мне подобное? — Нет, Макумазан, ты получишь кое-что получше. Я мог бы показать тебе, где спрятан скот короля. Англичане нипочем его не найдут, а после войны ты забрал бы столько голов, сколько пожелаешь. Правда, я тебя знаю, и думаю, это ни к чему, ведь ты сразу передашь скот британскому правительству, как однажды передал Бангу, предводителю амакоба, ибо так всегда поступает великий Макумазан! — Допустим, я соглашусь, Зикали, а что я за это получу? — Подумай вот о чем. Поверженные в сражении, зулусы никогда более не помешают белым людям творить великие и благие деяния. — Возможно, хотя я не вполне уверен. В чем я не сомневаюсь, так это в том, что не собираюсь совать голову в ваш улей, не то английские шершни придут в волнение и украдут оттуда мед. Лучше я всецело доверюсь королеве и ее правительству. Поэтому, Зикали, не трать речей понапрасну. — Так я и думал, — ответил старик, покачивая огромной головой. — Вряд ли ты преуспеешь в этом мире со своей честностью, Макумазан. Что ж, я найду другой способ положить конец дому Кечвайо, злой и жестокий король этого заслужил. Колдун говорил без удивления и досады, и я убедился окончательно, что он и не рассчитывал, будто я соглашусь повлиять на решение зулусов объявить войну. В то же время он не говорил впустую, нет, в дряхлом мозгу этого карлика созрел какой-то хитрый план, просто он его от меня утаил. Я не мог взять в толк, зачем вообще он завлек меня в страну зулусов. Расспросы ничегобы не дали, и я решил, если удастся, завтра же чуть свет покинуть Черное ущелье. Зикали сменил тему и заговорил тихо и монотонно, будто сам с собой, о том, как горестна участь тех, кто подобен Садуко, этому призраку смерти, который предал своего господина, принца Умбелази, ради женщины. Похоже, старик был в курсе мельчайших подробностей. Я не отвечал и только ждал удобного случая покинуть хижину, не желая вспоминать о тех событиях. Зикали умолк и погрузился в размышления. — Тебе надо поесть, Макумазан, — сказал он вдруг. — А я ем мало, больше сплю, ведь тогда меня посещают сонмы духов и приносят вести издалека. Ну вот, я рад, что мы с тобой поговорили, кто знает, когда еще свидимся. Впрочем, скоро мы встретимся в Улунди, где судьба уже расставила свои сети. О чем я говорил? А, вспомнил! Есть некто, кто всегда в твоих мыслях, и кого ты желал бы увидеть, и кто желал бы увидеть тебя. Ты увидишь ее в награду за все лишения, выпавшие на твою долю в таком долгом путешествии к бедному старику Зикали. А ведь когда-то я был для тебя всего лишь мошенником… Он снова умолк, и, сам не знаю почему, вдруг силы меня покинули и захотелось убежать. — Холодно в хижине, верно? — заметил старик. — Гори, огонь, разгорайся! — Он сунул руку в свой мешок для снадобий, достал щепотку порошка и бросил на угли. Огонь тут же вспыхнул ярким пламенем. — Гляди, Макумазан, — сказал колдун, — гляди внимательно. О небо! На расстоянии вытянутой руки стояла Мамина с бесконечной тоской в глазах. Такой я видел ее в последний раз, когда возвращал ей обещанный поцелуй, а она приняла яд. Пять секунд я смотрел на нее, такую живую, замечательную и все же нереальную в ярком свете пламени. Огонь немного угас, и она исчезла, а я тут же выбежал из хижины, подгоняемый жутким смехом Зикали.Глава 12
В ЛОВУШКЕ
Ночная прохлада привела меня в чувство и вернула способность мыслить здраво. Понятное дело, я видел иллюзию, Зикали тщательно подготовил к ней мой разум с помощью молодой колдуньи Номбе. Он прекрасно знал, какое сильное впечатление произвела на меня почти четверть века назад Мамина, эта замечательная женщина, равно как и на остальных мужчин в ее жизни. Весьма вероятно, она всегда оставалась в моей памяти. Забывая многое, мужчина помнит женщину, которая оказала ему предпочтение, и не важно, насколько она была искренна. Так уж устроен мир. Да и как было не запомнить эту женщину, с ее первозданной, дикой красотой. Она стала причиной великой войны, принесла погибель тысячам и признана исполненной величия. Обо всем этом Зикали поведал Номбе, чем помог ей вдохнуть жизнь в постоянные намеки о Мамине, а ее притворство, будто она видит рядом Мамину, довершило дело. И вот, усталый и голодный, я оказался так близко к памятным местам в компании с жутким карликом. В гипнотическом трансе или под действием наркотика, брошенного в огонь, колдуну удалось на моих глазах создать иллюзию ее присутствия. Дело ясное, осталось выяснить, какова его цель. Возможно, старому плуту захотелось лишь попугать меня. Обычное явление среди его братии. Что ж, ему это почти удалось, хотя, сказать по правде, я толком не разобрал, что чувствовал больше — страх или радостное волнение. Мамина никогда не была враждебна, и нет причин ее бояться, ни живую, ни мертвую. Ради меня она бы не вернулась из ада, разве только ради своих амбиций. Пускай это лишь призрак, я был бы рад снова ее увидеть. Однако Мамина вовсе не призрак, а всего лишь образ, запечатленный в моем сознании. Такой я запомнил ее в последний раз, когда мои губы еще хранили тепло ее губ. С такими мыслями стоял я под открытым небом, обливаясь холодным потом. Нервы мои, честно говоря, были на пределе, пусть и без особой причины. Вдруг из темноты бесшумно выплыл человек, и я подпрыгнул так высоко, будто наступил на африканскую гадюку. По голосу я признал в нем слугу Номбе, нашего провожатого от самой земли свази, и сразу успокоился. Он сообщил, что еда готова и остальные белые люди уже ждут меня. Мы обогнули изгородь вокруг жилища Зикали и пришли к двум хижинам, стоявшим чуть позади. Они почти примыкали к скале, которая нависала сверху, образуя природную крышу. На память вроде не жалуюсь, а их не помнил, должно быть, построили с тех пор, как я побывал тут в последний раз. И впрямь, колья подпорок были свежесрезанные, а солома крыш едва подсохшая. Похоже, хижины построили специально для нас. В правой хижине, где разместили нас с Энскомом, ждали мои друзья и еда. Все было свежее и отменно приготовленное. Мы ели при свечах, найденных в нашем багаже, а Кетье нам прислуживала. Еще недавно я умирал с голоду, а теперь аппетит у меня пропал, и я едва притронулся к еде. Хеда и Энском выглядели подавленными и ели мало. Мы хранили молчание, пока Кетье убирала жестяные тарелки, а затем она ушла из хижины, намереваясь съесть свой ужин у костра. Наконец Хеда сказала, как ее пугает это место, и особенно его хозяин, старый карлик. Девушка не сомневалась, здесь с ней случится нечто ужасное. Энском старался ее успокоить, а я убеждал, что ей нечего опасаться. — Почему же вы так напуганы, мистер Квотермейн, — возразила она, — если нам ничего не угрожает? Вы будто увидали призрака. Неожиданный выпад попал в самую точку. Ведь я и впрямь видел нечто устрашающее, похожее на привидение. Пока я искал уместную отговорку, появилась Номбе, чтобы проводить Хеду на ночлег в ее хижину. Вопрос повис в воздухе, поскольку хотя Номбе и знала всего несколько английских слов, зато отлично умела читать мысли, и я боялся, как бы не сболтнуть при ней лишнего. Когда все выходили из хижины, а влюбленные желали друг другу спокойной ночи, я немножко задержался с Номбе у огня. — Номбе, — сказал я, — инкози-каас Хеддана напугана. Скалы ущелья легли тяжким грузом на ее сердце. Лицо Открывателя устрашило ее, а его смех режет ей уши. Ты понимаешь? — Понимаю, Макумазан, что ж тут удивительного. Ведь тебе и самому тут страшно, а юная дева и подавно придет в ужас в обиталище духов. — Мы боимся людей, а не духов, тем более теперь, когда вся земля зулу превратилась в кипящий котел, — ответил я сердито. — Как скажешь, Макумазан, — ответила Номбе, и в эту минуту ее невозмутимый испытующий взгляд и фальшивая улыбка стали мне еще ненавистнее. — Ты хотя бы признаешь свой страх. Ну а госпоже Хеддане нечего бояться. Я сплю у порога ее хижины и, поскольку полюбила ее, обещаю: пока я жива, ей ничто не угрожает, и не важно, что ты слышал или видел. — Я верю тебе, Номбе, но ведь ты можешь умереть. — Да, ты прав, но в одном будь уверен — когда я умру, Хеддана будет в безопасности, и ее возлюбленный тоже. Спи спокойно, Макумазан, и не беспокойся о том, что видел и слышал в хижине Зикали. Не успел я произнести и слова в ответ, как Номбе ушла. Спал я неважно, вернее, почти не спал. Во-первых, Морис Энском, всегда такой веселый и беззаботный, встречавший любую невзгоду шуткой, ныне пребывал в глубоком унынии и напоминал мне об этом всякий раз перед отходом ко сну. Он называл это место отвратительным и жаловался, что за ним кто-то следит, оставаясь невидимым. Мне и самому так показалось, но я решил промолчать. А когда я посоветовал Энскому не болтать чепухи, он ответил, что иначе не может, хотя и не в его правилах унывать в минуту опасности. И это правда. А еще у него возникло то же ощущение, как и в первый раз в лесном болоте. Вот он и подумал: а вдруг тут тоже произойдет убийство. — То есть вы собираетесь убить кого-то еще? — нетерпеливо спросил я. — Нет, кто-то собирается убить меня или что-то в таком духе. Возможно, даже проклятый колдун, этот старый злодей. А может, он и не человек вовсе. — Многие так думали, Энском. Сказать по правде, я и сам не знаю, кто он. Старик слишком часто общается с мертвыми, чтобы оставаться таким, как обычные люди. — А еще он общается с Сатаной и наверняка приносит ему жертвы. Что, если он испробует свои штучки на Хеде? Ведь я за нее боюсь, Аллан, не за себя. Ох, и зачем вы привели нас сюда? — Вы сами так решили, и это был наш единственный выход. Послушайте, мой мальчик, женщины всегда доставляют нам неприятности, а одинокий мужчина… ну, вы сами понимаете. Раньше вы шутили по любому поводу, а теперь без пяти минут женаты и вам вовсе не до смеха. Что ж, такова участь многих мужчин, смиритесь. Адам наслаждался жизнью в своем саду, пока не появилась Ева, и вы знаете, чем все закончилось. Остаток жизни он боролся с соблазнами, переживал тревоги, семейные неурядицы, раскаивался в содеянном грехе, тяжело работал с помощью примитивных орудий и ощущал пламенный меч за спиной. А стоит вам отказаться от своей Евы, и мигом избежите всего этого. Однако, как уважающий себя мужчина, вы и не подумаете так поступить. Так уж распорядилась природа. — В ваших словах, Аллан, чувствуется опыт, — вежливо ответил Энском. — Между прочим, эта девушка, Номбе, в перерывах между созерцанием звезд и бормотанием заклинаний то и дело старается разъяснить Хеде какие-то сплетни о вас и даме по имени Мамина. Догадываюсь, что вы повстречались где-то по соседству. Номбе утверждает, будто вы имели привычку целоваться на людях. Как-то странно слышать от нее подобное, ведь она тогда еще не родилась. Вдобавок, если Кетье не напутала с переводом, вы будто бы встречались с этой девушкой сегодня днем. Однако, насколько я понял, она давно умерла, и без вас мне в этом никак не разобраться. — Насчет Хеды можете не волноваться, — сказал я, не удостоив его ответом. — Зикали знает, что она на моем попечении, и вряд ли затеет ссору. Впрочем, раз вам тут неуютно, нам следует убраться отсюда завтра с утра пораньше, а куда, решим, когда придет время. А теперь я посплю, так что оставим разговоры на потом. Как я уже заметил, мне никак не удавалось уснуть, всякий раз меня преследовали кошмары, а такое случается на полный желудок. Я слышал предсмертные крики обреченных, видел вздувшуюся от дождя реку, она была красной от крови. Там был человек — не разглядев его лица, по одеянию я признал в нем короля зулусов. Он бежал, едва держась на ногах, а следом мчалась большая гончая. Пес поднял голову от следа и издал смех вместо лая, а вместо звериной морды у него оказалось лицо Зикали. Тогда вошла Мамина, позвякивая медными украшениями, и как будто прошептала мне на ухо: «Четверть века прошло с тех пор, как мы говорили с тобой последний раз в этом ущелье духов, и, прежде чем мы снова увидимся, пройдут годы». Тут она умолкла, а мне бы так хотелось услышать конкретную дату нашей встречи. Однако сны обычно прерываются в такие минуты, а герои наших грез говорят только то, что мы и сами знаем или можем вывести логически, а о неизвестном умалчивают. Таково главное правило сновидений. Я вскочил спросонья, задыхаясь в невыносимой духоте, а Энском, как назло, мерно посапывал рядом. Тогда я сбросил с себя покрывало, сдвинул доску, служащую дверью, и выбрался на свежий воздух. Ночь была тиха и светла, неподалеку все еще тлели угли костра, а подле него сидел кто-то в накидке из звериных шкур. Языки костра прожгли кусок полена насквозь, оно упало в тлеющий пепел, и огонь вспыхнул ярче. В его свете я увидел Номбе. Она по-прежнему улыбалась, будто знала какие-то тайны, которые время от времени тешили ее сердце, и шевелила губами, словно разговаривала с невидимым собеседником. Временами она, как бы выполняя ритуал, брала щепотку пепла и развеивала по ветру то в сторону хижины Хеды, то нашей с Энскомом. Да, в то время как все приличные девушки спят, она, похоже, была в контакте с какой-то нечистью. «Должно быть, общается со своим наставником Зикали или пытается нас околдовать. Да и черт с ней!» — подумал я и на цыпочках вернулся в хижину. Потом мне пришло в голову иное объяснение: а не следила ли она, чтобы мы не сбежали? Остаток ночи я провалялся без сна. Один раз, навострив уши, я услышал топот множества ног и приказы, отдаваемые приглушенным голосом. Так как звуки не повторились, я решил, что мне послышалось. Так я лежал и ломал голову, пока она не разболелась, как бы нам убежать из Черного ущелья и от Зикали и покинуть страну зулусов. Сейчас тут белым людям делать нечего. Мне виделся лишь один путь — из города Данди добраться до границы провинции Наталь, а там как повезет. Случись же напасти из-за смерти Родда — не дай бог, конечно, — мы смело посмотрим им в лицо, и все. Пусть даже появится свидетель и даст обвинительные показания, все равно с нашей стороны это была самозащита от человека, который задался целью убить нас всех руками басуто. Теперь я понял, как сглупил, следовало с самого начала избрать этот путь. Так ведь, как вы знаете, мной овладел страх навлечь позор на молодых людей и тем самым омрачить всю их будущую жизнь. Вот так мало-помалу судьба и втянула меня в эту историю. К счастью, у каждого в жизни есть право на ошибку, даже если проблема кажется вовсе нерешаемой. Главное, чтобы желание все исправить было по-настоящему искренним, а иначе мало кому удалось бы избежать полного краха в жизни. Тем временем в отверстие для дыма проник тусклый свет, значит почти рассвело. Тогда я осторожно встал, стараясь не разбудить Энскома, оделся и вышел из хижины. Первым делом надо было разыскать Номбе, вдруг она еще сидит у костра, и пусть передаст Зикали, что я сию же минуту хочу его видеть. Озираясь в предрассветной мгле, я не нашел ни Номбе, ни кого другого, видно, все еще спали. Вдруг неподалеку заржали лошади, и я пошел на звук. В бухточке под нависшей скалой оказались повозка, наши лошади на привязи и большой запас корма. Как будто все в порядке, насколько я мог разглядеть в неверном свете, разве что животные устали — три лошади все еще лежали. Я поспешил к ограде, окружавшей большую хижину Зикали, и решил подождать, пока кто-нибудь не выйдет и не передаст мое послание. Подойдя к калитке, я потянул ее на себя. Оказалось, заперто изнутри. Тогда я сел, закурил трубку и стал ждать. Кругом было странно безлюдно, во всяком случае, мне стало одиноко. Видно, солнце уже взошло над цитаделью Джеза, возвышавшейся у меня за спиной, небо вокруг нее прояснилось от наступавшего рассвета. Но огромное Черное ущелье с его гигантскими причудливыми скалами все еще окутывал сумрак. После бессонной ночи и стольких забот их тени угнетали меня, я жутко нервничал, и, как оказалось, не напрасно. Вскоре по ту сторону ограды послышались шорохи, будто, перешептываясь, крались люди. Вдруг калитка распахнулась, и из нее высыпал десяток зулусских воинов, все с обручами на головах. Они мгновенно окружили меня. Довольно долго мы просто глядели друг на друга. По старой привычке я не прерывал молчания первым. К тому же, если они пришли меня убить, бесполезно что-то говорить. Наконец, приветствуя меня, заговорил старик, видимо их главный, голенастый, с большим животом и приятным лицом. — Доброе утро, Макумазан! — Доброе утро, капитан, имени и цели которого я не знаю. — Ветры знают все о горе, на которую дуют, но гора не может знать всего о ветрах, ибо не видит их, — подчеркнуто вежливо заметил он. Это зулусское выражение означает, что шута горохового знает больше народу, чем он привык считать. — Может, и так, капитан, зато гора чувствует ветры — то есть их запах, хотел сказать я, потому как ущелье узкое, а эти кафры давно не мылись. — Мое имя Гоза, и пришел я с поручением от короля. — В самом деле, Гоза? И тебе велено перерезать мне глотку? — Только если ты откажешься исполнить его волю. — Чего же хочет король? — Он хочет, чтобы его друг Макумазан навестил его. — Так я и сам к нему собирался, — солгал я. Ну да это ничего, потому как ложь школьницы — мерзость в глазах Господа, зато она скорый помощник в бедах. — После завтрака я и мои друзья пойдем с тобой в Улунди к королю. — Увы, Макумазан, твоих друзей король не приглашал, он ничего о них не слышал, как и мы. Кроме того, если они белые, будет лучше, если ты умолчишь о них. Всех белых людей, пришедших в землю зулу против воли короля, убивают на месте. Конечно, кроме тебя, Макумазан. — В самом деле, Гоза? Что ж, как вы поняли, я тут совсем один и друзей со мной нет. Только мне бы не хотелось отправляться в дорогу в такую рань. — Да, мы понимаем, Макумазан, что ты тут совсем один и друзей с тобой нет. Верно, братья мои? — Да-да, понимаем! — воскликнули они в один голос. — Мы так и передадим королю. — Какие одеяла вам нравятся, просто серые или белые в синюю полоску? — спросил я, желая подкрепить их решимость. — Серые теплее, Макумазан, и грязи на них не видно, — задумчиво ответил Гоза. — Хорошо, я вспомню об этом при случае. — Давно известно, что обещание Макумазана — как дерево, которое слон не свалит, а термит не сгрызет, — заметил Гоза нравоучительно, высказав, таким образом, убежденность, что рано или поздно они получат одеяла. В самом деле, те, кто выжил, и семьи погибших после войны получили одеяла, потому что, имея дело с туземцами, я всегда стараюсь выполнять свои обещания или возмещаю чем-то равноценным. — А теперь, — продолжал Гоза, — не угодно ли инкози отправляться в дорогу? Отсюда путь неблизкий. — Нет, так нельзя, сначала надо поесть. Разве на вчерашних запасах далеко уедешь? И потом, я должен оседлать лошадь, собрать вещи и проститься с хозяином, Зикали. — У нас с собой вдоволь мяса, Макумазан, тебе не придется голодать в пути. Лошадь и вещи тебе потом вернут. Вдруг ты вскочишь на это стремительное животное и умчишься, как мы поймаем тебя на своих ногах? А если тебе вздумается стрелять в нас из ружья, как мы защитимся, ведь у нас только копья? Что же до Открывателя, то от его слуг мы узнали, что он собирается проспать весь день, во сне он общается с духами. Так что нет смысла ждать, чтобы с ним проститься. Кроме того, король приказал доставить тебя немедленно. После его слов повисла тишина, я замер на месте, и так и эдак прикидывая, как быть дальше, а зулусы добродушно поглядывали на меня. Гоза достал из-за уха понюшку табаку, вытряхнул чуть-чуть на ладонь, предложив сперва мне, и вдохнул его. — Король приказал, — чих! — чтобы мы доставили тебя живым, — чих! — или мертвым. Выбирай сам, Макумазан. Попадешь в Улунди мертвым — ах, и силен табачок, от него я плачу, как женщина, — не придется идти пешком. Что ж, если хочешь, мы понесем тебя, только прежде уж сделай милость, Макумазан, черкни несколько слов, и нам отдадут серые одеяла. Мы-то знаем, твои косточки не захотят нарушить данное тобой слово. Разве со времени убийства Бангу не поговаривают у нас в стране, будто ты отдал свою долю скота бродягам Садуко? Тут мне пришла в голову блестящая мысль. — Я услышал тебя, Гоза, и пойду с тобой в Улунди своими ногами. Тебе не придется меня нести. А все ж таки в эти трудные времена случиться может всякое, и мне хотелось бы знать наверняка, что вы получите свои одеяла. А то, не ровен час, появлюсь там кверху брюхом. Сперва я напишу несколько слов, передайте их знахарке Номбе, и рано или поздно получите взамен одеяла. — Пиши скорее, Макумазан, — согласился Гоза, — и она их получит. Я достал свой блокнот и написал:Дорогой Энском, затевается измена, главный зачинщик, думаю, Зикали. Вооруженные зулусы уводят меня в Улунди к Кечвайо. Они не позволят нам пообщаться, наверняка так распорядился Зикали. Вам придется самому позаботиться о себе и Хеде. Постарайтесь убежать в Наталь. Разумеется, я помогу вам при первом удобном случае. Только, если разразится война, боюсь, Кечвайо меня убьет. Вы можете довериться Номбе, и вряд ли Зикали причинит вам зло, разве что по принуждению. Но похоже, он заманил нас к себе ради каких-то своих дурных замыслов. Передайте ему через Номбе, что, если с вами приключится беда, я его убью — только бы в живых остаться. Но и после смерти я сведу с ним счеты. Да благословит вас Господь. Будьте мужественны и находчивы.Закончив, я вырвал лист, свернул, написал адрес и отдал послание Гозе, добавив, что это только на вид бумага, а на самом деле четырнадцать одеял, и следует поскорее отдать ее Номбе. Он кивнул, передал бумагу товарищу, и тот сразу направился в сторону наших хижин. «Выходит, Номбе все знает, — подумал я, — вот и доказательство, что все это дело рук Зикали. Понятно теперь, почему она говорила так со мной прошлой ночью». — Пора, Макумазан, — сказал Гоза, выразительно глянув на свое копье, — ведь ты решил идти своими ногами. Хочешь не хочешь, пришлось подняться. — Я готов. На миг я глянул на калитку в ограде и прикинул, смогу ли сломать засов и найти приют у Зикали. Нет, рискованно, ведь именно колдун, сидя в своей хижине, дергает за все ниточки. Вряд ли он примет меня с распростертыми объятиями. И потом, прежде чем я доберусь до него, копье пронзит мое сердце. Оставалось только покориться. Все-таки я крикнул напоследок: — Прощай, Зикали, я покидаю тебя против своей воли! Воины короля уводят меня в Улунди. Будет о чем поговорить, когда мы встретимся снова. Тишина. Гоза, воспользовавшись случаем, сообщил мне, что не любит, когда кричат слишком громко, это вынуждает его совершать поступки, о которых он может потом пожалеть. Пришлось прикусить язык. Наконец мы отправились в путь, я шагал, окруженный отрядом зулусов. С тяжелым сердцем покидал я друзей, обуреваемый страхом за них и за себя. Миновав ущелье, мы вышли на залитую солнцем равнину, по пути не встретили ни одного туземца. Через пару миль вышли к ручью, и Гоза объявил привал. Поели холодного мяса из корзины, ее нес на плече один зулус, — так себе провизия, но все же лучше, чем ничего. Едва покончив со съестным, я оглянулся и заметил воина, с которым предавал записку. Он вел под уздцы мою кобылу. Она была оседлана и несла подседельные сумки с моими пожитками, тяжелое пальто, непромокаемый плащ, флягу с водой и прочее, а кроме того, мешочек с табаком, запасную трубку и коробок восковых спичек. Сверх того туземец захватил мою двуствольную винтовку и дробовик, стреляющий пулями, и двойной запас патронов. Тут были все мои вещи. Я спросил, кто все это собрал. Оказалось, знахарка Номбе велела привести оседланную и навьюченную лошадь ко мне. Он не знал, кто оседлал животное, но, кроме Номбе, никого там не встретил. Она взяла у него листок и тут же спрятала. Мне не терпелось узнать, что же дальше, и он передал ответ Номбе следующего содержания: «Я прощаюсь с Макумазаном ненадолго, пусть удача сопутствует ему, вскоре мы снова встретимся. Передай, пусть не страшится битвы, ибо если получит раны, то не смертельные. С ним пойдут те, кого он не увидит, они прикроют его своими щитами. Скажи Макумазану: я, Номбе, утром не забыла слова, сказанные ему ночью. Все, что кажется потерянным навеки, часто возвращается вновь. Желаю ему успеха, и скажи, мне жаль, что не успела постирать его запасную одежду, зато нашла коробочку с лекарствами белых людей». Больше ничего из него вытянуть не удалось. Туземец был либо слишком глуп, либо только делал вид. По правде говоря, я не осмелился спросить напрямик о повозке и тех, кто в ней ехал. Вскоре мы зашагали дальше. Гоза опасался, как бы я не скрылся, и не позволил мне ехать верхом. Даже не дал понести ружье, а то, чего доброго, я им воспользуюсь. Мы шли целый день и только ближе к вечеру достигли высот Нонгома. В этом живописном месте расположен туземный поселок, откуда лучше всего видны просторы Зулуленда. Позднее, когда англичане завоюют страну, тут возведут здание суда. Поселок оказался пуст, кроме двух глухонемых старух, вытянуть из них что-либо было невозможно, как ни старайся. Однако эти почтенные дамы или те, кто спрятался, как будто ожидали нашего появления. Теленка уже освежевали и подготовили к жарке и наполнили бутылочные тыквы кафрским пивом и маасом, кислым молоком. Мы как следует подкрепились, и я дал Гозе отхлебнуть коньяка, который Номбе или Энском заботливо положили в мои вещи. Крепкий напиток развязал старику язык, а я воспользовался случаем выудить из него хоть что-нибудь. Так я узнал о требованиях, предъявленных королю Кечвайо английским правительством, и что король колеблется, подчиниться или дать отпор. Верховный совет племени на днях соберется в Улунди, где и будет принято окончательное решение. Тем временем происходил общий сбор всех полков, или, проще говоря, мобилизация. Нынешнее войско, как заметил Гоза, превосходило численностью то, каким командовал Чака. Я спросил его, в чем я, мирный путешественник и давний друг зулусов, провинился, раз меня пленили и насильно привели в Улунди. Он не знал, так как не состоял в Совете короля, но, кажется, Кечвайо хочет использовать меня, их друга, в качестве посланника к белому народу. Я удивился, откуда король узнал о моем пребывании в стране, а он ответил, что Зикали каким-то образом его предупредил. Тогда его, Гозу, сразу же послали за мной. Больше он ничего не мог добавить. Прикинув, стоит ли мне напоить его хорошенько и попытаться сбежать верхом, я отказался от этой затеи. Ну, хотя бы потому, что его люди поблизости, а на всех коньяка не хватит. И потом, даже если я обрету свободу в самом сердце страны зулусов, Энском и Хеда останутся без поддержки, а мне, вероятно, отрежут путь к отступлению из страны и убьют. Вместо этого я пошел спать. Чуть свет мы покинули Нонгому, надеясь к вечеру уже быть в Улунди, если реки Ивуна и Черный Умфолози окажутся пригодны для переправы вброд. Нам повезло, хоть они и были достаточно полноводны, все прошло благополучно. Я сидел верхом, а два зулуса вели лошадь под уздцы. Далее милю за милей брели по ужасной долине Бекамизи, знойной и унылой, и, если верить зулусам, населенной призраками. В этом месте были скопления диких животных, нездоровый климат, и люди, возделывавшие плодородную землю, вымирали от лихорадки целыми поселками или спасались бегством, даже не собрав урожай. Теперь тут никто не живет. Миновав долину, мы совершили головокружительный подъем к высокогорью Махлабатини, перекусили холодным мясом и двинулись дальше. Наконец перед нами раскинулась обширная равнина Улунди, опоясанная холмами, — истинная колыбель цивилизации зулусов. Ей же было суждено, в политическом смысле, стать и их могилой. На западном склоне стоял поселок Нобамба, резиденция Сензангаконы, отца Чаки, Лютого Зверя, близ реки Белый Умфолози — Нодвенгу, жилище Панды, с которым я некогда был знаком, а на северо-востоке — Улунди, где правил Кечвайо, город купался в лучах заходящего солнца. И город, и обширная равнина, будто обагренные кровью, казалось, предрекали исход грядущей битвы зулусов.Ваш друг А. К.
Глава 13
КЕЧВАЙО
Мы пришли в Улунди с наступлением темноты, луна скрылась за облака. Двигаясь наобум, я только по звуку голосов и постоянным окликам мог определить, что кругом полно народу. Наконец нас впустили через восточные ворота, и меня отвели в хижину, где я тут же улегся спасть, не осталось сил даже на еду. Наутро, едва я позавтракал во внутреннем дворике моей гостевой хижины, появился Гоза и объявил, что король велел немедленно привести меня к нему. Вдобавок король был очень сердит, поэтому не следовало повышать голос. Мы шли через просторный загон для скота, где полк молодых зулусов, около двух тысяч крепких парней, так энергично упражнялись, словно готовились к битве. В стороне стояла сотня воинов, они что-то возбужденно обсуждали, топали ногами и даже подпрыгивали, стараясь настоять на своем. Вдруг один высокий и горячий зулус выкрикнул, завидев меня: — А что надо белому человеку в Улунди? В такое время и Джон Данн сюда не сунется. Давайте убьем его, а голову отправим на тот берег Тугелы в подарок английскому генералу. Положим конец бесконечным спорам о войне и мире. Остальные вторили ему, и в следующую минуту с десяток воинов бросились на меня, размахивая палками. Носить оружие в резиденции короля им не разрешалось. Гоза попытался их отстранить, но они отмахнулись от него, как от перышка, вернее, опрокинули. Он упал вверх тормашками и задрыгал в воздухе толстыми ногами. — Придется тебе самому выбираться из этой ямы, — обратился он ко мне в своей пафосной манере, но тут кто-то заткнул ему рот ногой, и, вцепившись зубами в пятку обидчика, он на время умолк. Ко мне подошел мерзкий агрессивный тип под два метра ростом, с волчьей пастью и глянул на меня сверху вниз. — Мы убьем тебя, белый человек! — рявкнул он. У меня в кармане лежал пистолет, и не составляло труда его застрелить, руки так и чесались. Однако я сообразил, что это бесполезно, наоборот, станет только хуже, а когда дело дошло до спора, я и думать забыл о содержимом кармана. — Почему, черный человек? — Потому что у тебя белое лицо! — проревел он. — Нет, потому что у тебя черная душа, а глаза налиты кровью, раз ты не узнаешь Макумазана. — Ну и ну! Это же Бодрствующий в ночи, его еще наши отцы знали. Оставь его в покое. — Нет! — крикнул здоровяк. — Пусть отправляется в страну вечной ночи. У меня с белыми крысами разговор короткий! — И замахнулся на меня своей палкой. Тут мое терпение лопнуло. Изловчившись, правой ногой я зацепил его лодыжку и изо всех сил дернул, а кулаком ударил в подбородок. Зулус попятился и рухнул на землю. — Щенок, — сказал я, — если хоть одна палка коснется меня, в той стране ты окажешься первым! — Выхватил револьвер из кармана и прицелился в него. Он лежал смирно. Однако страсти накалялись, кто знает, как бы все закончилось, не поднимись в эту минуту Гоза с расквашенным носом. — О глупцы, вы хотите убить нашего гостя, которому сам король обещал безопасность. Вы горшки с пивом, а не люди после этого. — А что такого? — ответил один за всех. — Тут место для воинов, а вон там королевский дом. Дадим старому шакалу фору длиной в десять копий, успеет добежать, пожмет руку своему другу-королю, а не успеет, поймаем его и изобьем до смерти палками. — Да-да, беги, шакал! — галдели остальные, стуча палками по щитам, как охотник вспугивает зверя. И посторонились, давая мне проход. Меж тем краем глаза я заметил, как высокий человек со скрытым под покрывалом лицом незаметно присоединился к этим потерявшим голову хулиганам, и рассеянно задавался вопросом, кто бы это мог быть. — Я не побегу, — проговорил я вполголоса, — и не буду искать защиты у короля. Лучше я умру здесь, но зато дорого продам свою жизнь. Иди к королю, Гоза, и расскажи, как его люди встречают гостей, — сказал я и снова прицелился, ожидая удара палкой и намереваясь убить обидчика наповал. — В том нет нужды, — глубоким голосом промолвил человек со скрытым лицом, — король уже здесь. Он откинул покрывало, и пред нами предстал растолстевший и постаревший с нашей последней встречи, но бесспорно сам Кечвайо. Вся шайка громко приветствовала его, подняв правую руку, а самые горячие головы попытались скрыться в поднявшейся суматохе. — Пусть никто не уходит, — приказал Кечвайо, и они застыли на месте как вкопанные, а я спрятал пистолет в карман. — Кто ты, белый человек, — спросил он, обращаясь ко мне, — и что привело тебя сюда? — Король должен помнить Макумазана, — ответил я, приподняв шляпу. — Меня знали Дингаан, Панда и ты, король, до того, как стал новым владыкой. — Да, я тебя узнал, хотя с тех пор ты сморщился, как воловья кожа на солнце, а время убелило твою бороду. — А король раздобрел, как бык на летних пастбищах. Что до моего пребывания здесь, разве король не посылал за мной Гозу и тот не притащил меня сюда, словно несмышленое дитя? — Последний раз, — продолжал Кечвайо, пропустив мои слова мимо ушей, — мы встречались там, в Нодвенгу, когда ведьму Мамину судили за колдовство. Эта женщина свела с ума моего брата, разразилась великая битва, а ты сражался на его стороне в полку амавомба. Помнишь, Макумазан, как она целовала тебя, а между поцелуями проглотила яд? Перед смертью ведьма предрекла мне злую участь, что я приведу к гибели дом Сензангаконы и умру, как она. Ее слова с тех самых пор всюду меня преследуют и нестерпимо мучают. Макумазан, я желаю поговорить с тобой об этом, ведь по всей стране ходят слухи, будто красавица-ведьма любила тебя одного, и только ты знал, о чем она думала. Я промолчал, разговоры о Мамине утомили меня до крайности, а все вокруг, казалось, только о ней и думают. — Что ж, — продолжал король, — потолкуем об этом вдали от посторонних глаз. Вполне естественно, что ты не хочешь говорить о своей любимице при всех. — И он помахал рукой в знак того, что тема исчерпана. Но вдруг король резко переменился, задумчивое и почти кроткое лицо стало свирепым. Он будто увеличился в размерах и выглядел устрашающе. — Что тут делает эта собака? — спросил он Гозу, показав на поверженного мной грубияна, который все еще лежал ничком, боясь пошевелиться. — О король, — ответил Гоза, — он пытался убить Макумазана за то, что у того белый цвет кожи. Я объяснил ему, что белый человек твой гость и привела его королевская гвардия. А он дал Макумазану фору длиной в десять копий, заставляя его бежать к дому короля. Они обещали избить его до смерти палками, если поймают, в чем не сомневались, ведь он уже стар, а они еще молоды. Только Бодрствующий в ночи отказался бежать и, несмотря на огромный рост обидчика, повалил его кулаком на землю. Так он до сих пор и лежит. Вот и все, король. — Встань, собака! — велел король. И здоровяк, трясясь от страха, поднялся. Повинуясь, он назвал свое имя, а какое, я уже забыл. — Слушай, собака, — так же холодно продолжал король, — Гоза сказал правду, ибо я сам все видел и слышал собственными ушами. Ты поставил себя выше короля, осмелился покуситься на жизнь королевского гостя, у которого была охранная грамота, и, к великому позору, хотел запятнать его кровью косяки дверей моего дома. Ты едва не выставил меня перед белыми людьми убийцей этого человека, а ведь я поклялся оказывать ему покровительство. Макумазан, решай сам, как он должен умереть, и будет по слову твоему. — Я не желаю его смерти, просто он и его товарищи выпили лишнего. Отпусти его, король. — Будь по-твоему, Макумазан, я его отпущу. Слушайте, мы сейчас посреди загона для скота, восточные ворота и королевский дом одинаково удалены от нас. Пусть он бежит к восточным воротам, и мы дадим ему фору длиной в десять копий, а товарищи будут преследовать его, как хотели поступить с Макумазаном. Если он успеет выбежать за ворота, пусть отправляется к правительству в Наталь и расскажет там о жестокости зулусов. Тогда пусть тех, кто его преследовал, приведут ко мне на суд, и мы посмотрим, как быстро бегают они сами. Бедняга схватил меня за руку и умолял за него заступиться, но остальные подскочили и, оттащив его на почтительное расстояние, сделали на земле отметку и поставили его перед ней. Здоровяк тотчас метнулся стрелой, а вдогонку ему бросились с десяток приятелей. Кажется, они настигли свою жертву, петлявшую словно заяц, у самых ворот. По крайней мере, взрывы хохота наблюдавших за сценой воинов давали мне это понять, сам я туда не смотрел. — Эта собака съела собственный желудок, — мрачно заключил Кечвайо, поясняя на манер туземцев, что хищника покусали или сапер подорвался на своей петарде. — В стране давно не было войны, а молодые воины, которые своими копьями толь ко защищали скот и обезглавливали кур, кричат громче всех и прыгают выше всех. Теперь они успокоятся, Макумазан, — добавил он задумчиво, — и ты сможешь ходить, где тебе вздумается. Король тут же выбросил этот случай из головы, как белые люди забывают о какой-то безделице, которая случилась на утренней прогулке. Минуту-другую он говорил с командиром, тренировавшим свой полк, когда тот осмелился подойти с отчетом. Наконец он направился к королевскому дому, а мне предложил следовать за Гозой. Мы немного подождали за оградой, и слуга впустил нас. Король сидел совсем один в тени своей большой хижины. По его знаку я сел на приготовленный для меня стул, а Гоза сел рядом на корточки. Его нос все еще кровоточил. — Макумазан, а твои привычки изменились, — произнес Кечвайо. — Или ты так долго отсутствовал, что забыл все обычаи королевского дома? Я воззрился на него, понятия не имея, о чем он толкует. — Что у тебя в кармане? — спросил он с улыбкой. — Разве не заряженный пистолет? Как же ты забыл, что появляться перед королем с оружием запрещено под страхом смерти. Теперь я вправе убить тебя, хоть ты и мой гость. А вдруг английская королева послала тебя за моей жизнью? — Прошу короля о снисхождении, — произнес я смиренно, — о пистолете я совсем позабыл. Пусть твои слуги заберут его. — Пожалуй, в твоих руках он безопасней, Макумазан, ведь я видел, как ты сунул его обратно в карман, а мои люди сроду не притрагивались к оружию. К тому же ты не наносишь удар в темноте. Пусть бы наши народы рычали, как два пса, готовые напасть друг на друга, а ты оказался бы в том месте, то твоя жизнь досталась бы мне. Вот перед тобой пиво, пей и ничего не бойся. Гоза, видел ли ты Открывателя? Каков его ответ на мое послание? — О король, я видел его, — ответил Гоза. — Старейший из знахарей, друг и повелитель духов слышал слово короля. Да, он слышал, как уста короля произнесли слово, и хотя он уже очень стар, все равно приедет в Улунди на Большой совет зулусов, который соберется на восьмой день после полной луны. Он лишь просит короля об одной милости. Пусть приготовят хижины для него, его людей и носильщиков за пределами города Улунди. Там он сможет оставаться совсем один, и чтобы никто под страхом смерти не нарушал его уединения ни в жилище, ни во время прогулок. Вот его слова, король: «Я древнейший человек в земле зулу и общаюсь с духами моих предков, а они не терпят, когда незнакомцы вторгаются к ним, и, если их оскорбить, страну постигнет великое горе. Сверх того, я поклялся, что, пока еще в земле зулу есть король, я до последнего моего вздоха больше не переступлю порога королевского дома. Потому как в последний раз, когда я там был и казнили ведьму Мамину, ныне почившему королю пришла на ум пустая затея угрожать мне. Никто более не пригрозит мне, Открывателю, смертельной расправой. Посему, если король и его Совет желают испить из источника моей мудрости, я сам назначу для этого место и время. В противном случае пусть король позволит мне остаться дома, а сам ищет просветления у других знахарей, а мой свет останется в лампе моего сердца». Эти слова сильно встревожили Кечвайо, ведь он боялся Зикали, впрочем, как и все в этой стране. — О чем это толкует старый колдун? — спросил он сердито. — Он живет затворником, как летучая мышь в пещере, и много лет его никто не беспокоил. Как летучие мыши летают ночью повсюду в поисках очередной жертвы, так и его духи витают над землей зулу. Повсюду только слышно: «А что сказал Открыватель?», «Как же подобное случится, раз Открыватель сказал, что этому не бывать?», «Ведь он жил в этой земле еще до того, как король Чака появился на свет, говорят, дружил с самим инкози Умкулу, отцом зулусов, умершим задолго до того, как родились наши прадеды. Он обладает безграничной мудростью, близок к духам, да и сам небось дух». Скажи, Макумазан, ведь ты друг ему, что же все это значит? — О король, в ту пору, когда правил твой дядя Дингаан и убил буров, бывших у него в гостях, положив тем самым начало распре между белыми и черными, я был еще совсем молод и впервые услышал смех Зикали вон там, в Унгунгундлову. Мы приехали с Ретифом на поиски убитых, но самого Зикали я тогда не видел. Много лет спустя, когда правил твой отец, Панда, я встретился с этим карликом, вот и вся дружба. Теперь же он завлек меня в свое логово, не знаю, по твоей ли воле, о король, а потом по его указке я был доставлен в Улунди, безусловно, с твоего ведома, о король, но против моего желания. Кому понравится, если его убьет в загоне для скота первый же встречный крикун? — Но ведь ты жив, Макумазан, а этого крикуна можно понять, — почти смиренно, как бы извиняясь, ответил Кечвайо, хотя все остальное он пропустил мимо ушей. — А все-таки ты друг Зикали, вы связаны веревкой, у которой, как я слышал, женское имя, за нее он и притянул тебя в землю зулу. Поэтому заклинаю тебя духом этой женщины, у которой есть над тобой власть, скажи, что на уме у этого старого колдуна, почему я не могу убить его и освободиться, как от преследующего меня ночного кошмара? Мне порой кажется, а не умтакати ли он — злодей, пытающийся навлечь беду на меня, на дом Сензангаконы и весь зулусский народ? — Откуда мне знать его замыслы? — ответил я, едва сдерживая гнев, хотя на самом деле все прекрасно понимал. — А что до расправы, разве король не вправе убить кого пожелает? Однако ж я помню, как однажды твой отец задал такой же вопрос самому Зикали, пытаясь выяснить, смертен старик или нет. Тот ответил, что есть предание: когда Открыватель завершит путь жизни, в земле зулу больше не останется королей, как не было их тогда, когда он делал свой первый шаг. А я белый человек и не понимаю ваших речей. — Макумазан, я тоже был там и все помню, — мрачно отозвался король. — Мой отец и отец моего отца боялись Зикали, и поговаривают, будто и сам Чака тоже, а ведь он был самым бесстрашным. И я его боюсь, да так сильно, что не осмеливаюсь принимать важные решения, не посоветовавшись с ним, а то ведь он, чего доброго, околдует меня, народ и всех нас уничтожит. — Кечвайо умолк, а затем обратился к Гозе: — Открыватель сказал тебе, где он хочет жить во время своего пребывания в Улунди? — О король, неподалеку за холмами, в получасе ходьбы для старика есть место под названием Долина костей. Со времени прежнего короля и по сию пору туда отправляют злодеев на смерть. Зикали желает поселиться только там, и больше нигде. В этой же долине соберутся и король с Верховным советом, и не днем, а после захода солнца, при свете луны. — Как?! — Кечвайо вздрогнул. — Ведь это гиблое место, поговаривают, будто долина населена духами, ночью никто близко подойти к ней не осмелится, боятся, как бы призрак не выскочил на них из темноты. — Вот слова Открывателя, о король. Он встретится с королем только там, и нигде больше, и там же следует построить три хижины со всем необходимым, временное пристанище для него и его людей. А иначе он отказывается идти к королю и что-то советовать его народу. — Так тому и быть, — заключил Кечвайо. — Пошли к Открывателю гонцов, пусть скажут: все будет так, как он пожелает. Пусть воины объявят всем мой приказ, чтоб ни одна живая душа под страхом смерти не посмела за ним шпионить, ни когда он прибудет сюда, ни наобратном пути. И чтоб немедля соорудили хижины, а когда станет доподлинно известно о его прибытии, сложите в них вдоволь еды и потом каждое утро приносите еще к узкой горловине долины. О часе прибытия и нашей встречи пускай сообщит через своего посланника. А теперь ступай. Гоза вскочил, в знак приветствия поднял вверх руку и попятился к выходу. Мы остались вдвоем, и я тоже собрался было уходить, однако взмахом руки Кечвайо велел мне остаться. — Макумазан, слуга королевы, пришедший в Наталь, Бартл Фрер, грозит мне войной, а все потому, что двух злодеек привезли с того берега Тугелы, вернули в землю зулу. А Мехлоказулу, сын Серайо, казнил их, ибо они были женами его отца. То сделано без моего ведома. А еще мои воины прогнали с острова посреди реки двух белых людей. — И только-то, о король? — Нет. Слуга королевы заявил, будто я казню людей без суда, эту ложь ему наплели миссионеры; будто с девушками, которые отказались принадлежать своим будущим мужьям и сбежали с другими, обошлись так же. А сверх того, якобы колдунов выслеживают и убивают, а ведь в наши дни такое случается крайне редко. И все это происходит наперекор обещанию, которое я дал Сомпезу, когда он пришел и признал меня королем вместо отца. — Чего же он требует во имя сохранения мира? — Ни много ни мало, распустить армию зулусов и позволить воинам жениться, когда и на ком они сами пожелают. Слуга королевы боится, как бы мы не решили напасть, и хоть сам я люблю англичан, но тот, кто займет мое место, может оказаться не таким дружелюбным. Кроме того, в мою страну пришлют другого слугу королевы, он будет тут глазами и ушами британского правительства и разделит со мной власть. Все эти требования могут погубить мой народ и превратить меня из короля в мелкого царька. — Каков же будет ответ короля? — Я еще не решил. Придется отдать за убитых женщин две тысячи прекрасных волов. Мне не хочется ссориться с англичанами, а вот если бы Сомпезу не защищал голландцев, я бы с радостью с ними сразился. Но как могу я отпустить войско и покончить с полком, ведь он победил в стольких сражениях? Макумазан, если я так поступлю, то с восходом луны меня не станет. Вы, белые люди, думаете, что в земле зулу существует лишь одна сила, и она у короля. Но это неправда! Король лишь один из многих и живет, чтобы исполнять желания своего народа. Где окажется король, если станет бить их, навлечет на них позор или принудит делать что-то против их воли? Тогда он пойдет тропой своих пращуров, Чаки и Дингаана, кровавой тропой, проложенной в сражениях. Теперь я будто между двумя падающими скалами; побегу к англичанам — скала зулусов упадет на меня, а побегу к своему народу — скала англичан обрушится мне на голову, в любом случае меня сокрушат навеки. Рассуди, Макумазан, в своем справедливом сердце, какой же выбор мне сделать? Король со слезами на глазах заламывал руки, и хоть я всегда отдавал предпочтение Панде, его отцу, может, оттого, что Кечвайо убил своего брата, которого я любил, и натворил много других злых дел, ей-богу, у меня сердце сжималось при взгляде на него. — Я не вправе советовать тебе, король, — ответил я, — но прошу тебя, не сражайся против королевы, ведь она самый могущественный правитель на земле. Пусть здесь, в Африке, от ее стопы виден лишь мизинец и сила кажется тебе небольшой, но стоит ее рассердить, и она раздавит зулусов, от них мокрого места не останется. — Многие в стране так говорят, Макумазан, даже Ухаму, сын дяди Унзибе, или, как говорят, сын его духа, с которым мать Ухаму жила после смерти дяди. По правде сказать, я и сам так думаю. Но как удержать армию, жаждущую войны? О, пусть решает Совет, а это значит, последнее слово за Зикали, потому что все смотрят только ему в рот. — Что ж, очень жаль. — Разве? — Кечвайо поглядел на меня испытующе. — Мне тоже. Но раз все равно придется выслушать его совет, пусть лучше при мне говорит, а не тайком в своем Черном ущелье. Убил бы его, да не смею, но солнце взойдет в день нашей общей гибели, я в этом почему-то уверен. — Он махнул рукой в знак того, что тема исчерпана. — Макумазан, ты пока у меня в плену, дай слово, что не попытаешься сбежать, и ходи где пожелаешь, только в пределах часа езды от Улунди. Я бы щедро заплатил, лишь бы оставить тебя здесь, но, если наши народы поссорятся, ты наверняка откажешься. Вот мое слово: я отправлю тебя в Наталь целым и невредимым, если начнется война, или еще раньше — как моего посланника. В скором времени ты, несомненно, вернешься и будешь сражаться против меня. Знай же: я приказал, чтобы всякого белого мужчину или женщину, найденных в земле зулу, убивали как шпионов. Сам Джон Данн, который ел у меня из рук и разбогател на моих подарках, по слухам, спасся бегством или собирается бежать. Тебя самого могли убить, когда ты приехал из земли свази в своей повозке, если бы мой приказ успели доставить тем вождям, по землям которых ты проехал, а так ни они, ни их люди не обратили на тебя особого внимания. Наступила самая тяжелая минута в моей жизни. Очевидно, Кечвайо ничего не знал о Хеде и Энскоме и думал, будто я в одиночку приехал в страну зулусов. Вряд ли он со мной хитрил. Просить ли защиты для молодых людей? Король или откажет, или не сможет оградить их от дикарей, одержимых войной. В утренней стычке он еле утихомирил своих людей, хотя зулусы всегда относились ко мне по-дружески. В то же время никто не посмеет тронуть тех, кто живет, выражаясь языком кафров, под покрывалом Зикали, ведь его почитали за божество, поэтому все, вплоть до крысы в его соломе, было священно. Не напрямую, но все-таки Зикали обязался защищать этих двоих, а Номбе дала твердое заверение. Несомненно, им будет безопаснее бежать из Черного ущелья, чем из Улунди, окажись они когда-либо так далеко. Эти мысли мгновенно пронеслись у меня в голове, и я решил ни о чем его не просить. Как оказалось, то была ужасная ошибка, ну а кто не без греха? Вероятно, если бы я не промолчал, Кечвайо удовлетворил бы мою просьбу и приказал препроводить этих двоих из земли зулу до начала военных действий, хотя их, разумеется, могли убить и по дороге. Как оказалось, по причине, которая выяснится впоследствии, войны могло и не быть. В свое оправдание скажу, что хотел я как лучше, а судьба распорядилась по-своему. Минута промедления — и надежда померкла. Отворилась калитка, и слуга объявил о прибытия бравого капитана с несколькими офицерами. Кечвайо велел их впустить, слуга что-то крикнул, вошли трое или четверо воинов и громогласно приветствовали короля. Завидев меня, они умолкли и замерли в нерешительности. Тогда Кечвайо коротко и ясно объявил им и советнику, пришедшему следом, что я королевский гость и, если он сочтет нужным, стану его посланником к белым людям. Причем тот, кто посмеет сказать мне дурное слово или косо посмотрит в мою сторону, поплатится жизнью, какое бы высокое положение ни занимал. Вестники должны были объявить королевский указ по всей стране и близлежащим поселкам. Затем он по-дружески протянул мне руку, посоветовал быть осторожнее, предложил навещать его, когда мне вздумается, и, наконец, выпроводил вместе со всеми остальными. Минут через пять я вернулся в хижину и услышал, как голосистые глашатаи провозглашают указ короля. Теперь я мог вздохнуть свободно.Глава 14
ДОЛИНА КОСТЕЙ
Неделя после беседы с Кечвайо тянулась мучительно долго. За себя я не опасался, ибо королевский указ выполнялся неукоснительно. Кроме того, история о громиле, пожелавшем на меня поохотиться в загоне для скота, стала широко известна, и желающих разделить его участь не нашлось. Хижину мою не трогали и регулярно снабжали продуктами. Мне разрешалось бродить где вздумается с моей кобылой и говорить с кем пожелаю, даже ездить верхом, что я делал крайне редко, и то поблизости от города, боясь вызвать излишние подозрения или встретить зулуса, не знакомого с королевским указом. В этих поездках меня неизменно сопровождали быстроногие стражи и вооруженные воины, якобы для защиты, а на самом деле, чтобы убить, если мое поведение покажется им подозрительным. Во время прогулок я встречал старых знакомых, с некоторыми туземцами не виделся уже давным-давно. Казалось, они рады меня видеть и были не прочь поболтать о былых временах, однако о нынешних событиях помалкивали, только повторяли, что войны не миновать. Вестей о Хеде и Энскоме не приходило, правда, я не решался наводить о них справки напрямик. Один надежный человек заверил меня, что последних миссионеров и торговцев выслали из страны и теперь во всем Зулуленде нет ни одного белого человека, ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, кроме меня. Их страна полностью черная, с гордостью говорили туземцы, намекая на цвет кожи, как было до правления короля Чаки. Мне оставалось терзаться беспокойством, не имея возможности с кем-то по делиться, и надеяться, что Зикали честно сыграет свою роль и ото шлет молодых людей целыми и невредимыми. Почему нет? Ведь ему нужен был я, а не они. Он принял эту парочку, вернее, поймал в ловушку всего лишь как моих спутников, которые не могли со мной разлучиться. Тогда, по крайней мере, я в это верил. Однажды появился проблеск надежды. Дней через пять после беседы с Кечвайо я встретил Гозу и узнал от него, что посланники короля вернулись из Черного ущелья и у них есть для меня слова от самого Зикали. Вот они: «Велите Гозе передать Макумазану мое сожаление, что нам не удалось попрощаться, ведь по утрам я крепко сплю. Велите передать, что я рад его встрече с королем, ибо для того я и позвал его в землю зулу. Велите передать, что ему нечего опасаться, и, если у него тяжело на душе за тех, кого он любит, пусть утешится. Духи хранят их и его самого, и никогда он и они не были в большей безопасности, чем сегодня». Выслушав Гозу, я спросил, могу ли взглянуть на посланника. Оказалось, нет, того уже отправили с другими поручениями. Я уточнил, не забыл ли Гоза чего упомянуть. Да, говорит, есть кое-что, вестник еще сказал, что письмо насчет одеял теперь наверняка в Натале. Тут вдруг он сменил тему и предложил мне пойти с ним в Долину костей, где ему надлежало проследить за тем, как строят хижины для Зикали и его людей. Разумеется, я согласился, надеясь по дороге выведать у него какие-нибудь подробности. Город Кечвайо стоит на склоне, к северо-востоку от равнины Улунди, вернее, стоял, ведь его давным-давно сожгли. Подъем становился все круче, вглубь холмов врезались ложбины, среди них и лежала Долина костей. Она ничем особенно не выделялась, как Черное ущелье, — ни вздымающихся скал, ни поваленных гранитных столбов. Обычная долина с крутыми склонами, оставленная рекой, подножие более крутого склона усеяно валунами. Местами росли высокие алоэ, издали походившие на людей, разбежавшихся во все стороны. Их нижние листья съежились и почернели от пожаров. Попадались и молочаи, серые и безлистные, с отростками, похожими на пальцы рук, а среди них прятались хилые колючие деревца, борясь за жизнь в бедном грунте. Все же имелась одна особенность. Со склона в эту узкую лощину вдавался гребень или отрог шестидесяти или семидесяти ярдов в длину и двадцати в ширину, завершавшийся плоским выступом в сорока футах над землей. На гребне тоже рос ли высокие алоэ, пока хватало почвы, ближе к краю она истощалась или вода размыла грунт. Здешний пейзаж был и наверняка остается безжизненным из-за постоянной тени холмов, большую часть дня заслоняющих со бой солнце. Все кругом, особенно в дождь, как в этот раз, казалось сырым и убогим, хотя дно ущелья и поросло высоким бурьяном и цветами с дурным запахом. Потому зулусские короли и избрали унылое, необитаемое ущелье местом казней. Во всяком случае, в траве валялись черепа и крупные кости убитых, обглоданные гиенами и шакалами и почерневшие от времени. Особенно много останков было под упомянутым столообразным выступом и вокруг него. По словам Гозы, королевские палачи обычно волокли свою жертву к краю выступа скалы и сбрасывали вниз, живых или мертвых, а ведьмам еще и глаза выкалывали. В таком-то месте Зикали пожелал остановиться, пока гостит в Улунди. Разумеется, трудно было найти более уединенный уголок. Кечвайо рассказывал, а Гоза подтвердил его слова, будто здесь больше духов, чем во всей земле зулу. Не считая гребня напротив поселка Дингаана, где я однажды подстрелил стервятников, спасая жизнь себе и своим спутникам[280]. Даже днем люди обходят его стороной, а в ночные часы и подавно ничто не заставит их подойти к ложбине, во всяком случае в одиночку. Сбоку выступа и у его основания, рядом с родником, большая группа туземцев в спешном порядке, словно желая поскорее разделаться с работой, возводила хижины для Зикали и его людей. А на полпути к ущелью, чем долина и была, по сути, шагах в двадцати пяти от места, откуда сбрасывали осужденных, расчистили и выровняли круглую площадку, способную вместить пятьдесят или шестьдесят человек. По словам Гозы, здесь разместятся король и Совет, когда придут искать у Зикали просветления. Мне подумалось, что единственное, чем он способен с ними поделиться, — это светом адского пламени, куда он их и ввергнет. В самом деле, эти люди так и не поняли, что Зикали их злейший враг. Во-первых, в нем текла кровь уновандви, племени, уничтоженного великим королем Чакой. Этот самый Чака отнял у Зикали жен и убил его детей, а тот в отместку замыслил убийство короля, как он поступил и с его братьями, Умлангааном и Дингааном. Последнего карлик втянул в ссору с бурами, а затем, не без моего участия, спровоцировал войну между принцами Кечвайо и Умбелази. Теперь я убедился: Зикали затевает новую войну, между англичанами и зулусами, заранее зная, что со всем народом и домом Сензангаконы будет покончено, ибо он поклялся стереть его с лица земли. Ведь он говорил мне об этом много лет назад, а отказываться от своих слов не в его характере. Разве он не использовал красоту и аппетиты Мамины в своих интересах, а когда она стала не нужна, позволил ей умереть? Так же он поступал и с остальными. И сам я, возможно, орудие в его руках, которое бросят на произвол судьбы, когда настанет черед. Впрочем, я понятия не имел, как Зикали собирается вовлечь меня в свои козни, ведь он прекрасно знает, что я пойду на все, лишь бы ему помешать. О, мне захотелось тут же пойти к Кечвайо и все ему рассказать, и пускай все тайны Зикали всплывут наружу. Стоп! Допустим, этот хитрый колдун держит моих спутников в заложниках как гарантию моего послушания. Что с ними будет, если я его предам? Он уверял, будто они в безопасности, намекая на их благополучное бегство в Наталь. А откуда мне знать, сказал ли он правду? Я был совершенно сбит с толку, не мог понять, для чего он заманил меня в страну зулусов. Поэтому не решался что-либо предпринять, боясь угодить в ловушку, расставленную этим хитрецом, и утянуть за собой остальных. Да и кто знает, настоящий ли он человек или посланник Сатаны на земле, обладающий сверхчеловеческими знаниями и властью над болезнями. Он жил уже очень долго, хотя никто не знал, сколько ему на самом деле лет. Кроме того, Зикали прекрасно умел читать чужие мысли и, как я совсем недавно убедился, своим искусством мог сотворить перед человеком видение или мираж. Еще он знал обо всем, что происходило в других местах, мог посылать и угадывать сны. Как бы, в противном случае, Номбе узнала о моем сне в доме Марнхема? Наконец, он умел предсказывать будущее и однажды доказал это на деле, напророчив, что меня ранит буйвол с обломанным рогом. Впрочем, все это могло оказаться лишь следствием наблюдательности, ловкого шпионажа, обмана и гипноза. Полной уверенности в этом у меня не было ни тогда, ни сейчас. Вот о чем я думал, покидая Долину костей с толстяком Гозой. Он то и дело поглядывал на меня, как любопытная ворона на блестящий предмет, привлекший ее внимание. — Гоза, — прервал я наконец молчание, — зулусы в самом деле собираются воевать с англичанами? Он повернулся и указал туда, где холмы устремлялись к широкой равнине. Два полка выполняли там маневры. Один защищал подступы к склонам, а другой нападал со стороны равнины, да так яростно, что издалека могло показаться, будто они и впрямь сражаются. — Разве не похоже на битву, Макумазан? — Да, Гоза, но это только забава. — Верно, Макумазан, а война, может, будет, может, нет. Разве я предсказатель, чтобы знать наверняка? Никто в земле зулу этого не знает, разве что тот, для кого строятся те хижины. — Гоза, ты думаешь, он и вправду знает? — Нет, Макумазан, я не думаю, а уверен. Зикали уже слыл самым великим колдуном, когда мой отец еще держался за фартук своей матери. Он подергает за ниточки — и правитель этой стра ны запляшет, как решит колдун. Пожелает войны — будет война, а если мира, так тому и быть. — И чего же он желает, Гоза? — А я у тебя хотел об этом спросить, Макумазан, ведь, по твоим словам, вы старые друзья. Объясни еще, почему он выбрал место для ночлега в этой темной норе среди мертвецов, а не с живыми под солнцем Улунди? — Этого я не знаю, Гоза, поскольку Открыватель не отворял мне своего сердца. Он держит при себе все свои секреты. Вообще же, по-моему, те, кто общается с мертвыми, и жить привыкли с ними. — Ты, как всегда, прав, Макумазан, — сказал Гоза и так взглянул на меня, словно не поверил ни единому слову. Видать, он решил, будто я в сговоре с Зикали и в курсе всех его дел. Догадался небось о моих спутниках, когда я пообещал ему одеяла за молчание, и их подозревает в сговоре со мной. Впрочем, тогда я не был в этом до конца уверен, потому и не спросил о Хеде и Энскоме, не выдал их существования ни единым словом, дабы не подвергать смертельной опасности. В сущности, я мог не волноваться, поскольку, если Гоза, как я думал, состоит на секретной службе главным гонцом и что-то знает, Зикали, скорее всего, велел ему держать язык за зубами, пригрозив проклятьем. То же касается и солдат, которые пришли вместе с ним отвести меня в Улунди. Слово Зикали было куда весомее королевского, ведь по глубокому убеждению всех туземцев, если Кечвайо мог только убить их, то колдун, подобно Сатане, способен погубить и тела, и души. Но откуда ж мне было знать? Пару дней обошлось без происшествий. Впрочем, ходили слухи об одной или двух встречах Совета в доме короля, где обсуждалось положение дел. Кечвайо я больше не видел, он только дважды присылал слуг с яствами и интересовался через них, здоров ли я и доволен, не обижают и не оскорбляют ли меня. Я отвечал, что вполне здоров и покоен, однако белому человеку, хоть и отшельнику, трудно ощущать радость, живя в одиночестве среди тысяч туземцев. Утром третьего дня, когда ожидалось полнолуние, явился Гоза и сообщил о прибытии Зикали. В Долину костей тот ступил еще до рассвета. Я спросил, как этот дряхлый старик умудрился забраться в такую даль. Оказывается, если он правильно понял, колдун не шел своим ходом, а его несли слуги на носилках, вернее, носилок было двое, для Зикали и его «души». Подобное заявление озадачило меня, даже для Зикали это звучало странно, поэтому я переспросил, о чем это он толкует. — Макумазан, я сказал все, что знаю! — воскликнул он. — Об этом Открыватель сам сообщил королю через своих посланников. Он передвигается лишь по ночам, поэтому его никто не видел, а иначе от одного его взгляда мужчины слепнут, а женщины немеют. Может статься, он зовет своей душой эту знахарку Номбе, ходят слухи, будто он ее создал, ведь об отце и матери ее мы отродясь не слыхивали. А может быть, за балдахином вторых носилок, если они есть на самом деле, колдун прячет свою змею. — Может, и так, — ответил я, оставив бесполезные расспросы. — Мне бы хотелось немедля повидаться с Зикали. — Никак нельзя, Макумазан, он отдыхает с дороги и никого не желает видеть. Кечвайо приказал убивать любого, кто приблизится к Долине костей, будь он хоть королевских кровей. Даже случайно приблудившегося к тому месту пса велено истреблять. Солдаты, занявшие круговую оборону, уже убили одного, вот какой строгий приказ. А еще мальчика, который искал пропавшего теленка, — как по мне, так это скверная примета. — Тогда я отправлю ему послание, — настаивал я. — Попробуй, — ответил Гоза насмешливо, — видишь, вон там парит стервятник. Попроси его отнести твои слова, а на других посыльных не рассчитывай. Не будь глупцом, Макумазан, и наберись терпения. Нынче ночью ты увидишь Открывателя, когда он посетит королевский Совет в Долине костей. Таков приказ Кечвайо, с восходом луны я должен привести тебя на Совет, на случай, если король пожелает спросить тебя о белых людях или передать сообщение для правительства в Натале. На закате я приду за тобой, а пока прощай. Меня ждут неотложные дела. — Могу ли я повидать короля? — Нет, Макумазан, сегодня король весь день приносит жертвы духам своих предков, и его нельзя отвлекать, — уходя, бросил через плечо Гоза. Воспользовавшись разрешением короля ходить, где мне вздумается, я в тот же день вышел из города и пошел к Долине костей, желая выяснить, правду ли сказал Гоза. Так и есть, всего в трехстах шагах от узкой горловины долины, которая издали походила на черную пещеру, я заприметил солдат. Они стояли в десяти шагах друг от друга, образуя внушительное кольцо, которое тянулось вверх по склону и исчезало за гребнем холма. Найдя среди них знакомого, я спросил, не пропустит ли он меня к другу, Открывателю. — Конечно, Макумазан, раз ты так желаешь, — ответил малый, судя по всему весельчак, — то есть я пропущу твой дух, но сначала подойди поближе, и я продырявлю тебя своим копьем, чтобы она смогла вылететь. Поблагодарив солдата за науку, я протянул ему щепотку табаку. Он принял ее с благодарностью, видно, утомился от долгого дежурства. Затем я спросил, сколько слуг привез с собой великий знахарь. Он не знал, хотя видел, как к горловине ущелья выходили несколько высоких мужчин и забирали еду, оставленную для Зикали по приказу короля. На мой вопрос, видел ли он среди слуг женщин, он ответил отрицательно. Зикали, на его взгляд, уже древний старик, и женские прелести его не волнуют. В эту минуту к нам поднялся офицер, делающий обход, и так сурово глянул на меня, что я предпочел ретироваться. Очевидно, мне не пройти мимо этих бдительных стражей. На обратном пути я подошел поближе к ограде королевской хижины и увидел, как знахари снуют туда-сюда в своих отвратительных церемониальных облачениях. Выходит, и тут Гоза не обманул, король и в самом деле совершает магические обряды, а стало быть, подойти к нему никак нельзя. Куда ни глянь, всюду неудача, будто судьба ополчилась против меня. Не иначе на мне лежало магическое заклятие. Поддавшись суеверному страху, я начал подумывать, а не околдовал ли меня Зикали, ведь ему это ничего не стоит, он и сам говорил. Может, и так, уже по тому, как меня окружили непреступной стеной молчания, я догадался, здесь что-то нечисто и следует хорошенько во всем разобраться. Мрачный, побрел я в хижину и поделился своими горестями с кобылой, а та заржала и потерлась о меня мордой. Бедное животное, хоть и было ухожено и накормлено, как и я, страдало от одиночества. И немудрено, ведь она тоже маялась без дела вдали от сородичей. Потом я поел, выкурил трубку и попытался вздремнуть, но куда там, мне все чудилось, будто Зикали злорадствует надо мной. Кто знает, может, колдун и в самом деле смеялся там, в своей хижине. Наконец-то подошел к концу этот тяжелый день. Солнце клонилось к закату, небо хмурилось, и гигантский огненный шар то и дело скрывался за тучами. Его палящие лучи озаряли облака в бескрайних небесах и населяли их причудливыми мерцающими фигурами, заполонившими всю Долину костей за холмами. В моем воспаленном мозгу облака представлялись двумя враждующими армиями, борьбой воинов огня и воинов тьмы. Воины тьмы одержали верх, но воины огня снова пошли в атаку и победили. А над полем сражения восседал на корточках некто черный с пламенным венцом, — похоже, будто Зикали вырос в десять тысяч раз, и, ей-богу, в отдаленном раскате грома я расслышал его гортанный смех. Вдруг я ощутил рядом чье-то присутствие, оглянулся и увидел Гозу. — Макумазан, на что ты так уставился? — спросил он, указав копьем в небо. — На битву зулусов, — бросил я в ответ. — Значит, ты заклинатель погоды, Макумазан, а я вижу только красные и черные облака. Ну, нам пора, скоро узнаем, будут ли сражаться зулусские воины. Зикали ждет нас, а Совет уже начался. Ах да, король сказал, не худо бы тебе захватить с собой пистолет, а то вдруг кто-то попытается напасть на тебя в темноте. — Он при мне. Только лучше бы ты защитил меня, Гоза, а то ведь я как начну палить в темноте во все стороны, могу и тебя задеть ненароком. Он молча улыбнулся, но весь остаток ночи упорно держался у меня за спиной. Мы шли по городу, а все кругом стояли и молчали. Предвкушение чего-то важного витало в воздухе. Все понимали: вот она, решающая минута — на чаше весов судьба их народа. Люди следили за каждым моим взглядом и жестом, словно пытались истолковать их тайный умысел. Следя за ними краем глаза, я оценивал свои шансы на побег от этих дикарей. Если толпу охватит жажда крови, то у меня столько же шансов выбраться живым, сколько у лисы, порубленной на фарш, удрать от голодной своры собак. Выйдя из города, мы никого не встретили, пока не добрались до полка, стоявшего подобно нескончаемой веренице черных статуй. Гоза произнес по их требованию замысловатый пароль, в котором упоминался и я, тогда они расступились и пропустили нас. Мы зашагали дальше к горловине ущелья, кругом стояла непроглядная темень, ибо солнце уже давно село, а луна пряталась за холмами и должна была выйти лишь спустя полчаса, а то и больше. Вскоре показалось пятно света, костерок, горящий поблизости от того самого скалистого выступа. На утрамбованной земле немного поодаль сидело на корточках около тридцати человек. Все в накидках из шкур и укутанные в одеяла, а посредине на деревянном стуле восседал толстяк. — Король и Большой совет, — шепнул мне Гоза. Один оглянулся и заметил нас. По знаку короля он встал, и, когда пламя костра осветило его лицо, я узнал премьер-министра Умнямана. Он подошел ко мне, кивнул в знак приветствия и отвел на несколько шагов в сторону, туда, где в зарослях травы рос молочай. Там я сел на услужливо поставленный для меня стул, а Гоза, разумеется, не состоявший в Совете, присел рядом прямо на траву. Отсюда меня не было видно ни сидящим у костра, ни даже со скалы, нависшей над ними, зато я все прекрасно обозревал, стоило лишь чуть поднять голову. Вскоре угасли последние проблески зари, все погрузилось во тьму, оставив лишь огонек костра да массивные очертания скалы за спиной. Наступила полная тишина, члены Совета безмолвствовали, могло даже показаться, будто все они мертвы. Вдруг мимо пролетел жук, и я вздрогнул от его громкого жужжания, как от пули. Все вокруг будто погрузилось в гипнотический транс. Меня клонило ко сну, однако мозг бодрствовал и продолжал лихорадочно соображать. Я прекрасно понимал, что группа туземцев слева от меня должна принять решение, миру быть или войне. Они никак не могли прийти к единому мнению, а король был готов последовать за теми, кто возьмет верх над соперниками. Однако последнее слово за голосом из костра. Все как у Дельфийского оракула, только вместо жриц один жрец, но какой! Скорее всего, это задумал сам Зикали, знаток человеческой натуры, а особенно дикарей, стремясь поразить всех невероятным зрелищем. Надо сказать, у него это вышло мастерски, ведь известное дело, при свете дня я бы только посмеялся над всем происходящим, а в подобном месте и в столь поздний час представление произвело на меня сильное впечатление. Даже зулусы поддались на уловку, у некоторых зуб на зуб не попадал от страха, а Гоза задрожал, бормоча, будто замерз, хотя в ущелье стояла невыносимая жара и духота. Вскоре серебристое сияние рассеяло покров тьмы, над холмом показался краешек диска и долину залил поток лунного света. Луч коснулся скалистого выступа, и между его подножием и костром все увидели уродливую фигуру седовласого Зикали, сидящего на корточках.Глава 15
БОЛЬШОЙ СОВЕТ
Зикали появился незаметно для всех, и хотя он наверняка прокрался в темноте из-за скалы, все-таки было что-то таинственное в его неожиданном появлении. По крайней мере, так думали эти высокородные зулусы, судя по их испуганным и удивленным возгласам. Колдун уселся, как большая обезьяна, и уставился в небо, отблеск костра отразился в его запавших глазах. Луна сияла все ярче, но ее то и дело скрывали маленькие облачка, образуя на скале странные тени. Они походили на фигуры под вуалью, которые то приближались к колдуну и склонялись над ним, то удалялись, будто передав ему послание или наставление. — Его посетили духи, — прошептал Гоза, а я промолчал. Действо продолжалось довольно долго, за это время луна над холмом показалась целиком, облака рассеялись. Зикали по-прежнему хранил молчание, но я, знакомый с местными обычаями, знал, что мы наблюдаем противоборство между двумя королями, духовным и земным. На мой взгляд, если с ним не заговорить, Зикали может просидеть всю ночь, не проронив ни слова. Возможно, если бы не всеобщее нетерпение, Кечвайо мог ждать сколько угодно. Как бы там ни было, он уступил воле народа. — Приветствую тебя, повелитель духов, от имени Совета, всего зулусского народа и от себя в выбранном тобой месте. Зикали молчал. Тишину нарушало лишь негромкое шушуканье. Помедлив, Кечвайо решил повторить приветствие: — Открыватель, неужто ты оглох с возрастом, раз не слышишь своего короля? — Нет, потомок Сензангаконы, — ответил наконец Зикали, и его негромкий голос разнесся по всему ущелью, — возраст тут ни при чем, но в последнее время мой дух витает далеко от тела. Подобно тому, как ребенок удерживает на веревочке шар, наполненный воздухом, и я должен вернуть его с небес на землю, прежде чем ответить. А что до выбранного мной места, как же иначе, если в этой самой долине я повстречал твоего дядю, короля Чаку, Лютого Зверя. Где же еще мне встречаться с последним королем зулусов? Его слова прозвучали двояко, то ли он говорил о ныне правящем Кечвайо, то ли намекал, что в стране зулусов больше не будет королей. Члены Совета подумали о худшем и содрогнулись от страха. — Отчего же не выбрать это святое для меня место? — продолжал Зикали. — Не тут ли, о сын Панды, король Чака убил моих детей и заставил меня сидеть там, где сейчас сидишь ты, и смотреть, как они умирают? Их притащили на этот выступ скалы, всех четверых, троих сыновей и дочь, и сбросили вниз на моих глазах, а убийцы — они плохо кончили, — эти убийцы смеялись, и Чака смеялся вместе с ними. Да, король смеялся, и я тоже, ведь король был вправе убивать моих детей и похищать их матерей, и разве я не радовался, что они покинули этот мир и попали в мир духов? Оттуда они часто говорят со мной, и даже сейчас, вот почему я не сразу услышал тебя, король. Старик умолк и будто прислушался. — Что ты говоришь, Нома? — продолжал он уже другим, нежным голосом. — Моя дорогая малютка Нома! О, я слышу, слышу тебя! Теперь он встал на четвереньки и пополз, ощупывая все вокруг своими длинными пальцами, будто что-то искал. — Где? Где? — бормотал он при этом. — О, понимаю, шакал зарыл его глубоко у самых корней, не правда ли? Уф! Как тверда земля. Ага, вот он, но взгляни-ка, Нома, я поранил палец о камень. Нашел, нашел! — Из-под корней поваленного дерева колдун вытащил череп ребенка и, держа его в правой руке, бережно отряхнул от приставшей земли. — Да, Нома, может, он и твой, но как я могу в этом убедиться? Что ты говоришь? По зубам? А, теперь я вспомнил! За день до того, как тебя забрали, я вырвал этот передний зуб, а под ним оказался другой, расколотый надвое. Если череп твой, то и необычный зуб найдется. Приблизься к огню, Нома, и взглянем вместе, ведь света луны недостаточно, верно? Он вернулся к костру и склонился над пламенем, разглядывая череп. — Верно, Нома, верно! Вот он зуб, такой же белый, каким я увидел его впервые много лет назад. О дорогое дитя моих чресл, драгоценное дитя моей души, ведь ты лучше меня знаешь, Нома, что мы рождаемся не с одним телом. Сегодня я приветствую тебя! — воскликнул он и поцеловал череп, прижав к своим губам. Затем старик положил его между собой и костром, повернув лицевой частью в сторону короля, и разразился своим жутким смехом. Тихий стон прокатился среди присутствующих, а Гоза, прижавшийся ко мне, покрылся испариной. Тут вдруг голос Зикали стал жестким и деловитым, так сказать, совсем как у обычного доктора. — Ты послал за мной, о король, как поступали и твои пращуры накануне великих событий. Какой же у тебя ко мне вопрос? — Ты и сам знаешь, Открыватель, — как-то неуверенно ответил Кечвайо, — вопрос всего один: избрать мир или войну? Англичане грозят мне и моему народу, и у них слишком много требований. Среди прочего, они велят распустить нашу армию. Могу огласить и остальное, если пожелаешь. Так если я откажусь повиноваться, то в считаные дни они наводнят землю зулу, — наверняка их солдаты уже готовы перейти реку. — В этом нет нужды, король, мне известно не меньше твоего. Ветер разносит слухи о требованиях белых людей, птицы поют о них, а гиены воют по ночам. Давай поглядим, как обстоят дела. Когда умер твой отец, пришел великий белый вождь Сомпезу и от имени английского правительства назначил тебя королем. Тем самым он попрал наши законы, ибо, согласно им, чужак не вправе назначать короля зулусов. Оттого Совет и знахари — заметь, король, меня с ними не было, — переселили дух Чаки Лютого Зверя в тело Сомпезу и наделили его правом поставить тебя королем над зулусами. Выходит так, что через дух Чаки ты принес клятвы английской королеве отменить казнь за колдовство, не убивать людей без открытого и справедливого суда и прочее. Ты нарушил эти клятвы, король, — прибавил он, помолчав немного, — пролил кровь и должен за нее держать ответ. При этих словах среди членов Совета прокатилось возмущение, а Кечвайо привстал, затем снова сел. Зикали взирал на небеса и ждал, когда волнение уляжется. — Сомневаетесь в моих словах? — продолжал он. — Тогда спросите белых людей, правду ли я говорю, спросите у духов тех, кто умер за колдовство, и женщин, убитых и брошенных на перепутье за то, что они выбрали в мужья не тех, кого дал им король. — Как мне спросить белых людей, ведь они так далеко? — сказал Кечвайо, пропустив остальное мимо ушей. — Будто бы, король? Ты прав, я не вижу и не слышу их, но я чувствую, один белый человек совсем рядом. — Тут старик снова поднял череп с земли. — А, благодарю тебя, дитя мое, — прошептал он. — Сдается мне, король, тут в ущелье притаился белый человек по имени Макумазан, добрый и правдивый, издавна знакомый с нашим народом. О мыслях белых людей лучше узнай у него, хоть он у них и не ближайший советник. Не веришь мне, спроси у него. — Мы знаем его мысли, — ответил Кечвайо. — Нет нужды спрашивать Макумазана, он снова запоет старую песню. Речь о том, как быть зулусам, сдаться и стать уже не народом, а рабами или сражаться и прогнать англичан к морю, а следом за ними и буров. — Прежде всего, мне должно знать, чего желают сами зулусы, ведь я живу вдали и знаю не так много о мире живых. Передо мной собрался Большой совет. Эти люди представляют весь народ, так пусть говорят. Тут члены Совета принялись высказываться каждый в свой черед по старшинству. Мне не вспомнить всех присутствующих и их речи, однако знаю, вождь Сигананда, девяностолетний старик, говорил первым. Он рассказал, как был другом короля Чаки и его капитаном и они сражались вместе во многих битвах. Впоследствии он стал генералом короля Дингаана, а когда отлучился, тот убил буров во главе с Ретифом. Далее в гражданской войне он перешел на сторону Панды, а Дингаан был убит при поддержке буров. При нем началась битва у реки Тугела, хоть сам он и не участвовал в сражениях, но вскоре стал советником Панды, а после и его сына Кечвайо. Получился такой длинный и интересный экскурс в историю, охватывающий все периоды зулусской монархии. — О король и советники, — заключил вдруг старик, — когда черный гриф зулусов атаковал птицу своего полета, он неизменно одерживал над ней верх, но, когда из-за моря прилетел серый орел белых людей, он победил грифа, и сердце мне подсказывает: как случилось в прошлый раз, так случится и в будущем. Чака всегда дружил с англичанами, и Панда, и ты тоже, король, — до нынешнего дня. Поэтому не следует отрубать руку, которая тебя кормит, поскольку она только кажется слабой, но может окрепнуть, вцепиться нам в горло и задушить. Вслед за ним говорили братья короля, Ундабуко, Дабуламанзи и Магвенга. Они выступали за войну, впрочем, последние два осторожно подбирали слова. Далее следовал Ухаму, дядя короля, тот самый, кого считали сыном духа. Он был решительно против войны и настаивал на полном подчинении короля всем требованиям англичан. Приведя наглядный пример, Ухаму заявил, что король должен согнуться, как тростник перед надвигающейся бурей, а когда стихия пройдет, он снова выпрямится, и вместе с ним весь тростник народа зулусов. С ним согласился Секетвайо, вождь умдлалози, и еще шестеро или семеро, но имена их я позабыл. В то же время Узибебу и советник Унчинквайо, впоследствии командовавшие при Изандлване, были за войну, как и Сирайо, муж двух женщин, похищенных с территории англичан и убитых, и вождь Умбилини, по рождению свази — сэр Бартл Фрер требовал его выдачи властям, — впоследствии он командовал зулусами в битве при Илобане. И напоследок резко высказался премьер-министр Умнямана. Мол, если в ответ на вызов белого быка зулусский буйвол, точно робкий теленок, спрячется в болоте, то пусть дух Чаки и духи всех предков утопят его там. Выслушав всех, Кечвайо заговорил снова: — Худо, если Совет делится на два лагеря, к кому же прислушаться вашему предводителю, когда подступят войска недруга? С тех пор как взошла луна, я сижу и подсчитываю голоса, и что же выходит? Одна половина почтенных мудрецов за мир, а другая против. Какой же путь избрать, воевать нам с англичанами или жить в покорности? — Пусть решает король, — отозвались они в один голос. — До чего тяжело быть королем! — воскликнул Кечвайо в сильном волнении. — Допустим, мы объявим войну и победим, разве я стану богаче, чем сейчас? Какая мне польза от новых земель, подданных, жен и скота, если всего этого и так вдоволь? А что я получу, если мы потерпим поражение и враг отберет у меня все, а может статься, и саму жизнь? Вот что я вам скажу: зулусы призовут проклятье на весь мой род до последнего колена на веки вечные. «Кечвайо, сын Панды, — скажут они, — из-за какого-то пустяка поссорился с англичанами, нашими бывшими друзьями, и некогда великий дом Сензангаконы обратился в прах, а его народ канул в небытие». Мой вестник Синтвангу принес от советника королевы суровое послание, мы дадим на него ответ словами или нашими копьями. Так вот, как он говорит, в Натале мало английских солдат и зулусы их враз проглотят, точно куски мяса, еще и голодны останутся. Только я сомневаюсь, все ли там английские солдаты. Макумазан, ты белый человек, — обратился он ко мне, повернувшись всеми своими телесами. — Скажи нам, сколько у королевы солдат? — Король, я не могу сказать наверняка, однако если зулусам удастся собрать пятьдесят тысяч воинов, то королева в силах направить против них десять раз по пятьдесят тысяч и еще столько же воинов, если она рассердится. Притом все со скорострельными винтовками, а с ними сотня солдат с орудиями, способными одним выстрелом спалить Улунди дотла. Из-за моря от заката до восхода приплывет тьма кораблей, придут белые и черные люди, и никто их не удержит. В ответ на мою торжественную речь советники издали глухой стон. — Не слушай белого предателя, король! — закричал один из них. — Он для того и послан, дабы сердца наши растаяли из страха перед его ложью! — Макумазан не мог сказать неправду, — продолжал Кечвайо, — в прежние времена его ни разу не уличали во лжи. Впрочем, он тут вовсе не за этим, я сам посылал за ним и верю в его искренность. Сдается мне, англичан не меньше, чем гальки на дне реки, и Наталь, да и весь мыс Доброй Надежды подобен не одному загону для скота, а целой сотне. Разве не говорил Сомпезу о несметном числе их воинов, когда много лет назад вернулся после битвы у реки Тугела и назвал меня королем вместо отца? В тот день сподвижники Узуту долго бушевали вокруг него, как река, вышедшая из берегов, а он сидел посредине, спокойный, как скала. Прав был и Чака, когда Дингаан и Амбопа нанес ли ему удар и он, умирая в поселке Дугуза, сказал, что его загрыз ли собаки, евшие из его рук, но вот приближается топот множества ног белых людей, которые раздавят подлых псов вместе со всеми зулусами. Кечвайо умолк, и воцарилась тишина. Слышно было только, как потрескивает костер Зикали, его пламя по-прежнему ярко пылало, хоть я и не замечал, когда старик успевал поддать жару. Вдруг где-то поблизости жутко завыла на луну собака и заухал, пролетая над ущельем, большой филин. На мгновение тень от его широко распростертых крыльев накрыла короля. — Слушайте! — воскликнул Кечвайо. — Собака воет! Сдается мне, она стоит на крыше дома Сензангаконы. Филин кричит! Сдается мне, он свил свое гнездо в мире духов. Добрые ли это знаки, мои советники? Я не уверен и не стану принимать решение в этом деле, миру быть или войне. Есть ли среди вас тот, кто одной со мной крови? Пусть он выйдет и займет мое место, а я вернусь в свои владения, в страну Гикази, где жил, когда еще был принцем, пока ведьма Мамина, которая дурачила мужчин и никого не любила, не стала причиной распри между мной и моим братом Умбелази, чью кровь не поглотит земля, не иссушит солнце. — При этих словах все разом повернулись ко мне, даже Зикали, на первый взгляд равнодушный ко всему происходящему, и мне тут же захотелось провалиться сквозь землю. — Да как же это можно, король? — вмешался премьер-министр Умнямана. — Может ли твой родич занять это место, пока ты еще жив? Ведь тогда между племенами разгорится война, зулус обратится против зулуса, пока никого не останется в живых, а затем придут белые гиены из Наталя глодать наши кости, а с ними и буры, уже перешедшие реку Вааль. Послушай, для чего же среди нас этот ньянга — то есть знахарь? — спросил он, указав на Зикали, сидящего у костра. — Зачем его призвали из Черного ущелья, которого он непокидал столько лет? Разве он не в состоянии дать необходимый нам совет или подать хоть какой-нибудь знак? Тогда бы мы знали, как следует поступить, и решили, сражаться или нет. Вот пусть Зикали и предскажет будущее, даст нам совет, тогда король скажет свое слово и объявит о своем решении королеве через этого белого человека, а зулусы его исполнят. Мне показалось, Кечвайо охотно ухватился за его предложение, — вне всякого сомнения, Умнямана и Зикали втайне обо всем сговорились. То ли король желал оттянуть страшную минуту, когда будет вынужден принять решение, то ли надеялся переложить ответственность с себя на духов, говорящих устами пророка. Как бы там ни было, он согласился. — Верно, — кивнул Кечвайо, — пусть Открыватель укажет нам путь среди лесов, непроходимых болот и скал сомнений, опасностей и страхов. Пусть даст нам знак, по какой дороге нам безопасно идти, и скажет, останусь ли я в живых, избрав ее, и куда она меня приведет. В награду он получит столько, сколько не получал еще ни один знахарь в уплату за свои услуги. Тут Зикали поднял свою большую голову, встряхнул седыми лохмами, распахнул рот, будто ожидая, что с неба посыплется манна, и громко расхохотался. — Ха-ха-ха! — смеялся он. — Ха-ха-ха! Видать, стоило прожить так долго, чтобы дождаться этой минуты. Что же я слышу?! Я, карлик уновандви, кого Чака звал Тот, кому не следовало родиться, из народа, побежденного и презираемого зулусами, явился сюда, дабы сказать слово, которое ни их король, ни его советники не отважились произнести. Ха-ха-ха! И что же посулил мне король? Плату, слишком высокую за слово, что может запятнать его народ кровью или позором. Нет, награда, полученная такой ценой, мне не нужна. Прежде чем мне откроется слово — ибо пока оно еще неведомо моему сердцу и уста не могут его произнести, — попрошу лишь об одном. Поклянись, что при любом исходе, пока на земле существует хоть один зулус, я, глас духов, останусь невредим и огражден от упреков, равно как и люди в моем доме, и те, кто укрылся под моим одеялом, не важно, белые они или черные. Вот моя цена, а иначе я больше не скажу ни слова. — Изва! Слушаем тебя! И клянемся от имени всего народа, — сказали все присутствующие члены Совета, а вместе с ними произнес клятву и король, вытянув перед собой правую руку. — Хорошо, — ответил Зикали, — вы дали зарок на костях мертвецов. Ты зовешь их злодеями, но уверяю тебя, у сидящих передо мной в сердцах больше коварства, нежели у этих несчастных. Пусть об этой клятве возвестят повсюду, и, если кто-то ее нарушит, его самого, его домашних, слуг и всех, кто с ним связан, постигнет та же злая участь. И чего же ты хочешь от меня? — продолжал он. — В первую очередь совета, воевать ли с английской королевой, ибо сами вы, великие, никак не можете решиться, а от исхода дела зависит судьба всего народа. О король, советники и капитаны, кто я, чтобы вмешиваться в вопросы мира живых, далекие от моего ремесла, надзвездного мира духов. Однако на свете есть тот, кто объединил зулусов в народ, подобно тому, как гончар лепит сосуд из глины, а кузнец кует копье из руды, добытой в холмах, и закаляет его в крови[281]. Чака Лютый Зверь, величайший из королей, Завоеватель. Я знал Чаку, и его отца, и деда. Кое-кто из ныне живущих тоже его помнит, взять хоть Сигананду. — И он указал на старого вождя, первым взявшего слово. — Да, когда Чака уже стал велик, Сигананда был еще молод и знал его, как воин своего генерала, но я читал в сердце Чаки, формировал его, был его разумом. Без меня он не стал бы так велик. Но потом он нанес мне обиду, и я его оставил. — Тут Зикали снова взял череп — якобы своей дочери — и погладил его. — Чаке недоставало мудрости, иначе он покончил бы с тем, кого обидел. Может статься, Чака догадался, что меня нельзя убить, попробовал и понял, что бросал копье в луну, а она упала ему на голову. Я уж и не помню, столько времени минуло, да и не все ли равно? Я отнял у Чаки мою мудрость, служившую ему опорой, и он упал. Падение его было сокрушительным. Такая участь постигла всех — всех, кто пришел вслед за ним. В дни величия Чаки я знал его сердце, как свое собственное, потому спрашиваю себя: будь Чака сейчас на месте короля, как бы он поступил? Вот я тебе скажу, если бы не только англичане, но и буры, пондо, басуто и все племена Африки угрожали ему, он сражался бы с ними со всеми и наступал бы им на горло. Пускай не мне давать советы в таком деле, но я знаю, сам Чака сказал бы: иди на бой и вернись с победой. Вникнешь ли ты в мои слова или пропустишь мимо ушей, это уж сам решай. Зикали умолк, а среди советников прокатились возгласы удивления и восхищения. Сам я чуть не поддался общему настроению, ибо на моей памяти это был самый искусный образчик управления толпой. Старый колдун не стал ничего решать и не дал совет, а просто переложил ответственность со своих плеч на мертвеца. Упоминание Чаки действовало на всякого зулуса как заклинание. Они свято чтили память короля, великого полководца, который привел их к победе и могуществу. Выступая от имени Чаки, колдун призывал их, после стольких лет мира, снова взяться за копья, познать радость побед и стать самым великим племенем в Южной Африке. Как только я услышал коварные призывы, то сразу понял, чем кончится дело, а все остальное интересовало меня лишь постольку-поскольку. Впервые я осознал, насколько Зикали силен, и задумался, чего бы он добился, случись ему оказаться в цивилизованном мире. Пока не улеглось общее возбуждение, он снова торопливо заговорил: — Вот слово Чаки, он говорит моими устами — устами своего тайного советника, которого редко замечали и никогда не слышали. Узнает ли голос Сигананда, единственный, кто среди вас слышал его? — Я узнаю его! — воскликнул старый вождь. Он вскочил с выпученными глазами и вытянул перед собой правую руку, по-особому приветствуя дух Чаки, будто перед ним был сам покойный король. Сдается мне, многие в это поверили: они тоже вставали и поднимали руку, не исключая самого Кечвайо. Сигананда сел на место, а Зикали продолжал: — Вы слышали, этот капитан знает голос Лютого Зверя. Ладно, с этим кончено. Итак, у вас есть вопрос, и я, старейший из знахарей и тот, кто в народе слывет, уж не знаю почему, мудрейшим, должен дать вам ответ. Вам хочется знать об исходе битвы, если вы на нее решитесь, о судьбе короля, и просите у меня знамения. Верно ли я говорю? — Верно! — отозвались все в один голос. — Легко вам спрашивать, — проворчал Зикали, — совсем иное дело — держать ответ. Как же я могу без подготовки, да у меня и необходимых снадобий с собой нет. Мне-то и невдомек было, что меня разыскивают, — и не только затем, чтобы послушать мои суждения. Оставьте меня и возвращайтесь к исходу шестого вечера, вот тогда и узнаете, смогу ли я вам помочь. — Нет! — вскричал король. — Мы никуда не уйдем, медлить нельзя. Говори, Открыватель, а иначе ты прослывешь по всей стране всего лишь старым плутом, палкой, которая ломается, стоит на нее опереться. — Старым плутом? Однажды Макумазан назвал меня так же. Может, он и прав, ведь никто не скажет про себя, обманщик ли он, обманываясь и вводя в заблуждение тех, кто его слушает. Палка, которая ломается, стоит на нее опереться? Кто-то думает обо мне так, а кто-то иначе. Итак, ты требуешь ответов, а я не могу дать их без своих снадобий. Я не могу использовать мысли невежд, как водится у некоторых знахарей, когда они стараются отыскать злодеев, — те, как вам известно, сами того не желая, рассказывают о своих преступлениях. Остается еще один камень, его только я и могу бросить, иначе говоря, другое решение, оно лишь мне по силам, да и то не всегда. Однако я не смею им воспользоваться, ибо оно ужасно и может напугать вас, тогда вы вернетесь домой, охваченные безумием, и ваши жены и все встречные псы, завидев вас, разбегутся. Зикали умолк и впервые что-то подбросил в костер, по крайней мере, поднес руки к пламени, как будто пытаясь согреть их. Наконец один советник, кажется, это был Дабуламанзи, прервал молчание: — Ньянга, каково же это решение? Расскажи нам о нем, а уж мы сами решим. — Мы сделаем так: я призову мертвеца, а вы прислушаетесь к его гласу. О король и советники, желаете ли вы черпать воды мудрости из этого кладезя?Глава 16
ВОЙНА
Все стали перешептываться, а Гоза глубоко вздохнул у меня под боком. — Я скорее суну голову в пасть льва, чем взгляну на мертвеца, — пробормотал он. Мне хотелось досмотреть, как далеко зайдет Зикали в своем обмане, и я презрительно шикнул на него, чтоб помалкивал. Вскоре король подозвал меня: — Макумазан, вы, белые люди, кичитесь своими знаниями. Вот и ответь, возможно ли, чтобы мертвец восстал? — Не могу поручиться, — ответил я неуверенно. — Одни в это верят, другие нет. — Ну а случалось ли тебе встречать оживших людей, с которыми ты был знаком до их смерти? — Нет, то есть да… я не знаю. Сначала объясни мне, о король, где кончается явь и где начинается сон, тогда я тебе отвечу. — Макумазан! — воскликнул он. — Совсем недавно я заявил при всех о твоей честности и, оказывается, ошибся. Разве может такое быть, что ты одновременно и видел, и не видел мертвых? А ведь однажды ты уже солгал, когда отпирался от любовной связи с ведьмой Маминой, а потом поцеловал ее на глазах у всех, доказав свою лживость. Ведь мужчина целует женщину, только если она ему любовница или мать. Возвращайся на свое место, пока не решишься сказать правду. Садясь на свой стул, я кипел от возмущения, ощущая собственную ничтожность. Как же можно сказать что-то определенное о привидениях или отделить правду от вымыслов Мамины, которая прицепилась ко мне, как шип колючего кустарника? — Открыватель, — объявил король, посовещавшись с советниками, — мы желаем черпать мудрость из кладезя смерти, если это и впрямь в твоих силах. Пусть те, кто боится, уйдут и, сохраняя тишину, подождут нас у входа в ущелье. Несколько советников встали и после недолгого колебания сели обратно. Один Гоза шагнул было вперед, но я предостерег его, мол, вдруг на дороге появится мертвец, и тот сразу сник и забормотал о моем пистолете, решив по глупости, будто мне удастся пристрелить духа. — Говоришь, если это в моих силах? — повторил как бы между прочим Зикали. — Стало быть, это проверка? Может, это и к лучшему для всех вас, если я вдруг оплошаю и ничего не выйдет. Помните лишь об одном: если мертвец появится, пусть никто не тревожит его и не прикасается к нему, а иначе тот, кто ослушается, не доживет до рассвета. Только сперва позволь мне потренироваться с кем-то совсем простым. Затем он взял все тот же череп, о чем-то с ним пошептался и тут же положил его обратно. — Она не подойдет, — сказал колдун со вздохом и встряхнул своими лохмами. — Нома говорит, что она умерла совсем ребенком и ничего не понимает в войне и государственных делах — во всех этих мирских делах она сущее дитя. Она советует выбрать того, кто все еще помнит о таких штуках и кто до сих пор живет в сердце человека, который, если повезет, окажется среди нас, потому как лишь у него есть сила вызвать мертвеца и заставить его говорить. Теперь пусть все молчат, и горе тому, кто заговорит. Наступила полная тишина, а Зикали сел на корточки и принялся клевать носом, почти касаясь коленей подбородком, и, казалось, заснул. Пробудившись, он с минуту бормотал нараспев что-то неразборчивое. И вдруг словно отовсюду, с неба, со скалы над нами, со всех сторон ущелья, ему стали отвечать голоса. Уж не знаю, воспользовался ли он чревовещанием или повсюду прятались его сообщники. Так или иначе, этот повелитель тьмы духов как будто беседовал с ними и, надо сказать, весьма в этом преуспел, поскольку голоса отличались друг от друга. Некоторые как будто были мне знакомы, к примеру Дингаана, Панды и Умбелази Прекрасного, брата короля, чью кончину я видел собственными глазами близ реки Тугела. Затруднюсь сказать, о чем они говорили. То ли мысли мои перепутались, то ли последующие события изгладили из памяти их слова. Единственное, что мне запомнилось, — все они говорили о судьбе зулусов, и каждый явно стремился передать беседу о деле следующему. Словом, в разговор они вступали как-то неохотно, по крайней мере, мне так казалось. А Гоза, единственный, с кем я потом обсуждал все случившееся, утверждал, будто один голос отличался от всех остальных, впрочем, я забыл, о ком он говорил. Достаточно четко мне запомнились лишь одни слова, и, вероятно, они исходили от духа Чаки, вернее, от Зикали или кого-то из его подручных. Он говорил низким и звучным голосом, обильно сдобренным насмешками, а колдун величал его не иначе как Сибонга. Поскольку я разбираюсь в истории и выражениях зулусов, знаю, что такими величественными титулами наделяют лишь великих королей, а после смерти Чаки его признали незаконным и больше не использовали. Вот его слова: «Неужели ты, Тот, кому не следовало родиться, по-прежнему считаешь себя Тем, кого нельзя убить, раз сидишь, как в старые времена, под луной и плетешь свои чары? Как часто я хотел поймать тебя и поквитаться за все, как и ты искал случая свести со мной счеты. Не все ли равно, ведь рано или поздно мы с тобой все равно встретимся, хоть ты и спрятался позади самой далекой звезды. Для чего ты позвал меня в это место, где я вижу тех, кого хотел бы позабыть? Да, они стоят передо мной, какими запомнились мне в день их смерти, кость стоит на кости, а из красной земли слеплено подобие плоти. О, ты искусен в магии, заклинатель, твоя ненависть глубока, а месть неотвратима. Нет, мне нечего сказать тебе сегодня, ведь теперь я правлю в других краях, народом более великим, чем зулусы. А что за человечки сидят перед тобой? Один похож на моего брата, Дингаана, который меня убил, и его браслет на нем. Теперь он король? Можешь не отвечать, ибо я не желаю ничего знать. А тот трухлявый пень никак Сигананда? Узнаю его по глазам и ожерелью на груди. Я сам наградил его этой изикой за храбрость, когда он убил пять врагов в великой битве с вождем Звиде. Интересно, он еще помнит об этом? Приветствую тебя, Сигананда, старина, поживи еще двадцать один год, а потом мы встретимся и потолкуем о тех славных временах. Теперь позвольте мне покинуть это место, ибо оно жжет мою душу, — зловоние человеческой крови нестерпимо. Прощай, о Завоеватель!» Вот и все слова Чаки, а может, мне все это только приснилось. В противном случае, то есть если бы они действительно говорили с Зикали, в их словах звучало бы больше смысла, ради чего, собственно, все и собрались, а так получился обычный, бессвязный поток слов, очень похожий на сновидение. К тому же, кроме меня, на него, похоже, никто не обращал особого внимания. Возможно, все из-за того, что много голосов звучало сразу отовсюду. Зикали, как я уже сказал, мастерски подготовился к своему представлению, как любой заправский медиум в лондонском павильоне. В тот же миг голоса смолкли, словно по сигналу, и началось нечто странное. Сначала я почувствовал слабость, как будто все силы иссякли, и меня вдруг посетило чудное видение. Уж не знаю, в чем тут дело, однако было некое сходство с библейской историей об Адаме, когда он заснул и из него вынули ребро, чтобы сотворить женщину. Должно быть, Адам чувствовал себя так же, как я, когда очнулся после этой необычной процедуры слабым и опустошенным. Подобно ему, я тоже первым делом увидел Еву, вернее, девушку. Невзначай взглянув на огонь, я заметил, как от него поднимается и расходится веером густой дым. Он понемногу рассеивался, и сквозь дымовую завесу проступили женские очертания, похожие на ту, кого я знал однажды. Одежда едва прикрывала ее тело, она перебирала пальцами синие шарики на своих бусах и загадочно улыбалась, устремив взор в пустоту. О силы небесные, ведь это она! Так мне тогда казалось, теперь-то я почти не сомневаюсь, что ее роль играла переодетая, вернее, раздетая Номбе. Поразмыслив позднее, я все осознал, однако в ту минуту, введенный в заблуждение неверным светом луны, готов был поклясться, что та самая покойная Мамина, пышущая красотой и здоровьем, вдруг появилась в хижине Зикали. В ущелье поднялся легкий ветерок и взметнул сухие листья алоэ. Казалось, он прошептал: «Здравствуй, Мамина!» Некоторые старцы, видевшие ее гибель, бормотали дрожащими голосами: «Это Мамина!» — и замолкали, поймав на себе суровый взгляд Зикали. Девушка продолжала стоять, спокойная и равнодушная, и будто никуда не спешила, занятая лишь своими бусами. Шарики позвякивали, стукаясь друг о друга, стало быть, она живой человек, ведь у призрака нет резона поднимать шум. А с другой стороны, рождественские призраки лязгали своими цепями. Ее взгляд лениво скользил по лицам напуганных советников, затем устремился в сторону деревьев, где притаился я, а Гоза замер, припав к земле. Некоторое время, показавшееся мне вечностью, она просто созерцала деревья. Это напомнило мне охоту с легавой, когда та вынюхивает добычу, не видит, но чует ее и полна решимости отыскать. Девушка оставила бусы в покое и простерла ко мне изящную руку. — О Бодрствующий в ночи, — проговорила она нежно, — так-то ты встречаешь меня, а ведь я черпала в тебе силы, лишь бы еще раз оказаться в подлунном мире. Подойди ко мне, неужели ты не поцелуешь ту, с кем уже однажды целовался на прощание? Несомненно, голос принадлежал Мамине — вот как мастерски была обучена Номбе! Однако я решил не поддаваться, чтобы не стать всеобщим посмешищем, как вышло в прошлый раз. К тому же, призна юсь честно, эта шутка со смертью казалась мне недостойной, и я ни в коем случае не хотел принимать в ней участие. Вся компания обернулась и уставилась на меня, даже Гоза с любопытством заглядывал мне в глаза, а я как ни в чем не бывало сидел и любовался красотой ночи. — Если это дух Мамины, он подойдет к ней, — прошептал Кечвайо Умнямане. — Верно, — согласился премьер-министр, — любовь потянет его, как на веревке. Однажды он уже поцеловал Мамину и дол жен сделать это снова, раз она сама просит. Услыхав подобное, я вскипел от возмущения и твердо решил поступить вопреки их словам, но, к своему ужасу, вдруг помимо воли поднялся. Тогда я попытался вцепиться в стул, но при этом поднял его в воздух, и мне пришлось поставить стул на место. — Держи меня, Гоза, — пробормотал я, и этот славный малый тут же схватил меня за лодыжки, а я пнул его ногой в челюсть — не по своей воле, конечно, — и направился, словно сомнамбула, прямиком к таинственной фигуре, то ли девушке, то ли видению. Она протягивала руки мне навстречу и улыбалась, ну прямо как ангел, хотя я ничуть не сомневался в ее демонической природе. Мы стояли друг против друга, а дым костра источал аромат розы, раскрывшей свой бутон на рассвете. Девушка подалась вперед, и я, сгорая от стыда, ждал прикосновения. Однако ничего не произошло. Руки пропали из виду в этой благоухающей дымке, и только голос шептал мне на ухо нежные слова, и ей-богу, это была Мамина, ведь она говорила слова, известные лишь нам двоим, а я не поверял их больше ни единой живой душе. Теперь-то я понимаю, что они стали известны третьему лицу. — Ты все еще сомневаешься во мне? — шептала она. — Номбе я или все-таки Мамина, чей поцелуй заставил трепетать твои губы и душу? Внемли мне, Макумазан, ведь у нас так мало времени. В разгар грядущей великой битвы не уходи к белым людям, а отправляйся в Улунди. Тот, кто некогда был твоим другом, защитит тебя, пусть все умрут, а ты останешься невредим. Огонь моего сердца, который охватил всю землю зулу, тебя не коснется. Послушай же, Ханс, желтый человечек по прозвищу Светоч во мраке, умерший среди людей кенда, шлет тебе привет и свое благословение. Он велел передать тебе, что с радостью приветствует меня, Мамину, как королеву, коей я стала навеки, потому что, хоть мы и далеко друг от друга, нас объединяет любовь, ведь в ней смысл жизни. Вдруг в лицо пахнуло дымом, и я отпрянул, а Кечвайо ухватил меня за руку. — Скажи нам, какие губы у мертвой ведьмы, теплые или холодные? — Откуда мне знать, — простонал я, — я к ней даже не притронулся. — Каков лжец! Мы же своими глазами все видели, — задумчиво проговорил Кечвайо. А я, спотыкаясь, вернулся на свое место и плюхнулся на стул почти без чувств. Но вскоре пришел в себя. Видение, называющее себя Маминой, говорило о чем-то с Зикали, очевидно, он задал ей вопрос. — О повелитель духов, ты призвал меня из обители духов ради того, о чем еще неизвестно на земле. Только на эти вопросы я и отвечу, поскольку сила смертного, которая питает меня, скоро вернется к нему обратно. Во-первых, вам хочется знать, будет ли между черными и белыми война и к чему она приведет? Я вижу долину в обрамлении холмов, а посреди нее скала причудливой формы. Идет великая битва, белые люди падают, как кукурузные початки в бурю, копья зулусских воинов обагрены кровью их врагов, а белые солдаты лежат, словно листья, облетевшие с дерева с приходом заморозков. Они все мертвы, лишь горстка уцелевших спасается бегством. По всей Улунди разносится победная песнь. Вот и все, — завершила она. — Далее, вам интересно, какова судьба короля? — продолжила она вскоре. — Я вижу, как его бросают в Черную воду, вижу его в стране с множеством домов, он говорит с королевой и ее советниками. И там тоже побеждает, ибо они отдают ему дань, щедрые подношения. Он возвращается в землю зулу, народ приветствует своего короля. Наконец, я вижу его смерть, ведь он смертен, как все люди, слышу голос Зикали, скорбный плач жен. Вот и все, прощай, король Кечвайо, я передам твоему отцу, Панде, как ты живешь. Разве я не предрекала при нашей последней встрече, что мы снова увидимся на дне залива? Как думаешь, был ли тут в прежние времена залив? Придет день, и ты обо всем узнаешь. Прощай, всего хорошего — или плохого, уж как получится! Дым снова взметнулся веером и скрыл ее, а когда рассеялся, женской фигуры словно и не бывало. Мои догадки, что зулусы, пораженные увиденным зрелищем, не захотят иного руководства свыше и выберут войну, не оправдались. Оказывается, среди присутствующих был еще один, всеми уважаемый знахарь, и он жутко завидовал Зикали, ведь тот затеял такое, о чем он и помыслить не смел. Он вскочил и заявил, что все увиденное и услышанное ими на самом деле всего лишь ловкий трюк, заранее подготовленный Зикали и его сообщниками. Голоса, мол, шли отовсюду, где они притаились, а порой хитрец и сам говорил на разные лады. А видение, по словам этого знахаря, вовсе не дух, а обыкновенная женщина, в доказательство он припомнил некоторые подробности ее фигуры. В итоге знахарь с жаром заявил, что Совет совершит большую глупость, если примет какое-либо решение на основании подобных доказательств или поверит в эти пророчества, ведь правдивы они или ложны, мы узнаем еще не скоро. Разгорелся ожесточенный спор. Сторонники войны верили в подлинность призрака, а сторонники мира твердили о ловком обмане. Обе стороны стояли на своем, не желая уступать друг другу. Зикали сидел неподвижно, точно каменное изваяние, и не отвечал ни на какие вопросы. — Неужели мы до рассвета будем тут сидеть и ничего не высидим? — наконец сказал король. — Макумазан единственный, кто знает правду. Хоть он и отрицает свою любовь к Мамине, я сам видел, как она целовала его перед тем, как покончить собой. Поэтому он наверняка знает, Мамина та женщина или нет, ведь есть такое, о чем мужчина помнит всю жизнь. Поэтому мы спросим его и тогда составим свое собственное мнение. Предложенный вариант, суливший, как им казалось, выход из тупика, все единодушно одобрили. — Будь по-твоему! — воскликнули они в один голос. Меня тут же привели и усадили на стул перед Советом, спиной к костру, дабы Зикали «не пустил в ход свои чары». — Итак, Бодрствующий в ночи, — начал Кечвайо, — хоть ты и солгал нам однажды, мы не станем придавать этому значения, такие дела мужчины и женщины всегда скрывают, и об этом всякий знает. Все же мы по-прежнему верим в твою честность, ведь многие годы ты не изменял ей. Просим тебя, ответь по совести на простой вопрос: женщина предстала сейчас перед нами или дух? И если дух, принадлежит ли он Мамине, красивой ведьме, которая умерла неподалеку четверть века назад? Ведь ты любил ее или она любила тебя, впрочем, без разницы, поскольку мужчина всегда любит влюбленную в него женщину, по крайней мере, ему так кажется. Немного подумав, я ответил, стараясь быть как можно честнее: — Король и Совет, не знаю, дух мы все видели или живое существо, поскольку я не верю в мир призраков, а в их возвращение к нам с некой миссией и подавно. Думаю, что это все-таки была обычная женщина. А может статься, она всего лишь искусная подделка, созданная умелой рукой Зикали. Вот, пожалуй, и все, что я могу ответить на первый вопрос. Далее, та ли это женщина, дух или образ той, кого я много лет назад встретил в Зулуленде? Король и Совет, скажу лишь одно: она на нее очень похожа. Порой юные красавицы одного возраста и цвета кожи ничем не отличаются друг от друга, а тем паче при тусклом свете луны и с дымовой завесой от костра в придачу. К тому же память играет с нами злую шутку, когда мы стараемся припомнить черты того, кто умер более двадцати лет назад. Вообще же, голос, бусы и украшения как будто мне знакомы, и она повторила слова умершей, которые, как мне казалось, никто, кроме меня, не слышал. А еще она передала странное послание от умершего друга, где он ссылается на подробности, известные лишь нам двоим. Однако Зикали очень умен, он мог каким-то неведомым мне способом узнать обо всем и кого-то научить. Король и Совет, по-моему, мы видели не дух Мамины, а похожую на нее женщину, которая оказалась хорошей ученицей. Больше мне сказать нечего, и оставьте свои вопросы о Мамине, ибо я сыт по горло этими разговорами. Вдруг Зикали очнулся, будто с него спало оцепенение, взглянул на присутствующих и мрачно произнес: — Удивительно, как это мудрецы всегда первыми попадают в ловушку. Ночью они глядят на звезды и забывают о яме, вырытой ими утром. Ха-ха-ха! Спор разгорелся с новой силой. Сторонники мира ликовали; по их мнению, раз я не верю в призрака, стало быть, он чистой воды обман, а кому ж, как не мне, белому человеку, знать в этом толк. В свою очередь, сторонники войны заявляли, будто это я сам обманываю их ради собственной выгоды, поскольку не желаю, чтобы зулусы одержали верх над моим народом. Началась неистовая перепалка, я даже опасался, как бы они не затеяли драку или, того хуже, не напали на меня и Зикали, который тем временем беззаботно глядел на луну. Наконец, водворяя тишину, Кечвайо прикрикнул на них и сплюнул, как делал всякий раз, когда сердился. — А ну тихо все! — крикнул он. — Не то кое-кто из вас обретет вечный покой, тогда и взаимные упреки иссякнут. — Затем он обратился к Зикали: — Открыватель, некоторые мои советники считают тебя всего лишь старым плутом. Правда это или нет, не знаю. Мы требуем от тебя знамения, в котором уже никто не усомнится, а я наконец смогу принять окончательное решение, миру быть или войне. Дай нам знак или убирайся туда, откуда пришел, и больше не смей показываться в Улунди. — Какой же им надобен знак, сын Панды? — покорно спросил Зикали. — Пускай они договорятся и скажут поскорее, поскольку я устал и хочу спать. Только, если смогу, я дам им желаемое знамение, а не смогу, вернусь в свою хижину, и никогда больше нога моя не ступит на землю Улунди. Не желаю слушать пустую болтовню глупцов, она подобна тому, как воды свирепствуют вокруг камня и еще ни разу не сдвинули его с места, ибо всегда делятся на два потока. Советники переглянулись, никто не мог придумать, какое попросить знамение. — О король, — заговорил старик Сигананда, — все знают, что у твоего пращура Чаки было укороченное копье с рукоятью из красного дерева, вдоволь испившее крови многих врагов. Именно с ним его слуга Мбопа, покинувший страну после смерти Дингаана, набросился на своего короля во владении Дугуза, а куда оно делось потом, никто не знает. Одни поговаривают, будто Чаку похоронили вместе с ним, другие, — что его украл Мбопа, а, по словам третьих, его сожгли Дингаан и Умлангаан. Однако до сей поры в народе, будто ветер над землей, гуляет предание о том, как однажды копье Чаки упадет с небес к ногам правящего короля, и тогда зулусы одержат победу в последней великой битве, о которой узнает весь мир. Так пускай же Открыватель явит нам этот знак, и я этим удовлетворюсь. — Узнаешь ли ты это копье, если оно упадет? — спросил Кечвайо. — О король, я часто держал его в руках и непременно узнаю. Край его рукояти весь в следах от зубов, в приступе гнева Чака кусал его, а на расстоянии большого пальца от наконечника есть черная метка, поставленная раскаленным железом. Однажды Чака поспорил с одним из своих капитанов о том, кто с десяти шагов глубже вонзит копье в тело вождя, приговоренного королем к смерти. Первым бросал капитан — я при этом присутствовал, — и копье вошло в тело до этой самой метки, сделанной самим Чакой. Настала очередь короля, он метнул копье, и оно прошило тело вождя насквозь, и тот, умирая, вскричал, что однажды сердце Чаки тоже будет пронзено, — так, собственно говоря, и случилось. По-моему, Кечвайо склонялся к этому предложению, ведь он желал мира, а то, что Зикали вдруг явит им с неба пресловутое копье, казалось ему невероятным. Однако вмешался главный советник Умнямана. — О король, — вставил он поспешно, — этого мало. Зикали мог выкрасть копье, ведь в то время он жил в поселке Дугуза, и кто знает, не от него ли пошло то пророчество, о котором говорит Сигананда, по крайней мере, народ так скажет. Пусть он покажет нам великое знамение, и тогда мы станем единодушны, мир следует выбрать или войну. У зулусов есть добрый дух по имени Номкубулвана, инкосазана зулу, защищающая всех нас с Небес. Принцесса с белой кожей и рыжими волосами всегда приходит, когда у нас в стране назревают великие события. Так она появилась перед смертью Чаки, а накануне битвы у реки Тугела она явилась многим детям. Говорят, совсем недавно у побережья она предупредила женщину о надвигающейся войне и велела ей перейти реку, впрочем, ту женщину так и не нашли. Пусть же Открыватель призовет с небес Номкубулвану, вот тогда у нас не останется ни малейших сомнений в истинности знамения. — Даже если у него выйдет, — сказал Кечвайо, — хотя, готов поспорить, ни одному знахарю в мире подобное еще не удавалось, какой нам в этом прок? — О король, если он справится, нас ждет война и победа, а в противном случае будет мир и мы склоним головы перед Амалунгвана бази бодве[282]. — Все согласны? — спросил Кечвайо. — Согласен, — подтвердил каждый советник, вытянув перед собой руку. — На том и порешим. Открыватель, если ты призовешь Номкубулвану и ее дух предстанет перед нами, Совет воспримет ее появление как знак, что Небеса благоволят нам и благословляют на битву с англичанами. Судя по голосу, Кечвайо ликовал, ведь сердце его сжималось при мысли о войне, и он надеялся на промах Зикали. Однако воля народа, а вернее, армии играла немаловажную роль, и король опасался, как бы его не свергли за тяготение к миру, а то и не лишили жизни. Вот почему предложение премьер-министра, проверка одобрения свыше, принятая Советом, состоящим из представителей от каждого племени, казалось ему удачным выходом из создавшегося положения. Так я считал, и, думаю, вполне справедливо. Услыхав слова короля, впервые за все время Зикали как будто разволновался. — Что я слышу?! — воскликнул он. — Разве я Ункулункулу, отец всех зулусов, наш бог, что вы просите меня призвать саму Небесную принцессу с далеких звезд? Она, подобно ветру, приходит и уходит, а можно ли приказать ветру, куда ему лететь? Слышали, как король сказал: если она не откликнется на мой призыв, великий зулусский народ наденет ярмо и станет рабом? Никак он наслушался учений этих английских проповедников с белыми ленточками на шеях. Они толкуют нам о боге, который позволил пригвоздить себя к дереву, вместо того чтобы сражаться со своими врагами, и его называют Князем мира. Да, с тех пор как Чака умер, времена действительно изменились. Генералы уподобились женщинам, а капитаны доят коров. Ну а мне какое до всего этого дело? Ведь я дряхлый старик и уже одной ногой в могиле, только в голове еще осталась искра жизни, к тому же я не зулус, а всего лишь ндвандве, мой народ унижен и истреблен зулусами. Внемлите мне, духи дома Сензангаконы! — Тут он перечислил все поколения предков Кечвайо. — Внемли мне, Небесная принцесса, назначенная отцом зулусов оберегать этот народ! Дети твои просят тебя появиться, если на то будет твоя воля. Тогда они дадут отпор белым людям, попирающим их границы, если же ты не пожелаешь и не появишься, они сложат копья и отправятся домой, спать со своими женами и возделывать сады, а белые люди сосчитают их волов и запрягут в свои повозки. Делайте что хотите, предки дома Сензангаконы, поступай, как угодное тебе, Небесная принцесса, не все ли равно мне, Тому, кому не следовало родиться, выстоит дом Сензангаконы и зулусский народ или падет, ведь совсем скоро меня не станет, будто я никогда и не был рожден. Меня, старого знахаря, позвали сюда, чтобы спросить совета, а когда я дал его, эти мудрецы пропустили мои слова мимо ушей, как какой-то пустяк. Они пожелали узнать свое будущее, если начнется война, тогда я поднял мертвецов из могилы, и мы услышали их голоса, а одна из них обрела плоть и говорила своими устами. Белый человек не признал в ней свою прежнюю любовь, и мудрецы объявили ее самозванкой, куклой, которую я переодел, чтобы их обмануть. Она, дух, явленный во плоти, предрекла им успех в войне, если та начнется, и славу королю, однако они посмеялись над ее пророчеством и теперь требуют великого знамения. Приди же, Номкубулвана, дай им знамение, и, если тебе угодно, пусть начнется война, а если на то твоя воля, не появляйся и не давай им никакого знака, тогда наступит мир. Для меня, Того, кому не следовало родиться, все это не имеет значения. Как видно, Зикали попросту тянул время своей болтовней. Тем временем облака заволокли луну, и, когда старик умолк, на Долину костей опустились сумерки, так что стало совсем темно. Тут он сделал резкое движение над своим колдовским костром, и дым снова взметнулся во все стороны веером, скрыв и его, и скалу для казней у него за спиной. Вскоре облака расступились, снова выглянула луна, дым от костра тоже понемногу рассеялся, и опять стало светло, а на каменном мысу что-то появилось. Приглядевшись, я не поверил своим глазам! На самом краю неподвижно стояла призрачная фигура женщины. Она была в одеянии со сверкающим вырезом на груди, похожим на атлас, однако то, как оно сияло, скорее напоминало блестящие перья белой цапли. Ее рыжие волосы свободно развевались, и в них тоже что-то блестело, наподобие слюды или драгоценного камня, ноги и белоснежные плечи были обнажены, а в правой руке она сжимала короткое копье. Заметил ее не я один, среди советников пронесся стон суеверного ужаса. Они притихли и не сводили с нее глаз. Зикали вдруг поднял голову и взглянул на них, пламя костра отразилось огоньками в его глазах, отчего он стал похож на тигра или затравленного бабуина. — Куда это вы все так уставились? — спросил он. — Я ничего не вижу, что ж вы там углядели? — На скале над твоей головой стоит дух в ярком сиянии, — прошептал Кечвайо, — ведь это сама инкосазана. — Неужто она появилась? — усмехнулся старый колдун. — Нет, это всего лишь сон и моя уловка. Видать, я выкрасил ту самую чернокожую женщину белой краской, которую тайно принес в своей сумке для снадобий или замотал в одеяло и пронес на спине. Чем доказать, что это не очередной обман? Ведь в прошлый раз белый человек не признал в духе Мамину, свою возлюбленную. Даже если сможете влезть на скалу, вам нельзя приближаться к Номкубулване — если она окажется настоящей, тогда вы все умрете, ибо горе тому, кто к ней прикоснется. Как же быть? А, знаю! Наверняка у Макумазана в кармане спрятано оружие. О его меткости ходят легенды. Он способен с тридцати шагов расколоть тростник надвое и отстрелить человеку бороду. Пусть он выстрелит в ту, которая, по-твоему, стоит на скале. Коли это чернокожая женщина в белой краске, то она упадет замертво со скалы, как и многие несчастные до нее, а если Небесная принцесса, то пуля пройдет сквозь нее или отлетит в сторону, не причинив ей вреда. Останется ли невредим Макумазан, сказать не могу. Выслушав знахаря, половина советников хранила молчание, а сторонники мира настаивали, чтобы я выстрелил в призрака. В итоге Кечвайо как будто поддался на их уговоры. Вот именно, как будто, потому что уступил он с удовольствием. Как и остальным, ему было невдомек, дух перед нами или нет, однако он сообразил: стоит доказать, что она смертная женщина, и войне с англичанами не бывать. Вот король и ухватился за эту последнюю возможность. — Макумазан, — обратился он ко мне, — я знаю, что у тебя есть пистолет, ведь на днях ты приносил его в мой дом, ты не расстаешься с ним ни днем ни ночью, как мать со своим новорожденным чадом. Раз уж так пожелал Открыватель, я повелеваю тебе выстрелить в женщину, стоящую на скале. Если она смертная, то заслуживает кары за свой обман, а если дух, сошедший с Небес, твоя пуля ей не повредит. С тобой тоже ничего не случится, ведь ты всего лишь исполняешь свой долг. — Король, — ответил я, — я не стану в нее стрелять, не важно, женщина она или дух. — Ах вот как, белый человек, ты вздумал перечить мне! Что ж, как угодно, но учти, тогда твои белые кости навсегда останутся в этой долине. Да, ты будешь первым англичанином, нашедшим здесь свою могилу! — Он отвернулся и зашептался о чем-то с двумя советниками. Итак, оставалось одно: подчиниться или умереть. В первую минуту разум восстал против необходимости делать такой ужасный выбор. Мне никак не верилось в существование призрака. Без сомнения, на той скале стояла Номбе. Она ловко провела нас с помощью какого-то местного природного красителя, который издалека и при слабом освещении делал ее похожей на белую женщину. И как эта мысль не пришла мне в голову раньше, видно, от потрясения я потерял ясность мысли. Что ж, в таком случае за подобные выходки Номбе заслужила наказание, тем более ее смерть разоблачит мошенника Зикали и, может статься, предотвратит войну. Но тогда зачем он подсказал королю идею о выстреле? Потихоньку вынув из кармана пистолет, я взвел курок. — Король, мне неохота умирать, — сказал я, — поэтому я подчинюсь тебе, а за последствия будешь отвечать сам. Вдруг в голове у меня мелькнула только одна мысль, такая ясная, что я не сомневаюсь, ее мне послал Зикали: «Можно стрелять, а попадать необязательно». — Король, если только там смертная, она умрет — лишь духу под силу избежать моей пули. Смотри на ее лоб, сейчас я выстрелю прямо в него! Вскинув пистолет, я хорошенько прицелился, казалось, даже издали я вижу страх в ее глазах, и выстрелил, легким движением кисти послав пулю в метре над ее головой. — Она цела! — закричали все. — Макумазан промахнулся. — Макумазан не промахивается, — парировал я надменно, — если я выстрелил, а она жива, значит ее нельзя убить. — Ха-ха-ха! — засмеялся Зикали. — Белый человек забыл, каков вкус у губ его любимой, а теперь он не попал, потому как ее якобы нельзя убить. Пусть попробует снова. Нет, дадим ему другую мишень. Может, она и дух, а вдруг тот, кто ее вызвал, по-прежнему вас обманывает? У белого человека в пистолете есть вторая пуля, поглядим, сможет ли она пронзить сердце Зикали, вот тогда король и Совет узнают, провидец ли он, величайший из всех провидцев, или простой ловкач. Тут вдруг меня разобрала злость на старого плута. Я вспомнил, как он, спасая собственную шкуру, приложил руку к смерти Мамины, а потом разнес по всей стране сплетни о нас с ней, и с тех пор, куда я ни пойду, они повсюду меня преследуют. Много лет он мечтал стереть с лица земли зулусский народ, и теперь для осуществления своих черных замыслов собирается развязать страшную войну, которая будет стоить жизни многим тысячам людей. Он заманил меня в Зулуленд и передал в руки Кечвайо, разлучил с друзьями, бывшими на моем попечении, и кто знает, может, их уже давно нет среди живых. Безусловно, я окажу всем услугу, избавив от него мир. — Как пожелаешь! — воскликнул я и нацелил на него пистолет. И тут мне припомнилась заповедь: «Не судите, да не судимы будете». Кто я такой, в конце концов, чтобы обвинять этого человека и выносить ему приговор, ведь ему и без того досталось в жизни. Все еще держа старика на мушке, я заметил, как в небе промелькнуло нечто блестящее и летит прямо в короля, и, мгновенно сменив цель, спустил курок. Предмет, чем бы он ни был, раскололся пополам, причем одна половина упала на Зикали, а другая прилетела к Кечвайо и пробороздила ему колено. Поднялась жуткая суматоха, все заголосили: «Король ранен!» Я подбежал к нему, на земле лежал наконечник копья, а из неглубокой раны на колене Кечвайо сочилась кровь. — Пустяки, всего лишь царапина, — сказал я, — хотя, если бы копье достигло цели, все могло бы обернуться куда хуже. — Ты прав! — воскликнул Зикали. — А чем все-таки ранило короля? Взгляни, Сигананда, может, ты знаешь, что это такое? — спросил он и протянул кусок красного дерева. — Это же рукоять копья Чаки! — воскликнул Сигананда. — Пуля Макумазана оторвала ее от наконечника. — Да, — согласился Зикали, — а его наконечник пролил кровь потомка Чаки. Истолкуй эту примету, Сигананда, или спроси ту, чью фигуру ты видел на вершине скалы. Тут все разом оглянулись, а там никого. Призрачной фигуры как не бывало. — Король, последнее слово за тобой, — сказал Зикали, — миру быть или войне? Кечвайо поочередно бросил взгляд на копье, на кровь, сочащуюся из его колена, и на лица своих советников. — Кровь взывает к крови, — простонал он, — мое слово — война!Глава 17
ПЕЧАЛЬНОЕ ИЗВЕСТИЕ
Зикали разразился таким жутким хохотом, что кровь застыла у меня в жилах. — Король выбрал войну! — кричал он. — Пусть Номкубулвана возвестит на Небесах! Пусть Макумазан возвестит белым людям! Пусть капитаны возвестят своим полкам и земля обагрится кровью! Король сделал выбор, хотя, будь я на его месте, может статься, поступил бы иначе. Впрочем, что взять с меня, полого тростника, торчащего из земли, через который духи общаются с людьми. Все кончено, и мне теперь тут не место. Прощай, о король! Где мы встретимся вновь, на земле или под землей? Прощай, Макумазан, наши пути пересекутсятам, где ты и не подозреваешь. Король, я возвращаюсь в свой дом и прошу тебя, дай указ, пусть никто не приходит и не докучает мне, ибо я истратил все силы. — Да будет так! — сказал Кечвайо. В эту минуту огонь чудесным образом погас, колдун встал, на удивление шустро поковылял и скрылся за выступом скалы. — Постой! — крикнул я. — Мне нужно с тобой поговорить. — Он не остановился и даже не оглянулся, хотя, по-моему, все прекрасно слышал. Я хотел броситься ему вдогонку, однако по мановению Кечвайо его советники преградили мне путь. — Белый человек, разве ты не слышал приказ короля? — холодно спросил один. Тон его голоса напомнил мне, что война объявлена и теперь я стал их врагом. Только я хотел резко парировать, как вмешался сам король. — Макумазан, — сказал он, — теперь ты мой враг, как и весь твой народ. Срок твоей охранной грамоты истекает на рассвете, а потом всякий вправе убить тебя, если встретит в Улунди. Но пока ты еще мой гость и моя охрана проводит тебя до границы нашей страны. Кроме того, ты передашь офицерам и капитанам королевы такие слова. Мой ответ на их требования прилетит на острие копья. Да, англичане сами искали ссоры, я же всегда старался жить с ними в мире. Если бы Сомпезу позволил мне сражаться с бурами, этой войны и в помине не было бы. Однако он набросил одеяло королевы на Трансвааль и покровительствует ему. Теперь он заявил, будто земли, которые испокон века принадлежали зулусам, следует отдать бурам. Поэтому я забираю все свои обещания, данные ему, когда он пришел и от имени королевы провозгласил меня владыкой этой земли, и больше не стану звать его своим отцом. Что же до веления распустить войско, что ж, пусть англичане сами попробуют его разогнать, если смогут. Вот мои слова. Я сказал. — А я услышал, — ответил я, — и всё передам в точности, хотя, по-моему, эти слова вышли из уст того, кого Небеса сделали безумцем. Услышав столь дерзкие речи, советники вскочили и угрожающе двинулись ко мне. Взмахом руки Кечвайо велел им оставаться на месте. — Безумным ли сделала меня Небесная правительница, мудрым ли, время покажет, на то ее воля, ведь она дух-покровитель нашего народа. Может статься, мы встретимся с тобой и потолкуем обо всем. А теперь иди с миром! — Я услышал короля и сейчас уйду, но сперва мне нужно поговорить с Зикали. — Тогда, белый человек, тебе придется ждать, пока не кончится война или пока вы не встретитесь с ним в земле духов. Гоза, отведи Макумазана в его хижину и поставь у входа охрану. На рассвете отряд солдат проводит его до границы. Ты пойдешь с ними и ответишь мне за него головой. Пусть с ним хорошо обращаются, ведь он посланник короля. С этими словами Кечвайо встал и, после того как советчики выразили ему свое почтение, покинул ущелье. Я немного задержался, подобрал с земли наконечник копья, брошенного призрачной фигурой со скалы, и притворился, будто с интересом его разглядываю. Древний кусочек железа, без сомнения, принадлежал самому Чаке, который носил его с собой повсюду. Ходят слухи, будто именно этим копьем король и убил свою мать, Нэнди. Между прочим, он хранится у меня до сих пор, ведь никто не отобрал его и не помешал сунуть в карман. На самом деле я прикидывал, как бы мне добраться до Зикали. Однако мои размышления грубо прервали и тоном, не терпящим возражений, велели не стоять на месте. В сопровождении Гозы я побрел к хижине. Увиденные чудеса сильно потрясли его, и он едва мог говорить. Когда я спросил его мнения о призрачной фигуре на скале, Гоза раздраженно ответил, что это не его ума дело, откуда духи приходят и кто они такие есть. Во всяком случае, он верил во внеземную сущность Небесной принцессы и в то, что она пришла благословить зулусов на войну. Узнав все необходимое, я оставил его в покое и погрузился в размышления о том, в каком затруднении оказался. На рассвете мне под страхом смерти велено покинуть Улунди. Но как же я уйду, не повидав Зикали и не узнав о судьбе Энскома и Хеды от него самого или через посредника? Лишь раз я нарушил молчание, предложив Гозе мой пистолет, если он согласится побыть моим посыльным. Он покачал своей большой головой и сказал, что его за это казнят, а мертвецу от пистолета никакого проку, ведь, как все убедились прошлой ночью, он бессилен против духов. Дальше не стоило и пытаться, тем более ответы на мои вопросы не заставили себя ждать. Наконец мы достигли хижины. Гоза поставил у входа стражу и строго-настрого велел офицерам никого не впускать, а меня не выпускать, пока он не вернется за мной на рассвете. Вопрос офицера показался мне немного чудным, впрочем, мне было не до того, — он спросил, есть ли кто-то посторонний, кому разрешено покидать хижину. Перед тем как отправиться восвояси, Гоза выразил надежду, что я высплюсь лучше его самого, ибо «чувствовал дух, пламенеющий в костях, но он не любитель целоваться с ним, не то что я». Мечтая о бутылке коньяка, я пошутил, мол, пусть у меня горит в животе. Гоза снова покачал головой с видом человека, привыкшего к моим странностям, и ушел. Забравшись в хижину, словно в пчелиный улей, я прикрыл за собой входное отверстие и принялся шарить по карманам в поисках спичек. Нащупал острый наконечник копья и укололся. Посасывая раненый палец, я услышал, как в хижине кто-то дышит. Сперва хотел позвать охрану, но передумал, нашел на конец спички и зажег свечу, стоявшую рядом с одеялами, которые служили мне постелью. Когда мрак рассеялся, я взглянул туда, откуда доносился звук, и увидел спящую на полу женщину. Перепугавшись не на шутку, я чуть было не выронил свечу. Признаюсь, мысли о Зикали и его духах не давали мне покоя, и в первую минуту я решил, будто передо мной та самая женщина, которая приняла облик давно умершей Мамины, вернее, выдала себя за нее, и теперь она пришла сюда, чтобы продолжить наш разговор. Уж во всяком случае, без Зикали тут не обошлось, видать, старик куражится надо мной ради собственного удовольствия. Взяв себя в руки, я подкрался поближе — и опешил, поскольку она оказалась целиком укутанной в звериную шкуру. Ну и что же дальше? Побег невозможен — первое, что пришло мне в голову. Кому охота получить удар копьем между лопатками. Позвать стражей на помощь? Нет, не годится, кто знает, что можно ожидать от этих ослов. Расталкивать или трясти спящую как-то грубовато, к тому же, если подвернулся случай и я встретил женщину, игравшую роль Мамины, она непременно рассердится, если я стану тайком ее разглядывать. Оставалось одно — сидеть и ждать, когда сама проснется. Прошло довольно много времени, наконец мне надоело это глупейшее положение и любопытство взяло верх, к тому же я жутко устал и хотел спать. Подкравшись к ней, я осторожно убрал шкуру с лица спящей женщины, гадая, кто бы это мог быть. Мало найдется мужчин, чье воображение не взбудоражит скрытое под вуалью лицо. Разве львиная доля привлекательности женщины в глазах мужчины таится не в ее загадочности? Он на свой страх и риск пытается разгадать эту загадку и, смею заметить, всякий раз терпит поражение. И вот я отвернул край шкуры и тут же отпрянул, изумленный и несколько разочарованный, поскольку рисовал в воображении дивную и загадочную Мамину, а там лежала с открытым ртом, полная, земная и самая обыкновенная… Кетье! «Проклятье, что здесь делает эта женщина?!» — подумал я. Но тут спохватился, что не время предаваться романтическим разочарованиям, хотя в трудную минуту, когда нервы на пределе, мы наиболее беззащитны перед коварными проявлениями чувств. Кроме того, кому, как не ей, я должен обрадоваться в первую очередь, ведь я оставил ее с Энскомом и Хедой и смогу узнать у нее об их судьбе. При этой мысли у меня тревожно сжалось сердце. Почему служанка оказалась совершенно одна в столь неподходящем для нее месте? Желая немедля во всем разобраться, я пихнул Кетье в бок раз-другой, пока та не проснулась, села и широко зевнула, обнажив два ряда золотых зубов. Заметив меня, Кетье распахнула рот еще шире и, видимо, собралась звать на помощь. Тут я оказался проворней и, не дав ей опомниться, заткнул глотку краем шкуры. — Дуреха! — воскликнул я по-голландски. — Разве ты не узнала господина Квотермейна? — О хозяин, я думала, вы плохой зулус, который хочет причинить мне зло. — Тут она разразилась рыданиями и не унималась больше трех минут. — Да успокойся ты, глупая толстуха! — вскричал я раздраженно. — Лучше расскажи, где твоя хозяйка и господин Энском? — Не знаю, хозяин, — ответила она между всхлипами, — наверное, на Небесах. — Надо сказать, что Кетье считала себя христианкой. — На каких еще Небесах?! — ужаснулся я. — То есть я надеюсь, что они попали на Небеса, хозяин, ведь они оба были мертвые, когда я видела их в последний раз, а умершие попадают в рай или в ад, только на Небесах, говорят, лучше. — Мертвые?! Где ты видела их мертвыми? — В Черном ущелье, хозяин, спустя несколько дней, как ты нас покинул. Тогда старый павиан Зикали и нас отпустил. Хозяин Энском стал запрягать лошадей, мисс Хеда ему помогала, а я почти закончила собирать вещи в дорогу. И тут приходит Номбе, с улыбкой кошки, поймавшей двух мышек, она поманила меня за собой. Там она показала мне повозку, запряженную четверкой лошадей, они все стояли с поникшими головами, будто спали. Номбе смерила меня долгим взглядом и отвела в тень нависшей скалы, где моя хозяйка и хозяин Энском лежали рядом друг с дружкой совсем мертвые. — Ты уверена, что они были мертвые? — выдохнул я. — Как они умерли? — Будто я не знаю, как выглядят мертвые. Они лежали на спинах с открытыми ртами и глазами, разбросав руки в стороны. Ведьма Номбе сказала, будто пришли какие-то кафры, задушили их и убежали, кажется, так. Я ведь не шибко понимаю язык зулусов, а кто были те кафры и зачем приходили, она не сказала. — Что же дальше? — Я вернулась в хижину, хозяин, боясь, что и меня задушат, и плакала, пока не проголодалась, а когда вышла, тела уже пропали. Номбе показала мне взрыхленную землю под деревом. Ее хозяин Зикали велел их там похоронить, а куда делись лошади и повозка, не знаю. — А потом? — Меня держали там несколько дней, точно не припомню, и не выпускали за ограду. Однажды пришла Номбе и дала мне вот это. — Кетье достала сверток, зашитый в кожу. — Она велела передать тебе, что те, кого ты любишь, теперь в большей безопасности, с тем, кто намного превосходит любое земное существо. Поэтому тебе не стоит оплакивать своих друзей, ведь их горести позади. Спустя две ночи явились четверо зулусов, мужчин и женщин поровну, и забрали меня с собой. Сперва я решила, что меня убьют, но они, наоборот, были очень добры, только на вопросы не хотели отвечать, прикинулись, будто ничего не понимают. Путь наш был неблизкий, шли по ночам, днем спали, а на исходе этого дня привели меня в город кафров, запихнули в хижину, где я оказалась совсем одна. Устав от ходьбы, я легла и уснула. Вот и весь сказ. «Довольно и этого», — подумал я и принялся допрашивать ее с особым пристрастием. Кетье не отличалась умом, хоть и была преданной служанкой, а от пережитых треволнений стала соображать еще хуже. Поэтому под моим натиском она совершенно растерялась и прибегла к беспроигрышному женскому ухищрению — принялась реветь и канючить, что с нее довольно расспросов о несчастной хозяйке. Пришлось оставить ее в покое, и спустя минуту, утомившись после трудного дня, бедняжка уснула. Я попытался собраться с мыслями, насколько позволял храп служанки. Но что тут думать — она либо врет, либо нет. Впрочем, эта невинная пташка, кажется, сама верит в то, что говорит. Да и как тут можно ошибиться, ведь Кетье клянется, что видела тела Энскома и Хеды и их свежие могилы. Слова Номбе тоже все подтверждают, — ведь не сама служанка их выдумала, — о том, что они теперь на попечении у Великого, как зулусы обычно называют Бога, и все беды позади. Только совсем непонятно, как все произошло и кто виновник их гибели. Зикали, который вечно себе на уме, мог убить несчастных, или это сделали зулусы, выполнявшие указ короля, запрещавший белым людям жить в его владениях. А может, это басуто из страны Сикукуни — они ведь не ладят с зулусами — выследили молодых людей и задушили, тем более на них это больше похоже, чем на зулусов. С трудом очнувшись, я вспомнил о свертке и, открыв его, нашел вещественное доказательство кончины моих друзей. Мешочек с драгоценными камнями Хеды, который я достал из сейфа, и золотые часы Энскома с выгравированным на них фамильным гербом. Носил он обычно серебряные часы, значит в них его и похоронили, поскольку суеверные туземцы не прикасаются к вещам умершего. Что ж, по крайней мере, можно с известной долей вероятности исключить убийство с целью ограбления, раз ценные вещи передали мне, их ближайшему другу. Итак, все мои заботы о безопасности и благополучии этой невезучей парочки пошли прахом. Глаза мои стали влажны от слез, и я в полной темноте, потому что свеча уже потухла, преклонил колени в искренней молитве о спасении их душ, раскаиваясь в безрассудной идее привести их в такое опасное место. А впрочем, я сделал все, что было в моих силах, опираясь на свой богатый жизненный опыт. Увы, с высоты прожитых лет я вижу, что зачастую попытки совершения добрых дел приводят к обратным последствиям, если в них вмешивается злой рок, в моем случае в лице Зикали. Сдается мне, человек заблуждается, будто свободен в своих поступках, и часто не ведает, к чему в итоге приведет его избранный путь. Впрочем, подобная мысль опасна, и мне, пожалуй, стоит держать язык за зубами, поскольку человек лишь звено в великом укладе жизни, из которого его взгляду доступен лишь маленький кусочек. Одно утешение — теперь меня в Зулуленде ничто не держит. Само собой, мне поставили ультиматум — покинуть страну или умереть, но я бы не смог уехать со спокойной совестью. Если бы я имел хоть малейшую надежду, что они каким-то чудом остались в живых, то непременно постарался бы им помочь, но в результате и сам бы погиб, и их бы не выручил. Что ж, судьба распорядилась иначе, и ничего тут не попишешь. Оставалось лишь надеяться, что там, где они сейчас, больше не будет проблем, на худой конец сгодится и место вечного упокоения. Погрузившись в размышления, я не заметил, как задремал, видно, мой измученный организм нуждался в отдыхе, даже если бы на рассвете меня вместо путешествия ожидала смертная казнь. По милости особы, храпящей в другом углу хижины, спал я неважно. Вдобавок присутствие посторонней женщины ставило меня в щекотливое положение, и я в красках представлял себе, какие разговоры пойдут среди зулусов, этих жутких сплетников. Да, представьте себе, я принадлежу к тем мужчинам, которых больше волнуют не утраты и грозящие опасности, а скандалы и публичные унижения. Когда я наконец пробудился, сквозь щели у входного отверстия уже проникали слабые проблески утренней зари и смутно вырисовывались неказистые формы спящей в другом углу Кетье. Вскоре раздался осторожный стук. Я тут же с опаской вылез наружу, ни мало не заботясь, получу ли удар копьем. Снаружи меня ждали восемь воинов и Гоза. Он спросил, готов ли я отправляться в путь. — Почти, вот только лошадь запрягу. — Животное, кстати, уже ждало меня рядом с хижиной. Справился я мигом, поскольку сразу захватил с собой скудные пожитки, а мешочек с драгоценностями лежал у меня в кармане. Тут начальник отряда, этакий тощий флегматик, равнодушно обратился к Гозе: — Жене белого человека велено идти с ним. Где она? — В хижине, конечно, где же ей еще быть, — спросонья ответил Гоза. Тут я разъярился не на шутку, прежде со мной такого не случалось. — Если ты о той метиске, которую мне подсунули, то да, она в хижине, и раз уж эта женщина идет с нами, можешь забрать ее себе, если хочешь. Приняв уговор, флегматик влез в хижину, его, кстати, звали Индуду, вероятно, он или его отец стремились в полк Дуду. Вскоре оттуда глухо донеслись звуки борьбы и крики ужаса, нечто подобное я уже слышал, когда наблюдал, как раненный мной заяц скрылся в норе ошейниковой кобры. Вдруг все стихло, и появилась толстая растрепанная Кетье, а следом за ней этот змей Индуду. Заприметив меня в компании вооруженных зулусов, служанка бросилась мне на шею с криками о помощи — вообразила, дуреха, будто ее собираются убить. Вцепилась в меня, словно осьминог своими щупальцами, и обмякла, а я не удержался на ногах под тяжестью одиннадцати пудов живого веса и рухнул на колени. — Ах, — беззлобно заметил один зулус, — как она боится за своего любимого мужа. С трудом освободившись от ее объятий, я схватил наугад какую-то бутылочную тыкву с водой и вылил ей на голову, а там оказалась вовсе не вода, а кислое молоко. Впрочем, оно подействовало не хуже, минуту спустя она очнулась. В густой маске из творога и сыворотки Кетье выглядела устрашающе. Как мог, я объяснил ей, что случилось. Потом Индуду и Гоза вытянули по пучку соломы с крыши и обтерли ее, а я тем временем пристроил ее вещи рядом со своими. Общими усилиями мы взгромоздили Кетье на лошадь, и путешествие началось. Зулусы с любопытством глядели на нас со всех сторон, пока мы пересекали границу их владений. У городских ворот случилась заминка, и мне стало не по себе, ведь если я задержусь сверх положенного срока, то могу проститься с жизнью. Вполне возможно, Кечвайо передумал или уступил уговорам, приказав меня убить, поскольку я слышал и видел такое, чего белым знать не положено. Все время, пока мы ехали к переправе, меня не оставляли сомнения и я недоверчиво косился на каждого встречного и тех, кто нас нагонял, ожидая вестника судьбы. Мои страхи не были беспочвенны, поскольку, как я узнал позже, Умнямана и остальные весьма решительно призывали короля убить меня, и именно по приказу премьер-министра нас задержали у городских ворот. Однако король оказался в этом вопросе — как и во многих других — честным человеком. Пусть он был робок в делах государства, зато не позволил причинить мне вред. Напротив, Кечвайо приказал всякого, кто тронет Макумазана, королевского гостя и вестника, предать смерти вместе со всем его домом. Пока мы ждали, вокруг столпились женщины, и я невольно подслушал их разговор. — Гляньте-ка, да ведь этот белый человек — Бодрствующий в ночи, — сказала одна. — Говорят, он может попасть в муху, сидящую на воловьем роге, с такой дали, что и не разглядишь. Он и ведьма Мамина любили друг друга. До сей поры по всей стране ходят легенды о ее красоте. Говорят, она и убила себя из-за него, потому как не желала состариться и подурнеть, а то бы он тогда от нее отказался. Все это я узнала от своей матери прошлой ночью. «А мать-то твоя лгунья», — подумал я про себя, но открыто вступать в спор было ниже моего достоинства. — В самом деле? — спросила ее любопытная подруга. — Видать, у Мамины был странный вкус, раз она полюбила этого уродливого коротышку с волосами цвета выгоревшей стерни и морщинистой кожей, словно ее содрали, высушили на солнце, а растянуть забыли. Правда, я слышала, ведьм привлекают всякие странности. — Верно, — согласилась первая, — а теперь он старик, и выбирать не приходится. Новая его жена совсем не красавица, хоть и вымазалась в молоке, чтобы походить на белую женщину. Женщины болтали, пока не прибежал гонец, судя по приветствию Индуду, от самого короля. Они о чем-то пошептались, и он велел нам двигаться дальше. Как раз вовремя, останься мы тут еще хоть немного, я бы проучил этих глупых сплетниц собственными руками. О нашем странствии по стране зулусов рассказывать особо нечего, людей почти не осталось. Мужчин призвали в армию, женщины и дети покинули поселки, должно быть, их увели вслед за скотом в безопасное место. Лишь однажды нам повстречалось войско, пять тысяч воинов, они рассеялись по холму, словно стадо диких животных. Среди них были полки из Нодвенгу и Нокенке, вскоре им предстояло сражение при Изандлване. Начальники, статные и грозные туземцы, в сопровождении небольшого отряда подошли выяснить, кто мы такие. Они разглядывали меня с любопытством, одного я даже узнал, и мы перекинулись парой слов. Он сказал, что мне, последнему белому человеку в земле зулу, крупно повезло, потому как скоро их воины — при этом он кивнул на растекшуюся по холму орду — поглотят англичан и даже косточки от них не оставят. В ответ я сказал, мол, поживем — увидим, ведь у англичан тоже хороший аппетит, а он рассмеялся и сказал, что англичане и в самом деле сделали первый очень маленький укус, намекая на первую схватку. — Что ж, прощай, Макумазан, — сказал туземец напоследок, — надеюсь, мы встретимся на поле боя, тогда и поглядим, бегаешь ли ты так же хорошо, как стреляешь. — Лучше бы нам не встречаться, — потеряв терпение, ответил я, — иначе обещаю, что застрелю тебя и ты больше ничего не увидишь, кроме врат в мир духов. Упомянул я этот разговор лишь затем, что по какому-то странному стечению обстоятельств и в самом деле убил этого зулуса в битве при Изандлване. Звали его Симпофу. Все эти дни я брел под палящим солнцем и проливными дождями. Толстая Кетье отказалась идти пешком, и я отдал ей свою лошадь. Мысли о погибших друзьях буквально преследовали меня. Одному Богу известно, как я себя корил, что привез их в страну зулусов. Ужасно несправедливо, когда любящие друг друга молодые люди с таким блестящим будущим, едва позабыв трагическое прошлое, вдруг оказываются жертвами злой судьбы. Снова и снова я заставлял глупую служанку припоминать мельчайшие по дробности их смерти и событий, произошедших до и после убийства. Увы, все без толку, с каждым разом ее рассказ становился все более расплывчатым, как будто события того дня стирались у нее из памяти. Лишь одно оставалось неизменно: Кетье видела их мертвые тела и свежие могилы и клялась в этом Богом Небесным, а следом разражалась таким потоком слез, что тут не только я, но и суд присяжных не усомнился бы в словах служанки. Что же все-таки случилось? Возможно, их убил Зикали или побудил кого-то совершить убийство. А может, вопреки его стараниям, их убили по приказу короля или это дело рук басуто. Тут меня осенило. Откуда взялась та женщина на скале, которую зулусы приняли за свою Небесную принцессу? Разумеется, все это глупости и никакого божества не существует, поэтому его роль исполнила белая женщина или черная, выкрашенная белой краской, но издалека и в неверном свете луны никто не заметил подмены. А не могла ли белой женщиной оказаться сама Хеда? По фигуре, росту и цвету волос она вполне подходит. Но вряд ли Хеда могла, будучи мертвой, если верить Кетье, уже несколько дней, так притворяться и делать вид, будто мы с ней незнакомы, даже когда я в нее прицелился, а вот Номбе вполне могла сыграть. Тогда она, должно быть, мастерица перевоплощений, так как незадолго перед этим именно она сыграла роль умершей Мамины. В противном случае у меня было видение, ведь я же в самом деле видел кого-то, очень похожего на Мамину, а Зикали единственный, кто мог научить Номбе, как с успехом исполнить роль. Что ж, если нас посетило видение, тогда Зикали действительно большой мастер своего дела. Однако как быть с копьем, которое Номкубулвана держала в руке и кидала, ведь его наконечник до сих пор лежит в моем седельном вьюке. Он то, по крайней мере, вполне осязаемый и реальный, хотя и нет никаких доказательств, будто пресловутое оружие действительно принадлежало самому Чаке. Еще одна проблема не давала мне покоя. Так и не удалось поговорить с Зикали. Казалось, я совершаю предательство, уезжая, не выслушав его самого, то есть всего, чем он счел бы нужным со мной поделиться. Кажется, я забыл упомянуть, пока мы ждали у ворот и те сплетницы говорили глупости о Мамине и Кетье, я снова попросил Гозу стать посредником между колдуном и мной. Увы, он, как и прежде, отказался, заявив, что, если мне жить надоело, не лучше ли вернуться в Долину костей, и как бы невзначай добавил, что Открыватель уже на обратном пути к дому. Правда это или нет, но я так и не придумал, как с ним встретиться или хотя бы передать весточку. Тут нет моей вины, ведь я сделал все возможное, однако в глубине души я все-таки мучился угрызениями совести. С другой стороны, как сказали бы циники, чувство вины — удел неудачников. Наконец мы подошли к броду реки Тугела. По счастью, ее уровень оказался невысок, как раз для переправы. Прежде чем перейти на другой берег, мы простились со своими провожатыми. С Гозой — очень трогательно, будто у смертного одра, а ведь так оно и было. Я пожелал ему и остальным легкой смерти, чтобы раны от пуль или удара штыком оказались смертельными и они долго не мучились от боли. Они поблагодарили меня за такую искреннюю заботу, впрочем без особого восторга. Лишь Индуду в приступе остроумия или, вернее, упрямства по принципу «сам такой» угрюмо заявил, что, если мы встретимся на поле боя, он обязательно вспомнит эти слова и убьет меня так, чтобы наверняка, и не позволит страдать на одре болезни без жены, которая могла бы выхаживать больного мужа. Они ведь знали, как меня задевают шутки про Кетье. Напоследок мы пожали друг другу руки, и переправа началась. Служанка сидела верхом, обвешанная вещами, как Белый Рыцарь из «Алисы в Зазеркалье», вцепившись в котелок, а я держался за хвост. Она заплакала от страха, когда лошадь вступила в пенящийся поток. Когда мы были уже вне досягаемости копий, я, по горло в воде, остановился и крикнул на прощание: — Передайте королю, он совершит величайшую глупость в своей жизни, если будет сражаться с англичанами. Война приведет страну к гибели, а ему принесет лишь позорную смерть. Как гласит ваша пословица, «пловца несет течение». Тут я вдруг поскользнулся на камне и чуть сам не уплыл по течению. Отплевавшись от грязной воды, я дождался, пока они там, на берегу, вволю не навеселятся, и продолжал: — Передайте Зикали, старому плуту, я знаю, что он убил моих друзей, и когда мы снова встретимся, он и его сообщники заплатят за это своими жизнями. На сей раз зулусы потеряли терпение и метнули в нас копье. Мои расчеты оказались неверны: копье порвало платье Кетье, и служанка в ужасе вскрикнула. Тогда я остановил поток красноречия, и мы наконец выбрались на противоположный берег, где оказались в безопасности. Так завершилась моя неудачная поездка в Зулуленд.Глава 18
ИЗАНДЛВАНА
Мы перешли реку Тугела через переправу Мидл-Дрифт. Примерно в миле от берега я наткнулся на парня из сторожевого отряда конных туземцев. Оказывается, мы попали в самое сердце второго корпуса, находящегося под началом полковника инженерных войск Данфорда. Туда входили артиллерийская бригада, три батальона туземного корпуса и несколько туземных кавалерийских отрядов. Установив личность, он отвел меня в штаб — офицерскую палатку. Командующим оказался высокий нервный мужчина с открытым, довольно симпатичным лицом и длинными усами. Одну руку он, помнится, держал на перевязи, видно, получил ранение в битве с кафрами. Он был весьма занят, когда я вошел, — получил приказ о выступлении против вождя Мефаны, как объяснили его подчиненные. Узнав, что я побывал у зулусов и хорошо с ними знаком, командующий сразу принялся меня расспрашивать о вожде Мефане, похоже, он почти ничего о нем не знал. Я рассказал то немногое, что знал сам, а едва заикнулся о важном деле, как меня выпроводи ли и любезно пригласили на завтрак. Я тут же согласился, одолжив кое-что из одежды у одного офицера, пока старую развесили на солнце сушиться. Припоминаю, с какой радостью я отдал должное первому стакану виски, который мне удалось попробовать, с тех пор как я покинул мраморный Храм, и в придачу к виски — сытной английской пище. Вскоре я вспомнил о Кетье, оставшейся снаружи в компании местных женщин, и пошел ее проведать. Оказывается, вдоволь наевшись, служанка болтала с молодым человеком, который что-то записывал в свой блокнот. Как выяснилось позднее, он работал в газете корреспондентом. Уж не знаю, о чем они говорили и что он там себе вообразил, могу лишь рассказать, что из этого получилось. Статья вышла спустя несколько дней в одной местной газете, где автор во всеуслышание заявил, будто мистер Аллан Квотермейн, знаменитый охотник, после многочисленных приключений покинул эту страну вместе с любимой женой, единственной оставшейся в живых из всего гарема. Далее следовали жуткие подробности о том, как зулусский колдун по прозвищу Поденщик или Больной Осел — то есть Открыватель или Зикали — убил остальных его жен, и все в таком духе. Я пришел в ярость и встретился с редактором газеты, кротким человечком с заискивающим видом, который заверил меня, что они опубликовали статью в том виде, в каком получили, как будто это меняет дело. Тогда я подал на них иск за клевету, но по обстоятельствам, не зависящим от меня, не смог явиться в суд к назначенному сроку, поэтому дело было прекращено. Может, они спутали меня с другим известным белым человеком с большим гаремом, и тем не менее еще довольно долго меня преследовали отголоски сплетен о «любимой жене». В тот же день я покинул лагерь вместе с Кетье, которая привязалась ко мне, словно репейник. Остаток пути прошел без происшествий, за исключением всяких недоразумений, возникших из-за Кетье, к примеру с одним пастором, но об этом мне вспоминать не хочется. Вот наконец и Марицбург, там я поселил служанку в пансион, находящийся на содержании у таких же, как она, метисов, и, вздохнув с облегчением, отправился в отель, как можно дальше от нее. Позднее Кетье получила место поварихи в городе Хауик, и на какое-то время я потерял ее из виду. В Марицбурге я встречался с разными начальствующими лицами и, повинуясь долгу, передал им послание от Кечвайо, оставив в стороне колдовство Зикали, дабы не выглядеть нелепо. Однако мои слова не возымели особого действия, ибо военные действия уже начались и вмешательство было излишним. К тому же я не офицер, не чиновник, а всего лишь простой охотник, взявший себе в жены туземную женщину из страны зулусов. Также я сообщил им об убийстве Энскома и Хеды, впрочем, и эта новость никого не впечатлила, учитывая, какие настали времена, тем более что чиновники, заведующие подобными делами, и слыхом о них не слыхивали. Об этом даже не написали в газетах, равно как и о смерти Родда и Марнхема на границе со страной Сикукуни. Перед лицом реальной опасности все прочие смерти отходят на второй план. Когда люди опасаются за свою собственную жизнь, им не до каких-то там чужих смертей. Ну и наконец, я переслал завещание Марнхема в банк Претории до востребования, наказав им хорошенько за ним приглядывать, и сдал на хранение драгоценности и золотые слитки Хеды в филиал этого банка в Марицбурге, не распространяясь особо, как они попали в мои руки. Покончив, таким образом, с делами, я озаботился вечной проблемой, как мне заработать на хлеб насущный. Теперь, когда я пишу эти воспоминания, здесь, в Йоркшире, я, благодаря копям царя Соломона, довольно богатый человек. Но если в мои руки и попадали какие-то деньги, то до того, как я побывал в стране кукуанов с моими друзьями Кертисом и Гудом, они, так или иначе, подолгу не задерживались — либо терялись, либо тратились. Видно, я не из тех, кто обладает счастливой способностью приумножать капиталы. Что ж, возможно, все к лучшему, ведь если бы я сколотил приличную сумму в молодости, тогда бы время пронеслось незаметно и мне не довелось бы приобрести жизненный опыт, а он дороже всяких денег. В такой стране, как эта, где золоту не поклоняются, как божеству, опыт может дать нам гораздо больше, чем солидный счет в банке. А между тем мы более всего жаждем богатства, а не знания и мудрости, стало быть, истинный дух христианского учения еще не достаточно проник в наши моральные устои. Люди лишь нацепляют маску благочестия, а на самом деле их взоры денно и нощно прикованы к божественному видению — сверкающему лику Мамоны. Теперь я владел фургонами с волами, а на них как раз имелся спрос, поэтому мне пришло в голову сдать их внаем военным властям, с собой в качестве возницы. Получив массу писем от одного офицера за подписью генерал-губернатора, с которым мы удачно сторговались — хотя и на весьма скромную сумму, — я как раз ехал к нему для завершения сделки. Однако, встретив возле его палатки знакомого возницу, порядочного олуха, я усомнился в своем везении, когда тот поведал, как всего полчаса назад выручил на двадцать процентов больше, чем предложили мне, за хилых волов и расшатанные фургоны. А впрочем, какая разница, ведь в Изандлване пропало все снаряжение и, поскольку я проглядел в договоре какие-то формальности, так и не удалось вернуть и десятой части их стоимости. Кажется, я не успел заявить об утрате в течение установленного срока. Наконец фургоны загрузили под завязку боеприпасами и прочим правительственным грузом, и я двинулся по ужасной дороге к вершине холма Хелпмекар, неподалеку от Рокс-Дрифт, — мес ту дислокации третьего корпуса. Тут мы ненадолго задержались, пока ждали, как и остальные команды, чтобы перейти вброд реку Баффало. Именно тогда я взял на себя смелость и предложил кое-кому из высокопоставленных офицеров, не будем называть их имен, как только станем лагерем в стране зулусов, защититься со всех сторон фургонами. Зная нравы туземцев, я ожидал мощного наступления. Меня весьма любезно выслушали и даже предложили выпить джину, якобы любимого напитка всех возниц, а на самом деле смотрели на меня с презрением, какого, по их мнению, заслуживает вся эта братия. Прискорбный случай, и не стоит на нем останавливаться. Ни к чему сетовать, ведь даже самые осторожные из выдающихся личностей, такие как сэр Мельмот Осборн и Джей Джей Уис, потомок старейшего голландского семейства, вырастившего не одно поколение военных, не избежали подобной участи. Между прочим, пока я ждал на берегу реки, встретился со старым другом, зулусом Магепой. Мы сражались рядом у реки Тугела, а спустя несколько дней он совершил величайший подвиг — спас внука от смерти благодаря своим быстрым ногам. Где-то у меня сохранились записи об этой истории. Наконец 11 января мы получили приказ о выступлении и переправились через реку. Общий план кампании состоял в том, чтобы каждый корпус шел отдельно, и потом все должны встретиться в Улунди. Дороги, вернее, не дороги, а одно название, были в жутком состоянии, поэтому неблизкий поход занял у нас десять дней. Наконец мы достигли горного перевала в полмили шириной. Справа лежал каменный выступ, а слева поднимались ввысь, будто стены исполинской крепости, суровые отвесные склоны горы Изандлвана. Она напоминала огромного льва, свысока взирающего на окруженную холмами долину. В ночь на 21 января разбили лагерь у ее подножия, не приняв никаких мер против внезапного нападения, отчего мне стало не по себе. Бравые офицеры будто вовсе не ожидали серьезной битвы, а просто выехали на пикник. Даже захватили с собой биты и калитки для крикета и расставили их в тесном пространстве между фургонами. Думаю, нет смысла описывать во всех подробностях события, предшествовавшие побоищу у Изандлваны, ведь все это есть в книгах по истории. Скажу лишь, что в ночь на 21 января майор Дартнелл, командующий подразделением конной полиции, отправился разведать земли за горой и прислал гонца с донесением о наступлении основных сил зулусской армии. Тогда главнокомандующий, лорд Челмсфорд, покинув лагерь на рассвете, отправился к нему на выручку, захватив шесть рот двадцать четвертого пехотного полка, а также четыре орудия и эскадрон кавалерии. В лагере остались два орудия и почти восемьсот подразделений колониальных и девятьсот подразделений туземных войск, а также возницы вроде меня и гражданские лица, выполняющие функции рабочей силы. Притаившись за брезентом своего фургона, где у меня был лежак на куче багажа, я видел, как они уходили. На самом деле я давно уже оделся, на душе кошки скребли от дурных предчувствий, и ночью было не до сна. В десятом часу прискакал упомянутый мной ранее полковник Данфорд и привел с собой пятьсот подразделений туземного корпуса Наталя, из них половина верхом, и две пусковые ракетные установки, которыми, само собой, орудовали англичане. Перед этим патруль сообщил о стычке с зулусами на левом фланге, и тем якобы удалось скрыться. На самом деле они просто искали початки на кукурузном поле, ведь в этом году случилась страшная засуха, еды почти не осталось, и целые полки голодали. По случайности я стал свидетелем встречи полковника Пуллейна, приземистого толстяка, который временно командовал лагерем, и полковника Данфорда, выше его по чину, принявшего на себя командование. Пуллейн заявил, что ему была поручена защита лагеря, а чем у них кончилось дело, не знаю. Немного погодя полковник Данфорд заметил и признал меня. — Мистер Квотермейн, думаете, нам стоит ждать атаки зулусов? — Нет, сэр, ведь нынче новолуние — для них это признак неудачи, а вот завтра — другое дело. Тогда полковник дал особые указания капитану Джорджу Шепстону расставить вдоль левого хребта цепочку из туземного кавалерийского отряда, но вскоре в трех милях от того места они столкнулись с зулусами и были вынуждены поменять расположение. Немного погодя под усиленной охраной капитан выступил оттуда, захватив пусковую ракетную установку, и, обогнув небольшой холм на левом фланге, так и не вернулся. Как раз перед этим полковник Данфорд, завидев меня, предложил составить ему компанию, поскольку мне знакомы повадки зулусов, а это может ему пригодиться. Разумеется, я согласился и велел Жану, вознице одного из моих фургонов, привести лошадь, ту самую, на которой я ездил в страну зулусов, а сам шмыгнул в фургон и сверх надетого патронташа набил все карманы патронами для двуствольной винтовки. Забираясь в седло, я дал Жану указания насчет фургона и волов. Он внимательно выслушал и, к моему удивлению, протянул руку: — Прощай хозяин, ты был добр ко мне, и я тебе за это благодарен. — К чему это ты? — спросил я. — Кафры объявили, хозяин, что великое зулусское войско нагрянет спустя час или два и поглотит всех нас. Не знаю, кто им сказал, но они готовы в том поклясться. — Чушь! Зулусы не сражаются в новолуние, а если бы и случилось нечто подобное, лучше бы тебе и другим парням удрать в Наталь, ведь должно же правительство расплатиться за фургоны и волов. Конечно, я просто пошутил, но, к счастью, Жан и остальные мои слуги восприняли мои слова всерьез. Поэтому, когда зулусы окружили лагерь, все, кроме одного, вернувшегося за пистолетом, уже были в безопасности на другом берегу реки. А через минуту я уже поскакал вслед за полковником Данфордом и вскоре нагнал его за четверть мили от лагеря. Само собой, я не могу описать всех ужасов битвы, а лишь те события, в которых принимал непосредственное участие. Полковник Данфорд проехал около трех с половиной миль к левому флангу, уж не знаю почему, ведь с вершины холма Нквату прямо у нас за спиной, где, судя по всему, капитана Шепстона теснили зулусы, уже раздавалась стрельба. Вдруг перед нами возник солдат из отряда туземных карабинеров по имени Уайтлоу, он возвращался из разведки и сообщил, что прямо перед нами сидит полукругом огромного войско — как принято у зулусов перед расправой, — хотя часть их уже перешла в наступление. Вскоре они появились над гребнем холма, я насчитал десять тысяч воинов и сразу признал щиты полков Нодвенгу, Дудуду, Нокенке и Ингобамакоси. Зулусы были настроены решительно, и нам ничего не оставалось, как отступить. Генерал Унчинквайо вместе с Ундабуко, братом короля Кечвайо, и вождем Узибебу, заведующим разведкой, как я и думал, не хотели сражаться в новолуние, однако положение ухудшилось, и их полки долее не могли оставаться в стороне. Таким образом, двадцать тысяч и даже больше воинов, то есть одна треть всей зулусской армии, было брошено на борьбу с малочисленным войском англичан, которые рассеялись широким фронтом из-за отсутствия четкого руководства и не имели надежного укрепления, где бы они могли укрыться. Мы отступили к ущелью, где продержались некоторое время, а затем, не дожидаясь, пока нас настигнут, постепенно отошли еще примерно на две мили, выстрелами сдерживая врага. У подножия холма наткнулись на останки подразделения артиллерийского орудия, уничтоженного полком, тем самым, который прошел позади нас и напал на лагерь. Все солдаты лежали, насквозь пронзенные копьями, а один парень, раненный в голову, все еще сжимал в руках ракету. Где-то позади, чуть правее холма Изандлвана долину пересекало узкое неглубокое ущелье. Мы достигли его и вместе с пятьюдесятью отрядами туземных карабинеров под началом капитана Бредстрита продержались довольно долго, открыв яростный огонь по зулусам. После каждой неудачной попытки подойти ближе их потери исчислялись не одним десятком. На мою долю пришлось до пятнадцати убитых, потому как двуствольная винтовка с большими пулями бьет врага наповал. Отправили в лагерь гонцов за новыми боеприпасами, а они так и не вернулись. Одному Богу известно, что с ними стряслось, на мой взгляд, они не смогли довезти патроны, упакованные в коробки. Наконец скудные запасы почти иссякли, и нам снова пришлось отступить в сторону лагеря, который находился где-то в полумиле от нас. Улучив минуту, пока зулусы отдыхали, ожидая подкрепления, полковник Данфорд отдал приказ к отступлению, который тут же был приведен в исполнение. До сих пор мы лишились всего нескольких солдат, ведь зулусы никак не могли преодолеть линию огня и достать нас своими копьями. По пути к горе я заметил, что стрельба продолжается отовсюду, особенно со стороны перевала, связывающего гору и цепь холмов Нквату, где капитан Шепстон и его туземная кавалерия погибли, пытаясь сдержать первую атаку зулусов. Ружья палили вовсю, и стрелки, надо сказать, действовали весьма умело. Все были в замешательстве. Полковник Данфорд подозвал двух офицеров, капитана Эссекса и лейтенанта Кокрана, и отдал приказ. Он велел им привезти как можно больше боеприпасов. Сам я держался поближе к полковнику, и чуть погодя мы очутились вместе с грузом в людской свалке — по правую руку от того самого перевала, который миновали, когда перешли реку. Вскоре раздались крики: «Зулусы нас окружили!» Я посмотрел влево. Сотни воинов текли рекой по хребту, соединяющему Изандлвану с цепью холмов Нквату. Они неуклонно приближались к лагерю. Поднялась суматоха. Вспомогательные туземные войска прошли, а на их место прибывали все новые. Конечно, случались битвы и посерьезней, однако редко какая из них была страшнееэтой, особенно в наши дни. Вид зулусов со щитами и в перьях, когда они с боевым кличем шли в атаку, размахивая копьями, поистине устрашал. Винтовки Мартини косили их тысячами, а поток все не иссякал. И тут я понял, что битва проиграна. Обезумевшая толпа, в основном туземцы, устремилась обратно через перевал к броду в девяти милях от нас, а следом и белые солдаты, кто верхом, а кто бегом. Впоследствии эту переправу назовут Фуджитив-Дрифтс. Бросившись в их гущу с обеих сторон, зулусы преследовали бегущих людей и пронзали копьями. Оставшиеся группы солдат образовали каре и сдерживали яростные атаки зулусов, которые обрушивались на них, словно волны на скалу. Мало-помалу патроны заканчивались, и в распоряжении солдат оставались лишь штыки, и все же зулусы никак не могли пробить брешь, поэтому сменили тактику. Отступили немного и, оказавшись вне досягаемости штыков, забросали солдат копьями, нанеся им тем самым сокрушительный урон. Такова была участь солдат двадцать четвертого пехотного полка, отряда туземных карабинеров и отряда конной полиции. Кое-кто спешился, а я все еще оставался верхом и стрелял, пока не кончились патроны, а моя кобыла от испуга застыла на месте как вкопанная. Последний выстрел достался капитану Индуду, тому самому, кто сопровождал меня до реки Тугела. — Макумазан, — крикнул он, завидев меня, — сейчас я разделаюсь с тобой, как и обещал. Больше он ничего не успел сказать, в тот же миг я подстрелил этого долговязого флегматика из своей двустволки. Все это время полковник Данфорд держался, как и подобает британскому офицеру. Всякий раз, с презрением оглядываясь на дезертиров, я видел его внушительную фигуру с приметными длинными усами и рукой на перевязи. Данфорд сновал повсюду, вдохновлял нас стоять насмерть. Тут я заметил, как кафр в двадцати ярдах от него прицелился и выстрелил в полковника из старой гладкоствольной винтовки. Он упал и, видимо, умер на месте. Так окончил свой век самый доблестный офицер и, смею заметить, джентльмен, подвергшийся самому ужасному нападению за всю военную историю. Вина за эту трагедию лежит не на плечах полковника Данфорда или полковника Пуллейна. И тут началось самое ужасное: кое-кто успел убежать, а остальные падали на месте замертво. Меня, как ни странно, даже ни разу не зацепило. Солдаты валились как подкошенные, мимо со всех сторон со свистом пролетали пули и копья, а я оставался невредим. Не иначе как некая сила встала на мою защиту. Наконец, когда все, как один, полегли, а для защиты остался лишь револьвер, я понял, что пора уносить ноги, и первым моим порывом было проскакать девять миль к реке. Оглянувшись, я увидел каменистую дорогу, устланную телами тех, кто пытался спастись от зулусов, и пока я раздумывал, не стоит ли все же рискнуть, как вдруг у меня в голове раздался голос женщины, игравшей роль Мамины в Долине костей. Она заявила, что не стоит следовать за теми, кто бежит с поля боя, а лучше поспешить в Улунди, ибо там меня защитят и не причинят вреда. Разумеется, все эти предсказания всего лишь фантазия моего восприимчивого разума, хотя битва и беспорядочное бегство действительно произошли, как она и говорила. А меж тем, бог его знает почему, я все-таки послушался голоса. Пришпорив лошадь, я поскакал мимо горы Изандлвана, где на южном склоне двадцать четвертый пехотный полк давал свой последний бой, и двинулся вдоль цепи холмов Нквату. Долина буквально кишела зулусами, подтягивалось подкрепление, а справа от меня текли рекой полки Гикази и Улунди, образующие левый «рог» импи, зулусского войска. Он состоял из молодых, неопытных воинов, поэтому — и это следует учесть — они не хотели вступать в бой, задержались и слишком поздно окружили лагерь. Таким образом, дорога, названная позднее Фуджитив-Дрифтс, какое-то время оставалась свободна, и это позволило некоторым бежать. Именно эти полки или какая-то их часть позднее двинулись дальше и атаковали Роркс-Дрифт с плачевным для себя исходом. Несколько сотен ярдов я скакал без оглядки, на свой страх и риск, ведь у меня не осталось иного выхода для спасения. Трижды на моем пути встречались зулусы, но всякий раз они бросались врассыпную, крича нечто невразумительное, как будто были напуганы чем-то у меня за спиной. Верно, принимали за сумасшедшего, раз я осмелился скакать прямиком на врага. Да кто их разберет, может, у меня и впрямь глаза горели, как у безумного. Как бы там ни было, я был полон решимости в очередной раз проскакать мимо, как вдруг раздался выстрел. Пуля угодила прямо в хребет моей лошади. Откуда она прилетела, не знаю, однако стрелял не зулус. Скорее всего, шальная пуля от какого-нибудь солдата, все еще сражавшегося у подножия горы. Бедная лошадь взбрыкнула, круто повернулась и понесла, она мчалась во весь опор обратно к горе, перепрыгивая через мертвых и смертельно раненных и прорываясь сквозь живых. Минуты за две мы взлетели по северному склону, безлюдному на вид, к возвышавшейся над ним мрачной отвесной скале. Битва тем временем шла на другом склоне. У подножия скалы кобыла вдруг остановилась, затряслась и рухнула на землю замертво, должно быть, открылось внутреннее кровотечение. Я растерянно огляделся. Идти по равнине пешком было равносильно самоубийству, ну и что же мне оставалось? Обследовав скалу, я заметил промоину, поросшую жидким кустарником, за тысячу лет ее выдолбила дождевая вода. Бросившись туда, я принялся с трудом взбираться наверх, благо зулусы, занятые на дальнем склоне, меня не заметили. Наконец я достиг самой вершины почти голого камня, лишенного растительности, если не считать ложбинки с почвой на южной стороне, где в сезон дождей растут травы, папоротники и несколько чахлых растений, похожих на алоэ. Первым делом, взобравшись туда, я утолил жажду, зачерпнув воды из дождевой лужицы, которая скопилась в чашевидном углублении. На вкус она показалась мне слаще нектара, и я будто заново родился. Затем укрылся как мог травой и сухими листьями и притих. Сверху, с края обрыва, передо мной широко расстилалась равнина. Из своего орлиного гнезда в сотнях футов над землей я мог наблюдать за всем, что происходит внизу. Так я стал свидетелем гибели солдат, сражавшихся до последнего. Они держались мужественно, и меня переполняла гордость за соотечественников. Один молодой солдат побежал вверх по склону и достиг маленькой площадки в пятидесяти футах подо мной, а следом неслись несколько зулусов. Он укрылся в пещерке и оттуда выстрелил в них три или четыре раза, пока у него не кончились патроны. Зулусы похвалили его за храбрость и убили. Может статься, он был последним солдатом, павшим в битве при Изандлване. Зулусы принялись опустошать лагерь, и это было ужасное зрелище. Забрали волов, кроме тех, что были запряжены в фургоны и прицеплены к орудиям, и лошадей, каких смогли поймать, и увели в Улунди в качестве военного трофея, как я узнал впоследствии. Затем убитых солдат раздели, и кафры надели их красные мундиры и забрали ружья. Они побросали консервы, а спиртное выпили. Эти невежды даже глотали лекарства и потом ходили, пошатываясь, а другие падали и засыпали. Спустя час или два с той стороны, куда отбыл генерал, прискакал во весь опор офицер, он заехал прямиком в лагерь, где палатки стояли прямо, ибо растяжки никто не ослабил, как делают при нападении, и даже флаги полоскались на ветру. Как бы я хотел предостеречь его, но, увы, это было выше моих сил. Он подъехал к штабной палатке, как вдруг оттуда повыскакивали зулусы, размахивая длинными копьями. Офицер осадил лошадь и на миг замер в нерешительности, затем опомнился и бешеным галопом покакал прочь. Он остался невредим, хотя зулусы бросали в него копья и стреляли. После этого они еще похозяйничали в лагере, а затем ушли. Как будто забрезжила надежда на спасение, но не тут-то было. Бесконечное множество зулусов взобралось на гору Изандлвана со всех сторон, они спрятались за камнями и в высокой траве, видно, обозревали окрестности. Кроме того, несколько капитанов поднялись на ту самую площадку, откуда из пещерки отстреливался молодой солдат, и устроили там лагерь. На закате они расстелили свои циновки и поели, не разжигая костра. Вскоре стемнело, и мой побег стал невозможен, поскольку, спускаясь на ощупь, я мог оступиться и разбиться насмерть. Со стороны Роркс-Дрифт раздавалась непрерывная стрельба, очевидно, там шла ожесточенная борьба, и у меня мелькнула мысль: чем же все закончится? Немного погодя вдалеке послышался лошадиный топот и скрип колес артиллерийских орудий. Капитаны подо мной тоже их услышали, и один сказал другому, что это, мол, возвращаются в лагерь солдаты, ушедшие на рассвете. Они прикидывали, удастся ли собрать все войско воедино и напасть на них, но сразу отбросили этот план. Полки, бившиеся сегодня, ушли, так как уже выбились из сил, а другие выполняли приказ атаковать белых за рекой. Поэтому зулусы затихли и прислушались, как и я в своем орлином гнезде. Ночь выдалась безлунная, небо затянули облака. Послышался приглушенный голос командующего. Отряд, не имея возможности ехать дальше в темноте, был вынужден расположиться лагерем среди тел погибших, и солдаты, похоже, гадали, скоро ли наступит их очередь. Так бы и случилось, если бы зулусы не подкачали с военной стратегией. Ведь и пятисот тысяч воинов достаточно, чтобы на рассвете атаковать англичан и не дать им уйти. Однако судьба распорядилась иначе, схватили лишь немногих, а остальным удалось спастись. За час до рассвета отряд снялся и с первыми лучами солнца исчез за перевалом. Какие мысли были у них на душе и что сулило им будущее? Капитаны с площадки подо мной тоже пропали, равно как и стражи, оцепившие склон горы, я видел, как они растворились в утренней мгле. Однако, когда рассеялись сумерки, я увидел группу людей, собравшихся на перевале, вернее, на обоих. Увы, теперь я не мог совершить задуманное, догнать отряд англичан на перевале. Путь отрезан. Но и не век же тут сидеть без еды, тем более что скоро зулусы взберутся ко мне — они захотят использовать мое укрытие как наблюдательный пост. Пока еще мог худо-бедно укрыться в тумане и утренних тенях, я спустился тем же путем, каким взобрался на скалу, и достиг равнины. Кругом ни живой души, ни белых, ни черных, одни только мертвые тела! Я был последним англичанином, который за прошедшие недели или даже месяцы стоял на равнине Изандлвана. Такого со мной, пожалуй, еще не случалось, после этой адской ночи я оказался в полном одиночестве посреди Долины смерти, вглядываясь в искаженные лица тех, кто еще вчера был полон жизни. Вскоре у меня заурчало в животе, ведь я не ел уже целые сутки и умирал с голоду. Поблизости стоял фургон с провизией, который разграбили зулусы, и я заметил консервы с солониной, валявшиеся на земле, а среди разбитого стекла отыскал несколько чудом уцелевших бутылок пива. Тогда я подобрал копье, вытер как следует о землю, открыл с его помощью банку и, поставив ее на травянистую кочку рядом с мертвым солдатом, вернее, между ним и зулусом, которого он убил, принялся с жадностью поглощать солонину, а когда наелся, отбил горлышки у пары бутылок и утолил жажду. Пока я ел, ко мне с жалобным воем подошел большой лохматый пес в серебристом ошейнике. По-моему, это был эрдельтерьер. Поначалу я принял его за гиену, но, обнаружив свою ошибку, бросил ему несколько кусков мяса, с которыми он управился в два счета. Вероятно, пес принадлежал какому-то убитому офицеру, правда, на ошейнике не было жетона с кличкой. Бедное животное, которому я дал имя Потеряш, сразу ко мне привязалось. Надо сказать, он жил у меня до тех пор, пока не умер от желтухи. Это случилось в Дурбане, накануне моего путешествия к копям царя Соломона. Преданней друга и попутчика, чем этот пес, я не встречал. Восстановив таким образом силы, я огляделся и подумал, куда же мне податься? В пятидесяти шагах пасся крепкий пони басуто, оседланный и взнузданный, седло на нем съехало набок. Пони щипал травку, насколько позволяли удила. Подкравшись, я запросто поймал его и привел обратно к фургону. Судя по ярлыку седельной мастерской, этот пони принадлежал туземному кавалерийскому отряду капитана Шепстона. Большие седельные вьюки из оленьей кожи я наполнил банками с солониной, парой-тройкой бутылок пива, и вот везение — нашел упаковку шведских спичек. Кроме того, я прихватил винтовку убитого солдата и вдобавок десяток с лишним патронов, они остались у него на поясе, видать, парня убили в самом начале сражения. Покончив с экипировкой, я забрался в седло и вновь подумал о бегстве в Наталь, однако взглянул на перевал и тут же отверг эту затею, ведь там вдалеке маячили перья на головах целой орды воинов. Вероятно, они возвращались после неудачной атаки на Роркс-Дрифт, но узнал я об этом гораздо позже. Свистнув псу и забирая влево от холмов Нквату, я погнал во всю прыть, насколько позволяла ухабистая дорога, и спустя полчаса эта ужасная равнина скрылась из виду. Да, кстати, на краю равнины я наткнулся на мертвых зулусов, убитых, судя по всему, осколками снаряда, спешился и взял у одного головной убор, свою-то шляпу я потерял. Он был из шкуры выдры с плюмажем из черных перьев самца птицы-вдовушки с длинным хвостом, которого туземцы зовут сакабула. На всякий случай я повязал себе на пояс его белый «килт» из воловьих хвостов, и такая мера предосторожности, несомненно, спасла мне жизнь, ведь издалека я походил на кафра с трофейным пони. Итак, я продолжил свой путь в неизвестность.Глава 19
ПРОБУЖДЕНИЕ
Мне совсем не хочется рассказывать об ужасном путешествии в Зулуленд в подробностях, даже если бы я смог их припомнить, несмотря на все испытания. Кажется, сперва у меня появилась бредовая идея пойти в Улунди и просить у Кечвайо милости под предлогом того, что я принес ему новости от белых. Однако в паре часов езды от города с вершины холма я заметил маячившее впереди войско с захваченными фургонами, — очевидно, их везли к королю. Прекрасно зная, как могут обойтись со мной эти воины, я спустился с другой стороны, рассчитывая достичь границы в обход. Тут мне опять не повезло, нарвался на сторожевой пост другого войска или полка, выставленный на скалах. Один зулус, взглянул на килт, принял меня за своего, позвал, и зычным голосом, присущим всем кафрам, спросил, есть ли известия с места сражения в полумиле отсюда. Крикнув в ответ что-то о победе и полном поражении англичан, я умолк и скрылся в густом кустарнике. Все остальное как в тумане. Припоминаю, что спешивался несколько раз за ночь, жутко голодал, прикончив все съестное. Пес Потеряш загнал молодую лесную антилопу, и я жадно съел кусок мяса, зажарив его на костре из валежника. Последнее воспоминание — это случилось спустя два дня — как я ехал ночью в грозу, и особенно яркая вспышка молнии осветила знакомые места, что сильно потрясло меня, а затем наступило полное беспамятство. Наконец я пришел в себя, словно заново родился, медленно и мучительно, из недр смертельного ужаса. Кругом текли реки крови, я слышал победные крики и предсмертные стоны. Я, единственный, кто остался в живых, стоял посреди мрачного поля, усеянного мертвыми телами. Бесконечное одиночество снедало меня, изо всех сил я умолял, чтобы мне позволили присоединиться к погибшим. Однако душа моя была сильна, не хотела умирать и покидать этот мир. Тогда я впервые осознал, что такое вечность и бессмертие души. Она все еще цеплялась за свою грешную оболочку, этот сгусток глины, чувств и желаний, который ей приходилось оживлять, и все же помнила о своей обособленности и вечной неповторимости. Стремясь покинуть землю, душа вынуждена ходить по ней, как дух или призрак, и ненавидит тело, к которому прикована, подобно прекрасной бабочке, по своей природе черпающей силы из падали, и потому не в силах воспарить к бескрайним небесным просторам. Моей руки что-то коснулось, и мне спросонья подумалось, что раз уж я еще жив — в чем не был уверен, — то это, должно быть, язык собаки. С величайшим усилием подняв руку, я открыл глаза и оглядел пальцы на свет, казалось, тонкий лучик солнца просвечивал их насквозь, и тут же уронил. И подумать только, рука опустилась на голову пса, который принялся ее лизать. Собака? Откуда она взялась? И тут вспомнил, как нашел ее на поле боя, — выходит, я все еще на этом свете. Тогда я заплакал, слезы горечи, а не радости струились по моим щекам, ведь я больше не хотел жить среди постоянной борьбы, кровопролитий, лишений, страха и тому подобного. Мне уже не терпелось расстаться с жизнью, уснуть благодатным сном и обрести вечный покой, без пустых надежд и чаш радости, которые отнимают, стоит только сделать глоток. Послышалась чья-то шаркающая поступь. Пес зарычал, но тут же убежал, поджав хвост, словно чего-то испугался. Снова открыв глаза, я пригляделся и в страхе зажмурился, ибо увидел подтверждение тому, что все-таки умер и, кажется, попал в ад, который сулят нам ревностные христиане как возмездие за пороки, коими нас с рождения наградила природа и родители. Рядом стоял некто странный, седой и ужасный, будто сам дьявол пришел забрать меня в свое подземное царство на вечные муки. Впрочем, я знал его и раньше, когда еще был жив. Как его звали? А, вспомнил: Тот, кому не следовало родиться. Он заговорил низким голосом, не похожим ни на какой другой. — Привет тебе, Макумазан, — сказал он, — вижу, ты возвратился из обители мертвецов, где провел больше одной луны. Глупо с твоей стороны, а впрочем, я рад был помериться силой с самой смертью, и моя взяла. Теперь тебе есть что мне порассказать о царстве мертвых. Стало быть, это Зикали, палач моих друзей. — Оставь меня, убийца! — пробормотал я чуть слышно. — Дай мне умереть или убей, как остальных. Он рассмеялся, не обычным ужасным смехом, а тихонько, пару раз повторив за мной слово «убийца». Затем осторожно, по-матерински, приподнял мою голову своими большими руками. — Смотри, Макумазан. Меня окружали стены какой-то пещеры. Лучи заходящего солнца проникали внутрь, и в их сиянии я увидел два силуэта, мужчины и женщины. Они шли рука об руку и не сводили глаз друг с друга, а когда прошли мимо входа в пещеру, я узнал их. Это же Энском и Хеда! — Взгляни на мертвецов, Макумазан, любитель бросаться словами. — Всего лишь уловка, — пробормотал я, — Кетье видела их тела и могилы. — Верно, а я и забыл. Эта глупая толстуха и правда видела их мертвыми и похороненными. Ну что ж, порой для благого дела мертвецы снова оживают. Кому, как не тебе, знать об этом, ведь ты послушался света некой Мамины и забрел сюда, а не отправился вдогонку за зулусами. Я хотел возразить, но ничего не смог придумать. — А как я тут очутился? Что со мной? — Ты ехал с непокрытой головой и получил удар, сначала солнечный, а затем и молнии. Тогда разум покинул тебя, но Великий направлял твою лошадь по верному пути. И Небесам не удалось убить тебя, — видно, моя магия оказалась им не по зубам, Великий прислал к нам твоего пса, и он привел моих слуг к тому месту, где ты лежал. Они нашли и принесли тебя сюда. Теперь спи, а иначе уйдешь туда, откуда даже я не смогу вернуть тебя обратно. Колдун держал руки у меня над головой и вдруг сделался выше, его седые волосы касались потолка пещеры. В тот же миг я будто провалился в пустоту. Наступил долгий период забытья, когда мне снились разные люди, живые и мертвые, к примеру леди Рэгнолл, мой добрый друг и спутница в странном приключении, произошедшем в племени белых кенда[283]. В будущем нашим путям снова довелось пересечься в еще более странном путешествии, назовем его духовным поиском. Уж не знаю, удастся ли мне облечь его в слова. Впрочем, тогда я об этом не знал. Во сне мы как будто постоянно обедали наедине, и между делом она рассказывала мне какую-то чепуху. Подобные наваждения, вероятно, случались во время того, когда меня кормили. Наконец я проснулся и почувствовал прилив сил. Пес Потеряш смотрел на меня с вселенской преданностью. Даже самые прекрасные глаза женщины не сравнятся со взглядом собаки! Он лежал у моей постели, кровати с каркасом из грубо сколоченных жердей с ремнями или полосками кожи, натянутыми на него, словно струны, а рядом сидела знахарка Номбе и гладила его по голове. Прекрасная, воплощенная женственность с изящными округлыми формами и неизменной загадочной улыбкой, говорящей о тайнах, недоступных простым смертным. — Здравствуй, Макумазан, — произнесла она нежно, — сколько всего ты пережил с нашей последней встречи, когда Гоза увел тебя в Улунди. Припомнив все, я разозлился на эту лгунью: — Номбе, последний раз мы виделись, когда ты играла роль умершей женщины в Долине костей. Она взглянула на меня с сочувствием и покачала головой: — Макумазан, ты очень болен, и разум играет с тобой злые шутки. Никогда я не играла роли никакой женщины, ни в какой долине. Мои глаза не видели тебя ни там, ни в другом месте, пока слуги не принесли сюда твое бездыханное тело, ты был сам на себя не похож. — Ты лгунья! — ответил я грубо. — Белые люди всегда называют правду ложью, если не в силах ее понять? — спросила она невозмутимо. Затем, не дожидаясь ответа, погладила по руке, как капризного ребенка, и протянула мне суп в бутылочной тыкве. — Поешь, он очень вкусный. Инкози-каас Хеддана сама приготовила его по рецепту белых людей. Наевшись, я вернул ей тыкву. Суп и правда оказался вкусным. — Кетье сказала, что Хеддана умерла. Разве мертвые умеют готовить? Обдумывая ответ, Номбе скармливала псу Потеряшу куски мяса, которые остались на донышке тыквы. — Макумазан, я не знаю, умеют ли мертвые готовить, как живые люди. В следующий раз, когда дух посетит меня, я спрошу у него об этом, а потом передам тебе ответ. Однако ты странный человек, всегда отвергаешь правду и готов так легко поверить лжи. Почему ты поверил словам Кетье о смерти инкози-каас Хедданы, ведь я поклялась защищать ее даже ценой собственной жизни? Нет, не отвечай. Завтра, если будешь достаточно здоров, сам все увидишь и поймешь. Она укрыла меня шкурой, снова по-матерински погладила руку и ушла, не переставая улыбаться. Тогда я уснул, и на удивление крепко, наверное, в супе было какое-то снадобье. По прошествии двух дней слуги Зикали, обычно делавшие уборку в моей «больничной палате», если можно так выразиться, пришли и сказали, что на время вынесут меня из пещеры, если я не возражаю. Еще бы я возражал, ведь мне так хотелось глотнуть свежего воздуха. Они подняли мое ложе, осторожно вынесли через узкий проход и поставили в тени нависшей скалы. Даже такое короткое путешествие утомило меня, и лишь переведя дух, я огляделся. Как и следовало догадаться, меня принесли в Черное ущелье, там стояли те самые хижины, в которых нас поселили, когда мы пришли из страны свази. Я лежал и наслаждался сладостным воздухом, как драгоценным нектаром. А что, если все это только сон? К примеру, мог ли я в самом деле видеть у входа в пещеру Энскома и Хеду или опять мой ослабевший разум стал жертвой видения, появившегося по воле Зикали? В слова старика и Номбе мне ничуть не верилось. Размышляя таким образом, я задремал и в забытьи будто услышал шепот. Открыл глаза — и о чудо! Передо мной стояли Энском и Хеда. Она заговорила первой, потому что я будто онемел и не мог рта раскрыть. — Милый, милый мистер Квотермейн, — прошептала она нежно. — А я-то думал, вас обоих нет в живых, — наконец смог я вымолвить. — Неужели вы и вправду живы? Хеда наклонилась и поцеловала меня в лоб, а Энском пожал руку. — Ну, теперь убедились? — спросила она. — Мы оба живы и здоровы. — Слава богу! — воскликнул я. — Кетье клялась, что видела ваши тела и могилы. — В Черном ущелье чего только не увидишь, — впервые подал голос Энском. — После того как мы с вами расстались, много всего случилось. Однако вы еще слишком слабы для таких длинных историй. Поправитесь, вот тогда и поговорим. Скорее идите на поправку. После этого я, кажется, потерял сознание, а очнулся уже в пещере. Прошло дней десять, прежде чем я смог встать на ноги, выздоровление шло медленно и трудно. Недели спустя я едва начал ходить и только через полгода полностью окреп и стал таким, как прежде. В те дни мы часто виделись с Энскомом и Хедой, правда, всякий раз не больше нескольких минут. Иногда меня навещал Зикали, говорил мало, в основном о былых временах и чем-то подобном, но никогда не упоминал войну и ее итоги. — Макумазан, — сказал он наконец однажды, — теперь ты будешь жить, а ведь я сомневался в этом, даже когда тебе стало лучше. Ведь три раза ты испытал потрясение, но сегодня я могу поговорить с тобой о них без опаски. Во-первых, ты стал единственным белым человеком, оставшимся в живых в битве при Изандлване. — Откуда ты знаешь, Зикали? — Не важно, знаю, и все. Разве зулусы не бросались от тебя врассыпную с непонятными криками, когда ты проезжал мимо? Один даже отсалютовал тебе копьем. — Так и было. Скажи, Зикали, почему они убегали и что кричали? — Нет, Макумазан, я не скажу тебе. Обдумай все сам и к концу жизни реши, во что тебе верить. Вряд ли твой выбор будет так же прекрасен, как правда. Во всяком случае, все вышло так, как тебе предрекла моя переодетая кукла там, в Долине костей. Она по советовала тебе ехать в Улунди, а не возвращаться к реке, где бы ты встретил свою смерть вместе с другими белыми людьми. — Зикали, а кто эта кукла? — Не спрашивай. Может, Номбе, а может, и нет. Не помню, ведь я уже стар и память начинает подводить меня. Припоминаю лишь, как она была хороша в своей роли, вылитая умершая Мамина, я бы мог и спутать их. О, какой великолепный спектакль я разыграл в Долине костей, не правда ли, Макумазан? — Правда, Зикали, вот только зачем? До сих пор никак в толк не возьму. — В тебе еще играет молодость, Макумазан, хоть волосы и посеребрила седина, а молодым свойственно нетерпение. Подожди, не торопись, скоро ты все поймешь. Итак, ночью ты лежал на верхушке горы Изандлвана и наблюдал удивительные дела. Слышал, как приехали белые солдаты и легли спать среди тел своих мертвых собратьев, а на рассвете уехали целые и невредимые. Ну и олухи эти нынешние зулусские полководцы! Они отправили войско в атаку на людей, укрывшихся за стеной, с копьями против ружей, и потерпели поражение. Если бы они придержали войско и напали на англичан, угодивших в ловушку, ни один белый человек не остался бы в живых. Разве могло подобное случиться во времена Чаки? — Думаю, нет, Зикали, но я рад, что так получилось. — Вот-вот, Макумазан, не могло. Что ж тут скажешь, у ничтожных людей ничтожный ум. И я тоже доволен, ведь я ненавижу зулусов, а не англичан. Теперь же белые люди извлекут урок и больше в ловушку не попадутся. О, эти пустомели, капитаны зулусов, нынче сдулись, как рыбьи пузыри, и даже победа, как они это называют, дорого им обойдется. Попомни мои слова, Макумазан, за каждого павшего солдата белые люди убьют двух зулусов. Значит, утром ты спустился с холма… Ты, кажется, удивлен, Макумазан? Может, те капитаны, сидящие под тобой на скале, позволили тебе уйти по собственному почину, а может, ими кто-то управлял. Пусть я слаб, Макумазан, но еще на многое способен, а позже мне обо всем рассказали. Затем ты очутился среди убитых совсем один, будто последний человек на земле, и тогда появилась собака, а за ней и лошадь. Может, это я прислал их, а может, тебе просто повезло. Этого я и сам не знаю, ведь у меня так плохо с памятью. Вот первое потрясение, Макумазан, ты боялся остаться один в целом свете. Ты ведь так себя чувствовал, верно? — Надеюсь, мне больше не доведется пережить подобное, ведь я чуть с ума не сошел. — Верно, ты был на волосок от потери рассудка, хотя со мной случались дела и похуже, а я только смеялся, и, будь у меня время, я порассказал бы тебе. Далее ты получил солнечный удар, ведь в это время года особенно сильно припекает, а белому человеку опасно оставаться в долине с непокрытой головой. Твой разум помутился, но, к счастью, дар Небес, собака и лошадь, оставались с тобой. Вот второе потрясение. Потом внезапно разразилась гроза, ударила молния и прошла через ружье в твоих руках. Сам увидишь, как ствол раскололся. Может, я отвел грозу, ведь я великий заклинатель погоды, а может, это сделал тот, кто могущественнее меня. Вот третье потрясение, Макумазан. Тогда-то тебя и нашли, ты был еще жив; белый человек, твой друг, расскажет, как это случилось. Береги своего пса, Макумазан, он предан тебе больше, чем многие люди. И так как в тебе теплилась жизненная сила или же твой земной путь еще не завершен, ты пережил все эти ужасы и со временем совсем поправишься. — Надеюсь, Зикали. Правда, я не совсем уверен, хочется ли мне жить. — Знаю, Макумазан, религия белых людей заставляет их бояться смерти и загробной жизни. Вы верите, будто за грехи вас обрекут на вечные муки, и не понимаете, ведь дух будет судим не за дела плоти и не за то, чего дух желал делать, но не мог. Злой человек — тот, кто желает делать зло, а не тот, кто, желая делать доб ро, снова и снова оступается и совершает зло. Я-то знаю, наслушался ваших белых проповедников. — По твоим меркам, Зикали, ты и есть злой, раз желал войны и наконец добился своего. — Ха-ха-ха! Вот как, Макумазан? Видно, тебе и невдомек, что добро часто принимают за зло. Верно, я желал навлечь на зулусов войну и навлек, и может статься, причиной тому пережитые мной горести. Посуди сам, Макумазан, ты знаешь цену зулусской власти, видел, как убивают женщин и детей, дабы насытить ее утробу, и видел, на что способны англичане. Разве же я совершил зло, пожелав, чтобы дом зулусских королей пал, а его место занял дом английских королей и даровал черным людям свободу? — Ты мудр, Зикали, но твой разум помутился от пережитых горестей. Вспомни череп, который ты поцеловал в Долине костей. — Может, и так, Макумазан, но мои горести — это и горести народа, и я думал о них. Уж во всяком случае, смерть не страшит меня так, как белых людей. Слушай же, скоро ты все узнаешь от друзей. Хеддана расскажет тебе, как я использовал ее в одном деле, ведь затем я и привел вас троих в землю зулу, а иначе как бы мне вызвать войну, если Кечвайо все время колебался. Когда ты услышишь ее историю, Макумазан, не суди меня слишком строго, ведь у меня была благородная цель. — Как бы там ни было, ты поступил со мной дурно, Зикали, мучил своей сказкой и заставил женщину Кетье лгать мне и клясться, будто она видела моих друзей мертвыми. — Она не лгала тебе, Макумазан, неужто я не силах заставить глупую толстуху поверить в то, чего на самом деле не было? Как бы не так! Сумел же я убедить тебя тогда, в моей хижине, что глаза твои видят то, чего на самом деле не видят. — И все же зачем ты так издевался надо мной, Зикали? — Право слово, Макумазан, ты слеп, как летучая мышь в солнечный день. Когда друзья все тебе расскажут, ты поймешь, зачем мне все это понадобилось. Признаюсь, не все получилось так, как я задумал. Ты должен был услышать эту историю до того, как Кечвайо приведет тебя в Долину костей. Однако глупая женщина оплошала, она задержалась, и когда пришла в Улунди, ее приняли за шпионку и захлопнули ворота перед самым носом. А когда открыли, было уже поздно, и ты нашел ее, только когда вернулся с Совета. Зная об этом, я осмелился предложить, чтобы ты выстрелил в женщину, стоящую на скале. Услышь ты сказку Кетье пораньше, чего доброго, прицелился бы как следует, и меня мог убить из мести за гибель тех, кого любил. Хотя в таком случае все кончилось бы совсем по-другому. На самом деле я верил, что ты не станешь стрелять в сердце той, кто могла оказаться белой женщиной, и не убьешь меня, ведь от меня зависела и ее жизнь, и твоих друзей. — Как ты проницателен! — воскликнул я в изумлении. — Тебе так только кажется, а на самом деле я очень прост, и умею читать в душах людей, и многое понимаю. Впрочем, если бы ты не поверил в смерть своих друзей, ни за что не покинул бы землю зулу. Ты бы попытался сбежать и спасти их, не так ли? Тогда бы тебя наверняка убили. — Да, Зикали, я бы обязательно попытался им помочь. Но зачем ты держал их в плену? — Затем же, зачем до сих пор держу эту парочку и тебя взаперти, чтобы не дать им присоединиться к миру призраков. Если бы я отпустил твоих друзей на следующий день после объявления войны, их бы убили, не дав проехать и часа пути. О Макумазан, я не так плох, как ты обо мне думаешь, и никогда не нарушаю данное слово. Теперь мы в расчете. — Как там идет война? — спросил я, когда он поковылял к выходу. — Как и полагается, весьма плачевно для зулусов. Они оттеснили белых людей, и те собирают силы у Черной воды, а скоро вернутся и уничтожат зулусов. Советник Умнямана побуждал Кечвайо атаковать Наталь и опустошить его. Король бы так и поступил, но я послал к нему вестника со словами самой богини Ном кубулваны, что, если он так поступит, все духи ополчатся против него. И он меня послушался. В следующий раз, когда поду маешь обо мне дурно, Макумазан, вспомни мои слова. Теперь это лишь вопрос времени, и придется подождать, пока все не закончится. Тебе будет полезно немного отдохнуть, хотя твои друзья уже скучают. А им следует радоваться, глядя, как зреют плоды на древе их любви, ведь от этого они станут только слаще. Зато теперь эти двое знают, каково это — жить вместе. Ха-ха-ха! — И он поковылял прочь.Глава 20
РАССКАЗ ХЕДЫ
Тем же вечером я лежал под открытым небом и слушал Энскома и Хеду. Начал он, а потом подхватила она. — Утром я проснулся и не нашел вас в хижине, — рассказывал Энском. — Прождав напрасно, решил, что вы с Зикали, и отправился на поиски. Потом нам с Хедой принесли завтрак, и мы поели вдвоем. Вдруг послышалось ржание, и мы пошли к лошадям. Оказалось, ваша кобыла тоже куда-то пропала. На обратном пути мы, напуганные, встретили Номбе. Она передала мне вашу записку с объяснениями. Мы спросили ее, почему вас увели и что теперь будет с нами. Она улыбнулась и ответила, что первый вопрос лучше задать королю, а второй — ее господину Зикали, и уверяла, будто нам не о чем беспокоиться и тут мы в совершенной безопасности. Попытки встретиться с Зикали не увенчались успехом. Тогда я направился к упряжке лошадей с намерением ускакать вслед за вами, но их тоже не оказалось на месте, с тех пор я их и не видел. Совершенно отчаявшись, мы решили уйти пешком, однако Номбе не пустила нас и предупредила, что нам не следует покидать Черное ущелье, иначе нас тут же убьют. В общем, мы оказались в плену. Так прошло несколько дней, с нами хорошо обращались, но с Зикали встретиться так и не удавалось. Однажды утром он наконец послал за нами, и слуги привели нас к его хижине. С нами пошла Кетье в качестве переводчика. Какое-то время этот угрюмый и жуткий старик хранил молчание. «Белый предводитель и госпожа, — наконец заговорил он, — боюсь, вы дурно думаете обо мне, поскольку Макумазан ушел, а вас держат здесь как пленников, и до поры до времени ваше мнение не улучшится. А пока мой вам совет: доверьтесь старику, ведь все это для вашего же блага». Тут Хеда перебила его и высказала все, что о нем думает. Как вы знаете, она достаточно хорошо говорила на зулу, хоть и не так хорошо, как сейчас. — Да, — вступила Хеда, — я сказала, что он лжец и наверняка убил вас, а скоро и наша очередь. — Зикали выслушал невозмутимо, — продолжал Энском, — а потом заговорил снова. «Я вижу, что вы, госпожа Хеддана, неплохо понимаете наш язык. Поэтому я могу отослать эту метиску и говорить с вами без посредников, поскольку этот разговор не для лишних ушей». Он хлопнул в ладоши, явились слуги и по его приказу увели Кетье. «Госпожа Хеддана, — заговорил он очень медленно, так чтобы Хеда успевала переводить, и повторял, если она чего-то не понимала, — у меня есть одна задумка. Нужно, чтобы вы сыграли перед королем и Советом роль богини этой страны, Небесной правительницы, поскольку она всегда появляется в образе белой женщины. Мы с вами отправимся в Улунди, и вы будете во всем меня слушаться». «А если я откажусь участвовать в этом надувательстве?» — спросила Хеда. «Тогда, госпожа Хеддана, белый господин, тот, кого вы любите и за кого собираетесь замуж, умрет, а вам все равно придется выполнить мою просьбу, иначе вы разделите его участь». «А он пойдет со мной в Улунди?» «Нет, госпожа, он останется здесь под стражей, в целости и сохранности, и очень скоро вы к нему вернетесь целой и невредимой. Выбор за вами, на одной чаше весов смерть, на другой — ваше спасение, а я посплю немного. Переговорите на вашем родном языке, а когда все решите, разбудите меня». — На этом Зикали закрыл глаза и как будто уснул. Мы обсудили создавшееся положение, если можно так выразиться, ведь оба находились на грани помешательства. Хеда хотела идти, а я скорее дал бы себя убить, чем отдать ее в руки старого злодея. Хеда напомнила мне, что даже если я умру — чему не бывать, — она все равно останется в его власти, а побег может стоить ей жизни. Не лучше ли подчиниться, тогда у нас хотя бы будет надежда на спасение, а умереть мы всегда успеем. В конце концов мы пришли к согласию, разбудили Зикали и объявили ему о своем решении. Вид у него был довольный. «Госпожа, я сразу заметил свет мудрости в ваших глазах. Поверьте, ни вам, ни вашему любимому не причинят вреда. Кроме того, я и мое дитя Номбе будем вас защищать даже ценой собственной жизни. И ваш друг, Макумазан, вернется к вам, но не теперь, а чуть позднее. Ступайте и насладитесь обществом друг друга. Номбе предупредит госпожу Хеддану, когда настанет пора отправляться в путь. Ради вашей же безопасности ничего не говорите Кетье, иначе она может сболтнуть лишнего. Пожалуй, отправлю ее завтра в Улунди, пусть вас дожидается, а то как бы чего не заподозрила. Вы уж не удивляйтесь, если служанка пропадет, и не обращайте внимания, коли чего сболтнет на прощание. Мое дитя Номбе будет госпоже Хеддане вместо служанки и останется ночевать в ее хижине, чтобы ей не было одиноко и страшно». Затем он снова хлопнул в ладоши, явились слуги и проводили нас обратно в хижины. А теперь пусть Хеда расскажет, что было дальше. — Итак, мистер Квотермейн, — начала она, — остаток дня мы провели, умирая от страха, однако он прошел без происшествий. Кетье не интересовалась, о чем говорил знахарь, после того как ее отослали. Мне даже показалось, будто она стала туговато соображать и спала на ходу, совсем как пьяная, думаю, так оно и было. Вела себя странно, настаивала, что пора собирать вещи, бормотала о какой-то завтрашней поездке. Ночь прошла, как обычно, Кетье крепко спала рядом и сильно храпела. — В этом мес те я сочувственно вздохнул. — Поэтому мне не удалось выспаться. Утром после завтрака в хижинах стояла духота, и Номбе предложила нам перебраться в тенек под нависшей скалой, этой самой, где мы сейчас сидим. Мы согласились, и я не заметила, как задремала, измотанная пережитыми ночью волнениями, и Морис, кажется, тоже. А Номбе сидела рядом и напевала какую-то странную песню. В полузабытьи я увидела Кетье, Номбе поднялась ей навстречу, не переставая при этом петь, взяла ее за руку, подвела к повозке, кажется, они говорили о лошадях, — я еще удивилась, ведь никаких лошадей там не было. Затем они обошли повозку, и Номбе, все еще напевая, показала ей нас. Тогда Кетье принялась плакать и воздевать руки к небу, а Номбе в утешение хлопала ее по плечу. Я хотела что-то сказать, но не смогла, язык у меня словно отнялся, почему — не знаю, наверное, мы все-таки спали. Морис тоже спал, еще крепче моего. — Да, — подтвердил Энском, — я совсем ничего не помню. — Потом Кетье ушла, не переставая рыдать, — продолжала Хеда. — И немного погодя я заснула по-настоящему, а проснулась, когда солнце уже село. Тогда я разбудила Мориса, и мы вернулись в свои хижины. Номбе готовила ужин. Кетье пропала. Перебирая вещи, я никак не могла отыскать мешочек с украшениями. Я позвала Номбе и спросила, куда подевалась моя служанка, а она улыбнулась и сказала, что Кетье ушла, захватив с собой мой мешочек. Меня это огорчило, ведь я всегда считала Кетье честной девушкой. — Так и есть, — заметил я, — а эти украшения сейчас в целости и сохранности в банке Марицбурга. — Рада это слышать, — одобрительно кивнула Хеда. — Впрочем, помня слова Зикали, я и не думала о ней всерьез как о воровке, а догадалась, что все это часть какого-то плана. Все потекло по-прежнему, только Номбе заняла место моей служанки в палатке и не отходила от меня ни днем ни ночью. О пропаже Кетье она помалкивала, а Зикали мы вообще не видели. На исходе третьего дня после исчезновения служанки пришла Номбе и объявила, что пора собираться в дорогу. Тут появились туземцы, они несли носилки с балдахином из травяных циновок. Номбе захватила мой длинный плащ и завернула меня в него, а вдобавок накрыла с головой чем-то вроде вуали из белой ткани, и стало совсем не видно лица. Кажется, раньше она служила нам сеткой против москитов. Наконец она велела мне проститься на время с Морисом. Можете себе представить, как он рассердился, даже хотел идти со мной. Вдруг появились вооруженные туземцы, целых шестеро, и оттеснили его в сторону рукоятями своих копий. В тот же миг меня посадили в носилки, где уже ждала Номбе, — так нас разлучили. Нам оставалось только гадать, увидимся ли мы снова когда-нибудь. У входа в ущелье я заметила другие носилки, окруженные отрядом зулусов. Как мне пояснила Номбе, там ехал сам Зикали. Дорога заняла всю ночь и две последующие, а днем мы отдыхали в безлюдных лачугах, казалось, будто их соорудили специально к нашему приходу. Путешествие было довольно-таки странным, хоть вокруг то и дело мелькали вооруженные люди, ни они, ни носильщики за все время не проронили ни слова, Зикали тоже не появлялся. Только Номбе иной раз старалась меня подбодрить, уверяя, что я в полной безопасности. На исходе третьего дня, перед самым рассветом, мы миновали холмы и меня вновь поселили в какой-то хижине. Оказалось, отсюда уже недалеко до Улунди и путешествие подошло к концу. Почти весь следующий день я спала, а ближе вечеру, только успела поесть, в хижину, словно жаба, вполз Зикали и сел передо мной на корточки. «Послушайте, госпожа. Сегодня, спустя час, два, а может, и три после захода солнца Номбе выведет вас, переодетую, из хижины. Взгляните, вон на тот каменный выступ, вы взберетесь на него по неприметной тропинке, бегущей меж тех каменных глыб. — Он указал на то место через входное отверстие хижины. — Тропинка упирается в плоский валун на краю скалы. Вы встанете на него, держа в правой руке короткое копье, — вам дадут его. Номбе не полезет наскалу, она спрячется меж камней и будет тихонько подсказывать, что делать. Она подаст сигнал, и вы метнете копье так, чтобы оно упало посреди спорщиков, сидящих в двадцати шагах от скалы. После этого вы будете стоять неподвижно, безмолвно и невозмутимо, что бы ни случилось. Одним из мужчин может оказаться ваш друг Макумазан, но не следует подавать виду, будто вы узнали его, и, если он заговорит с вами, не вздумайте отвечать. Пусть даже он прицелится в вас, ничего не бойтесь. Вы все поняли? Тогда повторите мои слова точь-в-точь». Повинуясь, я, однако, спросила, что, если не выполню всего этого или хотя бы какую-то часть. «Тогда вас убьют, — ответил он, — и Номбе, и господина Маурити, вашего любимого, и вашего друга Макумазана, может быть, убьют даже меня, и все мы встретимся в обители призраков». Услыхав такие слова, я заверила его, что в точности исполню все указания. Зикали заставил меня повторить их еще раз и ушел. Немного погодя Номбе нарядила меня в то самое платье, в каком вы меня видели, мистер Квотермейн, припудрила волосы каким-то сияющим порошком и намазала совсем немного какой-то темной краской под глазами. Затем дала мне маленькое копье, научила, как следует стоять неподвижно, сжимая его в вытянутой правой руке, и велела бросать копье только по ее команде. Когда взошла луна, вдалеке послышались голоса. Наконец к хижине приблизился человек, пошептался с Номбе, и она отвела меня к узкой тропке между камнями. Прошло примерно два часа, прежде чем я услышала внизу голоса. — Простите, — прервал я ее рассказ, — а где эти два часа находилась Номбе? — Со мной, мистер Квотермейн, она не оставляла меня ни на минуту. Пока я была на скале, Номбе сидела на корточках меж камней в трех шагах от края скалы. — Как интересно, — произнес я задумчиво. — Прежде чем вы продолжите, еще только один вопрос. Как Номбе была одета? На шее у нее висели синие бусы? — На ней было все, как всегда, вернее, меньше обычного, одна лишь юбочка из воловьих хвостов, и уж конечно никаких бус. А почему вы об этом спрашиваете? — Просто любопытно — потом объясню. Продолжайте, прошу вас. — Хорошо. Итак, услышав голоса, я приблизилась к краю скалы. Поначалу ничего не было видно, луна совсем скрылась за об лаками. Номбе выжидала, пока они проплывут мимо и она сможет дать мне команду. Вдобавок дым от костра поднимался в небо сплошной стеной. Наконец облака рассеялись, дым уже вился тонкой струйкой, и я увидела внизу дикарей, сидящих полукругом, а посредине восседал самый важный в накидке из леопардовой шкуры — я сразу догадалась, что передо мной король. Вас, мистер Квотермейн, я не заметила, ведь вы спрятались за деревьями, и все же ощущала присутствие единственного друга среди стольких врагов. Я встала так, как меня учили, и услышала, как все удивленно перешептываются, заметив отблеск лунного света от белых перьев моего одеяния. Затем заговорил Зикали, он предложил вам выстрелить в меня, и человек, в котором я признала короля, велел вам подчиниться. Когда вы появились из-за дерева, по выражению вашего лица я поняла, что издалека, да еще в таком чудном блестящем одеянии, осталась неузнанной. Тут вы прицелились, и я страшно перепугалась: помня тот выстрел на веранде Храма, я понимала, что пуля достигнет цели. Я едва не вскрикнула, но, вовремя опомнившись, сдержалась. Какая, в сущности, разница, умру я или нет, подумала я, мне и жить-то незачем без Мориса. К тому времени стало ясно, что меня хотят использовать в обмане, разыграв перед этими людьми ужасный спектакль, а если бы я умерла, они наконец увидели бы все в истинном свете. Казалось, прошла целая вечность, пока вы прицеливались, и наконец я увидела вспышку. — Хеда, вам нечего было опасаться, — прервал я ее, — если бы я целился в вас, вы бы просто не успели заметить вспышку, во всяком случае, ходят такие слухи. Мне тоже многое стало понятно, и я целился выше вашей головы. Хотя тогда про вас и не думал — я подозревал, что эту роль играет Номбе, измазавшись белой краской. — Да, я слышала, как пуля просвистела у меня над головой. Затем Зикали предложил вам выстрелить в него, и честно говоря, мне хотелось, чтобы вы согласились. Однако перед самым выстрелом Номбе шепнула мне: «Бросай!» — и я бросила мое окровавленное копье. Следом раздался выстрел, и Номбе скомандовала: «Идем!» Я незаметно ускользнула по тропинке, и мы вернулись в хижину. Она поцеловала меня, сказала, что я со всем отлично справилась, а потом сняла этот странный наряд и помогла одеться в мое собственное платье. Больше рассказывать нечего. Несколько часов спустя меня разбудили и перенесли в носилки, где я вновь уснула, утомленная пережитым испытанием. Остаток путешествия мы прошли так же, как и на пути в Улунди, передвигаясь только по ночам. Зикали я не видела, а Номбе сообщила мне, что зулусы объявили войну англичанам. Мне до сих пор непонятно — а Номбе не объяснила, — как именно на их решение повлияло мое появление, но, похоже, оно сыграло решающую роль. Мы вернулись в Черное ущелье, где меня ждал целый и невредимый Морис. А теперь пусть он продолжит рассказ, а то я покажусь вам глупенькой, пересказывая подробности нашей встречи. — О себе сказать почти нечего, — подхватил Энском. — Хеду увезли, а я остался в плену. Люди Зикали сторожили меня днем и ночью, не выпуская за пределы двора, а в общем-то, обращались со мной хорошо. А однажды на рассвете или чуть позже вернулась Хеда и обо всем мне рассказала. Можете себе представить, как я был счастлив и благодарил Бога за то, что он вернул мне любимую. С того дня мы зажили здесь вполне счастливо, поскольку были вместе. А однажды Номбе рассказала о великой битве, в которой зулусы истребили сотни англичан, а за каждого убитого солдата теряли двоих воинов. Эта новость нас опечалила, и, тревожась, нет ли вас среди погибших на поле боя, мы спросили об этом Номбе. Она сказала, что должна спросить об этом у своего духа, проделала весьма странные манипуляции с пеплом и костями и объявила наконец, что вы участвовали в битве, но остались живы и теперь идете к нам вместе с собакой, на которой есть что-то серебряное. Мы подняли ее на смех, дескать, вряд ли она могла узнать такие подробности, да к тому же собаки обычно не носят ничего серебряного. В ответ Номбе лишь улыбнулась и сказала: «Поживем — увидим». С тех пор прошло три дня, и однажды ночью перед самым рассветом меня разбудил собачий лай, знаете, призывный такой. Пес лаял так настойчиво, совсем не похоже на собак кафров, и когда вот-вот должен был забрезжить рассвет, я наконец выполз из хижины узнать, что там случилось. Тут же набежали слуги Зикали. Всего в нескольких шагах я увидел Потеряша и сразу узнал породу, ведь у меня самого было несколько эрдельтерьеров. Пес выглядел уставшим и напуганным, и пока я гадал, откуда же он взялся, заметил ошейник, отделанный серебром, и вдруг вспомнил слова Номбе о вас и собаке. Мне стало ясно, что вы, Аллан, где-то неподалеку, к тому же пес подбежал ко мне — кафры не обратили на него никакого внимания — и стал все время озираться, переводя взгляд то на устье ущелья, то на меня, будто звал куда-то за собой. В эту минуту появилась Номбе и, завидев собаку, как-то странно на меня посмотрела. «Маурити, — обратилась она ко мне с помощью Хеды, которая тоже уже проснулась, разбуженная собачьим лаем, — у меня есть для тебя послание от моего хозяина. Если ты хочешь пойти вслед за странным псом, то тебе никто препятствовать не будет, и можешь вернуться обратно с тем, что там найдешь». Мы накормили Потеряша молоком и мясом, а затем я вместе с шестью слугами Зикали двинулся вдоль ущелья, а пес бежал впереди, но то и дело возвращался, жалобно скуля. От ущелья он провел нас по холму и спустился в саванну, где густо разросся колючий кустарник. Прошли около двух миль, как вдруг кафры увидели оседланного пони басуто и поймали его. Пес пронесся мимо пони прямо к дереву, расколотому ударом молнии, мы бросились за ним и неподалеку нашли вас, Аллан, практически бездыханного, я сперва даже решил, что вы умерли. Рядом лежало ваше ружье, ему, видно, тоже досталось от молнии. Мы положили вас на щит и принесли сюда, и никто нас не останавливал. Вот и все, Аллан. Некоторое время мы молчали и смотрели друг на друга. Потом я подозвал Потеряша и потрепал его лохматую голову. Пес лизнул мне руку, как будто понимал, как я ему благодарен. — Странная история, — заметил я. — Воистину Создатель вложил мудрость в свои творения, о коих мы ровным счетом ничего не знаем. Давайте же воздадим Ему за это хвалу. — И мы помолились от всего сердца. Так умный и преданный четвероногий друг спас меня от смерти. Несомненно, находясь в полуобморочном состоянии от потрясения, переутомления и солнечного удара, я все время подсознательно двигался в сторону Черного ущелья, сохраняя в голове его смутный образ. Когда же до цели оставалось всего несколько миль, ударила молния и, пробежав через винтовку, ушла в землю, а в меня не попала. Тогда пес убежал, он бродил вокруг, пока не нашел и не привел мне на выручку людей, великолепно справившись со своей задачей. Последовали долгие месяцы, о которых почти нечего рассказать. Собственно, они не казались мне тоскливыми, ведь из недели в неделю медленно, но верно я набирался сил. В ущелье была одна секретная тропа, крутая и непроходимая, куда можно было попасть из соседней пещеры. Тропа бежала вдоль водомоины ущелья и далее сквозь колючие заросли к плато, примыкавшему к крепости Цеза. Когда я достаточно окреп, мы время от времени взбирались туда, это стало для меня хорошей зарядкой. Приятное разнообразие после духоты ущелья. Дни походили один на другой, ибо мы были отрезаны от остального мира, словно оказались на необитаемом острове. Изредка Номбе приносила нам свежие новости о войне, а Зикали почти не появлялся. Она рассказала о бедствиях, постигших англичан, о молодом великом вожде, который потерял всех своих спутников и погиб, храбро сражаясь, — впоследствии я узнал, что речь шла о Наполеоне Эжене, принце французской империи, — о наступлении наших солдат, о поражении войск Кечвайо и о полном истреблении зулусов близ Улунди. Они тысячами бросались на построившихся в каре англичан, а те встречали их градом картечи и пуль. Однако это сражение зулусы назвали не битвой при Улунди и не Нодвенгу, поскольку такое название уже носила битва близ старой резиденции Панды, а «Оквеквени», что в переводе означает «битва у железной крепости». Вероятно, такое название пришло им в голову при виде преграды из штыков, сверкающих на солнце, как сплошная стена, или показалось, будто враг недосягаем, как если бы спрятался за стеной из железа. Как бы там ни было, зулусы кинулись на англичан незащищенными телами, и ливень из свинца валил их наповал, а среди белых погиб всего десяток солдат. Их похоронили на небольшом кладбище посреди полевого укрепления, там и по сей день, как свидетельство прошлого, находят стреляные гильзы. Вот на той самой равнине и кануло в небытие зулусское государство, созданное королем Чакой. Вскоре после этого я наконец увиделся с Зикали и попросил его отпустить нас. Он торжествовал, но все же был чем-то встревожен и, как мне показалось, больше обычного исполнен дурных предчувствий. — Что ж, Зикали, — сказал я, — если слухи верны, то ты добился своего, уничтожил зулусский народ. Должно быть, теперь ты счастлив. — Разве может человек быть счастлив, получив наконец то, чего он добивался в течение многих лет? Наша парочка вздыхает и печалится, ибо не может пожениться по традиции белых людей. Хотя я не понимаю, зачем они держатся друг от друга на расстоянии. В свое время они станут мужем и женой и поймут, что того счастья, о котором они так мечтали, нет и в помине. Ох, настанут дни, когда они и парой слов за весь день не обмолвятся. Эти лунные вечера в Черном ущелье, проведенные в предвкушении, были для нас поистине сладостны, а теперь, когда мы получили желаемое, ради чего жить дальше? — Он тяжело вздохнул. — Так случилось и со мной, Макумазан. С тех пор как Чака истребил мой народ, я год за годом вынашивал план мести и выжидал удобного случая, чтобы наконец увидеть кровавую свадьбу зулусов с ассегаями. Все сбылось. Твой народ растоптал их на равнине Улунди, и зулусского народа больше нет. Однако я не чувствую радости, ведь не простые люди обидели меня и мою семью, а дом Сензангаконы, меж тем Кечвайо все еще жив. Пока есть пчелиная матка, улей можно восстановить. Пока на пепелище тлеют угли, в лесу может снова разгореться пожар. Возможно, я стану счастлив, когда Кечвайо умрет, только его жизнь и моя связаны, как два зерна кукурузы в одном початке. Решив сменить тему, я спросил, позволит ли он мне ехать в Наталь или присоединиться к войску англичан. — Пока тебе нельзя ехать, — ответил Зикали сурово, — и не докучай мне более этим. По всей стране бродят отряды зулусов. Они убьют тебя, и твоя кровь будет на моей совести. Кроме того, если увидят белую женщину, нашедшую приют в своем доме, думаешь, они не догадаются обо всем? Изображать из себя инкосазану зулусов — самое тяжкое преступление, Макумазан. Что же тогда станется с Открывателем и всем его домом, если только пройдет слух, что он сам нарядил эту куклу и привел их к войне, по губившей весь народ? Вот когда Кечвайо будет убит и погребен и в стране наступит умиротворение, покой смерти, тогда ты и сможешь уехать, Макумазан, но никак не раньше. — Отправь хотя бы известие капитанам британской армии, пусть узнают, что мы живы и здоровы. — Отправить известие гиенам о том, где искать труп, или охотникам, где притаился олень Зикали! Послушай, Макумазан, если ты так поступишь или еще раз попросишь меня об этом, ни ты, ни твои друзья никогда не покинете Черное ущелье. Я все сказал. Поняв, что дело безнадежно, я ушел, боясь разозлить его еще больше, а он провожал меня сердитым взглядом. Старик добился успеха в долгой охоте, а добыча обратилась в пепел у него во рту. Вернее, победа пока не достигнута, ведь он сражался против дома Сензангаконы, который жестоко расправился с ним и его родным племенем. А свалив королевскую власть, он задел и весь зулусский народ. Это все равно что спалить целый город, лишь бы уничтожить компрометирующее тебя письмо. Город сгорел, а письмо осталось невредимым как доказательство вины. Иначе говоря, Кечвайо все еще жив, и жажда мщения Зикали не утолена, более того, он теперь в опасности, и, возможно, еще большей, чем когда-либо прежде. Разве не он, как пророк, призывал Небесную принцессу, древнюю богиню зулусов, перед королем и Советом и вынудил их решиться на войну? Предположим, зулусы догадались, что им показали не духа, а всего лишь хитрый фокус, что тогда? Старика бы замучили до смерти, будь у жертв его обмана на это время, или разорвали на куски, если бы верили, что его можно убить, а лично у меня на этот счет нет никаких сомнений. Вскоре после нашего разговора мы вместе с Хедой ужинали, а Энском, как нарочно, ушел по нашей тайной тропе на плато. Нам не запрещали стрелять из ружей, поэтому он развлекался: ловил куропаток с помощью собственного изобретения — оригинальной сети, сплетенной из травы. Неподалеку протекал родник, и от него вокруг собирались лужицы. На рассвете и на закате сюда на водопой приходили куропатки, а иногда цесарки и фазаны. Вот тут-то он и расставлял свои сети, а потом прятался в укрытие и дергал за веревочку. И в этот день мы с Хедой снова остались вдвоем. Моя неудача с Зикали ее крайне разочаровала. Тут мне в голову пришла запоздалая мысль, и я предложил ей попробовать связаться с англичанами, стоящими лагерем в Улунди, или с кем-то еще с помощью знахарки Номбе и добавил, что и сам бы с ней переговорил, да, кажется, я у нее в немилости. Хеда покачала головой, мол, не стоит, все это бесполезно и к тому же опасно. По зрелом размышлении и припомнив угрозу Зикали, я с ней согласился. — Скажите, мистер Квотермейн, — спросила Хеда — может женщина полюбить другую женщину? Ошарашенно воззрившись на нее, я ответил, что не совсем понимаю, о чем она толкует, поскольку женщины, насколько я успел заметить, любят либо мужчин, любо себя, чаще всего, конечно, себя. Признаю, шутка глупая, хотя с некой долей правды, и вполне в духе этого места. — Я и сама так думала, — ответила она, — но право же, Номбе весьма странно себя ведет. Вы сами видели, как она привязалась ко мне с самого начала. Возможно, ей раньше не хватало женского общества, ведь, насколько я знаю, она с детства воспитывалась тут, среди мужчин. У нее была сестра-близнец, а ее, как родившуюся второй, собирались умертвить, согласно суеверным правилам зулусов. Однако Зикали или его слуга, знавший, что к чему, спас ее и вырастил, так что я буквально единственная женщина, с кем она была в дружеских отношениях. Причем ее привязанность ко мне растет с каждым днем, и, может, я покажусь вам неблагодарной, но она стала несколько назойливой. Номбе постоянно говорит, что готова отдать за меня жизнь, а если вдруг что-то случится со мной, она убьет себя и последует за мной в мир иной. То и дело предсказывает мне будущее, и когда в нем не оказывается места для нее, она огорчается и начинает плакать, так как свято верит во все это. — Обычная истерика, у зулусских женщин это часто случается, особенно у тех, кто занимается магией. — Возможно, но ее истерика перерастает в сильную ревность, а это не совсем уместно. К примеру, она страшно ревнует к Морису. — Рановато для задатков дуэньи, — согласился я. — Дело не в этом, мистер Квотермейн! — рассмеялась Хеда. — Ведь к вам она ревнует даже больше. По поводу Мориса Номбе заявила напрямик, что, когда мы с ним поженимся, она, по ее словам, сможет, как и прежде, «сторожить у входа в хижину», а вы «живете в моей голове», и ей никак не встать между нами. — Она сошла с ума, — заметил я, — совсем помешалась. Отклонения связаны с окружающим ее миром и прочими делами, а всё в совокупности рождает в далеком от нормы разуме странные мысли. Номбе почувствовала к вам страстную привязанность, и ни я, ни Морис, вне всякого сомнения, ничуть этому не удивлены. — Мистер Квотермейн, вы использовали подобные комплименты в юности? Я так и думала, а теперь, когда вы состарились, продолжаете отпускать их по привычке. Что ж, в любом случае благодарю вас, возможно, вы говорили искренне. Однако что же делать с Номбе? Тише! Она идет. Оставляю вас вдвоем, сами во всем убедитесь, если представится случай. — И Хеда поспешно удалилась. Номбе подошла ко мне, и весь ее облик говорил, что случай обязательно представится. Неизменная улыбка куда-то пропала, а прекрасные темные глаза сверкали недобрым блеском. Тем не менее она спокойным голосом спросила, понравился ли госпоже Хеддане ужин, давая понять, что ей дела нет до моего аппетита и осталась ли еда к возвращению Энскома. Я ответил, что, насколько мне известно, Хеда съела полкуропатки вместе со всем остальным. — Я рада, ведь мне не удалось за ней поухаживать, потому что хозяин желал говорить со мной. — Номбе села рядом и обратила на меня мечущий молнии взор. — Макумазан, я ухаживала за тобой, когда ты болел, и поила молоком, а за это ты хочешь насильно напоить меня горькой отравой. — Я прекрасно осознаю, что без твоей заботы меня бы уже не было в живых, и за это я полюбил тебя как собственную дочь, но не будешь ли ты добра объяснить свои слова? — Ты замыслил увезти от меня госпожу Хеддану, — тотчас ответила Номбе, — а она для меня как мать, или сестра, или дитя. Можешь не отпираться, хозяин мне все рассказал, да я и сама узнала все от моего духа, а еще следила за тобой. — Номбе, я и не думал лгать тебе ни об этом, ни о чем другом, хотя сама ты порой лгала мне. Скажи, ты ведь думала о том времени, когда инкози Маурити, госпожа Хеддана и я покинем Черное ущелье и они захотят пожениться, перейдут Черную воду и отправятся в свой будущий дом, а я наконец займусь своими обычными делами? — Не знаю, о чем я думала, Макумазан, но в одном уверена: пока я жива, ни за что не расстанусь с госпожой Хедданой. Теперь, когда я нашла кого-то, кому могу отдать всю свою любовь, я ни тебе, ни кому-то другому не позволю забрать ее у меня. Какое-то мгновение я молча ее разглядывал. — Номбе, почему бы тебе не выйти замуж и не завести детей, которым ты могла бы отдать всю свою любовь? — Мне выйти замуж? Моя жизнь связана с моим духом, а он не простой смертный, и дети мои не сыны человеческие. К тому же люди ненавидят меня. — И она глянула на меня так, будто хотела сказать: «Особенно ты». — Это теленок с головой собаки, — ответил я словами местной пословицы, в том смысле, что она говорит какую-то чепуху. — Что ж, Номбе, если ты так любишь инкози-каас Хеддану, договорись с ней и инкози Маурити и поезжай вместе с ними. — Макумазан, ты ведь прекрасно знаешь, что я не могу, мы с хозяином связаны веревкой крепче железа, и, если я попытаюсь порвать ее, мой дух погибнет, и я вместе с ним. — Боже мой! Вот незадача! Вот что происходит, когда связываешься с магией. Прямо и не знаю, Номбе, как помочь делу и что тебе посоветовать. Тут она вскочила, вскипая от ярости. — Теперь понятно, ты не только не собираешься мне помогать, Макумазан, а еще и насмехаешься, и Маурити не лучше тебя! Он прикидывается влюбленным в мою хозяйку, а на самом деле в моем мизинце больше любви к ней, чем во всем его теле и душе, как он это называет. Да, он тоже смеется надо мной. Если бы вы оба умерли, — выпалила Номбе с неожиданной злобой, — моя госпожа не захотела бы уезжать! Берегись, Макумазан, как бы на тебя не пало заклятие. — С этими словами она развернулась и ушла. Поначалу вся эта нелепость вызвала у меня лишь улыбку. Поразмыслив, однако, я решил, что на самом деле все гораздо серьезней, особенно в нашем положении. Эта женщина — дикарка, более того, дикарка, наделенная недюжинными магическими способностями, вот уж убийственное сочетание. К тому же для нее не существует запретов, ведь в Черном ущелье общественное мнение — пустой звук, как и указы королевы. Наконец, всем известно, какой безумной становится женщина, когда, воспылав страстью, вдруг теряет объект привязанности. Подобный ужасный случай в далекой юности навсегда отнял у меня самого дорогого человека. Подробности излишни, скажу лишь, что трагедия свершилась руками такого же пылкого создания — язык не поворачивается назвать ее женщиной, — решившего, будто у него хотят отнять предмет обожания. Кончилось тем, что трубку перед сном я выкурил без всякого удовольствия. К счастью, Энском вернулся с вечерней ловли птиц счастливым и начал без умолку болтать о своих успехах, так что не дал мне и рта раскрыть. Поэтому с обсуждением наших проблем я решил повременить до завтра.Глава 21
ВИЗИТ КОРОЛЯ
Наутро я решил повидаться с Зикали. После многих проволочек меня наконец впустили в хижину. Хоть старый провидец держал небольшую свиту, состоявшую из одних мужчин, не считая Номбе, к нему в его маленьком государстве было труднее подступиться, чем к европейскому монарху. Зикали сидел на корточках у огня, поскольку даже в этих местах воздух прогревался лишь к полудню. — В чем дело, Макумазан? Запасись терпением, скоро вы уедете. Мне стало известно, что бывший король зулусов пустился в бега, а белые люди выслеживают его, как раненого оленя. Когда его схватят и убьют, тогда вы и сможете уехать. — Я пришел поговорить о Номбе, — ответил я и рассказал ему обо всем. Он как будто совсем не удивился. — Видишь ли, Макумазан, — ответил Зикали, взяв понюшку табаку, — природные склонности трудно сдерживать. Это дитя — моя плоть и кровь. Я спас ее от смерти — не из-за нашего родства, а ради того, чтобы проделать над ней опыт. Ты мудр и много повидал, поэтому знаешь, что женщины во многом превосходят мужчин. Женщины слабы, поэтому мужчины взяли над ними верх и возомнили себя главными, а женщины вынуждены соглашаться, ибо они не могут сами себя защитить. Но ум у женщин острый, как зулусское копье, острее мотыги. Они лучше проникают в тайны, формирующие судьбы людей и целых народов. Женщины более преданные и терпеливые, их чутье дальновидно, ведь они не полагаются лишь на разум. По крайней мере, таковы лучшие из лучших, и, подобно мужчинам, именно по ним и следует судить о женщинах. Однако в их защите есть изъян. Когда женщина влюбляется, она становится рабой своих чувств и забывает обо всем, поэтому ей нельзя доверять. У мужчин, как ты сам понимаешь, все иначе. Они, повинуясь закону природы, тоже влюбляются, но в их головах, помимо любви, всегда есть какие-то великие замыслы, хоть и не всегда ясные им самим. А женщине, чтобы сохранить свою силу, лучше оставаться одинокой и не испытывать сильных чувств. Утрачивая любовь, она начинает ненавидеть и теряет контроль над собой, слишком сильная любовь делает ее слабой. Однажды я как будто нашел такую женщину по имени Мамина, ее обожали все мужчины, а она играла с ними, как я играл с нею. И что же с ней сталось? Как только дело пошло на лад, она сильно полюбила чужака со странными мыслями, который мог все испортить, и тогда мне пришлось ее убить, о чем я сожалею. Он умолк и взял еще табаку из табакерки, наблюдая за моей реакцией в отражении ложечки, которую совал себе под нос. — После смерти Мамины, — продолжил Зикали, не дождавшись ответа, — мне пришло в голову самому воспитать женщину, способную к привязанности, но которая никогда не полюбит мужчину, тогда она не сойдет с ума и не поглупеет. Мне казалось, сердце женщины вместе с ее разумом может похитить лишь мужчина. Это дитя, Номбе, попала мне в руки, и я свершил задуманное. Не спрашивай, как мне это удалось, возможно, снадобьями, возможно, магией, возможно, я взращивал ее гордость, или все вместе. Наконец я добился своего и теперь не сомневаюсь, если Номбе и станет питать чувства к мужчине, то лишь как сестра к родному брату. Но вышло не так… Номбе, умная и наученная презирать мужчин, встретила женщину другой расы, милую и добрую, и полюбила ее, но не как служанка или мать, а как ее дух, которого она боготворит. Да-да, она поклоняется белой женщине, точно богине, и лишь ей желает служить всем сердцем и всеми силами, делать подношения и, в конце концов, присоединиться к ней после смерти. Вот так-то, Макумазан, я думал, разум позволит Номбе возвыситься, подобно птице, парящей на крыльях в поднебесье, а она ищет себе жертву, став безумнее, чем другие женщины. Я разочарован, Макумазан. — Можешь разочаровываться сколько угодно, Зикали, и все это любопытно, но для нас Номбе теперь представляет серьезную опасность. Скажи, можешь ты ей приказать оставить свои глупости? — Разве я могу запретить туману рассеяться или управлять дуновением ветра и ударами молнии? Номбе такая, какая есть, и ее сердце переполнено черной ревностью к Маурити и к тебе, подобно тому, как бутылочная тыква мясника полна крови. Она не желает делить свою богиню с другими поклонниками, а хочет быть для нее единственной. — В таком случае, Зикали, надо эту тыкву как-то опорожнить, а иначе нам придется выпить из нее, и эта черная кровь отравит нас. — Как же это сделать, Макумазан, может быть, разбить ее? Если Хеддана уедет и бросит Номбе, та сойдет с ума, ведь последовать за ней она не может, ибо здесь обитель ее духа. — При этих словах он постучал себе в грудь. — Он вернет ее обратно, и тогда Номбе причинит мне много беспокойства, не даст спокойно спать, когда станет то и дело странствовать в поисках утраченного и возвращаться ни с чем. А ты не бойся, в крайнем случае чашу можно разбить, и кровь выльется на землю. Мне приходилось разбивать сосуды и более хрупкие, чем этот. Сколько их было, Макумазан; если собрать все черепки в кучу, она окажется вот такой высоты. — И колдун поднял руки на уровне головы. Его жест заставил меня попятиться назад. — Расскажу об этом Номбе, может, это ее успокоит на какое-то время. Яда можешь не опасаться, ее дух, не в пример моему, не выносит его и не использует как оружие, а вот чары — другое дело. Берегись, ведь она владеет несколькими весьма мощными заклинаниями. Тут я вскочил, вне себя от гнева: — Не верю я в ее заклинания, но в любом случае как мне от них защититься? — Зачем же защищаться, если ты в них не веришь? А если веришь, Макумазан, придется тебе самому придумать, как защититься. Я могу рассказать тебе историю об одном белом учителе, который не поверил и не смог спастись, ну да все равно, попытка не пытка. Прощай, Макумазан, я поговорю с Номбе. Попрошу у нее локон, пусть заколдует его, чтобы тебе носить его у сердца. Обереги хорошо помогают от заклинаний. Ха-ха-ха! Какие мы все глупые, и белые, и черные. Вот о чем наверняка думает сегодня бывший король Кечвайо. После этого Номбе стала покладистей. Иначе говоря, она стала вежливой, постоянно улыбалась, а взгляд сделался безразличным. Очевидно, Зикали провел с ней беседу, и она послушалась. Сказать по правде, у меня день ото дня росло недоверие к этой симпатичной юной особе, ведь я сознавал, какая пропасть лежит между нормальным человеком и этой воспитанницей Зикали, который сформировал свое создание, как садовник формирует крону дерева. Нет, он сделал куда больше — привил к ее неокрепшему разуму чуждый отросток странного и жестокого спиритизма. Само создание осталось прежним, а привой дал странные побеги: цветы нечестия и отравленные плоды. Здесь нет ее вины, и порой я задаюсь вопросом, есть ли вообще в этом странном мире, где можно увидеть свое прошлое и будущее, хоть один человек, виновный во всем. Однако Номбе от этого не стала менее опасной. Беседуя с ней, я еще больше утвердился в своих опасениях, поскольку обнаружил, что Номбе начисто лишена совести. Жизнь на земле, говорила она мне, всего лишь сон, человеческие законы — иллюзия, а реальная жизнь совсем в другом месте. На далеком озере плавает лилия нашей истинной жизни. Без этой чудесной воды цветок не смог бы держаться на плаву, его бы попросту не было. Кроме того, его форма и цвет не имеют значения, порой он выглядит так, а порой совсем иначе. Ему суждено расти, цвести, гнить. В течение дня цветок то безобразен, то прекрасен, то благоухает, то пахнет дурно, как повезет, но в итоге воды жизни снова поглощают его. В ответ я заметил, что у цветов есть корни и все они растут в земле. Взглянув на орхидею, висящую на стволе дерева, Номбе ответила, что это не так, ведь некоторые растут прямо в воздухе. Однако, как бы то ни было, и почва, и влага в воздухе извлекаются из жизней сотен других цветов, которые цвели в свое время, а ныне преданы забвению. И это не важно, ведь, когда они умирают или, как в большинстве случаев, задыхаются, тогда настает пора новой жизни. Тем не менее у каждого цветка всегда был и всегда будет свой дух. Тогда я спросил, какова конечная цель этого духа. Номбе мрачно ответила, что не знает, но, если бы знала, все равно не сказала бы, ведь в любом случае это нечто ужасное. Эти образцы ее туманных и образных суждений я записал лишь для того, чтобы на примере показать их тревожность и отсутствие человечности. Совсем запамятовал, ведь она заявила, будто у каждого цветка или жизни есть двойник, и в следующих возрождениях они должны отыскать друг друга, чтобы цвести рядом или завянуть на корню и прорасти снова. В конце концов эти двое сольются воедино и будут цвести вечно. Из всего сказанного я уразумел лишь, что она похватала крохи какого-то воззрения, но не способна четко и ясно выражать свои мысли. Однажды, когда я сидел в хижине Зикали, куда мне позволили наведываться за последними новостями, вдруг появилась Номбе и села перед стариком на корточки. — Кто позволил тебе войти и что тебе от меня нужно? — спросил тот сердито. — Обитель духов, — ответила она смиренно, — не гневайся на свою рабу. Мне пришлось войти сюда, ведь я должна была предупредить тебя о чужаках, которые приближаются к нам. — Кто эти люди, посмевшие без доклада явиться в Черное ущелье? — Один из них — король Кечвайо, а других я не знаю, но их много, и все вооружены. Они уже подходят к воротам, не успеешь ты досчитать и до двухсот, как незваные гости будут здесь. — Где белый вождь и госпожа Хеддана? — спросил Зикали. — К счастью, они ушли на плато по тайной тропе и до захода солнца не вернутся. Они пожелали побыть вдвоем, поэтому я не пошла с ними. Макумазан тоже остался, он сказал, что у него нет сил для такой прогулки. — Так и было: как и Номбе, я не стал мешать их уединению. — Хорошо, иди и передай, что я знаю о прибытии короля и жду его. Вели моим слугам заколоть вола в загоне, того жирного, которого они посчитали больным, — кушанье под стать больному королю, — добавил он язвительно. Номбе выскользнула из хижины, как испуганная змейка. — Макумазан, ты в большой опасности, — поспешно заговорил Зикали, обратившись ко мне. — Тебя убьют, если застанут здесь и остальных; я пошлю слугу с предупреждением, чтобы не возвращались, пока король не уйдет. Иди сейчас же к ним. Нет, стой, слишком поздно, я уже слышу их шаги. Возьми эту накидку из шкур, завернись в нее и ложись в тени у входа в хижину среди одеял и пивных кружек. Авось тебя и не заметят. Я тоже в опасности, ведь все случилось по моей вине. Может, меня убьют — если это в их силах, — тогда попытайся убежать вместе с остальными. Номбе покажет тебе, где спрятаны лошади. Пусть в таком случае госпожа Хеддана возьмет ее с собой, ведь когда я умру, Номбе станет свободна. А если с ней будет много хлопот, можно оставить ее в Натале. Чем бы все ни кончилось, Макумазан, не забывай, что я сдержал слово и защищал тебя и твоих друзей. Теперь я пойду взгляну на этот проколотый рыбий пузырь, бывший некогда королем. Зикали медленно, словно жаба, выбрался из хижины, а я тем временем проворно схватил накидку и, завернувшись в нее, пристроился среди кружек и подстилок. Голова моя оказалась всего в нескольких дюймах слева от входного отверстия, в непроницаемой тени. Сверху я поставил трехногий резной табурет, дело рук самого Зикали. Немного вытянув шею, я мог видеть и слышать все, что происходит снаружи. Вполне безопасно, даже если сюда войдут чужаки, только бы не стали обыскивать хижину. Одно меня тревожило: пес Потеряш может ворваться сюда и унюхать хозяина. Он был привязан к средней жерди в хижине, я не брал его с собой, потому что пес ненавидел Зикали и каждый раз его облаивал. Вдруг он перегрызет веревку или кто-нибудь его освободит. Едва Зикали уселся на свое привычное место перед хижиной, как ворота изгороди отворились и показалось сорок или пятьдесят свирепых, одетых по-походному туземцев. Впереди слуга вел под уздцы усталую клячу, на которой сидел сам Кечвайо. Ему помогли спешиться, вернее, он рухнул всей массой на руки своим людям. Переговорив со спутниками и слугой Зикали, король вошел во двор, опираясь на руку премьер-министра Умняманы, за ними последовали три или четыре советника, остальные остались за оградой. Зикали как будто спал сидя, вдруг он проснулся и заметил высокого гостя. Старик с трудом поднялся, вытянул перед собой правую руку в знак королевского приветствия, величая короля титулами: «Черный владыка!», «Слон!», «Гроза всей земли!», «Завоеватель!», «Пожиратель белых людей!», «Потомок Лютого Зверя, чьи зубы острее, чем были когда-либо у самого Чаки!» и так далее. — Молчи, знахарь! — крикнул нетерпеливо Кечвайо. — Время ли сейчас для таких громких слов? Не знаешь разве о моем положении, иначе зачем бы ты оскорблял мой слух подобными речами? Дай нам еды, любой, какая есть, а после мы с тобой побеседуем наедине. Поторопись же, я не останусь тут надолго, за мной по пятам следуют белые псы. — Я ждал тебя, о король, и твой приход — честь для моего скромного жилища, — медленно проговорил Зикали. — Поэтому вола закололи заранее, и скоро мясо зажарят на костре. А пока выпей пива и отдохни. Он хлопнул в ладоши, и появилась Номбе в сопровождении нескольких слуг. Они несли кружки с пивом. Сначала Зикали сделал глоток, давая гостям понять, что пиво не отравлено, тогда уж король и его люди напились вдоволь. Тем, кто ждал снаружи, тоже дали утолить жажду. — Однако что я слышу? — спросил Зикали, дождавшись, пока Номбе и слуги не уйдут. — Белые псы напали на след Черного Быка? Кечвайо тяжело вздохнул: — Мои полки разгромлены на равнинах Улунди, трусы бежали от пуль, как малые дети от пчел, королевскую хижину сожгли, а я с горсткой преданных воинов вынужден был спасаться бегством. Пророчество Чаки сбылось. Зулусский народ растоптан ногами великих белых людей. — Я помню то пророчество, о король. Мбопа рассказал мне о нем, когда не прошло и часа после смерти Чаки. Он вынул из рук короля короткое копье и отдал его мне, чтобы провернуть одно дело. Воспоминания заставляют меня чувствовать себя моложе, хотя я уже тогда был старый, — задумчиво произнес Зикали, будто говоря сам с собой. Услыхав подобное из-под своей накидки, я решил, что старик действительно сдал, раз забыл, какую роль сыграло это маленькое копье в Долине костей несколько месяцев назад. Что ж, и великие совершают ошибки, когда их мысли заняты чем-то другим. Однако, в отличие от Зикали, король и его советники все прекрасно помнили и, видно, сразу обо всем догадались. — Ах вот как, Открыватель! Злодей Мбопа, сбежавший из страны после убийства моего дяди Дингаана, отдал тебе это копье! А ведь всего несколько месяцев назад его признал старик Сигананда, когда инкосазана зулусов метнула копье и ранила меня, а белый человек, Макумазан, отделил древко от наконечника своей пулей. Отвечай, Открыватель, как оно попало от тебя к богине Номкубулване? Услышав вопрос короля, Зикали задрожал всем телом, он наконец понял, какую чудовищную оплошность совершил. Однако тут же нашелся, как обернуть промах себе на пользу, на что способны лишь великие умы. — Ха-ха-ха! Откуда мне знать, как вершатся свыше подобные дела. Разве ты не ведаешь, король, что духи берут и оставляют все, что пожелают, будь то травинка или жизнь человека. — Тут он взглянул на Кечвайо. — И даже целого народа. Порой они берут дух, а порой какой-то предмет, ведь и то и другое принадлежит им. А что до маленького копья, я потерял его давным-давно. Помнится, в последний раз я видел его в руках женщины по имени Мамина, когда показывал ей эту странную окровавленную вещицу. А после ее смерти оно пропало, без сомнения, она взяла это копье с собой в иной мир и отдала королеве Номкубулване, как ты помнишь, они вместе пришли оттуда в Долину костей. — Может, и так, — мрачно ответил Кечвайо, — а меж тем в ногу мне вонзилось не призрачное копье, однако нам не дано знать о промысле духов. Знахарь, мне нужно переговорить с тобой наедине в твоей хижине, а то кругом слишком много лишних ушей. — Мое жилище — твое жилище, король, но не забывай: эти духи, пути коих неведомы королю, все слышат и даже могут прочесть мысли и судят каждого человека сообразно с ними. — Не бойся, я помню об этом, как и о многом другом. Тогда Зикали забрался в хижину и, поравнявшись с моим укрытием, шепнул, чтоб я лежал смирно, если мне дорога жизнь. Кечвайо отослал свиту ждать его за оградой и последовал за хозяином хижины. Они сели друг против друга у тлеющего костра в полумраке хижины, переглядываясь сквозь тонкую пелену дыма. Повернув голову, я мог наблюдать за ними обоими, поскольку, проходя мимо, король ненароком сдвинул шкуру ногой. — Знахарь, — заговорил наконец Кечвайо слабым и сиплым голосом, — моя жизнь в опасности, а ведь ты знаешь каждый уголок нашей земли, вот и скажи, где можно спрятаться, чтобы белые люди меня не отыскали. Только я один должен знать об этом месте, потому что никому нет доверия, особенно сейчас, когда вокруг одни предатели. Да, даже те, кто притворяется верными. Униженный человек теряет всех друзей, особенно если прежде ему довелось быть королем, и смерть кажется единственным выходом. Так укажи мне безопасное место. — Дингаан, твой предтеча, просил меня о том же, король, когда бежал от Панды, твоего отца, и буров. Тогда я дал ему совет, но он отверг его и решил искать убежища на некой горе Духов. О том, что с ним случилось, можешь спросить у Мбопы, которого ты давеча вспоминал, если он еще жив[284]. — Ты словно ночная птица, снова и снова предвещающая смерть королей, — перебил его Кечвайо, с трудом сдерживая гнев. — Скажи наконец, где мне спрятаться? — закончил он, взяв себя в руки. — Слушай, король, если тебе так угодно. На южном склоне хребта Ингома, к западу от реки Ибулулвана, на окраине большого леса есть ущелье, густо поросшее колючим кустарником, и такое узкое, что пройти в него можно только по одному. Там лежит приметный черный камень, по форме напоминающий большую жабу с открытой пастью. А кое-кто нашел в нем сходство со мной, с Тем, кому не следовало родиться. Неподалеку живет однорукая старуха, слепая на один глаз. Руку ей отрубили по приказу Чаки незадолго до его смерти, за то, что она увидела будущее и предрекла гибель короля, после того как он убил ее отца, а ведь она была еще ребенком. Она тоже знахарка, подобно мне. С твоего позволения, я направлю к ней духа с посланием, и она присмотрит за тобой, о король, и твоими людьми, проведет в ущелье, туда, где стоят несколько старых хижин и протекает ручей. Там тебя никто не отыщет, если не найдется предатель. — Кто предаст меня, если никто не узнает, куда я иду? Посылай духа, и немедленно, пусть эта однорукая ведьма ждет нас. — К чему спешка, король, ведь путь до леса неблизкий. Что ж, воля твоя. Теперь помолчи, а то накликаешь беду. Вдруг Зикали впал в транс, замер, закрыл глаза, лицо стало неподвижно, как у мертвеца, а на губах выступила пена. Зрелище жуткое, особенно в сгустившемся мраке хижины. Кечвайо дрожал от страха, глядя на старика. Тут король распахнул плащ, и я увидел широкое копье с укороченным на шесть дюймов древком, оно крепилось к петле на поясе таким образом, чтобы его можно было выхватить в любую минуту. Он схватил древко, явно замышляя убить старика, и тут вдруг словно передумал, мне даже показалось, будто его губы беззвучно произнесли «еще не время», разжал пальцы и запахнул плащ. Зикали медленно открыл глаза и взглянул на потолок своей хижины, откуда послышался странный звук, похожий на визг летучей мыши. Он выглядел как мертвец, вернувшийся с того света. Несколько минут, навострив уши, старик делал вид, будто прислушивается к этим звукам. — Очень хорошо. Дух, который я призвал, уже посетил ту, кого зовут Однорукая, и вернулся с ответом. Разве ты не слышал, о король, как с соломенной крыши раздавался ее голос? — Я слышал какой-то звук, знахарь, — испуганно ответилКечвайо, — но мне показалось, что это летучая мышь. — Так и есть, король, быстрая летучая мышь с широкими крыльями. Она сказала, что моя однорукая сестра будет ждать вас спустя три дня в этот час по ту сторону брода Ибулулвана, в том самом месте, где рядом на одном бугре растут три молочая. Однорукая будет сидеть под средним и прождет всего два часа, не более, она покажет вам тайный проход в ущелье. — Дорога каменистая и путь неблизкий — мне придется спешить, а ведь я уже утомлен долгим путешествием. — Верно, король, поэтому не мешкай. Тем паче я как будто слышу лай собак, а стало быть, и белые люди где-то неподалеку. — Клянусь головой Чаки, я никуда не пойду, — проворчал Кечвайо, — ведь я надеялся найти здесь приют на ночь. — Воля твоя, король, мой дом — твой дом. Только Однорукая не станет ждать дольше условленного срока, и тебе придется искать другое укрытие, поскольку об ущелье знаем лишь мы с ней, а я не могу вторично вызывать дух, и проводить туда короля я тоже не могу. — Да, знахарь, мы оба знаем об этом месте, однако, сдается мне, лучше, если бы о нем знал я один. У меня есть ложка табака для тебя, знахарь. — Эта поговорка означала: «я точу на тебя зубы». — Как видно, тогда, в Долине костей, ты направил меня и весь зулусский народ по ложному пути. Заставил меня объявить войну белым людям и погубил всех нас. — Может, память мне изменяет, но я не помню, чтобы когда-нибудь совершил нечто подобное. Кажется, это дух Мамины, которую я вызвал из мира мертвых, предрек королю победу, так ведь ее слова сбылись. Она посулила королю и другие победы, за морем в далекой земле, несомненно, сбудется и это в свой срок. Сам же я ничего не советовал ни королю, ни его советникам, ни полководцам. — Ты лжешь, знахарь! — прохрипел Кечвайо. — Не ты ли вызвал Небесную принцессу как знамение войны? Разве не держала она в руке копье Чаки? А ведь ты сам мне признался, что хранил его у себя! Как оно попало от тебя к нашей богине? — Я уже объяснил, о король, как это случилось. Что сказать об остальном? По-твоему, Номкубулвана у меня в услужении, приходит и уходит, когда мне вздумается? — Думаю, так и есть, — холодно отрезал Кечвайо. — Кроме того, лучше бы тебе хорошенько забыть то место, где я собираюсь найти убежище. Сдается мне, ты слишком зажился на этом свете, Открыватель, и причинил достаточно зла дому Сензангаконы, ведь ты всегда его ненавидел. Говоря это, король снова украдкой потянулся к острию копья, скрытому под его плащом. — Ха-ха-ха! — рассмеялся Зикали, тоже заметив его хитрую уловку. — Король собрался меня убить, потому что я старый, немощный, одинокий и безоружный, он забыл все предостережения о том, что день моей смерти станет последним и для него. Замыслил свершить то, что не удалось ни Чаке, ни Дингаану, ни даже Панде, ведь я до сих пор жив. Но я не держу зла на короля, ведь это так естественно, если он не желает оставлять в живых того, кто посвящен в тайну убежища, ведь речь идет о его жизни и смерти. Копье, которое прячет король, слишком острое, оно запросто проткнет мою грудь, поэтому я должен найти мой щит. Где же он? Огонь, в тебе еще теплится жизнь. Пробудись, сделай дымовую завесу моим щитом! Зикали взмахнул своими длинными обезьяньими руками над золой костра, и от него тут же поднялась тонкая струйка белого дыма с неприятным запахом и начала принимать неясные очертания, смутно напоминавшие человеческую фигуру. Мне же она показалась всего лишь призрачной колеблющейся тенью. — Куда ты так пристально смотришь, о король? — продолжал Зикали злым, пробирающим до костей голосом. — Кого ты видишь? Какого защитника послал мне огонь? Здесь так много призраков, так что я сам не знаю и не могу точно сказать, кто из них пришел. Кто же это? Кого ты убил и сделал своим врагом? — Мой брат Умбелази, — простонал Кечвайо, — стоит передо мной с поднятым копьем. Умбелази, которого я убил в сражении у реки Тугела, смотрит на меня горящими глазами и собирается пронзить копьем. Он говорит какие-то непонятные слова. Защити меня, знахарь, повелитель духов! Защити меня от духа Умбелази! Зикали дико хохотал и все размахивал руками над костром, от которого продолжал валить густой дым, пока не заполнил всю хижину. Когда дым рассеялся, Кечвайо исчез, будто и не бывало! — Скажи, Макумазан, ты когда-нибудь видел подобное? — спросил он, обращаясь к шкуре, под которой я задыхался от духоты. — Да, — отозвался я, высунув голову, как черепаха, — в этой самой хижине, тогда из дыма тоже появилась фигура той, кого я знал прежде. Скажи, Зикали, как ты это делаешь? — Делаю что? Кто знает, может, я ничего не делаю, может, всех вас дурачу, а может, духи приходят на мой зов, ведь они рядом с нами, и, зачарованные дымом моего костра, принимают человеческое обличье. Ты мудрый белый человек, Макумазан, вот сам и ответь на свой вопрос. В конце концов, дым или призрак спас меня от копья Кечвайо, иначе он пронзил бы меня в самое сердце. Вот она благодарность за то, что я помог найти убежище, которое король пожелал оставить в тайне. Ну-ну, я тоже могу отплатить Кечвайо, и его долг передо мной гораздо больше. Лежи тихо, Макумазан, а я пойду на разведку. Король долго не задержится в таком зловещем месте, где полным-полно духов, уйдет еще до заката, а осталось не больше часа, он найдет ночлег в другом месте. Зикали выбрался из хижины, и вскоре послышались голоса, люди о чем-то спорили. Видеть я ничего не мог, так как ворота ограды уже заперли. — Замолчите! — сердито прервал их Кечвайо. — Такова моя воля. Ешьте прямо на улице, подальше от заколдованного места. Девушка покажет нам, где те хижины, о которых говорил знахарь. Спустя несколько минут, тихонько посмеиваясь, вернулся Зикали. — Все спокойно, — сказал он, — можешь вылезать из своей норы, старый шакал. Тот, кто зовет себя королем, ушел и взял с собой самых верных, как ему кажется, а они только и ждут случая, чтобы предать его. А я что говорил? Нет, во всей Африке не найдется раба, более униженного и несчастного, чем этот сломленный человек. О, я ощипывал этого петуха, перо за пером, а вскоре перережу ему горло. Вот увидишь, Макумазан, вот увидишь. — Нет уж, уволь, — ответил я, потирая лоб. — Сегодня мы и так чуть не лишились головы, с меня довольно. Куда пошел король? — Недалеко, Макумазан. Я велел Номбе проводить их к хижинам в низине, справа от входа в ущелье, не далее полета пяти копий. Там живет старый пастух со своими людьми, они сторожат мой скот. Только все ушли в лес Цеза, подальше от белых людей, и хижины сейчас пусты. Знаю, о чем ты думаешь, я вовсе не хочу, чтобы он там остался, ведь это место близко к моему дому, и у короля все еще есть сподвижники. — Почему ты послал Номбе? — Он не доверяет моим людям и не пожелал брать других провожатых. Она останется с ними на несколько дней, а потом он отпустит ее. Так мы отвлечем Номбе от глупостей, а ты и твои друзья спокойно уедете, забыв о ее причудах, и присоединитесь к белым людям, которые совсем недалеко. Завтра можете отправляться в путь. — Хорошая новость, — ответил я, вздохнув с облегчением, но тут мне в голову пришла неожиданная мысль. — А Номбе не в опасности, не захотят ли от нее избавиться, раз она так много знает? — Надеюсь, что нет, — ответил он равнодушно, — но это забота ее духа. Ступай, Макумазан, я очень устал. Мне тоже требовался отдых после того, как я был вынужден пролежать столько времени под грубой звериной шкурой и совсем запарился. Надо признаться, мой организм не вполне окреп и я все еще очень быстро уставал. Оглядевшись, я с облегчением убедился, что Кечвайо со своей свитой действительно ушел. Они даже не задержались, чтобы поесть мяса вола, заколотого к их приходу, а унесли его и прочую снедь с собой к новому месту ночлега, подальше от ущелья. Удостоверившись в этом, я вернулся в свою хижину и спустил с привязи Потеряша. Он мне обрадовался, ведь толстый ремень из буйволовой кожи, которым я привязал его к жерди, оказался псу не по зубам. Потеряш восторженно приветствовал меня, словно мы встретились после долгой разлуки. Будь его хозяином сам Одиссей, пес и то не был бы так счастлив. Когда человек одинок и подавлен, он сердечно благодарен собаке, когда она встречает его с неподдельной радостью, ведь мы порой считаем своих питомцев единственными существами в целом свете, кому мы действительно нужны. Другие звери живут сами по себе, а все помыслы собаки сосредоточены на хозяине, хотя она тоже любит вкусно поесть и погонять кроликов. Потом я сидел подле хижины и курил, дожидаясь возвращения Энскома и Хеды, а Потеряш растянулся у моих ног. Вскоре я приметил их очертания в вечерних сумерках. Молодые люди шли в обнимку, соприкасаясь головами, и будто слились воедино. Видно, и думать забыли, что еще не совсем стемнело. Наконец-то мы уберемся из этого странного ущелья и вернемся на родину, где они смогут пожениться и зажить своим домом. Я чихнул, обнаруживая свое присутствие. Хеда спросила, где Номбе и почему не готов ужин, ведь знахарка сочетала в себе роли повара и горничной. Я рассказал ей вкратце о случившемся, а она, не придав моим словам особого значения, заявила, что Номбе вполне могла сначала поставить котелок на огонь и выполнить прочие обязанности, а потом идти, куда ей вздумается. В итоге мы кое-как перекусили, и Хеда удалилась к себе недовольная, ведь ей придется спать в одиночестве, а она уже привыкла к осторожной Номбе, которая всегда спала у самого порога хижины. Скоро Энском отправился в объятия Морфея, не знаю, видел ли он сны, а я никак не мог сомкнуть глаз, все тревожился, сам не знаю о чем. Потеряш тоже вел себя беспокойно, и все время тыкался в меня своим мокрым носом. Наконец за полночь, около двух часов, он зарычал. Вообще-то, у меня чуткий слух, и все же ничего подозрительного я не расслышал. Потеряш, однако, не унимался, поэтому я подкрался к дверной заслонке и отодвинул ее, пес выскочил наружу и скрылся. Ожидая его возвращения, я снова прислушался, и вскоре раздался звук, как будто кто-то крадется и шепчется. В неверном свете звезд я увидел смутные очертания женской фигуры, которая напоминала Номбе. Она тут же пропала, и вернулся, виляя хвостом, Потеряш. Пес всегда радовался при виде Номбе, ведь она его любила. Больше я ничего не слышал и лег в постель, решив, что мне просто почудилось. Как-никак Зикали отослал свою воспитанницу на несколько дней, и вряд ли она осмелится вернуться так скоро, как бы ей этого ни хотелось. Незадолго до рассвета Потеряш снова глухо и угрожающе зарычал. На этот раз я встал, кое-как оделся и выбрался наружу. Заря едва занималась, и в ее тусклом свете передо мной предстала странная картина. В узком перевале меж двух валунов, который вел к нашим хижинам, ярдах в пятидесяти от меня стояла богиня Номкубулвана, такая, какой я увидел ее на краю скалы в Долине костей. На ней было то самое сияющее платье, и в тусклом свете она представала в образе белой женщины. Застыв в изумлении, я думал, уж не сон ли это. Вдруг из-за поворота появились зулусы и тихонько подкрались поближе с поднятыми копьями. Заметив таинственную фигуру, преградившую им путь, они остановились и стали перешептываться, а затем пустились бежать, но один, скорее со страху, все-таки успел бросить в нее, безмолвную и неподвижную, копье. Полминуты спустя их и след простыл, топот шестидесяти ног замер где-то вдалеке. Фигура медленно развернулась, и, поскольку уже забрезжил рассвет, я увидел копье, торчащее из ее груди. Богиня рухнула на землю, и в тот же миг я оказался рядом. Это была Номбе, с лицом и руками в белой краске, блестящие перья ее одеяния обагрила кровь.Глава 22
БЕЗУМИЕ НОМБЕ
Потеряш опередил меня и принялся слизывать с ее лица белую краску, не успевшую высохнуть. Номбе лежала, откинувшись на валун, левой дрожащей рукой поглаживала пса по голове, а правой вытащила из раны копье и бросила на землю. Узнав меня, она улыбнулась своей неизменной загадочной улыбкой. — Все хорошо, Макумазан, — прошептала она, — просто прекрасно. Я заслужила смерть и умираю не напрасно. — Тебе нельзя говорить! — воскликнул я. — Позволь мне взглянуть на рану. Номбе распахнула свои одеяния и показала на небольшую ранку под грудью, оттуда медленно сочилась кровь. — Оставь, Макумазан, моя рана смертельна. Выслушай меня, пока я еще жива и в здравом уме. Вчера, когда Маурити и Хеддана собрались на плато, я хотела пойти с ними, чтобы защищать хозяйку от опасности, ведь мне стало известно о бродящих повсюду зулусах. Однако Маурити грубо дал мне понять, что они во мне не нуждаются. Мне было не привыкать, и я не придала его словам большого значения — что взять с влюбленного. Но это полбеды, Макумазан, моя госпожа Хеддана ранила меня своими словами больнее, чем это копье, ведь она обдумала их заранее и нарочно искала удобного случая, чтобы бросить их мне в лицо. Она сказала, что я забыла, где мое место, замучила ее, как заноза под ногтем, и всякий раз, как она хочет поговорить с Маурити или с тобой, Макумазан, я всегда тут как тут, подслушиваю, растопырив ухо, как горлышко бутылочной тыквы. Велела впредь появляться, когда меня позовут. Всему этому ее наверняка научил Маурити, ведь она такая мягкая и сама бы до такого не додумалась, а может, это твоих рук дело, Макумазан. Я покачал головой. — Нет, конечно, для этого ты слишком благороден и перенес в жизни много страданий, поэтому сочувствуешь людям, а Маурити не познал несчастий и не способен сопереживать. Однако для тебя я тоже была помехой, как заноза в пальце или как клещ, которого никак не отцепить. Ты пожаловался Учителю, и тот отчитал меня. На сей раз я кивнул. — Макумазан, я вовсе не виню тебя, наоборот, ты поступил мудро. Да и поделом мне, ибо какое право имеет ничтожная черная знахарка добиваться любви или даже касаться взглядом благородной белой дамы, если их тропинки волею судеб ненадолго пересеклись? А вчера, Макумазан, я об этом забыла, ведь все мы имеем не одну, а несколько сущностей, и у каждой свой срок. Живая и здоровая Номбе — это одна женщина, умирающая — другая, и, несомненно, умершая станет третьей сущностью Номбе, если только сбудется ее мечта и она уснет вечным сном. Макумазан, слова Хедданы были словно желчь в сладком молоке. Кровь свернулась у меня в жилах, а сердце скисло. Мой гнев обратился не против Хедданы, чему никогда не бывать, а против тебя и Маурити. Мой дух стал нашептывать мне: «Если Маурити и Макумазан умрут, Хеддана останется одна в чужой земле, тогда она наконец поймет, что ты ее единственная опора, и научится любить свою трость, даже такую неотесанную и невзрачную». «Но как я могу убить их, а сама остаться в живых?» — спросила я у духа. «Яд под запретом, — ответил дух, — как мы условились, и все же я найду выход, ведь мой долг служить тебе во всем, в добре и зле». На том мы и порешили, Макумазан, и я стала ждать, что же произойдет, ведь дух никогда меня не подводил. Да, я выжидала, когда наконец смогу убить вас обоих. Совсем упустила из виду, как и все злодеи в своем безумии, что если меня сразу не заподозрят, то рано или поздно Хеддана обо всем догадается. Тогда она возненавидит меня, как мать ненавидит змею, ужалившую ее дитя, даже если к тому времени в ее сердце родится любовь, в тысячи раз сильнее прежней. А если при жизни она ничего не узнает, после смерти все поймет и будет преследовать меня из воплощения в воплощение и клеймить как предательницу, убийцу и некающуюся грешницу. Тут Номбе вдруг затихла, и я хотел позвать на помощь, но она удержала меня за край одежды. — Макумазан, выслушай меня до конца, а иначе я побегу за тобой, упаду и умру. Тогда я почел за лучшее остаться с ней. — Мой дух, — продолжала она, — должно быть, злой, ведь я получила его от Зикали, когда стала знахаркой. Он исполнил обещание, поскольку вскоре пришел король со своей свитой. Дух позаботился, чтобы у Кечвайо не нашлось других провожатых, кроме меня, дабы показать им путь к хижинам, где они провели прошлую ночь. И я пошла с ними, как будто против своей воли. Оказавшись на месте, король позвал меня и устроил допрос в темной хижине, он притворился, будто мы одни, но я ведь знахарка и чувствовала, двое его людей прячутся по углам и подмечают каждое мое слово. Король расспрашивал меня про инкосазану зулусов, что появилась в Долине костей, о копье в ее руке, о магических способностях Открывателя и многом другом. Я отвечала, что ничего не знаю о Небесной принцессе, а мой Учитель, без сомнения, великий мудрец. Он мне не поверил, пригрозил ужасными пытками, если я не скажу правду, и уже собирался позвать слуг. Вдруг мой дух обратился ко мне: «Я нашел выход, как и обещал. Расскажи королю о двух белых людях, которых прячет твой Учитель, и он велит своим людям убить их, и вы с госпожой Хедданой будете вместе». Тогда я прикинулась напуганной и обо всем рассказала королю. «Повезло тебе, девушка, — ответил он, смеясь, — что ты сказала правду, да и бесполезно пытать ведьму, духи внутри нее извергают из ее уст одну только ложь». Король позвал своего человека, в темноте я не разглядела лица, и велел ему увести меня в другую хижину и привязать там к жерди, держащей крышу. Слуга повиновался, только не стал меня связывать, а лишь закрыл входное отверстие доской, и мы остались вдвоем в полной темноте. Тогда я осторожно заговорила с ним, расставляя сеть льстивыми речами, как птицелов, охотящийся за венценосным журавлем ради его красивого хохолка. Мало-помалу стало ясно, что королю и его людям известно больше, чем я думала. Макумазан, они заметили повозку, которая еще стоит у входа в пещеру под нависшей скалой. Пришлось соврать, будто повозка принадлежит Учителю, а привезли ее с равнины Изандлвана, поскольку он слишком слаб и не может ходить сам. Далее я спросила его, есть ли что-нибудь посерьезней этого. Он заявил, что за поцелуй расскажет мне обо всем. Я предложила сделать наоборот, клянясь, что отплачу ему сполна. Да, Макумазан, я, не позволявшая себя тронуть ни одному мужчине, пала так низко. Этот простофиля согласился и разболтал все. Оказывается, они видели головной убор, висящий на ограде хижины, такой, какие носят белые женщины. И я тут же вспомнила, как однажды постирала его и повесила сушиться на солнце. Конечно, король сразу заподозрил, что та, кому он принадлежит, и исполнила роль Номкубулваны в Долине костей. Отрицая существование в Черном ущелье белой женщины, я все же спросила, как собирается действовать король. Он сказал, что на рассвете король пошлет своих людей, и они убьют чужеземных крыс, которых Открыватель прячет под соломенной крышей своей хижины. Затем слуга придвинулся ближе ко мне и потребовал свою плату. И я расплатилась с ним, Макумазан, ударив его ножом. О, это был хороший удар, больше он никогда не заговорит. Затем, пока все спали, я улизнула и после полуночи уже добралась сюда. — Кажется, я видел тебя, Номбе, но решил, что мне показалось, поэтому ничего не предпринял. — А я боялась, — улыбнулась она, — как бы Бодрствующий в ночи не отправился на ночную разведку. Прибежал пес, он узнал меня, и я отослала его обратно к тебе. Направляясь к себе в хижину, я задумалась, и как будто вспышка молнии сверкнула — я осознала, что натворила. Король и его люди сомневались, действительно ли Учитель прячет у себя белых людей, и никогда не вернулись бы их убивать просто так, наудачу, а я развеяла все их сомнения, впрочем, как и полагается злодейке. Кроме того, целясь копьем в воздушного змея, я попала в свою голубку, ведь это она была поддельной инкосазаной, заставила их объявить войну и погубила весь народ. Наверняка они захотят отомстить, и не двум белым путешественникам, а тому, кто надоумил ее играть роль богини. Тогда я поняла, люди Кечвайо, а их там много, несколько сотен, придут и обреют всю голову, сожгут все дерево целиком. Все до единого обитатели Черного ущелья погибнут. Тогда я стала думать, как же развязать узел, завязанный моими руками, и потушить разведенный мною костер. Мне пришло в голову просить помощи у тебя, но, безоружный, ты вряд ли справился бы с ними, а идти к Учителю я стыдилась. Да и что он мог сделать с горсткой слуг, ведь большая часть его людей ушла вместе со скотом. Он слишком слаб и не взберется по крутой тропе на плато, и не осталось времени собрать для него носильщиков. Даже если успеем, далеко нам не уйти, они все равно выследят нас и убьют. Не о себе я тревожилась, а о госпоже Хеддане, ведь ее безжалостно убьют, и все из-за моего предательства, а она для меня дороже ста жизней. Ах, лишь мысли о ней не давали мне покоя. Я взывала к духу о помощи, но он не откликался. Мой дух умер внутри меня, ибо теперь мне предстояло сделать добро, а не зло. Зато пришли другие духи, например Мамина, твоя старая знакомая. Она бушевала от гнева, как ураган, я отпрянула от нее в страхе. «Подлая ведьма, — сказала она, — ты задумала убить Макумазана, солнце не успеет зайти за горизонт, как тебя постигнет кара. Теперь ты ищешь способ исправить собственное зло. Что ж, я помогу тебе, но не просто так». «Чего же ты хочешь, повелительница мертвых?» «Моя цена — твоя собственная жизнь, ведьма». Я рассмеялась в лицо этому призраку: «И всего-то? Скорее, повелительница мертвых, укажи мне путь, а после мы сведем наши счеты». Тогда она прошептала мне нужные слова и пропала. Близился рассвет, и я побежала, не теряя времени, перемазалась известью, надела блестящую накидку, припудрила волосы сверкающим порошком и взяла маленькую палку вместо копья, которое так и не нашла, да и времени почти не оставалось. Когда начало светать, я выбралась из ущелья и встала за поворотом. Вскоре появились убийцы, около двенадцати зулусов, а поодаль за ними следовали и другие, намного больше. Увидев богиню инкосазану, преградившую им путь, они ужасно перепугались и бросились бежать, но один, со страха, бросил копье и попал точно в цель, как тому и суждено было случиться. Он ждал, упаду ли я, но я продолжала стоять. Тогда этот зулус побежал быстрее, обгоняя остальных, ведь он теперь считал себя проклятым за то, что посмел поднять руку на Небесную принцессу. А я радовалась, о, как я радовалась! Утомившись, Номбе умолкла, но ее прекрасные глаза лучились торжеством. В эту минуту она действительно казалась победительницей. Я восхищенно глядел на нее. Конечно, Номбе была злая, но как славно завершила она свой жизненный путь и, слава богу, не тревожилась о конечной цели. И она, похоже, ничуть не сомневалась, что будет жить снова и встретится с Маминой. Я не знал, чем ей помочь, но оставить одну, чтобы позвать кого-то, тоже не хотел, тем более никто в целом свете не мог ей теперь помочь. Медленно, но неумолимо Номбе умирала, истекая кровью. Солнце едва взошло, и вокруг было безлюдно, неожиданно появился один из слуг и, увидав, что случилось, взвыл от ужаса и пустился бежать. — Эй, олух! Беги скорее и приведи сюда инкози-каас Хеддану и инкози Маурити. Пускай поторопятся, если хотят застать знахарку Номбе живой. Он помчался, словно олень, и спустя несколько минут к нам уже бежали Хеда и Энском, одетые наспех. Я пошел им навстречу. — Что случилось?! — ахнула Хеда. — Времени мало, — ответил я, — так что объясню вкратце. Номбе умирает, она пожертвовала собой, чтобы спасти вам жизнь. Подробности расскажу позднее. Копье, пронзившее ее сердце, предназначалось для вас. Идемте, поблагодарите ее и попрощайтесь. Энском, останьтесь со мной. Мы стояли поодаль и наблюдали, как Хеда опустилась на колени и обняла Номбе. Они о чем-то говорили вполголоса, а затем поцеловались. В эту самую минуту и появился Зикали, с обеих сторон его поддерживали слуги. Благодаря своему дару или какому-то особому чутью он, похоже, уже обо всем догадался. О, как устрашающе выглядел старик! Он, как жаба, плюхнулся на землю перед умирающей девушкой и принялся изрыгать проклятия на ее голову: — Ты утратила свой дух? Он вернулся ко мне, в свою обитель, отягченный черным медом твоего вероломства, как пчела возвращается в родной улей, и поведал обо всем. Так что лучше тебе умереть, ведьма, но не надейся скрыться от меня, ибо я буду преследовать тебя и в ином мире. Проклинаю тебя, изменница, ты свела на нет все мои старания. О, настанет день, когда я отплачу тебе сполна, придет время жатвы, когда взойдут семена позора, посеянные тобой! Номбе открыла глаза и посмотрела на него. — Твои путы порвались, Зикали, — тихо проговорила она, — и ты больше не мой Учитель. Любовь освободила меня, я больше тебя не боюсь. Оставь себе этот дух, он твой, а все остальное принадлежит мне одной, а в обитель моего сердца придет новый дух и поселится в нем. Затем Номбе вновь простерла руки к Хеде. — Сестра, — прошептала она, — не забывай меня, а я буду ждать тебя тысячу лет… — С этими словами она скончалась. Вот на такой светлой ноте закончилась эта скверная история. Признаюсь, я почувствовал облегчение, когда все завершилось. Правда, потом я очень сожалел, что не успел спросить, не она ли играла роль Мамины в Долине костей. Слишком поздно, прошлого не воротишь. Мы похоронили бедняжку, как полагается, в ее маленькой хижине, где она, по обыкновению, шептала свои заклинания. Зикали и его люди явно собирались бросить останки стервятникам, согласно их таинственным суевериям. Однако Хеда, из чувства глубокой привязанности и мучаясь угрызениями совести, хотя за ней никакой вины не было, дала старику решительный отпор и настояла на достойном погребении. Усопшую, измазанную белилами, завернули в окровавленный наряд из птичьих перьев и предали земле. А наутро ко мне явился слуга Зикали и торжественно сообщил, что ночью видел, как Номбе скакала туда-сюда по скалам на бабуине, как и пристало тому, кто занимается злой магией, а всё якобы из-за нарушения обычаев. Наверняка сразу после нашего ухода они выкопали тело, как и собирались, и отдали его на поживу стервятникам и шакалам. В этот день мы наконец покидали Черное ущелье в нашей запряженной повозке, которая таинственным образом появилась к утру, лошади выглядели отдохнувшими, хотя казались пугливыми. Я пошел попрощаться с Зикали. Он был неразговорчив, сказал лишь, что нам суждено встретиться вновь через много лун. Энскома и Хеду он и вовсе не видел перед нашим отъездом. Старик просил им передать свои чаяния, что много лет спустя они станут вспоминать о нем по-доброму, ведь он сдержал слово и уберег их от многих опасностей. Хотелось ему напомнить, по чьей вине они попадали во все передряги, однако я почел за лучшее придержать язык. Наверное, он догадался, о чем я думаю, — если к Зикали вообще подходит слово «догадка», — и сказал, что благодарить его не за что, поскольку они использовали друг друга и каждый получил желаемое. — Чудными, должно быть, покажутся госпоже Хеддане воспоминания о том дне, когда она, а не кто-то другой, смяла зулусов, как прихваченный морозом тростник, а ведь не появись она на скале в Долине костей, войны можно было избежать. — Это твоих рук дело, Зикали, а не ее. Ты управлял ею с помощью угроз. — Нет, Макумазан, ничего подобного, это сделала некая сила, по-твоему бог, а по-моему судьба, и я лишь орудие в ее руках. Что ж, скажи госпоже Хеддане, в награду за помощь я постараюсь уберечь ее от призрака Номбе. И еще передай, если бы я не привел ее с возлюбленным в землю зулу, их бы убили. Итак, постылое ущелье осталось позади. С тех пор я там не бывал и надеюсь, никогда больше не вернусь. Двое слуг Зикали шли с нами провожатыми до тех пор, пока мы не встретим европейцев. Из предосторожности мы не стали посвящать туземцев в свои планы, и, кажется, они решили, будто глупые англичане хотят прогуляться до страны зулусов и поглазеть на место сражения. Не распространялись мы и об удивительных приключениях, которые пережили. Учитывая мой горький опыт с Кетье, старались вести себя осмотрительно, как бы чего не сболтнуть лишнего при посторонних, связанных с газетой. В итоге мы оказались в самой гуще людского потока, все новые солдаты со своим скарбом прибывали и убывали, и когда удалось раздобыть хоть какую-то приличную одежду в городке Ньюкасл, нас и вовсе перестали замечать. По пути в Марицбург произошел забавный случай. Нам встретилась Кетье! На закате мы взбирались на крутой холм неподалеку от города Хауик. На сей раз я держал поводья, а Энском и Хеда шли пешком, опередив повозку на сто шагов. Вдруг на гребне холма появилась Кетье и столкнулась с ними нос к носу, видимо, она совершала вечернюю прогулку или шла куда-то целенаправленно, как я решил впоследствии. Увидев их, она выпучила глаза и с диким воплем, прижавшись к обочине дороги, бросилась бежать. Кто бы мог ожидать от толстухи подобной прыти. Она в два счета сбежала с холма и растворилась во мраке ущелья. Уже наступила ночь, мы очень устали и никак не могли последовать за ней. На запрос, направленный позднее в Хауик, о том, где живет Кетье или откуда пришла, ответа нам так и не дали, поскольку несколько месяцев назад она покинула место, где работала поварихой. Таковы были последние минуты Кетье — у нас, по крайней мере, сложилось такое впечатление. Вероятно, она верила или будет верить до последнего вздоха в то, что ей явились два призрака. Уладив все необходимые формальности, Энском и Хеда поженились в Марицбурге. К несчастью, я не смог присутствовать на церемонии, поскольку слег и проболел целую неделю. Надеюсь, их тоже огорчило мое отсутствие. Возможно, виной всему тот день, когда я спускался с холма и мне напекло затылок из-за того, что пришлось висеть на задней повозке, заменяя отказавшие тормоза. Впрочем, я смог послать Хеде свадебный подарок: ее драгоценности и деньги, хранившиеся в банке, — а ведь она, бедняжка, и не чаяла увидеть их снова, — и уладил все вопросы касательно ее собственности. На медовый месяц они отбыли в Дурбан, а оттуда, воспользовавшись подвернувшейся оказией, отплыли в Англию. Они прислали мне душевное письмо, которое я храню, как сокровище, где благодарили за все, что я для них сделал, хотя, с моей точки зрения, не так уж и много. Энском вложил в конверт незаполненный чек и просил вписать туда любую сумму, какую я сочту нужной взять с него за услуги. Весьма любезно с его стороны, мне приятно было его доверие, но чек так и остался пустым. С тех пор мы больше не виделись и вряд ли когда-либо увидимся, но у молодых людей наверняка все в порядке, а живут они, мне кажется, по большей части за границей, в Венгрии. Приехав в Англию несколько лет спустя довольно богатым человеком после приключений в копях царя Соломона, я написал Энскому, но он мне так и не ответил. Поначалу меня это больно ранило, однако, поразмыслив, я решил, что вполне естественно, если в своем благополучии они не желают возобновлять знакомство с кем-то, кто не понаслышке знает о жутких событиях прошлого, смерти Марнхема и доктора Родда и обо всем остальном. В таком случае, на мой взгляд, они поступают мудро, если, конечно, с их стороны это не простое пренебрежение. Занятые светской жизнью господа частенько не отвечают на неприятные письма или забывают их отправить. А может статься, мое письмо к ним так и не попало, затерялось где-нибудь в пути, такое часто случается, особенно когда адресат живет за границей. По моей ли вине или нет, однако мы потеряли друг друга из виду. Видать, сочли меня умершим или навсегда затерявшимся где-то в дебрях Африки. Тем не менее я вспоминаю о них с теплотой, ведь Энском для меня лучший попутчик, а его жена — милейшая девушка. Интерес но, сбылось ли пророчество Зикали об их детях. Пусть им сопутствует удача! Как-то по случаю я оказался неподалеку от того места, где стоял мраморный Храм. Мне стало любопытно, хоть и неловко было приближаться и осматривать дом, ведь Хеда наверняка уже кому-то продала его. Бур, живший в сельской местности, вдали от города, превратил больницу Родда в свое жилище, в тот раз я его не застал. Рядом возвышались зловещие и мрачные стены Храма, сгоревшего в пожаре. Веранда под кровлей уцелела, и, стоя там, где и прежде, когда стрелял в руку Родда, я предавался воспоминаниям. Мне был знаком каждый уголок в доме, и я нашел комнату Марнхема. Сейфа в углу не оказалось, в комнате остались лишь ножки кровати, а неподалеку за разросшимся сорняком высилась куча пепла — все, что осталось от письменного стола, и из нее торчали куски обгоревшего дерева. Поворошив пепел носком сапога и хлыстом, я вскоре наткнулся на обугленный человеческий череп. Тогда я поспешно ретировался. Дальнейший мой путь пролегал через лесное болото, мимо рогов антилопы гну, лежащих на прежнем месте, мимо той промоины, полной жижи, в которой утонул Родд, убитый Энскомом. Тут, однако, я ничего не искал, поскольку был сыт по горло костями. До сих пор я так и не знаю, лежит ли он на дне болота, или тело достали и предали земле. Кроме того, я проехал мимо стоянки нашего фургона, где на нас напали басуто. Что же мне делать со всеми этими воспоминаниями, наводящими на меня тоску? Хотя на самом деле для грусти вовсе нет причины. Как гласит французская пословица, «tout lasse, tout casse, tout passé», то есть «все пройдет, все превратится в прах, все надоест». Мой друг сэр Генри Куртис очень любил ее цитировать, и в конце концов я записал эти слова в своей карманной книжечке, а после вспомнил, как еще мальчишкой слышал их от старого бездельника, француза по имени Леблан, однажды преподавшего мне и моим соученикам урок галльского наречия. Однако о нем я уже писал в романе «Мари», первой части повествования о падении зулусского народа, далее следует роман «Дитя Бури», а замыкают трилогию эти страницы. Ах! Все пройдет, все превратится в прах, все надоест!Глава 23
ОБРЕЧЕННЫЙ
Теперь я вкратце опишу все исторические события, произошедшие с зулусами за четыре года, поскольку к моей истории они отношения не имеют, ведь я пишу не исторический труд. Сэр Гарнет Вулсли[285] установил в Зулуленде новую власть или английское правительство сделало это за него, трудно сказать. Вместо одного короля поставили тринадцать вождей, и они тут же вцепились друг другу в глотку, а вместе с ними и их народ. Как я и ожидал, Зикали открыл военным властям секретное убежище в лесу Ингома, где скрывался Кечвайо. В один прекрасный день бывшего короля схватили и доставили сначала на мыс Доброй Надежды, а затем в Англию, где после опалы бедного сэра Бартла Фрера от его имени были спровоцированы волнения. В столице Кечвайо встретился с королевой и ее министрами, снова оказавшись в руках победителя, как и предсказала в памятную мне ночь в Долине костей та, что приняла образ Мамины. Я часто вспоминаю, как он, одетый в черное пальто, сидит в особняке на Мелбери-роуд, в пригороде Лондона, — излюбленное место художников, насколько мне известно. Как разительно этот человек отличался от гордого принца Африки, вернувшегося с триумфальной победой после сражения у реки Тугела, или от короля, по чьему велению меня против воли привели в Улунди. Тем не менее Кечвайо все же вернули в страну зулусов на британском военном корабле, и сэр Теофил Шепстон восстановил его в положении вождя клана с ограниченной властью, и Кечвайо наконец освободился от удушливых объятий черного пальто. Далее, разумеется, последовали многочисленные битвы, исход, ожидаемый для всех, кроме британского министерства по делам колоний, и в стране зулусов потекли реки крови. Ибо в Англии права и обиды Кечвайо, как и права и обиды буров, стали предметом партийной политики, которой все должны подчиняться. Частенько я задаю себе вопрос: не станет ли партийный подход крахом Британской империи? Слава богу, я не доживу до тех времен. Итак, Кечвайо вернулся, участвовал в сражениях и в итоге потерпел поражение от своих же бывших подданных. А напоследок я изложу эпизод, имеющий ко мне непосредственное отношение. В начале февраля 1884 года мне вновь случилось побывать в Зулуленде. Дело касалось договоренности насчет скота и одеял. Возвращаясь к реке Тугела, я встретил старого приятеля Гозу, того самого, кто доставил меня из Черного ущелья в Улунди, прежде чем разразилась война, а позже выпроводил меня вместе с недоразумением по имени Кетье из страны. Поначалу я решил, будто мы встретились случайно или он предпринял эту поездку с целью поблагодарить меня за одеяла, которые я послал ему, как обещал когда-то. Но вскоре я понял свою ошибку. Мы потолковали о том о сем, поговорили о войне, погубившей зулусский народ. В особенности вспоминали ночь, проведенную в Долине костей, и все, что нам тогда довелось вместе пережить. Я спросил, верят ли еще люди в богиню инкосазану, появившуюся в лунном свете на краю скалы. По его словам, одни продолжали верить, а другие разуверились. — Сам я тоже не верю, — посмотрев на меня в упор, добавил Гоза, — ходят слухи, будто это все проделки Зикали, он переодел белую женщину и велел ей изображать духа. Однако он сомневался, поскольку слышал, как люди Кечвайо пошли в Черное ущелье убивать эту белую женщину, и тут вдруг перед ними возникла Небесная принцесса, Номкубулвана, и они в страхе разбежались. Я сказал, что все это очень странно, и как бы невзначай спросил, кого же в таком случае Зикали переодел для роли умершей Мамины, потому как этот вопрос всегда вызывал мое живейшее любопытство. Гоза снова уставился на меня и ответил, что об этом мне лучше спросить у себя самого, поскольку я стоял ближе всех к той, кто назвала себя Маминой, и все присутствующие ясно видели, как она меня поцеловала, чем любила заниматься при жизни. Я раздраженно ответил, мол, всякое может почудиться, и повторил свой вопрос. — О Макумазан, — ответил он без обиняков, — мы, зулусы, верим, что той ночью появилась не Номбе или другая переодетая женщина, а дух самой ведьмы Мамины. Ведь мы видели, как порой сквозь нее проглядывал свет от костра Зикали, и все ее слова сбылись, хотя еще ничего не кончено. Больше мне ничего не удалось из него вытянуть, а когда я попытался вновь заговорить об этом, он сменил тему и рассказал, как ему чудом удалось спастись во время войны. Вскоре Гоза собрался уходить. — Макумазан, — бросил он небрежно, — верно, я совсем состарился в это смутное время, раз мысли утекают у меня из головы, словно вода сквозь пальцы. Чуть не забыл, что хотел тебе сказать. На днях я встретил Зикали, Открывателя. Он рассказал о твоем возвращении в землю зулу и посулил нам с тобой встречу, не сказал когда, только просил передать тебе его слова. На пути в Наталь тебе встретится крааль Джази, там-то ты и увидишься с ним и еще кое с кем, кого знаешь. Не уезжай, не повидав его, поскольку скоро произойдет то, в чем ты должен принять участие. — Зикали! Не слышал о нем со времен войны! Мне казалось, его уже и в живых-то нет. — О нет, Макумазан, он точно жив и все такой же, как и прежде. Говорят, он один заварил всю эту кашу — то ли желал Кечвайо добра, то ли хотел его уничтожить. А с меня какой спрос? Ведь я-то хочу жить в мире с любым правителем, какого пожелает назначить английская королева. Имеет полное право, раз победа за ней. Задай свои вопросы Открывателю, Макумазан, когда увидишься с ним. — Где искать этот чертов поселок? — спросил я раздраженно. — Первый раз о таком слышу. — Я тоже, Макумазан, и ничем не могу тебе помочь. Может статься, это место под землей, куда идут умершие, знаю одно — где бы он ни был, ты обязательно встретишься с Открывателем. Прощай же, Макумазан, и, если нам не суждено больше свидеться, вспоминай меня хоть иногда, и я не забуду все пережитое вместе с тобой, а особенно ту ночь в Долине костей, когда призрак ведьмы Мамины предрек нам будущее и поцеловал тебя при всех. Видно, она и впрямь была красавицей, Макумазан, как я слышал от тех, кто знал ее, раз ты в нее так сильно влюбился. Но по мне, приятнее все-таки целоваться с живой женщиной, а не с мертвой. Впрочем, лучше так, чем ходить вовсе нецелованным. Прощай, Макумазан, обязательно скажи Открывателю, что я передал тебе его слова, не то он наложит на меня злое заклятие, а мне ведь и так пришлось несладко последнее время. С этими словами Гоза удалился, и я его больше не видел, не знаю, жив ли он еще. Что ж, он был славный малый, хоть и не смельчак. Почти забыв об этом разговоре, я как-то очутился по соседству с красивейшей субтропической местностью под названием Эшове. По сей день там располагается официальная резиденция английского представителя в стране зулусов. В здании еще шел ремонт, если он вообще начинался, но сэр Мельмот Осборн уже устроил там свой кабинет. Меня отправили к нему с весьма важной информацией. Только я добрался до места, крааля в пятьдесят хижин, где-то в пятистах ярдах от нынешней резиденции, как мой фургон увяз колесами в болотистой почве. Пока я пытался вытащить его, ко мне подошел зулус с добродушной физиономией, которого звали, как сейчас помню, Умниква. От него я узнал, что Малимати, как местные величали сэра Мельмота Осборна, где-то поблизости от Эшове, но вряд ли я до него доберусь, ведь уже ночь. Я согласился, решив заночевать прямо тут, и спросил, как называется крааль. Он ответил, что крааль называется Джади. Услышав это название, я вздрогнул, а вслух сказал, мол, странное какое название, кажется, оно означает «Обреченный». Умниква подтвердил мою догадку. Вот только назван он так, по его словам, из-за вождя по имени Умфокаки, или Чужак. Он женился на сестре короля, но был убит в этом самом месте своим братом по имени Гундане, или Летучая Мышь. Я заметил, что такое название предвещает несчастье. Зулус согласился со мной. А с тех пор как король Кечвайо, обретший пристанище под крылом белого повелителя Малимати, уже несколько месяцев лежит при смерти, оно звучит еще более зловеще. Я спросил, от чего умирает король. Умниква не знал, но отец всех знахарей по имени Зикали, без сомнения, мог бы ответить на мой вопрос, поскольку он заботится о Кечвайо. — Он ждал тебя, Макумазан, — добавил Умниква осторожно, — послал меня к тебе навстречу и велел тотчас привести к нему. Я и бровью не повел и ответил, что, пожалуй, составлю ему компанию, хотя одному Богу известно, как мне было любопытно. Оставив слуг возиться с колесами фургона, я побрел вслед за вестником. Он привел меня к большой хижине за общей оградой поселка, стоявшей поблизости от ворот. У входа собралось несколько женщин, они были чем-то встревожены. Среди них я разглядел Дабуко, брата короля, с которым был едва знаком. Он поздоровался со мной и сказал, что Кечвайо лежит в хижине при смерти, однако так же, как и Умниква, не мог ничего сказать о причине болезни. Долго, уже с часнаверное, ждал я, сидя снаружи, или принимался ходить взад и вперед. Пока не опустилась ночь, я развлекался, созерцая виды окружающих холмов, самых красивых во всей стране зулусов благодаря их причудливым изгибам и богатой палитре красок. А когда стемнело, остался наедине с моими тягостными мыслями. Наконец я решил убраться отсюда, — в конце концов, чем я могу помочь королю, если он и в самом деле при смерти? Мне не хотелось больше видеть Кечвайо, ведь с ним у меня были связаны самые горестные воспоминания. Только я собрался уходить, как вдруг из хижины вышла женщина. В сгустившемся мраке я не разглядел, кто она или даже какая из себя, к тому же эта женщина скрывала лицо под покрывалом, словно желала остаться неузнанной. — Король болен, Макумазан, и он желает видеть тебя, — сказала она, остановившись передо мной на минуту, потом кивнула на входное отверстие хижины и исчезла, закрыв за собой ворота ограды. Любопытство взяло надо мной верх, и я забрался в хижину, отодвинул деревянную перегородку от входа, а затем вернул ее на место. Внутри просторной и мрачной комнаты горела одна свеча, вставленная в горлышко бутылки. В ее тусклом свете слева от входа я разглядел человека, лежащего на постели и по пояс укрытого одеялом. Это был Кечвайо. Его морщинистое лицо корчилось от боли, а живот стал меньше обычного, но ошибки быть не могло: передо мной король. — Привет тебе, Макумазан, — произнес он слабым голосом, — в скорбную минуту свиделись мы с тобой. Узнав, что ты тут, я решил поговорить с тобой перед смертью. Ты честный человек и точь-в-точь передашь мои слова белым людям. Скажи им, что я никогда не держал зла против них, они всегда были друзьями моего сердца. Меня заставили ступить на путь, о котором я не помышлял, и вот он подошел к концу. — Что с тобой случилось, король? — Не знаю, Макумазан, но болезнь не отпускает меня уже несколько дней. Открыватель приходил лечить меня, ведь жены считают, что белые знахари желают мне смерти. Он сказал, что я отравлен и непременно умру. Приди ты раньше, может, дал бы мне какое-нибудь лекарство. Теперь уже поздно, — вырвалось у него со стоном. — Кто же отравил тебя, король? — Об этом я не знаю, Макумазан, то ли мои враги, то ли братья, а может, и жены. Все желают покончить со мной, и владыка, который стал никому не нужен, скоро уйдет. Радуйся, Макумазан, что тебе не довелось стать королем, ибо все их дни преисполнены печали. — А где же Открыватель? — Он заходил недавно. Возможно, отправился за головой короля — то есть объявить о его смерти — к Малимати и остальным белым людям, — проговорил король еле слышно. В эту минуту из дальнего угла хижины, окутанного мраком, послышалось шарканье ног. В круге света показалась костлявая рука, за ней другая, а далее огромная голова с длинными седыми лохмами, волочащимися по земле, и, наконец, большое уродливое туловище, тощее, словно скелет, обтянутый черной морщинистой кожей. Существо тихонько, как хамелеон по ветке, подкралось ближе, и я узнал Зикали. Он подобрался к постели больного и сел перед ним на корточки, словно жаба. Затем, не поворачивая головы, как заправский хамелеон, обратил на меня горящий взгляд своих глубоко посаженных глаз. — Привет, Макумазан, — сказал он вполголоса, — разве я не обещал тебе когда-то, что мы встретимся? И вот ты со мной и с тем, кого ты знаешь. — Похоже на то, Зикали, но почему ты не пошлешь за белыми докторами, чтобы они вылечили короля? — Все доктора на земле, Макумазан, ни белые, ни черные, не смогут вылечить его. Духи призывают короля, и он умирает. Я пришел на его зов издалека, так быстро, как мог, но даже я бессилен, хоть из-за него и мне суждено умереть. — Почему? — Взгляни на меня, Макумазан, разве я не достаточно пожил на свете? Рано или поздно для всех наступает конец, даже для Того, кому не следовало родиться. Кечвайо поднял голову и взглянул на него. — Может статься, — с трудом проговорил он, — для дома Сензангаконы было бы лучше, если бы ты умер раньше. Лежа тут на смертном одре, я припомнил много поговорок, ходящих о тебе в народе. Однако я не посылал за тобой, Открыватель, и не знаю, кто мог это сделать, но только, когда ты пришел, у меня началась эта ужасная боль. И как случилось, — добавил он, повысив голос, — что белые люди схватили меня в твоем убежище? Кто показал им тайный ход? Впрочем, какой теперь смысл… — Да, никакого смысла, сын Панды, — ответил Зикали. — И не важно, как мне удалось избежать удара копья в хижине Черного ущелья, когда ты спрятал его под одеждой, замышляя убийство, а некий дух преградил тебе путь и спас меня от смерти. Скажи, сын Панды, вспоминал ли ты последние три дня о своем брате Умбелази и о собратьях, убитых тобой в сражении у реки Тугела, когда белый человек повел амакоба в атаку против твоего войска и разгромил три полка? Кечвайо лишь простонал, не ответив ни слова. Должно быть, он ослаб настолько, что уже не мог говорить. — Слушай, сын Панды, — шипел ему на ухо Зикали, — много-много лет назад, еще до рождения твоего предка Сензангаконы, — бог знает сколько времени прошло с тех пор, — в знатной семье племени ндвандве родился карлик. Чака истребил племя ндвандве, а карлика и уродца из благородной семьи не тронул. Ко роль прозвал его Тем, кому не следовало родиться, и потешался, когда наступали мир и благоденствие, а в тяжелые времена обращался к нему за советом, потому как карлик был мудр и сведущ в магии. Однако Чака ради забавы убил жен и детей этого человека, оставив в живых лишь одну, кого он сделал своей «сестрой». Тогда во имя своего народа и убитых жен и детей этот колдун поклялся отомстить Чаке и всему дому Сензангаконы. Как крыса под землей, он подкапывал основание престола Чаки и привел короля к гибели от копий братьев и слуги Мбопы, с которым он поступал несправедливо. Продолжая копать во тьме, он побудил Дингаана, прежде заколовшего своего брата Чаку, убить бура Ретифа и его людей. Тем самым он призвал возмездие на голову Дингаана от рук белых людей, а позже навлек на Дингаана смерть. Затем королем стал твой отец Панда, и жизнь ему спасло то, что однажды он сделал добро Тому, кому не следовало родиться. Однако с помощью ведьмы Мамины колдун доставил неприятности королю, посеяв вражду между его сыновьями, одного из них звали Кечвайо. Позже Кечвайо стал править вместе с отцом Пандой, а затем единолично занял трон. Вскоре у него начались неприятности с англичанами. Ты помнишь, сын Панды, как Кечвайо сомневался, объявлять ли им войну, и требовал знамения от Того, кому не следовало родиться. Колдун дал знамение, перед королем появилась инкосазана зулусов, Небесная принцесса, и спор решился в пользу войны. Ты знаешь, сын Панды, как шла эта война, как Кечвайо потерпел поражение, как пришел к Тому, кому не следовало родиться, словно загнанная гиена, и просил указать ему убежище, где мог бы спрятаться. Ты хорошо знаешь, как Кечвайо задумал убить бедного старого знахаря, открывшего ему тайный проход, как короля схватили и отправили за море, а затем вернули обратно, в землю, где народ возненавидел его, ведь он отправил тысячи зулусов на смерть. Ты знаешь, как он наконец нашел приют под сенью белого вождя, в этом поселке под названием Джази. Здесь он, презираемый всеми изгой, жил до тех пор, пока не заболел, как всегда случается с подобными людьми, тогда послали за Тем, кому не следовало родиться, чтобы его вылечить. Однако ты знаешь, как Кечвайо теперь лежит в предсмертных муках, словно проглотил раскаленный наконечник копья, и скоро погрузится в вечный мрак, населенный призраками тех, кого он убил, и предков дома Сензангаконы, который он низложил и отправил в небытие. Зикали умолк и, приблизив лицо к умирающему, вперил в него взгляд, горящий ненавистью. Затем он зашептал что-то королю на ухо, отчего тот задрожал, как жертва под взглядом мучителя. В эту минуту огарок свечи провалился в бутылку из прозрачного стекла, догорел, испуская тусклый свет, и, наконец, потух. Никогда мне не забыть этой жуткой сцены в этом унылом, наводящем ужас освещении. Умирающий король лежит на постели и трясет головой, а колдун склонился над ним, как вампир, сосущий кровь из горла беспомощной жертвы. Страх в глазах одного и лютая неизбывная ненависть в глазах другого. О, как это ужасно! — Макумазан, — прошептал Кечвайо дрожащим голосом, — помоги мне! Я же говорил, что мой отравитель — Зикали, он меня ненавидит. О, прогони призраков! Прогони их! Я не мог отвести от него глаз, а мучитель присел перед королем на корточки, как демон, упивающийся своим злодеянием. И тут свеча потухла. Наконец у меня сдали нервы, и, обливаясь холодным потом, я опрометью бросился из хижины, будто только что побывал в аду, а вдогонку мне грянул издевательский смех Зикали. У хижины в наступивших сумерках собрались женщины и слуги короля. Я велел им идти к умирающему, а сам вскарабкался вверх по склону в поисках белых людей. Кругом никого. Посланник-кафр из кабинета сэра Осборна сообщил, что Малимати еще не вернулся, но за ним уже послали. Тогда я направился к своему фургону и в изнеможении растянулся на постели. А что еще мне оставалось делать? Ночь прошла ужасно. Гремел гром, и лил сильный дождь с порывами ветра. Только я задремал, как меня разбудил плач. И я сразу понял, что король скончался. Они совершали ритуальный плач скорби по умершему. Интересно, есть ли среди них убийца? А в том, что Кечвайо был отравлен, я не сомневался. К рассвету буря утихла, ей на смену пришла ясная и безоблачная ночь, а на небе взошла убывающая луна. Жара этого безводного пространства угнетала меня, кровь словно закипала в жилах. Однако я слышал, что где-то в полумиле отсюда в ущелье течет река, и мечтал искупаться в прохладной воде. Ведь, сказать по правде, она мне уже несколько дней не попадалась. Вот и решил окунуться, прежде чем покину это средоточие ненависти, окончательно мне опротивевшее. Мой возница был уже на ногах и болтал с разведчиками, которые всполошились, узнав о происшедшем в поселке. Кликнув его, я обещал скоро вернуться и велел запрячь волов в дорогу, а сам отправился на поиски. После долгой прогулки я наконец спустился на дно ущелья к берегу реки. Мне помогла тропа, которую протоптали кафрские женщины, приходящие сюда черпать воду. На месте оказалось, что река разлилась, и вода стремительно продолжала прибывать, — по крайней мере, если судить по звуку, ведь глубокое ущелье густо заросло деревьями и свет едва проникал в него. Поэтому я сел и стал дожидаться рассвета. Меня мало прельщала перспектива быть искусанным комарами, и я уже почти жалел, что пришел сюда. Скоро все изменилось, мгла рассеялась, и я убедился, как тут на самом деле красиво. Напротив меня с высоты двадцати, а может, и тридцати футов в черный бассейн низвергался водопад. Всюду росли высокие папоротники, а за ними стройные деревья с бисером дождевых капель на листьях. Посреди реки, в десяти шагах от меня, под бурным пенистым потоком возвышалась скала, вокруг нее бурлила вода. На скале сидело какое-то живое существо, поначалу я не мог разглядеть его из-за тумана и принял то ли за старого бабуина, то ли за другое животное. Тогда я пожалел, что не захватил с собой ружье. Вскоре я понял, что это человек, когда он начал говорить нараспев или молиться на языке зулу, а затем скрылся за цветущим кустарником. Я слышал каждое слово. Вот что он говорил: «О мой дух, здесь ты нашел меня в юности, сотни лет назад. — (Мне кажется, он имел в виду десятки.) — И вот я вернулся к тебе. В этот бассейн я нырнул и под водой нашел тебя, мой змей, и ты обвился вокруг моего тела и вокруг моего сердца. — (Как я понял, голос намекал на обряд посвящения в знахари, куда обычно входит нахождение змеи, которая должна обвиться вокруг новичка.) — С тех пор и по сей день ты поселился в моем теле и моем сердце, наделил меня мудростью, давал советы о добре и зле, и я исполнял все, что ты велел. Теперь я верну тебя туда, откуда ты пришел, чтобы ты ждал моего нового рождения. О духи моих предков, день за днем я трудился и спустя много лет ото мстил за вас дому Сензангаконы. Никогда больше они не будут править в этой земле, ибо последнего их короля я умертвил. О мои убитые жены и дети, я принес вам огромную жертву, тысячи и тысячи убитых зулусов. О Ункулункулу, Великий владыка небес, пославший меня на землю. Ункулункулу, я выполнил свою задачу и возвращаюсь к тебе с кровавым урожаем от семян, посеянных тобой. Тише, тише, мой змей, солнце восходит, и скоро ты обретешь покой в воде, твоей обители от начала мира!» Голос умолк, в этот миг луч света пронзил туман и осветил говорящего. Это был Зикали, а вокруг него обвился большой желтобрюхий полоз. Черная голова змеи нависла над ним, и казалось, будто трепещущий раздвоенный язык время от времени лижет его в лоб. Наверное, змея вылезла из воды, потому что ее мокрая кожа блестела на солнце. Старик встал на нетвердых ногах, не сводя глаз с восходящего красного солнечного ока, и с криком «Обреченный, обреченный с радостью!» и громким жутким смехом бросился в бурлящие воды. Так окончилась история о знахаре Зикали, Открывателе, о Том, кому не следовало родиться, и о его страшной мести. Он уничтожил великий дом Сензангаконы, а вместе с ним и весь зулусский народ.
Книга XI. СВЯЩЕННЫЙ ЦВЕТОК
Аллан Квотермейн вместе со своим компаньоном Стивеном Соммерсом отправляются в самое сердце Африки, в страну дикого народа понго за редкой орхидеей, которую понго почитают как божество.
Глава 1
БРАТ ДЖОН
Вряд ли человек, которому знакомо имя Аллана Квотермейна, связал бы его в своем представлении с цветами, особенно с орхидеями. Тем не менее мне, охотнику Аллану Квотермейну, суждено было однажды участвовать в поисках орхидей столь исключительных, что при описании их нельзя опускать подробностей. Я постараюсь обстоятельно рассказать об этих поисках, и если кто-либо впоследствии захочет издать мои записки, милости прошу. Случилось это в том году… впрочем, к чему нам знать, в каком именно году было дело? Случилось это очень давно, когда я еще сравнительно нестарым человеком участвовал в охотничьей экспедиции к северу от реки Лимпопо, граничащей с Трансваалем. Моим компаньоном был джентльмен по имени Скруп, Чарльз Скруп. В Дурбан он приехал из Англии поохотиться. По крайней мере, это было одной из причин его приезда. Другой причиной были его отношения с леди, которую я буду называть мисс Маргарет Маннерз, хотя это не настоящее ее имя. Кажется, они были помолвлены и действительно любили друг друга. К несчастью, они сильно повздорили из-за другого джентльмена, с которым мисс Маннерз протанцевала четыре танца подряд, включая два, обещанные жениху, на охотничьем балу в их родном Эссексе. Последовали объяснения, точнее, ссора. Мистер Скруп заявил, что не потерпит такого отношения от своей невесты. Мисс Маннерз ответила, что приказов не потерпит, мол, она сама себе хозяйка и намерена всегда оставаться таковой. Мистер Скруп воскликнул, что не возражает, поскольку его это не касается. Мисс Маннерз ответила, что после этого она больше не желает его видеть. Мистер Скруп заявил, что она не увидит его никогда, поскольку он уезжает в Африку охотиться на слонов. Мало слов — на следующий же день мистер Скруп покинул свой дом в Эссексе, не сообщив никому, куда именно едет. Позднее, много позднее выяснилось, что дождись Скруп почты, то получил бы письмо, которое могло бы изменить его планы. Но он и его невеста были горячими молодыми людьми, вот в пылу страсти и наделали глупостей. Итак, Чарльз Скруп приехал в Дурбан, который был тогда порядочным захолустьем. Мы с ним встретились в баре отеля «Ройял». «Если хотите охотиться на крупного зверя, — говорил кто-то (я его не запомнил), — то только один человек может показать вам, как это делается. Это охотник Квотермейн, лучший стрелок во всей Африке, превосходнейший человек». Я сидел, покуривая трубку, и делал вид, что ничего не слышу. Неловко слушать, когда тебя хвалят, а я всегда был человеком скромным. Мистер Скруп пошептался с посетителями бара, потом подошел ко мне и представился. Я отвесил поклон и оглядел его: высокий, темноволосый, романтичный, как все влюбленные. Я сразу почувствовал к нему симпатию, которая усилилась, когда он заговорил. Я всегда придаю большое значение голосу и изначально сужу о людях столько же по нему, сколько по лицу. В голосе Скрупа чувствовалась особенная приятность, хотя слова, с которыми он обратился ко мне, были самыми обыкновенными. — Здравствуйте, сэр! — сказал он. — Выпьете со мной? Я ответил, что днем крайне редко употребляю крепкие напитки, но охотно выпью с ним пива. Допив пиво, мы отправились в мой маленький домик, в тот самый, где я впоследствии принимал друзей — Куртиса и Гуда. Поужинали мы у меня, и с этого момента Чарли Скруп не покидал мой дом до тех пор, пока мы не отправились в охотничью экспедицию. Остальное я должен изложить вкратце, так как оно только отчасти связано с той историей, которую я намерен рассказать. Мистер Скруп, человек состоятельный, взял на себя все организационные расходы и предложил мне воспользоваться всей слоновой костью и другой возможной добычей нашего предприятия. Я, конечно, не отказался от такого предложения. Все шло хорошо до тех пор, пока наше путешествие не закончилось несчастьем. Мы убили всего двух слонов, но зато встретили множество другой дичи. Беда случилась на обратном пути, когда мы находились недалеко от залива Делагоа. Как-то под вечер мы вышли на охоту, чтобы подстрелить себе дичь к ужину. Скоро я заметил среди деревьев антилопу. Она скрылась за выступом скалы, примыкавшей к склону оврага. Мы направились туда. Я шел впереди и, обогнув скалу, увидел антилопу, точнее, бушбока шагах в десяти от меня. Вдруг из кустарника, растущего на вершине скалы, футах в двенадцати у меня над головой, послышался шум, потом возглас Чарли Скрупа: — Осторожнее, Квотермейн! Он приближается. — Кто? — спросил я раздраженно, так как шум спугнул антилопу и она убежала. Вдруг у меня мелькнула мысль, что Скруп не стал бы кричать из-за пустяков, ведь, спугнув бушбока, мы лишались ужина. Я обернулся и посмотрел вверх. До сих пор я отчетливо помню, что представилось тогда моим глазам. Надо мной был гранитный валун, обточенный водой, вернее, несколько валунов, в расселинах которых рос папоротник рода адиантум, с серебристым отливом на внутренней стороне листьев. На листе, свесившемся вниз, сидел большой жук с красными крыльями и черным туловищем, потиравший усики передними лапками, а выше, на самой вершине скалы, вырисовывалась голова великолепного леопарда. Записывая эти строки, я как сейчас вижу на фоне вечернего неба четырехугольную морду. На клыках пенилась слюна. Это было последним, что я видел, так как в следующий момент леопард — в Южной Африке мы называем их тиграми — бросился мне на спину и сбил с ног. Я полагаю, что он тоже караулил бушбока и мне не обрадовался. К счастью, я упал на мягкий мох. «Все кончено!» — подумал я, почувствовав на спине тяжесть зверя, прижавшего меня к земле, и, что еще хуже, его горячее дыхание. Еще миг, и острые клыки сомкнутся на моем горле. Потом я услышал выстрел Скрупа и яростное рычание раненого леопарда. Зверь, вероятно, решил, что это я его ранил, и вцепился мне в плечо. Его зубы скользнули по моей коже, но, к счастью, захватили только прочный бархат моей охотничьей куртки. Зверь начал трясти меня, потом остановился, очевидно решив взяться за добычу покрепче. Тут я вспомнил, что у Скрупа одностволка и он лишен возможности выстрелить вторично. Я понял: мне конец. Почувствовал я не страх, а близость больших перемен. Не могу сказать, что мне припомнилась вся моя жизнь, но во всяком случае мелькнули два-три эпизода из детства. Так, например, я увидел, как сижу на коленях у матери и играю маленькой золотой рыбкой, которую она носила на цепочке часов. Я пробормотал молитву и, кажется, потерял сознание, правда обморок длился всего несколько секунд. Когда я очнулся, моим глазам предстало необычное зрелище: леопард дрался со Скрупом. Зверь стоял на одной задней лапе (другая была перебита), а передними буквально боксировал Скрупа, который колол его охотничьим ножом. Потом они повалились на землю — Скруп, а сверху леопард. Я вскочил со своего мшистого ложа — раздался сосущий звук, видно, место было топким. Мое ружье лежало рядом в целости и сохранности, с взведенным курком, как и в тот момент, когда выпало из моих рук. Я поднял его и выстрелил зверю в голову, не дав ему схватить Скрупа за горло. Леопард рухнул замертво прямо на своего противника. Одно содрогание, одно судорожное сжатие его когтей на ноге бедного Скрупа, и все было кончено. Он лежал, будто спал, а под ним находился Скруп. Освободить его оказалось непростым делом: леопард был очень тяжел. Но мне наконец удалось справиться с помощью сука, отломанного от дерева, должно быть, слоном. Сук я использовал как рычаг. Скруп лежал весь в крови, в собственной или в звериной — неизвестно. Сперва мне показалось, что он мертв, но после того, как я плеснул на него водой из маленького ручейка, падавшего со скалы, он пришел в себя и пролепетал: — Что со мной? — Вы герой, — ответил я. Очень горжусь, что получилось в рифму. Потом, дабы не провоцировать дальнейшие разговоры, я понес Скрупа в лагерь, который, к счастью, находился неподалеку. Скруп безостановочно что-то бормотал. Правой рукой он обхватил меня за шею, я же левой держал его за пояс. Я прошел сотни две ярдов и вдруг почувствовал, что он потерял сознание. Нести раненого мне было не по силам, поэтому я оставил его и отправился за помощью. В конце концов я с помощью кафров донес Скрупа на одеяле до палаток, где внимательно осмотрел его раны. Он был весь исцарапан, но серьезными повреждениями можно было считать только прокушенные мышцы на левой руке и три глубокие царапины на бедре, нанесенные когтями леопарда. Я дал Скрупу опийной настойки, чтобы он уснул, и, как сумел, перевязал его. Три дня все шло хорошо, и раны, казалось, начали заживать. Вдруг беднягу сразила лихорадка, вызванная, я полагаю, ядом с когтей или с зубов леопарда. До чего же ужасной была следующая неделя! Скруп весь горел и непрестанно бредил, особенно часто упоминая мисс Маргарет Маннерз. Я старался поддерживать его силы — поил крепким мясным бульоном, смешанным с небольшим количеством бренди. Увы, Скруп становился все слабее и слабее. Кроме того, у него загноились раны на бедре. От кафров толку было мало, и ухаживать за раненым в основном приходилось мне. К счастью, леопард не причинил мне никакого вреда, если не считать потрясения, а в те времена я был человеком крепким. Но утомление сказывалось, ведь засыпать больше чем на полчаса я не осмеливался. Наконец наступило утро, когда я окончательно выбился из сил. В маленькой палатке лежал и метался в бреду бедный Скруп, а я сидел около него, раздумывая, доживет ли он до следующего дня, и если доживет, то сколько времени еще я буду в состоянии ухаживать за ним. Я попросил кафра принести мне кофе, и едва поднес дрожащей рукой чашку к губам, как неожиданно явилась помощь… Перед нашим лагерем росло два больших куста терновника, и вот при свете восходящего солнца я заметил между ними странную фигуру, медленно направлявшуюся ко мне. Это был мужчина неопределенного возраста. Длинные волосы и борода его поседели совершенно, а лицо казалось сравнительно молодым, если не считать пары морщинок у рта. Темные глаза излучали силу и энергию. На нем были охотничьи сапоги из недублёной кожи и сильно поношенное платье, поверх которого он накинул кожаную кароссу[286], нелепо болтавшуюся на его высокой костлявой фигуре. За спиной у него висел погнутый жестяной ящик, худые руки нервно сжимали длинный посох из черно-белого дерева, называемого туземцами умцимбити, и к концу его была привязана сетка для ловли бабочек. Позади шли несколько кафров, которые несли на голове ящики. Я сразу узнал этого человека, так как мы с ним уже встречались в Зулуленде. Тогда он спокойно появился из гущи войска туземного племени, враждебно настроенного к белым. Джентльмен в полном смысле этого слова, он был одной из самых странных личностей во всей Южной Африке. Никто не знал, кто он и откуда (сейчас-то мне известна его невероятная история), за исключением того, что он американец по происхождению. Последнее часто выдавал его выговор. Доктор по образованию, он, судя по навыкам, имел большие познания в медицине, включая хирургию. Для всех было тайной, откуда он получал средства к существованию. Много лет он скитался по Южной и Восточной Африке, ловил бабочек, собирал цветы. Туземцы и белые считали его сумасшедшим. Такая репутация вместе с его врачебным искусством позволяла ему спокойно бродить где вздумается, так как кафры смотрят на безумных как на вдохновленных Богом. Они звали его Догитой (искаженный вариант английского слова «доктор»). Белые звали его Братом Джоном, Дядей Сэмом, Святым Джоном. Второе прозвище он получил за свое необыкновенное сходство (когда бывал выбрит и хорошо одет) с фигурой, которая в юмористических журналах символизирует великую американскую нацию, так же как Джон Буль — Англию. Первое и третье прозвища он получил за свою доброту и предполагаемую способность питаться «акридами и диким медом». Сам же он предпочитал, чтобы его называли Братом Джоном. Как же я обрадовался встрече, с каким облегчением вздохнул! Когда он подошел, я налил ему кофе и, вспомнив, что он любит очень сладкий, положил в кружку побольше сахару. — Здравствуйте, Брат Джон, — сказал я, протягивая ему кофе. — Здравствуйте, брат Аллан, — ответил он, взял кофе, опустил в него длинный палец, чтобы проверить, насколько горяч напиток, и размешать сахар, потом выпил его залпом, словно то был не кофе, а лекарственный препарат. После этого он вернул мне кружку, чтобы я снова наполнил ее. — Все собираете жуков? — спросил я. Брат Джон утвердительно кивнул: — Жуков и цветы. Кроме того, веду наблюдения над человеческой натурой и чудесными творениями природы. — Откуда вы теперь? — поинтересовался я. — С холмов, что миль за двадцать отсюда. Покинул их вчера вечером. Шел целую ночь. — Зачем? — удивился я, посмотрев на него. — Почудилось, что кто-то зовет меня. Признаться, мне казалось, что это были вы, Аллан. — Значит, вы слышали, что я здесь и что со мной раненый товарищ? — Нет, я ничего не слышал. Я собирался отправиться к побережью сегодня утром. Но вечером, в пять минут девятого, если быть совсем точным, я получил ваше послание и направился сюда. Вот и все. — Мое послание… — Я осекся и попросил Брата Джона показать мне свои часы. Поразительно, но они показывали то же время, что мои, с разницей лишь в две минуты. — Вы не поверите, — медленно начал я, — но вчера в пять минут девятого я впрямь просил о помощи. Я решил, что товарищ мой умирает, а самого большой палец поранить угораздило. Только взывал я не к вам и не к другому человеку, понимаете, Брат Джон? — Понимаю. Вы просили помощи, и это главное. Вы просили, и вас услышали. Я снова посмотрел на Брата Джона, но ничего не сказал. Все это было очень странно, если только он говорил правду. Но он никогда не лгал. Человек он был в высшей степени правдивый, порой даже чересчур. А ведь есть люди, не верящие в силу молитвы. — Что с вашим товарищем? — спросил Брат Джон. — Изранен леопардом. Раны не заживают, кроме того, у него лихорадка. Боюсь, долго он не протянет. — Ну, об этом вы судить не можете. Позвольте мне взглянуть на раненого. Он внимательно осмотрел Скрупа и сделал много чудесного. Жестяной ящик был наполнен разнообразными лекарствами и хирургическими инструментами, которые Брат Джон хорошо прокипятил, прежде чем ими воспользоваться. Потом он настолько тщательно вымыл руки, что едва не стер с них кожу, истратив на это очень много мыла. Сначала бедный Чарли получил дозу какого-то лекарства, которое, казалось, убило его. Брат Джон упомянул, что это кафрское снадобье. Потом он вскрыл раны на бедре у Скрупа, очистил, приложил какие-то травы и перевязал. Когда Скруп очнулся, лекарь дал ему питья, вызвавшего сильный пот и прекратившего лихорадку. Через два дня пациент Брата Джона просил есть и уже сидел в постели, а через неделю настолько оправился, что его можно было нести к побережью. — Ваше послание спасло жизнь брату Чарли, — сказал мне старый бродяга на пути к побережью. Я не ответил. Хочу пояснить: через своих кафров я уточнил, чем Брат Джон занимался, когда якобы получил послание. Видимо, следующим утром он впрямь собирался на побережье, но часа через два после заката неожиданно велел носильщикам свернуть лагерь и следовать за ним. Те повиновались и, к своему большому неудовольствию, целую ночь брели за Догитой, как они его зовут. Кафры так устали, что, если бы не боялись остаться в чужих местах, да еще в темное время суток, бросили бы поклажу и отказались идти дальше. Насколько я разобрал, случившееся можно объяснить внушением, инстинктом или просто совпадением. Пусть читатель решает сам. За время нашей совместной жизни в лагере, путешествия в бухту Делагоа и переезда оттуда в Дурбан мы с Братом Джоном постепенно сделались большими друзьями. О своем прошлом (о котором я узнал впоследствии) и о цели своих скитаний он, как я уже упоминал, ничего не говорил. Но зато он часто рассказывал о своих естественно-научных и этнологических (по-моему, так они называются) занятиях. Я тоже интересовался этими вопросами и из своей личной практики немало знал об африканских племенах, об их нравах и обычаях. Брат Джон показал мне много разнообразных предметов, собранных во время недавнего путешествия, жуков и бабочек, аккуратно приколотых к донышку специальных ящиков, и большое количество сухих цветов, переложенных листами папиросной бумаги. Среди последних, по словам Брата Джона, было много орхидей. Заметив, что они привлекают мое внимание, Брат Джон спросил, не желаю ли я посмотреть на самую замечательную орхидею в мире. Я, конечно, ответил, что желаю, после чего он достал из ящика плоский пакет размером около двух с половиной квадратных футов и начал развязывать. Сверху лежала тонкая травяная рогожка, какую плетут неподалеку от Занзибара, потом крышка упаковочного ящика, снова рогожка и несколько старых номеров «Кейп джорнал», несколько листов папиросной бумаги и, наконец, между двумя листами картона — цветок и лист одного и того же растения. Даже в засушенном виде цветок казался чудом: двадцать четыре дюйма от края одного бокового лепестка до края другого, двадцать дюймов от верхушки до дна чашечки. Точного размера чашечки я не помню — как минимум фут в диаметре. Даже сейчас околоцветник сохранил ярко-золотистый оттенок. Чашечка была белой с черными полосами, а в самом центре цветка красовалось большое темное пятно в виде обезьяньей головы. Здесь было все: нависшие брови, глубоко поставленные глаза, сердитая полоска рта и огромные челюсти. До того времени я видел горилл только на раскрашенных иллюстрациях, и пятно на цветке показалось мне точной копией такого изображения. — Что это? — удивленно спросил я. — Сэр, — сказал Брат Джон (он употреблял это формальное обращение, когда волновался), — это замечательная орхидея рода циприпедиум, и открыл этот цветок я! Здоровое корневище такого растения стоит по меньшей мере двадцать тысяч фунтов! — Это выгоднее золотоискательства, — заметил я. — Что же, удалось вам достать такое корневище? — Нет, не посчастливилось, — ответил Брат Джон, печально покачав головой. — Откуда же у вас такой цветок? — Я расскажу вам об этом, Аллан. Год с небольшим тому назад я пополнял свои коллекции в глухом районе острова Килва и нашел там несколько чрезвычайно интересных вещей. Милях в трехстах от океана я встретил народ, до сих пор не видевший европейцев. Это многочисленное и воинственное племя смешанной зулусской крови называло себя мазиту… — Слышал об этом племени, — перебил я Брата Джона, — полтора столетия тому назад, незадолго до времен Сензангаконы[287], оно поселилось на севере. — Я легко понимал их язык, — продолжал Брат Джон, — так как мазиту говорят на немного искаженном зулусском, как и другие туземцы, живущие в тех местах. Сперва они хотели убить меня, но потом раздумали, так как решили, что я безумен. Все считают меня сумасшедшим, Аллан, но это глубокое заблуждение. Скорее, большинство других людей утратило рассудок. — Насчет вас это единичное заблуждение, — торопливо возразил я, не желая продолжать разговор о безумии Брата Джона. — Ну и что же мазиту стали делать потом? — Потом они узнали, что я обладаю медицинскими познаниями. Ко мне явился их король Бауси, страдавший от огромной опухоли. Я рискнул сделать ему операцию и вылечил его. Затея была очень рискованная, ведь, если бы умер король, мне тоже пришлось бы умереть. Но меня это не очень беспокоило, — прибавил он со вздохом. — С этого момента меня, конечно, стали считать великим чародеем. А Бауси сделался моим кровным братом — перелил немного своей крови в мои жилы и немного моей в свои. Я опасался, как бы он не заразил меня своим врожденным недугом. Итак, я стал Бауси, и Бауси стал мной. Другими словами, я такой же, как и он, вождь мазиту и всю свою жизнь останусь таковым. — Это может пригодиться, — задумчиво сказал я, — но, прошу, продолжайте. — Потом я узнал, что на западной границе земли мазиту будто бы находятся большие болота, за ними есть озеро, называемое Кируа, а на озере — большой плодородный остров с горой посредине и владеет им племя понго, давшее острову название. — Ведь это, кажется, туземное название гориллы? — спросил я. — По крайней мере, так говорил мне один человек, бывавший на восточном побережье. — Как вы дальше увидите, это в самом деле очень странно. Говорят, что понго — великие маги, поклоняющиеся богу-горилле или, вернее, двум богам. Другой бог у них — цветок. Кто главнее, цветок ли с обезьяньей головой или горилла, я не знаю. Вообще, я знаю о понго лишь то, что слышал от мазиту и от человека, называвшего себя вождем понго. — Что же они говорили? — Мазиту утверждают, что понго — демоны, пробирающиеся секретными путями на лодках через тростники и похищающие женщин и детей для принесения в жертву своим богам. Иногда понго нападают по ночам, завывая при этом, как гиены. Мужчин убивают, женщин и детей забирают в плен. Мазиту тоже хотели бы напасть на понго, да не могут. У них нет лодок, чтобы добраться до вражеского острова — если это действительно остров. Кроме того, мне рассказывали о чудесном цветке, который растет там, где живет бог-горилла. Цветку тоже поклоняются как божеству. Об этом мазиту слышали от соплеменников, сбежавших из плена понго. — А вы не пробовали добраться до этого острова? — спросил я. — Пробовал, Аллан. Я подходил вплотную к тростниковым зарослям у самого края большой равнины, на берегу озера. Там я провел некоторое время — ловил бабочек, собирал растения. Однажды ночью я проснулся и почувствовал, что рядом кто-то есть. В лагере я был один, так как после заката солнца никто из моих людей не желал оставаться у границы владений понго. Я выглянул из палатки и при свете заходящей луны (рассвет уже близился) увидел человека, опершегося на длинное копье с широким наконечником. Человек тот был очень высок, выше шести футов. Белый плащ ниспадал почти до земли, на голове была шапка с завязками, тоже белая, в ушах поблескивали медные или золотые кольца, на руках — браслеты из того же металла. Несмотря на темную кожу, черты лица казались слишком изящными для негроидной расы — нос не приплюснутый, губы тонкие. Этот воин скорее напоминал араба. На левой руке у него я заметил повязку. Лицо незнакомца омрачала тревога. Думаю, ему было лет пятьдесят. Он стоял столь неподвижно, что я начал гадать, не привидение ли это, из тех, что, по словам мазиту, понго посылают в их страну. Мы долго смотрели молча друг на друга, так как я решил не начинать разговора первым. Наконец он заговорил низким, глубоким голосом на языке мазиту или на похожем языке, поскольку я легко понимал его. «Ты зовешься Догитой, о белый господин? Ты искусный врачеватель?» «Да, — ответил я. — А кто ты, осмелившийся пробудить меня от сна?» «Господин! Я — Калуби, вождь племени понго, на этой земле меня уважают и почитают». «Зачем же ты, Калуби, вождь понго, явился сюда в ночное время и один?» «А зачем ты, белый господин, пришел сюда один?» — уклончиво ответил он. «Что же тебе угодно?» — спросил я. «О Догита! Я ранен и хочу, чтобы ты излечил меня». — Он посмотрел на свою перевязанную руку. «Отложи в сторону копье и распахни плащ. Хочу убедиться, что у тебя нет ножа». Вождь понго повиновался, отбросив копье. «Теперь развяжи руку». Он развязал. Я зажег спичку — казалось, огонь сильно испугал вождя, хотя он не сказал ни слова, — и при свете ее осмотрел руку. Первый сустав указательного пальца отсутствовал. Судя по культе, прижженной и туго обвязанной травой, сустав откусили. «Кто это сделал?» — спросил я. «Обезьяна, — ответил он. — Ядовитая обезьяна. Отрежь мне палец, о Догита, иначе завтра я умру». «Почему же ты, Калуби, вождь понго, не велел своим лекарям отрезать тебе палец?» «Нет-нет, — отвечал он, покачав головой, — они не могут. Это запрещает закон. А мне самому трудно, ибо если дальше окажется черное мясо, надо будет отрезать кисть, а если и дальше будет черное мясо, надо будет отрезать всю руку». Я сел на походный стул и задумался, ведь среди ночной тьмы оперировать невозможно. Калуби, думая, что я отклоняю его просьбу, пришел в сильное волнение. «Помилосердствуй, белый господин, — взмолился он — не дай мне умереть. Я боюсь смерти. Жизнь тяжела, но смерть еще хуже. Если ты откажешь мне, я убью себя здесь, перед тобой, и мой призрак будет посещать тебя до тех пор, пока ты не умрешь от страха и не присоединишься ко мне. Какую плату ты хочешь? Желаешь золота, слоновой кости или рабов? Скажи, я дам тебе все». «Молчи», — сказал я, так как понял, что, если вождь будет много говорить, у него начнется лихорадка, которая приведет операцию к роковому исходу. По той же причине я не стал расспрашивать его о многом, что интересовало меня. Я развел огонь и начал кипятить хирургические инструменты, а Калуби подумал, что я занялся магией. Тем временем взошло солнце. «Ну, — сказал я, — теперь покажи, насколько ты храбр». И вот, Аллан, я сделал операцию, отрезав ему палец у самого основания, так как решил, что в его словах о яде есть доля правды. И действительно, впоследствии в ампутированной части — она хранится у меня в спирту, могу показать, — обнаружился яд. Чернота, о которой говорил Калуби, что-то вроде гангрены, распространилась почти по всему пальцу, хотя выше ткань кисти не пострадала. Вождь понго, без сомнения, был человеком мужественным. Во время операции он сидел неподвижно как скала и ни разу не поморщился. Увидев, что на месте разреза здоровая ткань, он вздохнул с большим облегчением. Когда все закончилось, он лишился чувств, но то был легкий обморок. Я дал ему немного винного спирта с водой, что подкрепило его. «О господин Догита, — говорил он, когда я перевязывал ему руку, — на всю жизнь я твой раб. Но окажи мне еще одну услугу. В моих владениях водится ужасный дикий зверь, откусивший мне палец. Это демон. Он охотится на нас, мы его боимся. Я слышал, что у вас, белых, есть магическое оружие, которое убивает шумом. Приди на мою землю и убей того дикого зверя своим магическим оружием. Я молю тебя, приди, приди, ибо я в страхе». Вождь действительно казался очень испуганным. «Нет, — ответил я — я не проливаю крови. Я никого не убиваю, кроме бабочек, да и тех не так уж часто. Но если ты боишься этого зверя, почему ты не отравишь его? Вам, черным, известно много ядов». «Без толку, без толку, — посетовал вождь. — Зверь умеет различать яды. Иные он глотает, и они не вредят ему, к иным он не прикасается. Ни один черный человек не может убить его. Нам издревле известно, что он падет только от руки белого». «Очень странное животное…» — подозрительно начал я, уверенный, что Калуби лжет, и в этот самый момент моего слуха коснулись голоса. Мои спутники с пением шли ко мне через высокую траву, но, по-видимому, были еще далеко. Калуби тоже услышал их и вскочил. «Мне надо идти, — сказал он. — Никто не должен видеть меня здесь. Но какую плату желаешь ты, о кудесник-лекарь?» «За лечение я не беру платы, — ответил я. — Но погоди… На вашей земле растет чудесный цветок, верно? Я хотел бы его иметь». «Кто сказал тебе о цветке? — спросил Калуби. — Это Священный цветок, а для тебя, о белый господин, он может быть опасен. Не говори о нем, о белый господин, ибо говорить о нем для тебя рискованно. Лучше возвращайся, приведи с собой кого-нибудь способного убить зверя, и я сделаю тебя богатым. Вернись и позови Калуби из тростника, Калуби услышит твой зов и явится к тебе». Потом он схватил свое копье и исчез в тростнике. Больше я его никогда не видел. — Но откуда же вы, Брат Джон, достали этот цветок? — Однажды утром, неделю спустя, я нашел его около своей палатки в узкогорлом глиняном сосуде с водой. Я, конечно, просил Калуби прислать мне корень растения, но он, вероятно, понял, что мне нужен только цветок. Или, может быть, он не посмел выкопать растение целиком. Во всяком случае, это лучше, чем ничего. — Почему же вы сами не отправились в страну понго и не добыли его? — По многим причинам, Аллан. Мазиту клялись, что любого, кто увидит этот цветок, умерщвляют. Когда они услышали, что у меня есть такой цветок, то заставили уйти миль за семьдесят, к другим границам своих земель. Поэтому я решил подождать, пока не найдутся люди, согласные меня сопровождать. Если честно, Аллан, я подумал, что вы охотно взглянули бы на странного зверя, способного откусить человеку палец и испугать до смерти. Удивительно, — прибавил Брат Джон, с улыбкой поглаживая длинную седую бороду, — что вскоре после этого я встретил вас. — Вы так обо мне подумали? — спросил я. — Брат Джон, о вас болтают всякое, но я заключаю, что рассуждаете вы здраво. Он снова улыбнулся и погладил длинную седуюбороду.Глава 2
АУКЦИОННЫЙ ЗАЛ
Мне помнится, что разговор о понго, почитателях гориллы и Священного цветка, не возобновлялся вплоть до нашего приезда в мой дом в Дурбане. Туда я взял, конечно, с собою Чарльза Скрупа, туда же переехал и Брат Джон, который, за неимением свободных комнат у меня в доме, разбил палатку в саду. Однажды вечером мы с ним сидели на крыльце и курили. Единственной слабостью Брата Джона было пристрастие к табаку. Он совершенно не пил вина, ел мясо только тогда, когда был принужден к этому обстоятельствами, но с удовольствием сообщаю, что при всяком удобном случае он, как и большинство американцев, курил сигары. — Джон, — сказал я, — я думал о вашем рассказе и сделал несколько выводов. — Какие, Аллан? — Во-первых, вы порядком сглупили, не расспросив Калуби как следует. У вас был для этого удобный случай. — Согласен с вами, Аллан, но ведь я доктор, и тогда меня главным образом занимала операция. — Во-вторых, я уверен: Калуби подвергся нападению своего бога-обезьяны, и обезьяна эта — горилла. — Почему вы так думаете? — Потому что я слышал об обезьянах соко, живущих в Центральной Африке, которые откусывают у людей пальцы на руках и ногах. Говорят, они очень похожи на горилл. — Я тоже знаю этих обезьян, Аллан. Однажды я видел соко, огромную коричневую обезьяну, которая стояла на задних лапах, а передними барабанила в грудь. Я не успел хорошенько рассмотреть эту громадину, потому что пришлось уносить ноги. — В-третьих, желтая орхидея может принести много денег тому, кто выкопает растение и перевезет в Англию. — Я, кажется, говорил вам, Аллан, что такая орхидея стоит около двадцати тысяч фунтов. Таким образом, ваш вывод не новость. — В-четвертых, я не прочь пуститься на поиски этой редкости и получить свою долю от двадцати тысяч фунтов. К этим словам Брат Джон проявил чрезвычайный интерес. — Ага! — воскликнул он. — Теперь мы наконец дошли до самой сути дела. Я все ждал, когда вы скажете это, Аллан. У вас во всем так — медленно, но верно. — В-пятых, — продолжал я, — для организации такой экспедиции потребуется значительно больше денег, чем есть у нас с вами вместе. Нам нужны компаньоны, активные или пассивные, но непременно с деньгами. Брат Джон бросил взгляд на окно комнаты Чарли Скрупа, который, еще не окрепнув после болезни, спать ложился рано. — Нет, — сказал я, — с него довольно Африки. Да и вы сами говорили, что он окончательно оправится не раньше чем через два года. Кроме того, тут замешана леди. Я послал ей письмо от своего имени. Ее адрес назвал Скруп; правда, он в тот момент не понимал, что говорит. Я написал ей, что он все время бредил только ею и что он герой. Ох! Что скажет Чарли Скруп, когда узнает, как я расписал его! Письмо ушло с последней почтой, и я надеюсь, скоро дойдет по назначению. Теперь слушайте дальше. Скруп желает, чтобы я сопровождал его в поездке домой. Он, по-видимому, надеется, что я замолвлю за него словечко, если мне случится встретиться с той леди. Он берет на себя все расходы по путешествию и предлагает уплатить мне за потраченное время. В последний раз я был в Англии в трехлетнем возрасте, поэтому мне не хотелось бы упускать такой случай. Брат Джон помрачнел. — А как же экспедиция? — спросил он. — Сегодня первое ноября, — ответил я. — В тех местах начинается сезон дождей, который длится до апреля. Раньше не стоит и пытаться посетить ваших приятелей понго. Я же тем временем успею съездить в Англию и вернуться обратно. Если вы доверите мне ваш цветок, я возьму его с собой. Быть может, мне удастся найти человека, который согласится дать денег на организацию поисков этого растения. Если хотите, можете жить у меня и располагать моим домом как своим. — Благодарю вас, Аллан, но несколько месяцев кряду мне на одном месте не усидеть. Я отправлюсь куда-нибудь, потом вернусь. Брат Джон остановился, задумчиво устремив глаза в темноту. Потом предложил: — Видите ли, брат, меня тянет бродить и бродить по этой земле, пока… — Пока — что? — с нажимом спросил я. Джон сделал над собой усилие и ответил с деланой беззаботностью: — Пока не изучу каждый дюйм ее. Есть еще очень много племен, которых я не посетил. — Включая понго, — сказал я. — Кстати, если я достану денег на экспедицию, то, полагаю, вы тоже отправитесь со мной? Ведь только с вашей помощью удастся пробраться к понго через земли ваших друзей мазиту. — Конечно, я отправлюсь с вами. Более того, если вы не составите мне компанию, я пойду один. Я намерен исследовать страну понго, невзирая на смертельную опасность. Я пристально посмотрел на него и произнес: — Ради цветка вы, Джон, готовы рисковать многим. Или вы ищете что-то еще, кроме орхидеи? Если так, надеюсь услышать правду. — Я сказал это, памятуя, что Брат Джон не приемлет лжи даже по мелочи. — Хорошо, Аллан. Если вы так настаиваете, скажу вам всю правду. О понго я слышал больше, чем рассказал вам. Это было после того, как я оперировал Калуби, или после того, как я попытался пробраться к понго один. Последнее, насколько вам известно, мне не удалось. — Что же вы узнали? — У понго, наряду с белым богом, есть и белая богиня. — И что с того? Полагаю, это горилла-самка. — Ничего, за исключением того, что богини всегда интересовали меня. Спокойной ночи! «Старый чудак, — подумал я, — ты что-то скрываешь от меня. Хорошо. В один прекрасный день я узнаю, не ложь и не бред ли все это. Хотя вряд ли, существует же орхидея… Странный народ эти понго со своей белой богиней и Священным цветком. Поистине Африка страна необыкновенных людей и богов!» Теперь место действия переносится в Англию. (Но не бойся, отважный читатель! Через несколько страниц мы снова окажемся в Африке.) Мистер Чарльз Скруп и я покинули Дурбан через день или два после моего последнего разговора с Братом Джоном. В Кейптауне мы сели на почтовый пароход, утлое суденышко, которое после долгого и утомительного плавания доставило нас в Плимут целыми и невредимыми. Попутчиками нашими оказались люди скучные и неинтересные. Большинство из них я забыл, но одну леди помню хорошо. Судя по вульгарной внешности, в молодости она служила официанткой, а теперь стала женой богатого виноторговца из Кейптауна. На нашу беду, после обеда у нее неизменно развязывался язык, а меня она особенно невзлюбила. Помню, как она сидела в салоне, освещенном керосиновой лампой, которая качалась над ее головой (эта леди всегда садилась под лампой, чтобы всем были видны ее бриллианты), и говорила: «Вы же не на охоте, мистер Аллан (с ударением на Аллан) Квотермейн. Вульгарным не место в приличном обществе. Пойдите причешитесь!» А ведь мои жесткие волосы не пригладишь! Ее маленький супруг испуганно бормотал: «Перестань, дорогая! Ты ведь можешь обидеть». Но к чему ворошить все это по прошествии стольких лет, ведь даже имена тех людей забылись? Наверное, тот эпизод застрял в памяти занозой. Еще вспоминается остров Вознесения, который мы посетили, — буруны, хлещущие берег, обнаженный пик, увенчанный зеленью, водяные черепахи. Мы захватили с собой пару, и я часто смотрел, как они лежат на баке на спинах, слабо шевеля конечностями. Одна сдохла, и я велел мяснику очистить для меня ее панцирь. Его обработали, отполировали, и впоследствии я преподнес панцирь мистеру Скрупу и невесте в качестве свадебного подарка. Я предполагал, что это будет корзинка для рукоделия, и был весьма смущен, когда одна глупая леди во всеуслышание объявила на свадьбе, что никогда не видела столь красивой колыбели. Я, конечно, пытался объяснить ей назначение подарка, но все кругом посмеивались. Только к чему я пишу о пустяках, не имеющих прямого отношения к моей истории?! Я уже упоминал, что рискнул отправить письмо мисс Маннерз относительно мистера Скрупа и в этом послании, между прочим, сообщил, что «если герой останется в живых, то я, вероятно, привезу его домой со следующим почтовым пароходом». Мы прибыли в Плимут тихим ноябрьским утром, часов в восемь. Тут же подошел буксир за пассажирами, почтой и частью груза. Я смотрел, как судно подходит к нам, и увидел на его палубе полную леди, закутанную в меха, а рядом с ней молодую красивую блондинку в опрятном саржевом костюме и в круглой шляпе с плоской тульей и загнутыми кверху полями. Немного спустя ко мне подошел стюард и сказал, что меня просят в салон. Я отправился туда и нашел там двух упомянутых дам, стоявших рядом. — Мистер Аллан Квотермейн? — осведомилась полная леди. — Скажите поскорее, где мистер Скруп, которого вы везете домой? Что-то в ней и в ее манере обращения так встревожило меня, что я едва мог ответить: — Внизу, мадам, внизу… — Моя дорогая, — обратилась полная леди к своей спутнице, — я предупреждала: тебе нужно готовиться к худшему. Соберись с духом и не устраивай сцены перед всеми этими людьми. Пути Провидения неисповедимы. Не следовало отпускать бедного юношу в страну язычников. — Потом, обернувшись ко мне, она прибавила: — Я полагаю, он набальзамирован? Мы хотели бы похоронить его в Эссексе. — Набальзамирован! — вскричал я. — Набальзамирован?! Да он в ванне или был в ней всего лишь несколько минут тому назад! В следующую секунду молоденькая леди рыдала от радости у меня на плече. — Маргарет! — воскликнула компаньонка, которая приходилась молодой особе кем-то вроде тетки. — Я просила тебя не устраивать публичных сцен. Мистер Квотермейн, ввиду того, что мистер Скруп жив, будьте добры попросить его сюда. Я немедленно притащил Скрупа, не успевшего как следует побриться. Дальнейшую сцену несложно себе представить. Хорошо быть героем. Благодаря мне Чарльз Скруп прослыл человеком отчаянной храбрости. Теперь у него есть внуки, и они уверены: дед в молодости только и делал, что совершал подвиги. Более того, Скруп этого не отрицает. Потом я отправился в Эссекс к молодой леди, в ее имение с красивым домом. Я попал на большой званый обед на двадцать четыре персоны. Мне пришлось произнести речь о Чарльзе Скрупе и леопарде. По-моему, она удалась на славу. По крайней мере, все рукоплескали, включая слуг, собравшихся в глубине парадного зала. Помню, что для украшения рассказа я добавил в него еще нескольких леопардов (самку и трех подросших детенышей) и раненого буйвола. Мол, всех их поочередно мистер Скруп прикончил охотничьим ножом. До чего интересно было смотреть на него во время этого рассказа. К счастью, Скруп сидел рядом со мной, и я мог пинать его под столом. Я очень веселился и радовался за молодых, ведь они действительно любили друг друга. Хвала Всевышнему, что мне с помощью Брата Джона удалось их воссоединить. Во время своего пребывания в Эссексе я впервые встретился с лордом Рэгноллом и очаровательной мисс Холмс, с которыми мне впоследствии суждено было пережить очень странные приключения. После небольшой передышки я взялся за дело. Мне сказали, что в Сити есть фирма, занимающаяся аукционной продажей орхидей, которые в то время входили в моду у богатых садоводов. «Вот подходящее место, где мне следует показать свое сокровище, — подумал я. — Вне сомнений, господа из «Мэй и Примроуз», — (так называлась эта всемирно известная фирма), — познакомят меня с богатыми орхидистами, которые пожелают вложить пару тысяч фунтов в поиски цветка, сто́ящего, по словам Брата Джона, неслыханных денег. По крайней мере, я попробую». И вот в пятницу, около двенадцати часов дня, я направился в контору «Мэй и Примроуз», захватив золотистую орхидею циприпедиум, которая лежала теперь в плоской жестяной коробке. Для своего посещения я выбрал неудачное время, так как на вопрос, можно ли увидеть мистера Мэя, получил ответ, что он на выезде, оценивает растения. — В таком случае я хотел бы видеть мистера Примроуза, — сказал я. — Мистер Примроуз в аукционном зале, — бросил клерк, казавшийся очень занятым. — А где это? — спросил я. — За дверью налево, потом опять налево и под часы, — буркнул клерк, захлопывая окошечко. Раздраженный такой грубостью, я едва не отказался от своей затеи. Впрочем, одумавшись, я все же пошел в указанном направлении и через пару минут попал в узкий коридор, ведущий в большой зал. Новичков этот зал удивлял до глубины души. Первое, что бросилось мне в глаза, было объявление на стене, запрещающее посетителям курить трубку. «Странные растения эти орхидеи, если отличают сигарный дым от трубочного», — подумал я, переступая порог. Длинный стол слева заставили горшками с самыми красивыми цветами, какие я когда-либо видел, — они поражали своим разнообразием. Столы вдоль стен завалили сухими корневищами, тоже, по-видимому, орхидейными. Моему неопытному глазу все эти корни казались не стоящими и пяти шиллингов: сухие же, мертвые. Посреди зала высилась трибуна, за которой восседал джентльмен с очень приветливым лицом. Он так быстро вел аукцион, что клерк рядом с ним едва успевал записывать покупателей. Перед трибуной за столом в виде подковы сидели покупатели. Край стола никто не занял, так что носильщики могли выставлять цветы для каждого нового лота. На столике у самой трибуны уместили еще горшков двадцать с орхидеями; цветы были еще красивее, чем на большом столе. Судя по объявлению, их намеревались продавать ровно в половине второго. По всему залу тут и там стояли группы мужчин (всех дам усадили), большинство с орхидеями в петлице. Это, как я впоследствии выяснил, были продавцы и любители орхидей. Доброжелательные на вид орхидисты очень мне понравились. Зал тоже казался чрезвычайно уютным, особенно по контрасту с улицами, тонувшими в ужасном лондонском тумане. Я пробрался в угол, чтобы никому не мешать, и наблюдал за аукционом. Вдруг чей-то приятный голос спросил, не желаю ли я заглянуть в каталог. Я посмотрел на говорившего и сразу почувствовал к нему чрезвычайную симпатию (я уже говорил, что принадлежу к людям, для которых первое впечатление очень важно). Рядом со мной сидел невысокий джентльмен, хорошо сложенный, крепкий с виду. Его трудно было назвать красавцем — обычный англичанин, лет двадцати четырех или двадцати пяти, светловолосый, голубоглазый, обаятельный. Я сразу понял, что передо мной милейший человек и добрая душа. В петлице его поношенного твидового костюма красовалась орхидея — знак принадлежности ко всей этой компании. Как ни странно, грубый костюм шел к румянцу и взъерошенным волосам незнакомца. По правде говоря, я видел его растрепанную шевелюру, потому что он сидел на своей шляпе. — Благодарю вас, но я пришел сюда не покупать. Я мало смыслю в орхидеях, — пояснил я, — за исключением некоторых видов, встречавшихся мне в Африке, и вот этой. — Я похлопал по жестяному ящику, который держал в руках. — Африканские орхидеи меня очень интересуют, — сказал молодой человек. — Что у вас в этом ящике, растение целиком или только цветы? — Всего один цветок. Он принадлежит не мне. Мой африканский друг просил меня… впрочем, это длинная история, которая вряд ли вас увлечет. — Напротив. Судя по величине, у вас там стебель или бутон цимбидиума. Я отрицательно покачал головой: — Мой друг называл его иначе — циприпедиумом. Молодой человек чрезвычайно удивился. — Один цветок циприпедиума в целом ящике? Настолько крупный? — Да, по словам моего друга, это самый крупный циприпедиум на свете из всех, что когда-либо были найдены. Около двадцати четырех дюймов от края одного бокового лепестка, — кажется, так он их называл, — до края другого, ширина чашечки около фута. — Двадцать четыре дюйма в поперечнике и фут в чашелистике! — потрясенно воскликнул молодой человек. — И это циприпедиум! Сэр, вы шутите?! — Ничего подобного, сэр! — возмутился я. — Ваши слова равнозначны обвинению во лжи. Впрочем, может действительно оказаться, что эта орхидея другого рода. — Во имя богини Флоры, покажите мне ее скорее! Я успел открыть ящик наполовину, когда к нам подошли двое джентльменов, которые либо слышали наш разговор, либо заметили волнение моего собеседника. В петлицах у них тоже были орхидеи. — Ба, Сомерс! — начал один из них с фальшивой доброжелательностью. — Что там у вас? — Что это у твоего друга? — вторил ему другой. — Ничего, — ответил молодой человек, которого назвали Сомерсом. — В ящике у него… тропические бабочки. — Ах бабочки… — отозвался номер один и пошел прочь. А вот от господина номер два, напористого, с ястребиным взглядом, так легко было не отделаться. — Давайте посмотрим на этих бабочек, — обратился он ко мне. — Исключено! — воскликнул молодой человек. — Мой друг опасается, что сырость испортит их окрас, верно, Браун? — Верно, Сомерс, — подыграл ему я и захлопнул ящик. Мужчина с ястребиными глазами удалился, ворча, что сказки про бабочек уже встали ему поперек горла. — Орхидист! — прошептал молодой человек. — Орхидисты народ ужасный. Оба этих джентльмена весьма богаты, мистер Браун… Простите, могу лишь надеяться, что угадал ваше имя, хотя, конечно, шанс невелик. — Да уж, — усмехнулся я. — Меня зовут Аллан Квотермейн. — А! Это лучше, чем Браун. Вот что, мистер Аллан Квотермейн. Здесь есть отдельная комната, и у меня имеется ключ от нее. Давайте переберемся туда с вашими… бабочками! В этот момент мимо нас прошествовал господин с ястребиным взором. — С удовольствием, — ответил я. Мы вышли из аукционного зала, спустились по лестнице и в конце концов попали в комнатушку, по стенам которой стояли полки, уставленные книгами и гроссбухами. Сомерс тщательно запер за собой дверь. — Ну-с, — произнес он тоном романтического злодея, оставшегося наедине с добродетельной героиней, — теперь мы одни. Мистер Квотермейн, показывайте… ваших бабочек. Я поставил ящик на сосновый стол у окна и открыл его. Под крышкой лежал слой ваты, а под ним, между двумя стеклами, — золотистый цветок с широким зеленым листом, невредимый после долгих путешествий, прекрасный даже в засушенном виде. Сомерс не мог оторвать от него глаз. Один раз он обернулся, пробормотал что-то, потом снова принялся рассматривать его. — О Небо! Возможно ли, чтобы в нашем несовершенном мире существовал такой цветок? Ведь вы не подделали его, мистер Квотермейн? — Сэр, — сказал я, — я во второй раз слышу оскорбительные намеки. Прощайте! — Не обижайтесь! — воскликнул он. — Сжальтесь над слабостью бедного грешника! Вы не понимаете меня? — Будь я неладен, если понимаю! — Поймете это только тогда, когда начнете собирать орхидеи. Во всем, что не касается их, я человек абсолютно здравомыслящий. Мистер Квотермейн, — взволнованно продолжал он, понизив голос, — ваш друг прав. Это чудесная орхидея циприпедиум, и она стоит целой золотой копи. — Охотно верю, учитывая мой опыт на золотых копях, — заявил я колко и, как оказалось, пророчески. — О золотой копи я говорил образно, а не буквально, не как участник кампании. Я имел в виду не один цветок, а растение, на котором он распустился. Где его можно найти, мистер Квотермейн? — На юго-востоке Африки, — ответил я. — Место могу указать приблизительно, с точностью до трехсот миль. — Это очень неопределенно, мистер Квотермейн. Конечно, расспрашивать вас я не вправе, мы же совсем незнакомы… Но уверяю вас, человек я порядочный. Может, вкратце расскажете мне историю этого цветка? — Вряд ли мне следует это делать, — произнес я с некоторым колебанием. Но все же, опустив имена и точные обозначения местности, я в общих чертах пересказал историю цветка и объяснил, что ищу тех, кто готов финансировать экспедицию в далекое место, где, вероятно, растет эта необыкновенная орхидея циприпедиум. Едва я закончил рассказ, как в дверь заколотили. — Мистер Стивен! — позвали из-за двери. — Мистер Стивен, вы там? — Господи, это Бриггс! — воскликнул молодой человек. — Бриггс, управляющий моего отца. Прячьте цветок, мистер Квотермейн. Входите, Бриггс, — сказал он, медленно открывая дверь. — Что-то случилось? — Много чего, — взволнованно ответил худощавый мужчина, появляясь в дверях. — Ваш отец, я хочу сказать — сэр Александр, неожиданно заглянул в контору и сильно рассердился, не застав там вас, сэр. А когда услышал, что вы на аукционе орхидей, он разгневался еще пуще и послал меня за вами, сэр. — Вот как? — невозмутимо произнес мистер Сомерс. — Хорошо, Бриггс, передайте сэру Александру, что я сейчас вернусь. Бриггс неохотно удалился. — Я вынужден покинуть вас, мистер Квотермейн, — вздохнул мистер Сомерс, запирая дверь за Бриггсом, — но обещайте мне не показывать никому цветок до тех пор, пока я не вернусь. Задержусь в конторе на полчаса, не более. — Хорошо, мистер Сомерс. Я подожду вас в аукционном зале полчаса и обещаю, что до вашего возвращения никто этот цветок не увидит. — Благодарю вас. Вы хороший человек. Даю слово, что сделаю все возможное, дабы вы ничего не потеряли из-за своей доброты. Мы вместе вышли в аукционный зал, и вдруг мистер Сомерс о чем-то вспомнил. — Господи! — воскликнул он. — Я чуть не забыл об одонтоглоссуме. Где же Вудден? Вудден, идите сюда, мне надо с вами поговорить! Вудден повиновался. Я дал бы ему лет пятьдесят, хотя о его возрасте нельзя было судить ни по глазам, то ли светло-голубым, то ли светло-серым, ни по жестким рыжеватым волосам, ни по крупным натруженным рукам с мозолистыми ладонями и обломанными ногтями. Он был в костюме из блестящей черной ткани — из тех, что рабочие надевают на похороны. Я решил, что Вудден садовник. — Вудден, — сказал Сомерс, — у этого джентльмена самая замечательная орхидея в целом мире. Присматривайте за ним, чтобы его не ограбили. В этом здании, мистер Квотермейн, есть люди, которые ради такого цветка не задумываясь убьют вас, а труп выбросят в Темзу, — мрачно прибавил он. Получив указание, Вудден перекатился с носка на пятку, словно ощутил первые толчки землетрясения. Он делал так всегда, если что-то его удивляло. Потом он вперил в меня блеклые глаза, явно изумленный моей внешностью, потянул себя за рыжеватую прядь и проговорил: — К вашим услугам, сэр. А где эта орхидея? Я показал на жестяную коробку. — Да, она там, — продолжал Сомерс, — и вы должны охранять ее. Мистер Квотермейн, если вас попытаются ограбить, позовите Вуддена, и он усмирит смутьяна. Вудден — мой садовник, я доверяю ему полностью, а в усмирении смутьянов — особенно. — Ага, смутьяна я усмирю, — подтвердил Вудден, сжал кулачищи и подозрительно оглянулся по сторонам. — Теперь слушайте дальше, Вудден. Видите вон ту орхидею одонтоглоссум паво? — Он указал на растение в центре столика под аукционной трибуной. Оно цвело мелкими белыми цветками удивительной красоты. На верхнем лепестке и на нижней кромке каждого округлого цветочка переливалось пятно, очень напоминающее глаз на хвостовых перьях павлина. Наверное, поэтому цветок и назывался паво, то есть «павлиний». — Вижу, хозяин. Цветов красивее я в жизни не видал. В Англии таких глоссумов не сыщешь, а это еще и павлиний глоссум, — убежденно ответил Вудден и снова перекатился с носка на пятку. — Тут многие вертятся вокруг него, крутятся, словно собаки около крысиной норы. И видно, неспроста! — В голосе садовника звучало торжество. — Правильно, Вудден, вы сама логика. Послушайте, паво нужно заполучить во что бы то ни стало. Меня зовет отец. Я собираюсь скоро вернуться, но могу и задержаться. В таком случае от моего имени будете действовать вы, ибо местным агентам я не верю. Сейчас напишу доверенность. Сомерс взял визитку и нацарапал на ней:Садовник Вудден уполномочен мной действовать от моего имени. С. С.— Теперь, Вудден, — продолжал он, когда карточку передали аукционеру, — смотрите не опростоволосьтесь, не упустите паво. — С этими словами он ушел. — Что имел в виду мой хозяин, сэр? — спросил меня Вудден. — Я должен приобрести павлинью орхидею, сколько бы она ни стоила? — Да, — ответил я, — я тоже понял его так. Полагаю, стоит паво недешево, наверное несколько фунтов. — Не знаю, сэр, не знаю. Знаю только то, что я должен купить его. Если речь об орхидеях, денежный вопрос моего хозяина не останавливает. — Мистер Вудден, вам ведь тоже нравятся орхидеи? — Нравятся? Сэр, да я их обожаю! — Вудден перекатился с носка на пятку. — Таких чувств нет больше ни к чему и ни к кому. Даже к старухе моей нет! Даже к хозяину, — добавил он с трепетом. — А хозяина я люблю, Бог свидетель. Прошу вас, сэр… — Вудден дернул себя за волосы. — Держите коробку крепче. Мне велено приглядывать не только за павлиньим глоссумом, но и за ней. Вон тот тип в большой шляпе кажется подозрительным. На этом мы расстались. Я забился в свой угол, Вудден встал у стола, поглядывая одним глазом на «павлиний глоссум», другим на мой жестяной ящик. «Ну и чудак! — подумал я. — Теплое отношение к супруге, горячая любовь к хозяину, клокочущая страсть к орхидеям — вот так шкала чувств. Интересный чудак, честный и отважный». Торги понемногу стихли. Продавали так много засушенных орхидей одного особенного сорта, что на всех не нашлось покупателей и много растений пришлось унести. Наконец с трибуны к собравшимся обратился жизнерадостный мистер Примроуз. — Джентльмены, — сказал он, — я прекрасно понимаю, что вы сегодня пришли сюда не для того, чтобы приобрести какую-нибудь каттлею Мосси. Вы пришли сюда, чтобы купить, попытаться купить или посмотреть, как покупают чудеснейший одонтоглоссум Англии, принадлежащий знаменитой фирме, которой я приношу свои поздравления как обладательнице исключительной редкости. Джентльмены, этому чудесному цветку впору украшать королевскую оранжерею. Но он достанется тому, кто заплатит за него наибольшую сумму. Я полагаю, что сегодня здесь собралось большинство крупнейших коллекционеров, — прибавил он, оглядывая присутствующих. — Правда, я не вижу молодого орхидиста мистера Сомерса, но он поручил достопочтенному мистеру Вуддену, своему главному садовнику, одному из лучших ценителей орхидей в Англии, выступить за него на аукционе замечательного цветка, о котором я говорил. — (Вудден лихорадочно закачался с носка на пятку.) — Сейчас ровно половина второго, и мы приступим к делу. Смит, пронесите одонтоглоссум паво по залу, чтобы все увидели, как красив этот цветок. Только не уроните! Джентльмены, прошу вас не трогать цветы руками и не портить их чистоту табачным дымом. Восемь распустившихся цветков и четыре — нет, пять! — бутонов. Совершенно здоровое растение. Шесть ложных луковиц с листьями и три без них. Два отростка, которые, как мне подсказывают, можно срезать в надлежащее время. Кто желает купить одонтоглоссум паво? Кому посчастливится стать обладателем этого чуда природы? Благодарю вас, сэр — триста, четыреста, пятьсот, шестьсот, семьсот, в трех местах сразу. Восемьсот, девятьсот, тысяча! Джентльмены, чуть быстрее! Благодарю вас, сэр, — тысяча пятьсот, тысяча шестьсот. Ставка против вас, мистер Вудден. Ага! Благодарю вас, тысяча семьсот. Возникла короткая пауза, во время которой я, думая, что цифра 1700 означает шиллинги, занялся переводом последних в фунты. Получилось восемьдесят пять фунтов. «Ничего себе! — подумал я. — Восемьдесят пять фунтов — дороговато за одно растение, пусть даже редкое. Мистер Вудден слишком рьяно выполняет указание хозяина». Молящий голос мистера Примроуза вывел меня из задумчивости: — Джентльмены, джентльмены, вы же не допустите, чтобы это чудо природы, у которого, повторю, нет аналогов, было продано по столь ничтожной цене? Активнее! Активнее! — восклицал он. — Если все-таки дойдет до такого позора, я лишусь сна. Раз! — (Молоток опустился в первый раз.) — Представьте, джентльмены, мое положение, если придется сообщить бесславную правду именитым владельцам цветка, которые не присутствуют здесь из деликатности. Два! — (Молоток опустился во второй раз.) — Смит, поднимите цветок вверх. Пусть джентльмены видят, что теряют! Смит поднял цветок, и все на него уставились. Молоточек из слоновой кости описал круг над головой мистера Примроуза и уже опускался, как вдруг спокойный джентльмен с длинной бородой, доселе не принимавший участия в торгах, поднял голову и тихо произнес: — Тысяча восемьсот. — Ага! — воскликнул Примроуз. — Так я и думал. Владелец самой большой коллекции в Англии не выпустит это сокровище из рук без борьбы. Ставка против вас, мистер Вудден. — Тысяча девятьсот, — решительно заявил Вудден. — Две тысячи, — тут же отозвался джентльмен с длинной бородой. — Две тысячи сто, — сказал Вудден. — Правильно, мистер Вудден! — вскричал Примроуз. — Вы очень достойно представляете своего патрона! Уверен, из-за жалкой пары фунтов вы не остановитесь. — А я не уверен! — запротестовал Вудден. — Мне просто даны указания, и я им следую. — Две тысячи двести, — сказал длиннобородый джентльмен. — Две тысячи триста, — не сдавался Вудден. — Черт возьми! — воскликнул джентльмен с длинной бородой и бросился вон из зала. — Одонтоглоссум паво уходит за две тысячи триста, всего за две тысячи триста! — закричал аукционер. — Кто больше? Никто. Тогда мне следует исполнить свой долг. Раз. Два. В последний раз, кто больше? Три! Цветок остается за Вудденом, представляющим своего патрона, мистера Сомерса. Молоток опустился, и в этот самый момент мой молодой друг вошел в зал. — Ну, Вудден, — начал он, — Паво уже продавали? — Продавали, сэр, и продали. Я его купил. — За сколько же? Вудден почесал затылок. — Точно не знаю, сэр, с цифрами не дружу. Я же не шибко ученый. Вроде за двадцать три… — За двадцать три фунта? Нет, паво наверняка дороже. Небось за двести тридцать! Ей-богу, это немного чересчур, хотя, может, покупка стоящая. Тут Сомерса заметил мистер Примроуз, который, прислонившись к трибуне, беседовал с группой взволнованных орхидистов. — А, мистер Сомерс! — сказал он. — От имени всего нашего общества позвольте поздравить вас с приобретением несравненного одонтоглоссума паво, доставшегося вам за очень умеренную цену — всего за две тысячи триста фунтов. Право, молодой человек принял это известие очень стойко — лишь вздрогнул и немного побледнел. Вудден закачался, словно дерево, которое вот-вот рухнет. Что касается меня — я чуть было не рухнул в обморок. Да, от изумления у меня буквально подкосились ноги. Все кругом заговорили, но среди шума я четко услышал негромкий голос молодого Сомерса: — Вудден, вы круглый дурак! На что последовал ответ: — Моя мать постоянно говорила мне то же самое. Но в чем же я виноват? Я последовал приказу и купил павлиний глоссум. — Вы правы, дружище. Вина моя, а не ваша. Это я круглый дурак! Но как мне теперь быть?! Немного успокоившись, Сомерс подошел к трибуне и что-то сказал аукционеру. Мистер Примроуз закивал головой, и я услышал его слова: — О, конечно, не беспокойтесь, сэр. Мы не рассчитываем, чтобы такие суммы выплачивались моментально. К вашим услугам целый месяц. После этого торги возобновились.
Глава 3
СЭР АЛЕКСАНДР И СТИВЕН
В этот самый момент я увидел полного джентльмена с квадратной седой бородой и красивым, но сердитым лицом. Он озирался по сторонам с видом человека, попавшего в малознакомое место. — Сэр, не подскажете, здесь ли джентльмен по имени Сомерс? — обратился он ко мне. — Я близорук, а в аукционном зале слишком людно. — Да, он здесь, — ответил я, — и только что купил замечательную орхидею, называемую одонтоглоссум паво. — В самом деле? Вот как! А не знаете ли вы, сколько он заплатил за нее? — Огромную сумму, — ответил я. — Сначала я думал, что две тысячи триста шиллингов, а оказалось, что две тысячи триста фунтов. Полный джентльмен так побагровел, что я испугался, как бы с ним не случился припадок. Он тяжело задышал. «Коллекционер-конкурент», — подумал я и пустился рассказывать историю покупки, которая, как мне казалось, будет ему очень интересна. — Видите ли, молодого джентльмена вызвали к отцу. Я слышал, как мистер Сомерс, перед тем как уйти, приказал своему садовнику Вуддену купить растение, сколько бы оно ни стоило… — Сколько бы оно ни стоило! Великолепно! Продолжайте, сэр. История очень занимательная! — Садовник буквально вырвал это растение на торгах из других рук. Смотрите, вон он упаковывает орхидею. Вряд ли его хозяин рассчитывал на такую большую сумму. А вот и Сомерс собственной персоной. Если вы его знаете… Руки в карманах, незажженная сигара в зубах — молодой мистер Сомерс, слегка побледневший, с рассеянным видом направлялся ко мне, очевидно собираясь переговорить со мной. При виде пожилого джентльмена он сложил губы, как для свистка, и выронил сигару. — Ба, отец! — воскликнул он своим приятным голосом. — Мне передали, что ты меня ищешь, но я помыслить не мог, что увижу тебя здесь. Орхидеи же тебя не интересуют? — Нет! — сдавленно проговорил отец Сомерса. — Меня не интересует вся эта вонючая ерунда. — Он указал зонтиком на красивые цветы. — Но с тобой, Стивен, дело обстоит иначе. По словам этого маленького джентльмена, ты только что купил великолепный экземпляр. — Я должен извиниться перед вами, — вмешался я, обращаясь к мистеру Сомерсу-старшему. — Я совсем не знал, что этот… видный джентльмен… ваш близкий родственник. Сомерс-младший слабо улыбнулся. — Пустяки, мистер Квотермейн, — сказал он. — К чему скрывать то, что напечатают в газетах? Да, отец, я купил великолепный экземпляр. Собственно, купил Вудден, а не я. Мне пришлось вас разыскивать. Но это не меняет сути, ведь он действовал от моего имени. — И сколько ты заплатил за этот цветок? Мне назвали сумму, но я думаю, тут какая-то ошибка. — Не знаю, что тебе передали, отец, но цветок достался мне за две тысячи триста фунтов. Это много больше того, чем я располагаю, и потому я прощу тебя одолжить мне эту сумму ради чести семьи, если не ради моей собственной. Впрочем, можно поговорить об этом потом. — Конечно, Стивен, можно и потом. Но, по-моему, самое подходящее время — сейчас. Поедем ко мне в контору. И вас, сэр, — обратился он ко мне, — я прошу отправиться с нами, так как вам, кажется, известны обстоятельства дела. Поторапливайтесь, остолоп вы этакий, поедете с нами. — Последние слова относились к Вуддену, который приблизился к нам с растением в руках. Конечно, необязательно было принимать приглашение, высказанное в такой форме. Но я не отказался. Мне хотелось увидеть, чем все закончится, и, если представится случай, замолвить слово за молодого Сомерса. Мы вышли из аукционного зала под смешки орхидистов, которые слышали весь разговор. На улице стояла великолепная карета, запряженная парой лошадей. Напудренный лакей открыл дверцу. Сэр Александр, чье лицо хранило свирепое выражение, кивком указал мне внутрь экипажа, и я занял заднее сиденье, где было больше места для моего жестяного ящика. Потом в карету сел мистер Стивен, затем Вудден, державший драгоценное растение перед собой, точно скипетр, последним вошел сэр Александр. — Куда прикажете, сэр? — спросил лакей. — В контору, — буркнул сэр Александр, и мы покатили. Четыре безутешных родственника, возвращающихся с похорон, и те были бы разговорчивее нас. Казалось, нас обуревали чувства, которые словами было не передать. Впрочем, одно замечание сэр Александр сделал. Относилось оно ко мне. — Буду премного благодарен вам, сэр, если вы перестанете жать мне в ребра своим проклятым ящиком. — Извините, — сказал я и при попытке переставить ящик уронил его прямо на ноги сэру Александру. Не стану повторять его второго замечания. Но должен заметить, что он, по-видимому, страдал подагрой. Маленькое происшествие чрезвычайно развеселило его сына. Он потихоньку толкнул меня в бок и едва удерживался от хохота. Я сидел как на иголках, ибо не знаю, что случилось бы, если бы молодой Сомерс расхохотался. К счастью, в этот момент карета остановилась у красивого здания. Не дожидаясь, пока лакей откроет дверцу, мистер Стивен выскочил из кареты и скрылся в доме — я полагаю, чтобы вволю посмеяться, — потом вышел я с жестяным ящиком, за мной — Вудден с цветком и, наконец, сэр Александр. — Ждите меня, — сказал он кучеру, — я ненадолго. Прошу следовать за мной, мистер… как бишь вас, и вы, садовник. Мы последовали за ним и очутились в большой комнате, обставленной массивной роскошной мебелью. Надо сказать, что сэр Александр был очень успешным маклером по золоту, чем бы там маклеры ни занимались. Мистер Стивен уже устроился: он сидел на подоконнике и болтал ногами. — Ну вот мы и одни, — саркастически изрек сэр Александр. — Сказал удав кролику, брошенному к нему в клетку, — продолжил я. Язвить я не хотел, но сильно нервничал, вот слова и слетели с языка. Сэр Александр побагровел. Он отвернулся к окну, словно желая полюбоваться стеной дома напротив, но я-то видел, как у него дрожат плечи. Блеклые глаза Вуддена заблестели: не прошло и трех минут, как он понял шутку. Он что-то буркнул про удавов и кроликов и коротко хохотнул. — Боюсь, я не уловил сути вашего замечания, — проговорил сэр Александр. — Не соблаговолите повторить? — Я просьбу не выполнил, но сэр Александр не унимался: — Тогда, может, повторите то, что рассказали мне в аукционном зале? — Зачем? Выразился я ясно, и вы все поняли. — Вы правы, — согласился сэр Александр. — Время тратить ни к чему. — Он обернулся к Вуддену, который так и стоял у двери, прижимая к груди завернутую в бумагу орхидею. — Говори, остолоп, зачем ты купил этот цветок?! — закричал сэр Александр. Садовник ничего не ответил, только перекатился с носка на пятку. Сэр Александр повторил вопрос. Тогда Вудден поставил цветок на стол и сказал: — Если вы обращаетесь ко мне, сэр, то меня зовут иначе. А если еще раз назовете меня так, я разобью вам голову и не посмотрю, что вы сэр. — Вудден демонстративно засучил рукава пиджака. — Послушай, отец, — сказал Стивен, выступая вперед, — к чему ломать комедию? Все совершенно ясно. Я действительно приказал Вуддену купить этот цветок во что бы то ни стало. Более того, я написал ему доверенность и передал ее аукционеру. Отпираться не стану. Правда, на две тысячи с лишним я не рассчитывал, скорее фунтов на триста. Но Вудден только исполнил мой приказ. За это его бранить нельзя. — Вот это господин, которому стоит служить, — вставил Вудден. — Прекрасно, мой милый, — сказал сэр Александр, — ты купил этот цветок. Но, будь добр, скажи, чем ты заплатишь за него? — Полагаю, отец, что деньги дашь ты, — вкрадчиво ответил мистер Стивен. — Две тысячи триста фунтов или в десять раз больше того значат для тебя одинаково мало. Впрочем, если ты мне откажешь, что вполне возможно, я расплачусь сам… Как тебе известно, моя мать оставила мне по завещанию некоторую сумму, с которой ты пожизненно получаешь доход. Под обеспечение этой суммы я деньги достану. Если прежде сэр Александр злился, то теперь стал похож на взбешенного быка в лавке с китайским фарфором. Он в ярости метался по комнате, изрыгая отборную брань, от чего приличному маклеру следовало бы воздержаться, — в общем, делал то, что не соответствовало его положению. Утомившись, сэр Александр подбежал к письменному столу, выписал чек на предъявителя на две тысячи триста фунтов, вырвал его из книжки, промокнул, смял и бросил чуть ли не в лицо сыну. — Никчемный бездельник, сопляк, негодяй! — взревел он. — Я взял тебя в эту контору, чтобы ты научился хорошему делу и со временем унаследовал от меня успешное предприятие. И что в ответ? Операции с золотом тебя ни капли не интересуют, по-моему, ты и ознакомиться с ними не соизволил. Деньги свои, точнее, мои ты тратишь не по-людски — не на скачки, не на карты, не на… Впрочем, неважно! Ты скупаешь жалкие, мерзкие цветы, которые едят коровы, а продавщицы выращивают у себя на заднем дворе! — Хобби древнее, со времен Аркадии, — вставил я. — Полагают, что Адам жил в саду… — Может, попросишь своего приятеля со щетинистыми волосами немного помолчать? — надменно изрек сэр Александр. — Добавлю, что ради чести семьи я покрываю твои долги, но с меня довольно! Я лишаю тебя наследства, точнее, лишу, если доживу до четырех часов, когда закрываются нотариальные конторы. Слава богу, у нас нет заповедного имущества! Со службы я тебя тоже увольняю. Зарабатывай чем хочешь, хоть поисками орхидей! — Он замолчал, чтобы отдышаться. — Это все, отец? — спросил мистер Стивен, вынимая из кармана сигару. — Нет, холодный ты слизняк, голодранец! Дом в Туикенеме, который ты занимаешь, принадлежит мне. Будь любезен немедленно освободить его, я желаю им пользоваться. — По закону я как любой арендатор имею право прожить в нем еще целую неделю, — сказал мистер Стивен, закуривая сигару. — Если ты откажешь мне в этом, я потребую от тебя судебного постановления о выселении. Ты же понимаешь, мне нужно подготовиться, прежде чем начинать жизнь с чистого листа. — Вот наглец какой, бесчувственная колода! — бушевал разгневанный маклер. Вдруг его осенила какая-то мысль. — Мерзкий цветок для тебя дороже отца? Хорошо! Я положу этому конец! Он бросился к орхидее, стоявшей на столе, явно решив ее уничтожить. Но порыв не укрылся от бдительного Вуддена. Один шаг — и он заслонил цветок от сэра Александра. — Только троньте павлиний глоссум — с ног собью! — с расстановкой проговорил Вудден. Сэр Александр посмотрел на «павлиний глоссум», потом на кулачищи Вуддена и… изменил свои намерения. — Черт побери ваш «глоссум» и всех вас вместе с ним! — крикнул он и кинулся прочь, хлопнув дверью. — Ну вот и конец, — спокойно сказал мистер Стивен, обмахиваясь носовым платком. — Забавный спектакль, да я его видел уже не раз. Мистер Квотермейн, что скажете относительно ланча? Ресторан Пима здесь рядом, а там превосходные устрицы. Только, думаю, надо заехать в банк и обналичить этот чек. В гневе мой отец непредсказуем. Он может передумать и распорядиться не выдавать денег по этому чеку. Вы, Вудден, отвезете орхидею в Туикенем. Сегодня морозно, так что держите цветок в тепле. Поставьте его на ночь в оранжерею и немного — слышите, чуточку! — полейте тепловатой водой, осторожно, некасаясь стебля. Наймите четырехколесный кеб, они медленные, но безопасные, закройте в нем окна и не курите. Я вернусь домой к ужину. Вудден дернул себя за вихор, взял горшок с цветком в левую руку и вышел, подняв правый кулак — наверное, на случай, если сэр Александр караулит за углом. Мы же с Сомерсом заехали в банк, обналичили чек, который, невзирая на большую сумму, приняли без вопросов, потом поели устриц в переполненном ресторане, где было невозможно разговаривать. — Мистер Квотермейн, — сказал Сомерс, — ясно, что здесь нельзя беседовать, тем паче рассматривать вашу орхидею, которую я хотел бы изучить без спешки. Еще с неделю у меня будет крыша над головой. Не погостите у меня пару дней? Я мало знаю вас, а обо мне вам известно только то, что я лишенный наследства сын, не сумевший угодить своему отцу. Однако мы сможем провести несколько приятных часов в разговоре о цветах и прочем. Соглашайтесь, если располагаете временем. — Я совершенно свободен, — ответил я. — Я простой путешественник из Южной Африки, живу в отеле. Если позволите, я захвачу саквояж и с удовольствием переночую у вас. В Туикенем мы приехали в элегантном двухколесном экипаже Сомерса, взятом из городской конюшни. До наступления темноты оставался примерно час. Небольшой дом, называвшийся Вербена-Лодж, был построен из красного кирпича в раннем георгианском стиле. Примыкал к нему сад площадью почти целый акр, очень красивый, точнее, наверняка красивый летом. В оранжерею мы не заглядывали, так как для осмотра цветов было слишком поздно. Следом за нами прибыл Вудден на четырехколесном кебе и вместе с хозяином стал устраивать «павлиний глоссум» на новом месте. Ужин получился прекрасным. Для мистера Стивена тот день сложился не очень удачно, но он не позволил обстоятельствам испортить его лучезарное настроение. Еще он, очевидно, решил пользоваться благами жизни, пока они есть: за ужином подали шампанское и портвейн превосходного качества. — Видите ли, мистер Квотермейн, — начал мистер Стивен, — сегодня произошла ссора, назревавшая уже давно. Мой почтенный отец сколотил огромное состояние и желает, чтобы я продолжал его дело. Я же смотрю на жизнь иначе. Я очень люблю цветы, особенно орхидеи, и терпеть не могу операций с золотом. В Лондоне единственные приятные места для меня — это аукционный зал, где мы с вами встретились, и ботанические сады. — Понятно, — с сомнением проговорил я, — но мне кажется, дело серьезное. Ваш отец, по-видимому, не изменит своего решения. А как вы проживете без всего этого? — Я указал на дорогое серебро и вино. — Не думайте, что я беспокоюсь, перемены пойдут мне во благо. Кроме того, отец может изменить свое решение, ведь в глубине души он любит меня — очень уж я похож на свою покойную мать. Но даже если этого не произойдет, дело обстоит не так уж скверно. Мама оставила мне шесть или семь тысяч фунтов. Одонтоглоссум паво я продам сэру Тредголду — тому самому длиннобородому джентльмену, который, по вашим словам, начал набавлять цену с тысячи восьмисот фунтов и не отставал от Вуддена, пока она не достигла двух тысяч трехсот. А может, найдется другой покупатель. Я напишу Тредголду сегодня же. Серьезных долгов у меня нет. Отец платил мне по три тысячи фунтов в год, — по крайней мере, так вознаграждались мои потуги в операциях с золотом, и если я тратил деньги, то только на цветы. К черту прошлое и да здравствует будущее! Мистер Стивен потер стакан портвейна, который держал в руке, и весело засмеялся. Действительно, это был весьма симпатичный молодой человек, правда немного легкомысленный, но легкомыслие и молодость связаны друг с другом, как бренди с содовой. Я поддержал его тост и выпил свой портвейн. Хорошее вино я люблю, как и любой, кто месяцами пьет скверную воду, хотя допускаю, что последняя для меня полезнее. — Теперь, мистер Квотермейн, — продолжал Сомерс, — закуривайте свою трубку. Мы перейдем в другую комнату и хорошенько рассмотрим ваш циприпедиум. Я не усну, если снова его не увижу. Стойте, подождем растяпу Вуддена, а то потом он завалится спать. — Вудден, — сказал хозяин, когда садовник вошел в комнату, — этот джентльмен, мистер Квотермейн, покажет вам орхидею, которая в десять раз красивее паво. — Извините, сэр, — отозвался Вудден, — но если мистер Квотермейн утверждает это, то он говорит неправду. В природе не существует орхидеи красивее павлиньего глоссума. Я открыл ящик и вынул из него золотистый циприпедиум. Вудден глянул на него и перекатился с носка на пятку. Затем посмотрел снова и ощупал себе голову, будто желая убедиться, на месте ли она. Потом воскликнул: — Какой чудесный цветок, если только это не подделка! Я умер бы от счастья, если бы увидел растение, на котором он расцвел. — Сядьте, Вудден, и помолчите, — велел ему хозяин. — Да, так, чтобы видеть циприпедиум. Мистер Квотермейн, пожалуйста, расскажите нам историю этой орхидеи полностью. О месте, где она растет, можно не упоминать, если желаете. Тайны выпытывать нечестно, хотя Вудден и я сумеем держать язык за зубами. Я заметил, что вполне доверяю им, и добрых полчаса рассказывал об орхидее почти не прерываясь, не опуская ни одной подробности. Потом объявил, что ищу человека, согласного финансировать поиски этого замечательного, уникального растения, и выразил уверенность, что во всем свете существует единственный экземпляр. — Дорого ли обойдется экспедиция? — спросил мистер Сомерс. — По моим подсчетам, тысячи в две фунтов, — ответил я. — Нам понадобится много людей, ружей, припасов, различных вещей для подарков и на обмен. — По-моему, сумма небольшая. Предположим, экспедиция будет удачной и вы добудете растение. Что дальше? — Я полагаю, что Брат Джон, открывший это растение, получит треть суммы, вырученной от его продажи, треть достанется мне как начальнику и организатору экспедиции, а все остальное — тому, кто финансировал поход. — Великолепно! Значит, решено. — Что решено? — спросил я. — Разделим стоимость орхидеи на три равные части. Только я ставлю условие получить свою часть, так сказать, натурой. Вы должны дать мне исключительное право на покупку всего растения, во сколько бы мы его ни оценили. — Вы хотите сказать этим, мистер Сомерс, что дадите две тысячи фунтов на экспедицию и сами примете в ней участие? — Ну да. Я думал, это ясно. Вы, ваш полубезумный друг и я будем искать этот золотой цветок и найдем его. Говорю же, решено. На следующий день были расставлены все точки над «i» — мы составили договор в двух экземплярах и оба подписали его. Перед этим мистер Сомерс, по моему настоянию, повидался с моим бывшим компаньоном Чарли Скрупом и тет-а-тет расспросил его обо мне. Очевидно, беседа прошла успешно: после нее молодой Сомерс стал относиться ко мне тепло, даже уважительно. Кроме того, я считал своим долгом указать Сомерсу в присутствии Скрупа (в качестве свидетеля) на опасности предприятия, в котором он вызвался участвовать. Я прямо сказал ему, что он может погибнуть от голода или лихорадки, попасть в руки дикарей или в когти дикого зверя, между тем как успех весьма сомнителен. — Но ведь вы тоже рискуете, — заметил мистер Сомерс. — Да, — ответил я, — но опасность — неотъемлемая часть профессии охотника и исследователя. Мне приходилось часто рисковать. Кроме того, я немолод и пережил много невзгод и лишений, о которых вы и представления не имеете. Поэтому я мало ценю свою жизнь. Мне совершенно безразлично, погибну я или проживу еще несколько лет. Наконец, приключения стали для меня потребностью. Не думаю, что я смог бы долго прожить в Англии. Помимо всего прочего, я фаталист. Я убежден, что умру в предопределенный час, и ни приблизить, ни отложить его я не в силах. Что же до вас… Вы еще молоды. Если останетесь здесь и выберете удачный момент, ваш отец наверняка забудет резкие слова, которые сказал вам недавно. Тем более вы его сами спровоцировали и понимаете это. Стоит ли отказываться от таких перспектив и подвергать себя опасности ради поисков редкого цветка? Я убеждаю вас себе в ущерб, ведь мне трудно будет найти другого человека, который согласится вложить две тысячи фунтов в сомнительное предприятие. Но я настоятельно прошу вас обдумать сказанное мной. Молодой Сомерс посмотрел на меня, весело рассмеялся и воскликнул: — Кем бы вы ни были, мистер Аллан Квотермейн, вы джентльмен! Ни один маклер из Сити не разложил бы ситуацию по полочкам собственной выгоде вопреки. — Благодарю вас, — сказал я. — Что касается остального, мне надоела Англия, — продолжал он. — Я хочу посмотреть мир. Не золотистый циприпедиум ищу я, хоть и не прочь его найти. Орхидея только символ. Я ищу приключений и романтики. Кроме того, я, как и вы, фаталист. Господь посылает нас в этот мир, когда Ему угодно. Будет на то Его воля, Он заберет нас к Себе. Значит, и риск, и опасности — все по воле Всевышнего. — Хорошо, мистер Сомерс, — торжественно сказал я. — В Африке вас ждет немало приключений и романтики. А может, безвестная могила в каком-нибудь малярийном болоте. Однако выбор вы сделали, и я его одобряю. Впрочем, разговор с мистером Стивеном не принес мне удовлетворения. За неделю до нашего отъезда, после долгих размышлений, я написал сэру Александру Сомерсу письмо, в котором предельно ясно изложил дело, не умолчав об опасностях нашей затеи. В заключение я спрашивал его, считает ли он разумным отпустить своего единственного сына в такую экспедицию. Ведь мистер Стивен решил участвовать в ней после той небольшой размолвки между ними. Ответ не приходил, и я занялся подготовкой к отъезду. Денег у нас было более чем достаточно. «Павлиний глоссум» с убытком продали сэру Джошуа Тредголду, что дало мне возможность с легким сердцем покупать все необходимое. Никогда прежде меня не обеспечивали таким снаряжением, какое я теперь заблаговременно переправил на пароход. Наконец наступил день отъезда. Мы стояли на платформе в Паддингтоне и ждали отправления поезда в Дартмут, ведь в те времена почтовые пароходы, отплывающие в Африку, отходили из этого порта. Минуты за две до отправления, когда мы собирались подняться в вагон, я заметил человека, лицо которого показалось мне знакомым. Он, по-видимому, искал кого-то в толпе. Это был мистер Бриггс, управляющий сэра Александра; я видел его в аукционном зале. — Мистер Бриггс! — окликнул я клерка, когда он проходил мимо меня. — Наверное, вы ищете мистера Сомерса? Он здесь. Клерк заскочил в вагон, метнулся в купе и вручил письмо мистеру Сомерсу. Потом вышел и в ожидании встал у двери. Сомерс прочел письмо и, оторвав от последнего листа чистый клочок, нацарапал ответ. Он попросил меня передать записку Бриггсу. Я не удержался и прочел ее. Вот содержание:Слишком поздно. Храни тебя Господь, дорогой отец. Надеюсь, что мы еще свидимся. Если же нет, не поминай лихом своего беспутного сына.Через минуту поезд тронулся. — Между прочим, — сказал Сомерс, когда мы отъехали от вокзала, — отец просил передать вам это письмо. Я вскрыл конверт, надписанный четким округлым почерком, весьма подходившим его обладателю, и прочел следующее:Стивен
Милостивый государь! Я высоко ценю мотивы, побудившие Вас написать мне, и сердечно благодарю за письмо, которое доказывает, что человек Вы честный и порядочный. Как Вы предполагаете, экспедиция, в которую собрался мой сын, представляется мне очень рискованной. Разногласия между мной и сыном для Вас не секрет: они достигли апогея в Вашем присутствии. Должен извиниться за то, что втянул Вас в неприятную семейную ссору. Ваше письмо попало ко мне в руки только сегодня: его переслали в деревню из конторы. Я хотел сразу же вернуться в город, но, увы, сильный приступ подагры лишает меня возможности двигаться. Поэтому я могу лишь написать сыну, в надежде, что письмо, переданное со специальным посыльным, вовремя попадет ему в руки и, быть может, заставит отказаться от путешествия. Хочу добавить: вопреки нашим многочисленным разногласиям, я горячо люблю сына и желаю ему добра. Я даже думать боюсь о том, что с ним может случиться беда. Я понимаю, что, если мой сын в последний момент откажется от экспедиции, вас ждут серьезные убытки и неудобства. Позвольте сообщить, что в таком случае покрою все расходы и возмещу две тысячи фунтов, которые, насколько я понял, мой сын вложил в организацию экспедиции. Однако не исключено, что мой сын, унаследовавший мое упрямство, откажется изменить свое намерение. В таком случае прошу Вас опекать его и присматривать за ним, как за родным сыном. Попросите его при случае писать мне и, если можно, пишите сами. Кроме того, передайте ему, что я прикажу ухаживать за его цветами, оставленными в Туикенеме, хотя и ненавижу их.Это письмо глубоко тронуло меня и сильно смутило. Не говоря ни слова, я передал его своему компаньону, который внимательно прочел его. — Хорошо, что он обещает присматривать за моими орхидеями — сказал он. — Мой отец вспыльчив, всю жизнь командует, но сердце у него доброе. — Что же вы намерены делать? — спросил я. — Конечно, продолжать путешествие. Я взялся за дело и не пойду на попятную. Иначе я распишусь в трусости и окончательно разочарую отца, что бы он ни говорил. Поэтому не пробуйте убеждать меня. Бесполезно! Молодой Сомерс помрачнел, что случалось с ним нечасто. По крайней мере, он долго молчал, разглядывая зимний пейзаж за окном. Мало-помалу он оправился и к приезду в Дартмут стал весел, как всегда, — но я этого настроения не разделял. Перед отплытием парохода я написал сэру Александру письмо, в котором подробно изложил положение дел. Думаю, его сын сделал то же самое, хотя и не показал мне письма. В Дурбане, когда мы уже собирались отправиться дальше, я получил от сэра Александра ответ, посланный со следующим пароходом. Что бы ни случилось, уверял сэр Александр, он ни в чем меня не винит и всегда будет питать ко мне самые дружеские чувства. Он просил меня написать ему в случае денежных затруднений и сообщил, что связался по этому поводу с Африканским банком. В конце письма он прибавил, что его сын, по крайней мере, проявил твердость, за которую он уважает его. Теперь мы надолго простимся с сэром Александром и всем, что относится к Англии.Ваш покорный слуга Александр Сомерс
Глава 4
ЗУЛУС МАВОВО И ГУТТЕНТОТ ХАНС
В начале марта мы благополучно прибыли в Дурбан и поселились в моем доме в Береа, где нас должен был ждать Брат Джон. Но его там не оказалось. Старый хромой гриква[288] Джек, который прежде со мной охотился, а теперь присматривал за моим домом, сообщил, что вскоре после моего отъезда Догита — так он звал Брата Джона — забрал свой жестяной ящик и ушел вглубь страны, не оставив ни письма, ни записки. Ящики с бабочками и засушенными растениями тоже исчезли. Их, как выяснилось, отправили в Америку на паруснике, плывшем в Соединенные Штаты и остановившемся в Дурбане, чтобы запастись провизией и пресной водой. Где сам Брат Джон, мне выяснить не удалось. Его видели в Марицбурге[289], потом — по словам знакомых мне кафров — на границе страны зулусов. Дальше следы его терялись. Сказать, что это путало нам карты, — не сказать ничего. Возник вопрос, что делать дальше. Брат Джон должен был стать нашим проводником. С племенем мазиту был знаком только он один. Он один пересекал границы таинственной страны понго. Без его помощи я в те края почти не наведывался. Прошло две недели, Брат Джон не объявлялся, и мы со Стивеном устроили совещание. Я объяснил, что ситуация сложная, и вместо поисков орхидеи предложил поохотиться на слонов в известных мне районах страны зулусов, где в те времена эти животные водились в изобилии. Стивен мое предложение принял, так как охота на слонов его тоже привлекала. — Удивительно, — сказал я, поразмыслив, — но я не помню ни одной экспедиции, сложившейся удачно, если план меняли в последний момент. — Тогда бросим жребий, — предложил Стивен. — Пусть все решит Провидение. Орел — за золотистый циприпедиум, решка — за слонов. Он подбросил полкроны. Монета упала на пол и закатилась под большой деревянный ящик желтого цвета, наполненный собранными мной редкостями. Сдвинуть ящик удалось ценой больших усилий. Сильно волнуясь — от положения монеты зависело многое, — я зажег спичку. Монета лежала в углу, в пыли. — Ну что? — спросил я Стивена, растянувшегося животом на ящике. — Орел. Значит, орхидея, — ответил он. — Итак, решено, беспокоиться больше не о чем. Следующие две недели я был очень занят. Случилось, что в заливе стояла шхуна «Мария» вместимостью около ста тонн, принадлежавшая португальцу по имени Дельгадо, который возил товары в различные порты Восточной Африки и на Мадагаскар. Этот субъект совершенно не внушал мне доверия. Я подозревал, что он знается с работорговцами, коих в то время было весьма много, а может, и сам он был из их числа. Но направлялся он в Килву, откуда мы намеревались пойти вглубь страны, и я решил воспользоваться его шхуной для перевозки нашего отряда и багажа. Договориться с ним оказалось нелегко по двум причинам: во-первых, ему, по-видимому, не хотелось, чтобы мы охотились в местности, лежащей за Килвой, где, по его словам, совершенно не было дичи. Во-вторых, он заявил, что желает отплыть немедленно. Однако я представил ему очень веский аргумент, против которого Дельгадо не возражал, — деньги, и в конце концов он согласился отложить отплытие на две недели. Потом я принялся собирать команду, — по моему расчету, требовалось человек двадцать. Я вызвал в Дурбан из страны зулусов и верхних округов Наталя охотников, сопровождавших меня в прежних экспедициях. Набралось их около дюжины. Я всегда был в хороших отношениях со своими кафрами, и, куда бы ни собирался, они охотно сопровождали меня. Старшим в команде, непосредственным моим помощником, я назначил зулуса по имени Мавово, немолодого мужчину, высокого, широкогрудого, очень сильного физически. Рассказывали, что он способен повалить быка, если схватит его за рога. На глазах у меня Мавово пригнул голову раненого буйвола к земле и удерживал его до тех пор, пока я не подошел и не пристрелил его. Когда я впервые встретил Мавово, он был вождем мелкого племени и колдуном на землях зулу. Вместе со мной он сражался за принца Умбелази в великой битве на реке Тугела[290], чего Кечвайо ему не простил. Около года спустя Мавово получил предостережение, что его обвиняют в колдовстве и хотят убить. Тогда он бежал с двумя женами и ребенком. Убийцы настигли его прежде, чем он успел добраться до границы Наталя, и закололи его старшую жену и ребенка младшей. Злодеи напали вчетвером, но Мавово, обезумев от ярости, бросился на них и перебил всех. Вместе с уцелевшей женой, израненной так же, как и он, перебрался через пограничную реку в Наталь. Вскоре умерла и вторая его жена; она не смогла пережить потери ребенка. Мавово больше не женился, вероятно, потому, что обнищал, ведь Кечвайо забрал у него весь скот. Кроме того, его лицо было обезображено ассегаем, отхватившим ему правую ноздрю. После смерти своей второй жены он отыскал меня и сказал, что, став вождем без крааля, желает быть у меня охотником. Я взял его на службу, о чем ни разу не пожалел. Несмотря на мрачный характер и пристрастие к диким колдовским обрядам, Мавово был очень верным слугой, отважным, как лев, вернее, как буйвол, ведь царь зверей далеко не всегда храбр. За другим кандидатом в команду я не посылал, но он явился сам — старый готтентот по имени Ханс, спутник почти всей моей жизни. Когда я был ребенком, он прислуживал моему отцу в Капской колонии. Ханс сопровождал меня в военных походах и делил со мной опасности приключений, описанных в истории о Мари Марэ, моей первой жене. Так, например, мы с Хансом единственные избежали участи Ретифа и его товарищей, убитых зулусским королем Дингааном. В последующих схватках, включая битву у Кровавой реки[291], он сражался бок о бок со мной и в итоге получил хорошую долю при дележе отбитого скота. После этого Ханс удалился на покой и открыл лавочку в городе под названием Пайнтаун, милях в пятнадцати от Дурбана. Увы, там он сбился с пути истинного — пристрастился к пьянству и азартным играм. Ханс потерял бо́льшую часть своего имущества, даже крышу над головой. Однажды вечером, после подведения счетов, я вышел из дому и увидел седого желтолицего старика, который на корточках сидел у меня на веранде и курил трубку из кукурузного початка. — Добрый вечер, баас, — сказал он. — Это я, Ханс. — Вижу, — холодно ответил я. — Что ты тут делаешь? Неужели у тебя осталось время от игры и пьянства в Пайнтауне, чтобы навестить меня? Ханс, мы же три года не виделись. — С игрой я покончил, баас, потому что мне больше нечего ставить. С пьянством тоже покончил, потому что, выпив одну бутылку «Капского дыма», я на другой день становлюсь больным. Теперь я пью только воду, да и той немного, еще курю, чтобы придать ей вкус. — Я рад это слышать, Ханс. Если бы мой отец, крестивший тебя предикант[292], был жив, он многое сказал бы тебе относительно твоего поведения, что он, наверное, сделает, когда ты попадешь в яму, то есть в могилу, ибо он будет ждать тебя там, Ханс. — Знаю, знаю, баас. Я думал об этом и очень тревожусь. Предикант, преподобный отец бааса, сильно рассердится на меня, когда мы встретимся в огненном месте[293], где он сидит и ждет. Поэтому я хочу примириться с ним, встретив смерть на службе у бааса. Говорят, баас собирается в дальний путь. Я хочу сопровождать бааса. — Сопровождать меня? Но ведь ты стар и не стоишь кормежки и ежемесячного жалованья в пять шиллингов. Ты рассохшийся винный бочонок, в котором нельзя держать даже воду. По уродливому лицу Ханса скользнула улыбка. — Ох, баас, я стар, да умен. Все эти годы я набирался мудрости. Я полон ею, как улей медом в конце лета. Я могу, баас, остановить течь в бочонке. — Бесполезно, Ханс. Ты мне не нужен. Я отправляюсь в очень опасное путешествие. Мне нужны люди, которым можно доверять. — Кому же, баас, можно доверять, если не Хансу? Кто предупредил бааса о нападении воинов Кваби на Марэфонтейн и спас… — Тсс! — перебил я. — Понимаю и имени не назову. Оно свято, имя той, которая с ангелами стоит у престола Господня, и полупьяному нищему Хансу называть его не след. Но кто был около бааса во время великой битвы? Ах, я снова молодею, вспоминая, как загорелась крыша, как сломали дверь, как мы встретили кафров копьями, как вы держали пистолет у виска той святой, чье имя нельзя упоминать напрасно, той великой, которая не знала страха смерти. Наши жизни, баас, переплелись, как вьюн с деревом. Куда пойдет баас, туда должен идти и я. Не гоните меня. Я не прошу никакого жалованья, только немного еды да горсть табаку. Мне всего и нужно, что изредка смотреть на светлое лицо бааса и перекинуться с ним словечком о нашем славном прошлом. Я еще достаточно силен и стреляю хорошо. Кто надоумил бааса целиться в хвост стервятникам на холме смерти в земле зулу и этим спас жизнь бурам и той, чье святое имя нельзя упоминать? Баас ведь не прогонит меня? — Хорошо, — сказал я, — можешь идти со мной. Но ты должен поклясться духом моего отца, предиканта, что на протяжении всего путешествия не прикоснешься к спиртному. — Клянусь духом вашего батюшки! — воскликнул он, бросившись на колени, поцеловал мне руку, потом поднялся и деловым тоном добавил: — Не соблаговолит ли баас дать мне два одеяла и пять шиллингов на табак и новый нож? Где ружья, баас? Их надо смазать. Пусть баас возьмет с собой маленькое ружье, которое мы зовем Интомби[294], — то самое, из которого он стрелял по стервятникам на холме смерти и по гусям в овраге Груте-Клуф. Когда я заряжал Интомби для бааса, он вышел победителем в состязаниях с буром, которого Дингаан прозвал Двоеглазым[295]. — Хорошо, — сказал я, — вот тебе пять шиллингов. Кроме того, ты получишь два одеяла, новое ружье и все необходимое. Ружья ты найдешь в маленькой задней комнате. Там же хранятся ружья другого бааса — теперь ты будешь служить и ему. Пойди взгляни на них. Наконец все было готово. Ящики с ружьями, боеприпасами, лекарствами, подарками и снедью доставили на борт «Марии». Туда же перевезли четырех ослов, которых я купил в надежде, что они пригодятся как верховые или вьючные животные. Следует заметить, что только человек и осел могут быть невосприимчивы к ядовитым укусам мухи цеце, за исключением, конечно, диких животных. Наступила наша последняя ночь в Дурбане (было полнолуние в конце марта), так как португалец Дельгадо заявил, что желает отплыть на следующий день. Мы с молодым Сомерсом сидели на крыльце, курили и разговаривали. — Странно, что Брата Джона до сих пор нет, Стивен. — Мы сдружились, и я теперь называл его по имени. — Знаю, что он хотел устроить эту экспедицию не только из-за орхидеи, но и по другой причине, о которой он не желал распространяться. Сдается мне, старика уже нет в живых. — Вполне вероятно, — ответил Стивен, — любой, кто останется один среди дикарей, рискует попасть в беду и сгинуть. Но постойте! Что там? — Он указал на кусты гардении, растущие около дома: оттуда слышался шорох. — Собака или, быть может, Ханс. Он всегда бродит рядом или прячется где-нибудь неподалеку. Ханс, это ты? Из-за куста гардении показалась чья-то фигура. — Да, это я, баас. — Что ты там делаешь, Ханс? — То же, что и собака, баас, — охраняю своего хозяина. — Прекрасно, — ответил я. Тут мне пришла в голову мысль. — Ханс, — сказал я, — не слышал ли ты о белом баасе с длинной бородой, которого кафры кличут Догитой? — Я слышал о нем и видел его несколько лун тому назад, когда он проходил через Пайнтаун. Кафр, сопровождавший его, сказал мне, что Догита направляется куда-то через Дракенсберг[296] искать мелких тварей, которые ползают и летают. Но ведь он совсем сумасшедший, баас. — А где он теперь, Ханс? Догита должен был прийти сюда, чтобы отправиться с нами. — Разве я дух, чтобы возвестить баасу, куда ушел белый человек? Но погодите, Мавово вам поможет, он великий врачеватель и колдун, видит на расстоянии. Как раз сегодня вечером его змея-прорицательница вошла в него. Он гадает там, за домом. Я видел, как он очерчивает круг. Я перевел с голландского слова Ханса и спросил Стивена, не желает ли он посмотреть на кафрское гадание. — С удовольствием, — усмехнулся Сомерс, — но ведь все это вздор, не правда ли? — Ну, так считают многие, — уклончиво ответил я. — Однако порой эти колдуны говорят необыкновенные вещи. Под предводительством Ханса мы тихо обошли вокруг дома и остановились у стены футов в пять высотой, примыкавшей к задней части конюшни. За этой стеной, среди хижин, в которых жили мои кафры, было открытое место с подобием очага, где они готовили себе пищу. Здесь, лицом к нам, сидел Мавово, вокруг — охотники, которые должны были сопровождать нас, да еще хромой гриква Джек и двое домашних слуг. Перед Мавово горело с дюжину костерков. Если точнее, я насчитал четырнадцать — по числу наших охотников вместе с нами. Один из кафров подбрасывал в пламя кусочки щепок и сухую траву, чтобы пылало ярко. Остальные молчали, с благоговением наблюдая за обрядом. Сам Мавово словно спал — сидел на корточках, склонив огромную голову почти до коленей. Он опоясался змеиной кожей, а на шею повесил украшение, видимо собранное из человеческих зубов. Справа от него лежали перья из крыльев коршуна, а слева — серебряные монеты (я полагаю, плата охотников, которым он гадал). Мы смотрели на Мавово из-за прикрытия — каменной стены. Вдруг он пробудился. Сперва что-то пробормотал, потом глянул на луну и прочел, очевидно, молитву, слов которой я не разобрал. Затем судорожно вздрогнул три раза и четко объявил: — Моя змея пришла. Она во мне. Теперь я вижу! Теперь я слышу! Напротив Мавово горели три костра, которые были чуть больше прочих. Колдун взял связку перьев грифа, выбрал перо, поднял его к небу, потом провел им через центр одного из трех костров, назвав при этом мое туземное имя — Макумазан. Вот он вынул перо из огня и внимательно осмотрел обгорелые края. У меня мурашки по спине пробежали: я знал, что он вопрошает своего духа о том, что случится со мной в нашей экспедиции. Что ответил дух, сказать не могу, так как Мавово отложил опаленное перо в сторону и, взяв другое, проделал с ним то же, что и с предыдущим. Только на этот раз он назвал имя Мвамвацела, сокращенная форма которого, Вацела, была прозвищем, данным кафрами Стивену Сомерсу. Оно означало «улыбка», и, без сомнения, Стивена так нарекли за улыбчивость и обаяние. Мавово провел пером через правый из трех костров, внимательно осмотрел и отложил в сторону. Так продолжалось и дальше. Одно за другим он называл имена охотников, начав с себя как со старшего. Мавово проводил пером через костер, символизировавший судьбу упоминаемого охотника, внимательно осматривал перо и откладывал. После этого черный великан, казалось, снова погрузился в сон. Через несколько минут колдун очнулся, зевнул и потянулся, как человек, пробуждающийся от естественного сна. — Говори! — с превеликим волнением потребовали собравшиеся и закричали наперебой: — Что ты видел? Что слышал? Что сказала тебе змея обо мне? А обо мне? — Я видел, я слышал, — ответил Мавово. — Моя змея говорит, что путешествие будет очень опасным. Шестеро погибнут от пули, копья или болезни. Другие получат ранения. — Ох! — воскликнул один из охотников. — Но кто умрет и кто останется в живых? Об этом тебе змея не сказала? — Да, конечно сказала. Но она велела мне держать язык за зубами, чтобы кто-нибудь из вас не струсил. Кроме того, она сказала мне, что первый, кто станет расспрашивать, будет в числе погибших. Ну, есть у кого вопросы? Задавайте, если хотите. Странно, но никто ни о чем больше не спросил. Никогда я не видел людей, столь безразличных, во всяком случае внешне, к своему будущему. Все, казалось, были согласны со своей судьбой. — Змея сказала мне еще кое-что, — продолжал Мавово. — Если среди вас есть трусливый шакал, который думает, что он в числе шести обреченных на смерть и собирается бежать от своей участи, то это бесполезно. Змея укажет мне его и научит, как поступить с ним. Присутствующие хором заявили, что им в голову не приходило бросать Макумазана. Я убежден, что эти храбрые люди говорили правду и верили в гадание Мавово. Впрочем, обещанная гибель была еще далеко, и каждый из них надеялся попасть в число уцелевших. Кроме того, туземцы в те времена слишком часто видели смерть, чтобы бояться ее. Один из зулусов предложил возвращать шиллинг, уплаченный за предсказание, ближайшим родственникам погибших. — Зачем платить за то, что тебе предсказывают смерть? — недоумевал зулус. Это казалось ему бессмысленным. Мавово отнесся к его словам с презрением. Воистину, у этих кафров странное мировоззрение. — Ханс, твой костер там тоже есть? — шепотом спросил я. — Нет, баас, — прошелестел он мне на ухо. — Баас считает меня дураком? Если мне суждено погибнуть, я погибну; если суждено выжить, я выживу. Зачем же мне платить шиллинг за то, что покажет время? Кроме того, Мавово берет шиллинги, всех пугает, но толком ничего не говорит. По-моему, это обман. Но вы, баас, и баас Вацела бояться не должны. Вы денег не платили, потому Мавово, хотя он и великий колдун, вам предсказывать не может, ведь его змея бесплатно не работает. Это замечание казалось вздорным. Однако у меня мелькнула мысль, что ни одна цыганка не станет гадать, если ей не «позолотить ручку». — Мне кажется, Квотермейн, — лениво начал Стивен, — раз наш друг Мавово знает так много, его, по совету Ханса, следует расспросить о Брате Джоне. Потом расскажете мне, ладно? Я хочу пойти посмотреть кое-что. Я прошел через маленькие ворота в стене и изобразил удивление, как будто впервые увидел костерки. — Что, Мавово, опять гадаешь? — спросил я. — Мало неприятностей колдовские обряды принесли тебе в стране зулусов? — Это так, бабá, — ответил Мавово, звавший меня отцом, хотя был старше меня, — гадание уже стоило мне звания вождя, скота, двух жен и сына. Оно превратило меня в странника, который рад сопровождать некоего Макумазана в неведомые земли, где со мной может случиться многое и даже то, — многозначительно прибавил он, — что случается последним. Но дар есть дар, им надо пользоваться. У тебя, баба́, есть дар стрелять. Разве ты перестанешь стрелять? У тебя есть дар странствовать. Ты перестанешь странствовать? — Мавово взял опаленное перо из кучки, лежавшей около него, и внимательно его осмотрел. — У меня острый слух, баба́, слова доносятся до меня по воздуху. Тебе, кажется, сказали, что мы, бедные кафрские колдуны, не можем предсказывать правильно, если нам не заплатят? Это, пожалуй, правда. Но в колдуне сидит змея, она прыгает над камнем, заслоняющим настоящее, и видит тропинку, которая бежит по горам, по долам, пока не скроется в небесах. Так, на этом пере, опаленном волшебным огнем, я вижу твое будущее, о мой отец Макумазан! Путь твой дальний, очень дальний. — Мавово провел пальцем по всему перу. — Вот странствие, — он смахнул обуглившееся волокно, — вот еще одно, еще и еще, — он убирал одно обуглившееся волоконце за другим. — Вот очень удачный поход, он обогатит тебя. Вот еще одно удивительное странствие, в котором ты увидишь диковинные вещи и встретишь странный народ. Потом… — Он так сильно дунул на перо, что все обуглившиеся волоконца — бородки, как называет их Брат Джон, — осыпались. — Потом останется только шест, из тех, что некоторые люди моего племени втыкают в могилы и называют столбами воспоминаний. О мой отец, ты умрешь в далекой земле, но оставишь после себя великую память, которая проживет сотни лет. Ибо смотри, как крепко это перо, как мало повредил его огонь. Остальные перья — другая история, — прибавил он. — Да, наверное, — отозвался я. — Будь добр, Мавово, перестань гадать для меня, ведь мне совершенно неинтересно, что со мной станет. Я живу сегодняшним днем и не желаю заглядывать в будущее. В нашей священной книге сказано: «…Довольно для каждого дня своей заботы»[297]. — Да, Макумазан, это хорошее изречение. Некоторые из твоих охотников теперь тоже думают так, хотя час тому назад они совали мне свои шиллинги, чтобы я предсказал им будущее. Ты тоже что-то хочешь узнать. Ведь ты прошел через эти ворота не для того, чтобы потчевать меня мудростью своей священной книги. В чем дело, баба́? Говори скорее, ибо моя змея теряет силу. Она хочет вернуться в свою нору, в потусторонний мир. — Хорошо, — смущенно ответил я, ибо Мавово обладал необыкновенной способностью угадывать тайные побуждения, — мне хотелось бы знать, что сталось с длиннобородым белым человеком, которого вы, туземцы, называете Догитой. Он должен был ждать здесь, чтобы отправиться вместе с нами в это странствие. Он обещал быть нашим проводником, но мы не можем его найти. Где он и почему его здесь нет? — Нет ли у тебя, Макумазан, чего-нибудь, принадлежащего Догите? — Нет, — ответил я, — но постой… Я вытащил из кармана огрызок карандаша, который получил от Брата Джона и, будучи бережливым, сохранил. Мавово взял его и тщательно осмотрел, как делал это с перьями. Потом мозолистой ладонью выгреб немного золы из самого большого костра, символизировавшего мою судьбу, размел по земле, выровнял и нарисовал человека. Такие фигурки, сделанные детской рукой, можно видеть на выбеленных стенах. Мавово созерцал изображение с удовлетворением художника. С моря прилетел ветерок и смешал золу, изменив очертания рисунка. Некоторое время Мавово сидел зажмурившись. Потом открыл глаза, внимательно рассмотрел золу и остатки рисунка, взял лежавшее рядом одеяло и набросил его себе на голову и на золу. Вот он отшвырнул одеяло в сторону и указал на рисунок, который сильно изменился. Теперь при свете луны он больше походил на пейзаж. — Все ясно, отец, — сказал Мавово деловым тоном. — Белый странник Догита не мертв. Он жив, но болен. Что-то случилось с его ногой, и он не может ходить. Возможно, сломана кость или его укусил дикий зверь. Он лежит в хижине, какие строят себе кафры, только вокруг нее идет веранда, похожая на крыльцо твоего дома. Стены хижины покрыты рисунками. Она находится далеко отсюда, где именно — я не знаю. — Это все? — спросил я, так как он замолчал. — Нет, не все. Догита поправляется. Он присоединится к нам в трудную минуту в стране, куда мы направляемся. Вот и все. Плата за это полкроны. — Ты хочешь сказать, шиллинг? — уточнил я. — Нет, отец мой Макумазан. Шиллинг платят простые зулусы за предсказание будущего. А за гадание для белых людей, в котором искусны лишь великие колдуны вроде Мавово, надо платить полкроны. Я протянул ему полкроны и сказал: — Слушай, дружище Мавово. Я считаю тебя хорошим охотником и бойцом, а вот в гадании ты, по-моему, привираешь. Я убежден в этом, и если Догита присоединится к нам в той стране, куда мы направляемся, да еще в трудную минуту, я подарю тебе свою двустволку, которая тебе так нравится. В кои-то веки на изуродованном лице Мавово появилась улыбка. — Тогда дай мне ружье сейчас, баба́, — сказал он, — ибо я его уже заработал. Моя змея не лжет, особенно за полкроны. Я отрицательно покачал головой и отказал ему учтиво, но твердо. — Эх, — сказал Мавово, — вы, белые люди, очень умны, вы думаете, что все знаете. Но это не так. От большой учености забываются древние знания. Тысячу тысяч лет назад, когда твоя змея жила в теле черного дикаря вроде меня, ты мог делать и делал то, что делаю я. Сейчас же ты только усмехаешься и говоришь: «Мавово, храбрый в битве, великий охотник, верный человек, становится лжецом, когда дует на обожженные перья или читает письмена ветра на пепле». — Я не утверждаю, что ты лжешь, Мавово, но говорю, что ты обманут собственным воображением. Человек не может знать того, что от него скрыто. — Разве это так, о Макумазан, о Бодрствующий в ночи? Разве я, Мавово, ученик Зикали, Открывателя дорог, величайшего из колдунов, в самом деле обманут своим воображением? Разве нет у человека других глаз, кроме тех, которые на лице, чтобы видеть скрытое? Но ты так думаешь, а нам, туземцам, известно, что ты очень мудр. С чего бы мне, бедному зулусу, видеть то, чего не видишь ты? Завтра ты получишь тревожные вести с корабля, на котором мы должны отплыть: там беда, и тебя немедленно призовут на борт, тогда вспомни о нашем разговоре и о том, дано ли человеку видеть скрытое от него во мраке будущего. Ох, ружье твое уже принадлежит мне, хотя ты не хочешь дать его мне сейчас. За то, что ты, Макумазан, считаешь меня обманщиком, я никогда не буду ни дуть на перья, ни читать письмена ветра на пепле для тебя и для всех, кто ест твой хлеб! Мавово встал, сделал правой рукой прощальный жест, собрал деньги, мешок с лекарствами и удалился в свою хижину на ночлег. На обратном пути в дом мы встретили старого хромого Джека. — Баас, — сказал он, — белый вождь Вацела велел передать, что они с поваром Сэмом отправляются на корабль присмотреть за багажом. Сэм только что приходил и увел Вацелу. Сказал, что объяснит все завтра. Я кивнул и вошел в дом, удивляясь, почему Стивен столь внезапно решил провести ночь на борту «Марии».Глава 5
РАБОТОРГОВЕЦ ХАСАН
Следующим утром, часа через два после рассвета, меня разбудил стук в дверь. Джек крикнул, что повар Сэм желает со мной поговорить. «Как Сэм попал сюда? Он же на шхуне ночует?» — удивленно подумал я и велел Джеку впустить его. Сэм вырос в Кейптауне, в его жилах текла смешанная кровь. По-моему, среди его предков были малайцы, индийские кули, белые и, возможно, но я не уверен, готтентоты. В результате получился человек, обладающий многочисленными достоинствами и почти лишенный пороков. Однако скажу сразу: таких трусов, как Сэм, я в жизни не видывал. Трусость у него врожденная, и, как ни странно, она не мешала ему попадать в опаснейшие ситуации. Сэм прекрасно понимал, чтó ожидает нас в предстоящей экспедиции: зная его слабость, я все ему объяснил. Тем не менее он умолял взять его с собой. Может, причина тому — наша взаимная привязанность, такая же, как у нас с Хансом. За несколько лет до этого я выручил Сэма из большой беды, отказавшись свидетельствовать против него. Не стану вдаваться в подробности, скажу только, что исчезла некоторая сумма денег, доверенных Сэму. Следует заметить, что в то время Сэм был помолвлен с цветной леди, любившей дорогие удовольствия. Впрочем, он на ней так и не женился. Когда я тяжело заболел, Сэм преданно ухаживал за мной. Тогда и возникла привязанность, о которой я упоминал. Сэм — сын туземного миссионера, воспитанный, по его собственным словам, на Слове Божьем. Прекрасно образованный для человека своего класса, он владел несколькими туземными диалектами, которые выучил во время своей разнообразной деятельности, и великолепно говорил по-английски, хотя и самым напыщенным слогом. Он не употреблял коротких фраз, если длинная имелась под рукой, точнее, вертелась на языке. Несколько лет Сэм учительствовал в кейптаунской школе для цветных. Свою «специальность» он называл «Английский язык и литература». Не то Сэма утомила служба, не то его уволили, но он перебрался на острова Занзибара, где использовал свои лингвистические способности для изучения арабского и стал управляющим или шеф-поваром в отеле. Спустя несколько лет Сэм лишился этого места и снова появился в Дурбане — как он выразился, «на иной позиции». Здесь он снова встретился со мной, незадолго до начала экспедиции в страну понго. Учтивый, искренне верующий, Сэм, как мне кажется, был баптистом. Невысокий смуглый денди неопределенного возраста, он носил аккуратнейший пробор и отличался исключительной опрятностью. Я взял Сэма на службу не только потому, что он попал в беду. Он отлично готовил, прекрасно ухаживал за больными и, повторюсь, был искренне привязан ко мне. Кроме того, он умел меня развлечь, а в длительных путешествиях это чего-нибудь да стоит. Таков, в общих чертах, был Сэм. Когда он вошел в комнату, яувидел, что на нем совершенно мокрое платье. Я спросил: не идет ли дождь или, быть может, он напился и уснул на сырой траве? — Нет, мистер Квотермейн, — ответил Сэм, — погода стоит превосходная, а что касается спиртных напитков, то я, подобно бедному готтентоту Хансу, дал себе слово не прикасаться к ним. В этом мы сходимся с ним, хотя мало похожи друг на друга. — В чем же дело? — прервал я поток его красноречия. — Сэр, не все обстоит благополучно на корабле. Я вспомнил слова Мавово и вздрогнул. — Я ночевал там в обществе мистера Сомерса, по его настоятельной просьбе. На самом деле было наоборот. — Сегодня перед рассветом португальский шкипер и его арабы, думая, что мы спим, тайком начали поднимать якорь и паруса. Мы вышли из каюты. Мистер Сомерс уселся на кабестан[298] с револьвером в руке и сказал… Сэр, я не могу повторить его слова. — Ну хорошо. А дальше что? — Потом, сэр, поднялась большая суматоха. Португалец и арабы грозили мистеру Сомерсу, но он продолжал сидеть на кабестане с твердостью скалы среди бурного потока. Он сказал, что уложит любого, кто попробует коснуться кабестана. Что произошло дальше, я не знаю. Я стоял у фальшборта, и кто-то столкнул меня в воду. Я, будучи, к счастью, хорошим пловцом, добрался до берега и поспешил сюда, чтобы известить вас об этом. — А ты кого-нибудь еще известил, идиот?! — крикнул я. — Да, сэр. По дороге я сообщил портовому офицеру, что на «Марии» творятся серьезные беспорядки, с чем ему следует разобраться. Я уже оделся и позвал Мавово и охотников. Явились они быстро: наряд их состоит из набедренной повязки и накидки, так что много времени на сборы не нужно. — Мавово, — начал я, — на корабле беда… — О баба́, — прервал он меня, и его губы шевельнулись в подобии улыбки, — ты не поверишь, но сегодня мне приснилось, как я говорю тебе… — Да черт с твоими снами! — не вытерпел я. — Собери людей и беги… Нет, постой! Сейчас либо уже поздно, либо на корабле все уладилось. Готовь охотников, я пойду вместе с вами. Багаж переправим потом. Менее чем через час мы были на набережной, недалеко от верфи, на которой стояла «Мария». Теперь там великолепный Дурбанский порт, но в прежние времена портовые сооружения удивляли примитивностью. Странное же сборище представляли мы! Впереди шел я, одетый более или менее прилично, следом ковылял Ханс, в грязной широкополой шляпе и засаленных вельветовых брюках, затем напомаженный Сэм, в европейском костюме, при котелке и ярко-синем галстуке в красную полоску. Он выглядел бы щеголевато, если бы не недавнее купание. За ним шагал суровый Мавово с отрядом охотников. На голове у каждого красовалось исикоко, черное восковое кольцо, прикрепленное к коротким волосам. Вид у туземцев был весьма свирепый. По новому закону они не имели права появляться в городе вооруженными, поэтому мы уже отправили на «Марию» ружья и копья, которые обернули циновками, а их широкие наконечники обмотали сухой травой. Каждый охотник держал в руках дубину из красного дерева. Шли они по-военному, по четыре в ряд. Правда, едва мы сели в большую лодку, чтобы переправиться на корабль, их воинственный пыл испарился: эти люди, бесстрашные на суше, панически боялись незнакомой им стихии — воды. Мы достигли «Марии», шхуны совершенно непримечательной, и взобрались на палубу. Первым я увидел Стивена Сомерса, который, как и рассказывал Сэм, сидел на кабестане с пистолетом в руке. Рядом, опираясь на фальшборт, стоял португалец Дельгадо, — похоже, он пребывал в сквернейшем настроении. Окружали его матросы-арабы такой же подозрительной наружности, как и он, одетые в грязное белое платье. Тут находился и начальник порта Като. Этот знаменитый и уважаемый джентльмен, подобно мне, отличался невысоким ростом и, как и я, пережил множество приключений. Мистер Като сидел около люка со своей свитой и курил, не спуская глаз со Стивена и португальца. — Приветствую вас, Квотермейн, — сказал он. — Я тоже только что прибыл сюда. Тут что-то стряслось, но я не говорю по-португальски, а джентльмен на кабестане ничего не объясняет. — В чем дело, Стивен? — спросил я, пожав руку мистеру Като. — В чем дело? — повторил Сомерс. — Этот человек, — он указал на Дельгадо, — хотел улизнуть в море со всем нашим багажом. Без сомнения, нас с Сэмом выбросили бы за борт, едва земля скрылась бы из виду. Но Сэм знает португальский, он подслушал их разговор, разобрался в их подлом плане, и я, как видите, нашел контраргументы. Дельгадо попросили объясниться, и он, как я и думал, заявил, что хотел лишь подвести судно ближе к берегу и ждать нас там. Он, конечно, лгал и понимал, что нам ясны его намерения: скрыться с нашим добром и продать его, а Стивена и беднягу повара убить или высадить на необитаемый остров. Но где взять доказательства? Мы же были в большинстве, могли постоять за себя и защитить свое имущество, так к чему спорить? Я с улыбкой выслушал россказни Дельгадо и пригласил всех пропустить по рюмочке. Потом Стивен доложил мне, что, когда я накануне вечером разговаривал с Мавово, Сэм, стороживший багаж на судне, прислал весточку с просьбой дать ему кого-нибудь в подмогу. Стивен знал, сколь боязлив наш повар, и, к счастью, сразу решил отправиться на «Марию» и заночевать там. Дальше все было так, как поведал мне Сэм, только за борт его не выбрасывали — он спрыгнул сам, когда столкновение с Дельгадо стало неизбежным. — Вполне понятно, — проговорил я. — Все хорошо, что хорошо кончается. Счастье, что вы решили заночевать на шхуне. Далее все пошло спокойно. Я послал нескольких кафров в сопровождении Стивена за остальным багажом, который был благополучно доставлен на борт «Марии». Вечером мы отплыли. До Килвы добрались прекрасно. Бриз гнал нас по морю, такому спокойному, что даже Ханс, по моему мнению, худший моряк на свете, и зулусские охотники не чувствовали тошноты, хотя, как выразился Сэм, «отвергали пищу». Не то на пятый, не то на седьмой день нашего путешествия мы пришвартовались у острова Килва, недалеко от старого португальского форта. Дельгадо, с которым в пути мы почти не общались, подал какой-то сигнал. В ответ на него пришла лодка с пассажирами, — по словам Дельгадо, это были портовые чиновники. Они оказались бандой напористых черных головорезов под предводительством немолодого рябого полукровки. Дельгадо представил его как бея Хасана бен Магомета. Что мистер Хасан бен Магомет категорически против нашего присутствия на судне и особенно предполагаемой нами высадки в Килве, я понял, едва увидев его неприятное лицо. Кратко переговорив с Дельгадо, он выступил вперед и обратился ко мне на арабском языке, которым я совершенно не владею. К счастью, наш Сэм, блестящий лингвист, как я уже упоминал, неплохо понимал по-арабски, вероятно научившись языку во время службы в занзибарском отеле. Не доверяя Дельгадо, я попросил Сэма быть переводчиком. — Сэм, о чем он речь ведет? — спросил я. Повар поговорил с Хасаном и сказал: — Сэр, Хасан вас нахваливает, мол, он слышал от своего друга Дельгадо много хорошего. Кроме того, вы и мистер Сомерс — англичане, а эту нацию он очень любит. — В самом деле? — воскликнул я. — А по виду и не скажешь. Поблагодари его за любезность и передай, что мы намерены здесь высадиться и отправиться вглубь страны на охоту. Сэм повиновался, и наш разговор продолжился в таком духе: Хасан. Я убедительно прошу вас не сходить на берег. Эти края — неподходящее место для таких благородных джентльменов. Здесь нечего есть, а дичи нет уже много лет. Тут обитают дикари, которых голод довел до каннибализма. Ваша кровь будет на моей совести. Умоляю вас отправиться на этом корабле в бухту Делагоа, где есть хорошие отели, или в какое-нибудь другое место. Аллан Квотермейн. Позвольте поинтересоваться, какое положение вы, сэр, занимаете в Килве, раз так заботитесь о нашей безопасности? X. Досточтимый английский лорд, я португальский торговец, но воспитывался среди магометан, ибо моя мать — арабка высокого происхождения. На материке у меня сады, где работают слуги-туземцы, которые мне как родные дети. Я выращиваю пальмы, маниоку, земляные орехи, смоквы и прочее. Все местные племена считают меня вождем и почитают как отца. А. К. В таком случае, благородный Хасан, ты можешь допустить нас на остров, ведь мы мирные охотники, вреда никому не желаем. Хасан долго совещался с Дельгадо, а я тем временем велел Мавово вывести на палубу наших зулусов с ружьями. X. Досточтимый английский лорд, я не могу позволить вам высадиться. А. К. Благородный сын пророка, завтра утром я намерен сойти на берег со своим другом, спутниками, с ослами и всем багажом. Я буду рад заручиться твоим позволением. Если же нет… — Я посмотрел на грозную группу охотников, стоявших позади меня. X. Досточтимый английский лорд, мне будет крайне неприятно применять силу, но позволь сообщить, что в моей мирной деревне найдется по крайней мере сотня стрелков с ружьями, меж тем как вас — меньше двадцати человек. А. К. (после некоторого размышления и переговоров со Стивеном Сомерсом). Подскажи, о благородный господин, не видать ли из твоей мирной деревни английских солдат с военного корабля «Крокодил»? Он занимается поимкой дау[299], принадлежащих подлым работорговцам. Я получил письмо от его капитана. Он должен был прибыть в эти воды еще вчера, но, по всей вероятности, запоздает дня на два. Пожалуй, если бы в ногах у почтенного Хасана взорвалась бомба, был бы не меньший эффект. Лицо бея, вместо того чтобы побледнеть, стало ужасно желтым, и он воскликнул: — Английское военное судно «Крокодил»! Я думал, он ремонтируется в Адене[300] и на Занзибар вернется не раньше чем через четыре месяца. А. К. Тебя дезинформировали, о благородный Хасан. «Крокодил» не будет ремонтироваться до октября. Прочесть тебе письмо? — Я вынул из кармана лист бумаги. — Оно тебя заинтересует, ведь мой друг капитан — его зовут Флауэрс, помнишь? — упоминает твое имя. Он пишет… Хасан махнул рукой: — Довольно. Вижу, досточтимый лорд, что ты человек решительный, от задуманного не откажешься. Во имя Аллаха милостивого и милосердного, высаживайся на берег и иди куда пожелаешь. А. К. Я лучше подожду прихода «Крокодила». X. Нет-нет, высаживайся на берег. Капитан Дельгадо, вели грузить багаж в лодку. Моя лодка тоже к услугам этих лордов. Тебе, капитан, стоит уйти отсюда с вечерним отливом. Еще светло, лорд Квотермейн, и я буду счастлив оказать тебе скромный прием. А. К. Бей Хасан, так ты шутил, настойчиво отправляя меня в другое место? Превосходная шутка для человека, славящегося гостеприимством. Отлично, мы исполним твое желание и высадимся на берег сегодня же вечером. Если капитан Дельгадо случайно увидит военный корабль «Крокодил», не соблаговолит ли он дать нам сигнал ракетой? — Конечно, конечно, — заторопился Дельгадо, прежде притворявшийся, что не понимает английского языка, на котором я говорил с Сэмом. Он отвернулся и отдал приказание своим арабам-матросам перенести поклажу из трюма в лодку. Никогда я не видел столь быстрой погрузки. Через полчаса на шхуне не осталось наших вещей. Стивен Сомерс наблюдал за их переноской. Наш личный багаж погрузили в шлюпку с «Марии», остальной как попало свалили на плоскодонную баржу Хасана, сверху поставили четырех ослов. На этой барже поместился я с половиной наших людей, остальные под командой Стивена заняли места в меньшей лодке. Наконец все было готово, и мы отчалили. — Прощайте, капитан, — крикнул я Дельгадо, — если встретите «Крокодил»… Тут Дельгадо разразился таким потоком брани на португальском, арабском и английском, что, боюсь, не услышал конец моей фразы. Пока мы плыли к берегу, я заметил, что Ханс, сидящий рядом со мной и ослами, по-собачьи обнюхивает борта и дно баржи. Я спросил его, в чем дело. — Странный запах у этой лодки, — прошептал он по-голландски, — она пахнет кафрами так же, как и трюм «Марии». Думаю, на этой лодке перевозили невольников. — Сиди смирно и перестань обнюхивать борта, — велел я, подумав при этом, что Ханс прав: очевидно, мы попали в гнездо работорговцев и Хасан их предводитель. Мы плыли мимо острова, на котором я углядел развалины старого португальского форта и несколько длинных хижин, крытых соломой, где, должно быть, держали невольников до продажи. Перехватив мой пристальный взгляд, Хасан поспешно объяснил мне через Сэма, что это склады, где он сушит рыбу и шкуры, а также хранит товар. — Как интересно! — воскликнул я. — А мы сушим шкуры на солнце… По узкому каналу мы доплыли до убогой пристани и сошли на берег. Оттуда Хасан повел нас не в деревню, которая теперь оказалась слева, а к красивому, хоть и ветхому дому, стоявшему ярдах в ста от берега. Глядя на тот дом, почему-то казалось, что его строили не работорговцы. Веранда и сад указывали на хороший вкус и цивилизованность строителей. Судя по всему, здесь жили культурные люди. Дальше я увидел заброшенную апельсиновую рощу в окружении старых пальм, а невдалеке — развалины церкви. То, что это церковь, не вызывало сомнений, так как тут же стояла небольшая часовня, увенчанная каменным крестом. Под крышей висел колокол, некогда призывавший к молитве. — Передай английскому лорду, — сказал Хасан Сэму, — что это постройки христианской миссии, покинутые более двадцати лет назад. Ко времени моего приезда тут уже никого не было. — Вот как! — воскликнул я. — Кто же здесь жил? — Я не знаю, — ответил Хасан. — Эти люди ушли задолго до моего появления. В течение следующего часа мы занимались багажом, который был выгружен в саду. Для охотников я велел поставить две палатки перед окнами комнат, предназначенных для нас. Эти комнаты были замечательны в своем роде. Моя, должно быть, раньше служила гостиной, судя по разбитой мебели, по-видимому, американского производства. Комната, занятая Стивеном, некогда была спальней, так как в ней стояла железная кровать. Кроме того, тут на полу валялись книжные полки и несколько разодранных книг. Впрочем, одна из них, «Христианский год» преподобного Джона Кебла, хорошо сохранилась, вероятно, потому, что белым муравьям и подобным им существам не понравился вкус ее сафьянового переплета. На титульном листе было написано: «Дорогой Лизбет в день рождения от мужа». Я осмелился спрятать эту книгу в карман. На стене висел небольшой акварельный портрет очень красивой молодой женщины, светловолосой и голубоглазой. В углу портрета тем же почерком, что и в книге, было написано: «Лизбет в возрасте двадцати лет». Портрет я тоже взял себе, решив, что со временем он пригодится как вещественное доказательство. — Сдается мне, Квотермейн, что обитатели покинули свое жилище в большой спешке, — сказал Стивен. — Верно, мой мальчик. Хотя, может, они не покинули его. Не исключено, что они остались здесь… — Убитыми? Я кивнул и продолжил: — По-моему, нашему приятелю Хасану кое-что об этом известно. Давайте осмотрим церковь, пока светло, да и ужин еще не готов. Через пальмы и апельсиновую рощу мы прошли к возвышению, на котором стоял храм. Построили его из камня, похожего на коралловый. Как стало ясно с первого взгляда, церковь была опустошена пожаром — цвет стен красноречиво говорил об этом. Внутри здание поросло кустарником и вьюном; с остатков каменного алтаря скользнула мерзкая желтая змея. Снаружи полуразрушенная стена окружала погост, но могил не было видно. Зато недалеко от ворот высился неровный холмик. — Если разрыть эту насыпь, — сказал я, — мы найдем кости тех, кто здесь жил. Стивен, о чем вам это говорит? — Только о том, что их убили, — ответил Сомерс. — Вам нужно научиться делать выводы. Это ценнейший навык, тем более в Африке. Если вы правы, то, полагаю, убийство совершено не туземцами, которые никогда не утруждают себя погребением мертвых. Это могли сделать арабы, особенно если среди них затесались полукровки-португальцы, именующие себя христианами. В любом случае произошло это давно. — Я кивнул в сторону росших на насыпи деревьев, которым было не менее двадцати лет. Мы вернулись в дом, где нас ждал ужин. Хасан приглашал нас за свой стол, но я, по понятной причине, предпочел, чтобы еду готовил Сэм, и предложил бею отужинать с нами. Тот рассыпался в любезностях, хотя в глазах его горели ненависть и подозрение. Мы принялись за жаркое из козленка, купленного у Хасана, так как подарков от этого человека я не желал. Пили мы джин, разбавленный водой, которую я, опасаясь отравления, велел Хансу набрать из источника, протекавшего недалеко от дома. Поначалу Хасан, как подобает доброму магометанину, отказывался от спиртного, потом дал слабину, и я налил ему хорошую порцию. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Выражение это вполне применимо и к выпивке, по крайней мере в отношении Хасана. Он, видимо, полагал, что количество выпитого алкоголя не увеличивает тяжести греха. После третьей порции джина бей стал чрезвычайно любезен и болтлив. Я решил использовать удобный момент — послал за Сэмом и передал Хасану, что нам нужно нанять двадцать носильщиков для багажа. Хасан объявил, что носильщиков здесь за сотню миль не сыщешь, а я в ответ подлил ему джина. В конце концов мне удалось сговориться с ним (не помню, за какую сумму), и он обещал найти двадцать человек, которые останутся при нас столько времени, сколько понадобится. Потом я расспросил Хасана о разрушенной миссии, но ничего не добился, невзирая на то что бей изрядно выпил. Он обмолвился лишь о том, что двадцать лет назад свирепый народ мазиту напал на побережье и перебил всех, кто здесь жил, за исключением белого человека и его жены. Они бежали вглубь острова, и с тех пор о них ничего не слышно. — Сколько человек похоронено у церкви? — быстро спросил я. — Кто сказал, что там есть могила? — отозвался Хасан, вздрогнув, но почувствовал свою ошибку и продолжил: — Я не понимаю, о чем ты толкуешь. Я никогда не слышал, что там кто-нибудь похоронен. Спите спокойно, досточтимые лорды. Я должен пойти присмотреть за погрузкой товара на «Марию». Он встал, низко поклонился и вышел, точнее, выкатился из столовой. — Итак, «Мария» стоит неподалеку, — сказал я и по-особому свистнул. Тотчас же в столовую проскользнул Ханс: свист был для него условным знаком. — Ханс, на острове я слышал подозрительные звуки, — начал я. — Проберись к берегу и посмотри, что там происходит. Если будешь осторожен, тебя никто не заметит. — О баас, — готтентот оскалился, — если Ханс будет осторожен, никто не увидит его, особенно ночью. С этими словами он покинул комнату так же тихо, как и вошел. Я отправился к Мавово, приказал ему поставить караульных и проследить, чтобы наши люди держали свои ружья наготове, так как опасался ночной атаки работорговцев. В этом случае зулусам было велено занять оборону на веранде, но не стрелять до тех пор, пока я не скомандую. — Хорошо, отец мой, — ответил Мавово. — Наше путешествие очень удачное. Я никогда не думал, что война начнется так скоро. Моя змея забыла сказать об этом в тот вечер. Спи спокойно, Макумазан. Ни одно существо, которое ходит на ногах, не проберется к тебе, пока мы живы. — Не будь так самонадеян, — буркнул я. Мы легли в спальне не раздеваясь и положили ружья возле себя. Дальше я помню, как кто-то потряс меня за плечо. Я думал, это Стивен, который согласился бодрствовать первую половину ночи и обещал разбудить меня ровно в час. Он впрямь не спал, так как во тьме светился огонек его трубки. — Баас, — раздался шепот Ханса, — я все разузнал. Большая лодка действительно перевозит невольников на «Марию». — Ясно, — проговорил я. — Но как ты сюда пробрался? Разве наши охотники спят? Ханс захихикал: — Нет, они не спят. Они смотрят во все глаза и слушают во все уши. Однако старый Ханс проскользнул мимо них. Даже баас Сомерс его не заметил. — Верно, — отозвался Стивен. — Я думал, это крыса. Я вышел на веранду и при свете костра, разведенного охотниками, увидел Мавово, сидящего с ружьем на коленях, и позади него двух часовых. Я позвал его и указал на Ханса. — Какие вы сторожа, если Ханс прямо через вас перешагнул и пробрался ко мне в комнату! — возмутился я. Мавово глянул на готтентота, ощупал его одежду, обувь и убедился, что они влажны от росы. — О! — угрюмо вскричал Мавово. — Я сказал, что ни одно живое существо, которое ходит на ногах, не проберется к тебе, Макумазан. Но эта желтая змея проползла мимо нас на брюхе. Посмотри на свежую грязь, которая облепила его платье. — Да, но змеи могут жалить и убивать, — с усмешкой заметил Ханс. — Вы, зулусы, считаете себя очень храбрыми! Вы кричите, размахиваете копьями и боевыми топорами. Но все же одна бедная готтентотская собака стоит целого вооруженного отряда зулу. Нет, не пытайся ударить меня, воинственный Мавово! Мы оба, каждый по-своему, служим одному и тому же господину. Твое дело — сражение, а разведку предоставь Хансу. Взгляни-ка, Мавово… — Он показал роговую табакерку, из тех, что зулусы носят в ушах. — Чья она? — Это моя табакерка, — признался Мавово. — Ты украл ее! — Да, — насмешливо сказал Ханс, — я вытащил ее у тебя из уха, когда в темноте пробирался мимо. Помнишь, вокруг тебя кружил комар и укусил в лицо? — Помню, — проворчал Мавово. — Ты, готтентотская змея, велик в своем низком искусстве. Учти, в следующий раз от мошки я отмахнусь не рукой, а копьем. После этого я отпустил обоих, заметив Стивену, что этот случай — отличный пример извечной борьбы между храбростью и хитростью. Теперь я не сомневался, что Хасан и его друзья сильно заняты и этой ночью нас не тронут. Мы улеглись и заснули сном праведников. Проснувшись на следующее утро, я увидел, что Стивен Сомерс уже встал и куда-то ушел. Вернулся он, когда я наполовину покончил с завтраком. — Где вы были? — спросил я его, заметив, что его одежда изорвана и облеплена мокрым мхом. — На верхушке самой высокой из здешних пальм, Квотермейн. Я видел, как один араб взбирался на дерево с помощью веревки, и заставил другого араба научить меня. Это совсем нетрудно, хотя и кажется опасным. — Господи, но зачем… — начал я. — Ради главного увлечения моей жизни, — перебил Сомерс. — В бинокль мне показалось, что я вижу орхидею — чуть ли не на верхушке дерева. Я взобрался на него. Оказалось, это была не орхидея, а масса желтой пыльцы. Но благодаря своим стараниям я кое-что выяснил. С верхушки пальмы я увидел, что «Мария» выходит в море из-за подветренной стороны острова. Вдали мелькнула струйка дыма, и в бинокль я различил нечто, удивительно похожее на военное судно, медленно идущее вдоль берега. Я убежден, что это английский корабль. Потом поднялся туман и скрыл все из виду. — Господи, это наверняка «Крокодил»! — воскликнул я. — Не все, что я говорил Хасану, было ерундой. Мистер Като, начальник порта в Дурбане, упоминал, что в ближайшие две недели «Крокодил» должен зайти туда за припасами, после чего отправится вдоль побережья искать суда работорговцев. Забавно получится, если он случайно встретит «Марию» и экипаж осмотрит ее груз. Не правда ли? — Они не встретятся, Квотермейн, если в ближайший час какой-нибудь из кораблей не изменит курса. Очень надеюсь, что изменит. Я не прощу этому мерзавцу Дельгадо попытки удрать с нашим багажом, не говоря уж о несчастных невольниках. Передайте мне кофе. Следующие десять минут мы завтракали молча, так как Стивен обладал превосходным аппетитом и, кроме того, проголодался после утреннего лазания по деревьям. Едва мы окончили завтрак, явился Хасан, показавшийся мне еще гнуснее вчерашнего. Держался он агрессивно, наверное, мучился похмельем после обильных возлияний. Или его поведение изменилось, потому что «Мария» ушла с невольниками благополучно и якобы незаметно для нас. Или же он намеревался убить нас прошлой ночью, но выполнить свой план не сумел. Мы вежливо поздоровались с ним, а в ответ он без единого поклона грубо спросил через Сэма, когда «христианские собаки, оскверняющие его жилище», намерены убраться, так как дом нужен ему самому. Я ответил, что мы уйдем не раньше, чем явятся двадцать носильщиков, которых он нам обещал. — Вы лжете, — сказал он. — Я никогда вам их не обещал. Здесь нет никаких носильщиков. — Ты хочешь сказать, что в прошлую ночь отправил их на «Марию» вместе с невольниками? — вкрадчиво спросил я. Видели ли вы, о читатель, что творится с котом солидного возраста и угрюмого нрава, когда он внезапно встречает собачонку? Наблюдали ли вы, как он выгибается дугой, раздувается, становясь почти вдвое больше обычного, как ерошится его шерсть, сверкают глаза, а из пасти вырывается целый поток неприятных звуков? Если вы наблюдали такую картину, то легко можете представить, как повел себя Хасан в ответ на мое последнее замечание. Казалось, сейчас он лопнет от ярости. Он перекатился с носка на пятку, и налитые кровью глаза его едва не вылезли из орбит. Всячески проклиная нас, бей схватился за позолоченную рукоять своего огромного ножа и наконец сделал именно то, что делают коты, — зашипел, а затем плюнул. Стивен, невозмутимо-насмешливый, стоял рядом, но чуть ближе к Хасану, чем я, и неожиданно остро отреагировал на грубую выходку. Воистину, он буквально взвился, пробормотал что-то весьма энергичное, тигром бросился на Хасана и ударил его в нос. Хасан отшатнулся и выхватил нож, но Стивен левой рукой нанес бею удар в глаз, сбил с ног и заставил выронить нож, который я поспешно подхватил. Неблаговидный поступок был совершен, вмешиваться было поздно, и я удержал зулусов, прибежавших на шум. Хасан встал и, к своей чести, двинулся на Стивена, низко опустив голову, — ответил на вызов, как и подобает мужчине. Он боднул легкого Сомерса в грудь, тот покатился кувырком, однако мигом вскочил, так что бей не успел воспользоваться ситуацией. Завязалась горячая схватка. Хасан дрался руками, ногами, головой, Стивен же пускал в ход только кулаки. Он уклонялся от атак араба, стремительно контратаковал, и вскоре от его хладнокровия и невозмутимости не осталось и следа. Раз — хуком в челюсть Хасан сбил его с ног, два — от удара Стивена араб полетел вверх тормашками. Зулусы зааплодировали, а я от восторга буквально пустился в пляс. Хасан поднялся, выплюнул несколько зубов и, сменив тактику, схватил Стивена за пояс. Они закружились, как в танце, араб пинал Стивена и кусал, даром что передних зубов уже лишился. В какой-то момент он почти повалил противника, но «почти» не считается — араб схватил Сомерса за ворот и начал душить, однако ткань треснула, да еще в суматохе тюрбан съехал Хасану на глаза, на миг ослепив его. Стивен вцепился в пояс Хасана левой рукой и принялся тузить его правой, да так немилосердно, что араб, осевший на землю, поднял вверх ладонь в знак капитуляции. — Благородный английский лорд победил меня, — прохрипел он. — Проси прощения! — закричал Стивен и зачерпнул горсть земли. — Не то заткну твою грязную глотку! Видимо, Хасан понял его слова — он принялся низко кланяться и извиняться на все лады. — Раз с этим закончили, как насчет носильщиков? — весело спросил я. — Нет у меня никаких носильщиков, — буркнул бей. — Ты мерзкий лгун! — воскликнул я. — Мой человек наведался к тебе в деревню и говорит, что там полно людей. — Тогда пойди и набери их сам, — злобно ответил араб, так как знал, что деревня окружена частоколом. Я не знал, что предпринять. Конечно, работорговца следовало бы проучить, но нам пришлось бы очень туго, вздумай он напасть на нас со своими арабами. Пристально глядя на меня уцелевшим глазом, Хасан, по-видимому, чувствовал мою растерянность. — Меня избили, как собаку! — заревел он. Ярость вернулась к нему, когда восстановилось дыхание. — Но Аллах справедлив и милостив. Настанет день, и Он отомстит за меня! Едва он так сказал, с моря раздался пушечный выстрел. В следующую минуту с берега прибежал араб, крича: — Где бей Хасан? — Вот, — ответил я, указывая на Хасана. Во взгляде посланника мелькнуло удивление, поскольку бей Хасан выглядел довольно жалко. Затем араб испуганно пролепетал: — Господин, английский военный корабль преследует «Марию». Снова послышался пушечный выстрел. Хасан молча разинул рот, и я увидел, что у него осталось ровно три зуба. — Это «Крокодил», — медленно произнес я, велев Сэму переводить мои слова. Потом вынул из кармана английский флаг, который положил туда, когда узнал о появлении корабля. — Стивен! — продолжал я, расправив флаг. — Если остались силы, не можете ли вы снова влезть на пальму и просигналить этим флагом «Крокодилу»? — Ей-богу, великолепная идея! — воскликнул Стивен, и его веселое, хоть и распухшее лицо расплылось в улыбке. — Ханс, принеси мне длинную палку и кусок бечевки. Хасану эта мысль великолепной не показалась. — Английский лорд, — прохрипел он, снова тяжело задышав, — будут у тебя носильщики. Я их приведу. — Нет, ты никуда не пойдешь, — заявил я. — Останешься здесь заложником. Отправь за носильщиками этого человека. Хасан дал гонцу несколько коротких указаний, и тот поспешил прочь, к обнесенной частоколом деревне, что находилась справа от нас. Вскоре после его ухода появился новый посланник и изумленно воззрился на своего господина. — Бей — если я не ошибаюсь, обращаясь к тебе так, — неуверенно начал араб, ибо любезнейшая физиономия Хасана распухла и побагровела, — мы видели в подзорную трубу, что английский военный корабль выслал шлюпку и она пристала к «Марии». — Всемогущий Аллах! — взволнованно пробормотал Хасан. — Этот вор и предатель Дельгадо расскажет всю правду. Английские дети шайтана здесь высадятся. Все погибло! Вели людям взять рабов и бежать в лес. То есть не рабов, а слуг… Я присоединюсь к ним. — Нет, не присоединишься, во всяком случае не сейчас, — возразил я через Сэма. — Ты пойдешь вместе с нами. Несчастный Хасан задумался, потом спросил: — О лорд Квотермейн! — (Титул мне запомнился, потому что ближе к сословию пэров я не подбирался ни до, ни после того случая.) — Если я выделю вам двадцать носильщиков и несколько дней буду вас сопровождать, обещаешь ли ты не сигналить кораблю и не призывать соотечественников на этот остров? — Что вы на это скажете? — обратился я к Сомерсу. — По-моему, следует согласиться, — ответил он. — Этот негодяй уже получил хорошую трепку. Если же «Крокодил» высадит сюда солдат, то нашей экспедиции конец. Нас повезут на Занзибар или в другое место, чтобы мы выступили свидетелями в суде. Мы ничего не выиграем, ведь, пока моряки сюда плывут, все эти мерзавцы разбегутся, за исключением нашего приятеля Хасана. Еще вопрос, повесят ли его. Он может вывернуться. Международные законы, иностранный подданный, отсутствие прямых улик — ну, вы понимаете… — Дайте мне минуту подумать, — сказал я. Пока я думал, происходило следующее. Подчиненные Хасана пригнали к нам туземцев двадцать: очевидно, то были обещанные носильщики. Тем временем народ из деревни спешил укрыться в лесу. Прибежал третий посланник с сообщением, что «Мария» уходит, на борту распоряжается призовая команда, а военный корабль, по-видимому, собирается сопровождать судно. Очевидно, «Крокодил» не хотел высаживать солдат на территорию, которая, по крайней мере номинально, являлась португальской. Поэтому если что-либо и нужно было предпринять, то немедленно. В результате я сделал глупость и последовал совету Стивена — проявил пассивность. Этот способ всегда самый легкий и ведет к самым серьезным проблемам. Через десять минут я передумал, но уже было поздно. «Крокодил» ушел далеко и не мог заметить нашего сигнала. Решение я изменил после разговора с Хансом. — Я думаю, что баас совершил ошибку, — начал Ханс осторожно, как всегда. — Он забыл, что эти желтые дьяволы в белом платье могут вернуться и отомстить нам. Если бы английский корабль разрушил их поселение вместе с невольничьими хижинами, они ушли бы в другое место. Впрочем, — прибавил он, взглянув на избитого Хасана, — их предводитель у нас в руках. Давайте его повесим. Если баас желает, я могу это сделать. Я здорово умею вешать людей. В молодости я помогал кейптаунскому палачу. — Убирайся вон! — рявкнул я, хотя понимал, что Ханс прав.Глава 6
НЕВОЛЬНИЧЬЯ ДОРОГА
Под конвоем пяти или шести арабов с ружьями явились двадцать носильщиков. Мы отправились посмотреть на них, взяв с собой Хасана и охотников. Это была толпа исхудалых запуганных людей, принадлежавших, судя по их внешнему виду и прическам, к разным племенам. Передав их нам, конвоиры (вернее, один из них) вступили в оживленный разговор с Хасаном. О чем они говорили, я не знаю: Сэма с нами не было. Тем не менее я догадался, что обсуждается план освобождения Хасана. Впрочем, в итоге от плана они отказались, и арабы поспешили прочь. Один из них, явно самый смелый, обернулся и выстрелил. Пуля просвистела мимо в нескольких ярдах от меня, так как стреляют арабы отвратительно. Я был весьма рассержен и решил не оставлять покушение безнаказанным. При мне было маленькое ружье Интомби, то самое, из которого, как напомнил мне Ханс, я много лет тому назад стрелял по грифам в краале Дингаана. Конечно, я мог бы убить араба, но мне не хотелось делать этого. Если бы я пальнул ему в ногу, нам пришлось бы либо ухаживать за ним, либо оставить его умирать. Поэтому я прицелился в правую руку. Убегающий араб вскинул ее, а я шагов с пятидесяти прострелил ему плечо. — Этот низкий человек больше не возьмет в руки ружья, — объявил я зулусам. — Хорошо, Макумазан, очень хорошо! — сказал Мавово. — Но почему ты не целился в голову, раз так здорово стреляешь? Эта пуля наполовину пропала. После этого я вступил в переговоры с носильщиками. Бедняги думали, что они проданы новому хозяину. Поясню, что предназначались они не для продажи, а для работы в садах Хасана. Двое из них принадлежали к племени мазиту, родственному зулусам, хотя и отделившемуся от них много лет назад. Они говорили на наречии, которое я с грехом пополам понимал. Основу его составлял зулусский язык, смешанный с диалектами других племен, женщин которых мазиту брали себе в жены. Один из носильщиков настолько хорошо говорил по-арабски, что Сэм мог с ним объясняться. Я спросил мазиту, знают ли они дорогу в их страну. Они ответили утвердительно, однако, по их словам, эти земли лежали очень далеко отсюда — в целом месяце пути. Я пообещал свободу и щедрую плату проводникам, коли таковые найдутся, а кроме того, поклялся отпустить и всех добросовестных носильщиков, когда в них не будет надобности. Услышав это, бедняги печально заулыбались, и кое-кто покосился на Хасана бен Магомета. Тот сидел на ящике под охраной Мавово и метал на нас свирепые взгляды. «Разве стать нам свободными, пока жив этот человек?» — вопрошали глаза несчастных. Будто стремясь укрепить их сомнение, Хасан, понявший смысл моих слов, осведомился, по какому праву мы сулим свободу его рабам. — Вот что дает мне такое право, — ответил я, указав на английский флаг, который Стивен все еще держал в руках. — Помимо того, мы заплатим тебе, когда вернемся обратно, соответственно тому, как они нам послужат. — Да, — пробормотал он, — ты заплатишь мне, англичанин, когда вернешься или даже раньше! Мы смогли выступить не раньше трех часов пополудни. Забот набралось столько, что разумнее было бы дождаться утра. Но нам не хотелось проводить в этом месте еще одну ночь. Каждый носильщик получил по накидке — бедняг, совершенно лишенных одежды, наши дары сильно обрадовали. Багаж еще в Дурбане разложили по ящикам, и каждый весил столько, сколько мог унести один человек. Нам очень пригодились и животные — на четырех ослов навьючили по сто фунтов груза в непромокаемых кожаных мешках вместе с тыквенными бутылями и циновками, которые раздобыл Ханс. Вероятно, он украл циновки в брошенной деревне, но мы в них нуждались, и я, скажу честно, промолчал. Мы взяли шесть или восемь коз, бродивших неподалеку, чтобы не голодать, пока не найдем дичь. За них я хотел заплатить Хасану, но когда вручил ему деньги, он в ярости швырнул их на землю. Я поднял их и с чистой совестью спрятал обратно в карман. Наконец все было более или менее готово, и возник вопрос, что делать с Хасаном. Зулусы, равно как и Ханс, хотели убить его, что Сэм объяснил ему на превосходном арабском. Тогда этот жестокий человек раскрыл свою трусливую сущность — бросился на колени, плакал и взывал к нам во имя милостивого Аллаха, который, как уверял Хасан, на деле неотличим от Бога христиан. Это продолжалось до тех пор, пока уставший от чужой истерики Мавово не пригрозил Хасану дубинкой, после чего тот замолчал. Добродушный Стивен настаивал на том, чтобы отпустить Хасана, — такой вариант имел свои плюсы, ведь тогда мы, по крайней мере, избавились бы от его неприятного общества. Однако я поразмыслил и решил, что разумнее держать его в заложниках хоть пару дней, на случай если арабы последуют за нами и нападут на нас. Сперва Хасан упирался, но один из охотников показал ему ассегай, который стал неопровержимым доводом. Наконец мы тронулись в путь. Впереди шел я с двумя проводниками, следом носильщики, за ними половина охотников, затем четыре осла под присмотром Ханса и Сэма, Хасан и остальные охотники, за исключением Мавово, замыкавшего процессию вместе со Стивеном. Разумеется, мы зарядили ружья и приготовились к любой случайности. Дорога, которую указали наши проводники, тянулась по берегу, а через несколько сотен ярдов сворачивала к деревне, где жил Хасан: старым миссионерским домом он, по-видимому, не пользовался. Когда огибали невысокую, высотой футов десять, скалу над глубоким каналом, ярдов пятьдесят шириной, отделявшим материк от острова, с которого невольников перевозили на «Марию», ослы заупрямились. Один сбросил поклажу, другой начал брыкаться с явным намерением кинуться в воду вместе с добром. Охотники из арьергарда бросились к нему, чтобы удержать. Вдруг раздался плеск. «Осел свалился в канал!» — подумал я, но ошибся. Это Хасан воспользовался нашим замешательством и, будучи превосходным пловцом, прыгнул в воду. Ярдах в двадцати от берега он вынырнул, потом снова нырнул, направляясь к острову. Я, даже не целясь, мог бы попасть из ружья ему в голову, но как палить по человеку, спасающему свою жизнь, словно по гиппопотаму или по крокодилу?.. Более того, дерзкая выходка мне понравилась. Поэтому я не стал стрелять и удержал от этого других. Когда наш бывший хозяин подплыл к острову, со скалистого берега спустились арабы, чтобы помочь беглецу выйти из воды. Либо они не покидали остров, либо снова заняли его, едва «Крокодил» скрылся из виду со своим трофеем. Чтобы снова захватить Хасана в плен, следовало организовать новую атаку на гарнизон острова, что было нам не по силам. Поэтому я приказал идти дальше. С ослами мои люди уже справились и мой приказ исполнили сразу. Счастье, что мы не замешкались, ибо, едва наш караван двинулся дальше, арабы с острова открыли огонь. Но ни одна пуля не достигла цели, ведь вскоре мы повернули и оказались вне досягаемости выстрелов. Кроме того, арабы, по своему обыкновению, стреляли очень скверно. Впрочем, одна дробинка попала в тюк, навьюченный на осла, разбила бутылку хорошего бренди и повредила жестянку с консервированным маслом. Это так рассердило меня, что я, велев остальным продолжать путь, спрятался за дерево и ждал до тех пор, пока из-за скалы не показался грязный и изорванный тюрбан Хасана. Я прострелил этот тюрбан, но, к сожалению, не голову, на которой он был. Послав прощальный привет бею, я спустился со скалы и догнал спутников. Теперь мы шли мимо деревни. Пересекать ее я не решился, опасаясь засады. Деревня оказалась большой, ее окружал крепкий палисад, а со стороны моря скрывали холмы. В центре стоял просторный дом в восточном стиле — несомненно, обитель Хасана и его гарема. Немного погодя я, к своему удивлению, увидел пламя, пробивавшееся сквозь пальмовые ветки на крыше этого дома. Я не мог понять, как это могло случиться, но когда пару дней спустя увидел у Ханса в ушах красивые золотые серьги, а на руке золотой браслет и выяснил, что он и один из охотников обладают изрядным количеством английских соверенов, в моей душе поселились сомнения… Со временем открылась правда. Ханс и охотник, оба горячие головы, проникли за ворота брошенной деревни, подобрались к дому Хасана, похитили из женской половины украшения и деньги, а на прощание подожгли дом — в отместку за разбитую бутылку бренди, как объяснил Ханс. Я рассердился, но ведь арабы в нас стреляли, значит поступок Ханса не кража, а военное действие. В итоге я приказал ему и его товарищу поделиться золотом с остальными охотниками, которые якобы знать ничего не знали, и с Сэмом. Каждому досталось по восемь фунтов, что их очень обрадовало. Еще я выдал по фунту, точнее, добра на эту сумму каждому носильщику — им тоже полагалась доля. Чувствовалось, что Хасан рачительный и умелый хозяин. Его сады были роскошны — безусловно, за счет рабского труда. Они поражали красотой и наверняка приносили бею хороший доход. За садами начинался склон, поросший кустарником и вьюном. Идти было тяжело. Я очень обрадовался, когда на закате мы достигли гребня холма — очутились на открытой равнине, тянущейся до самого горизонта. В кустах на нас могли запросто напасть, а на открытом месте я боялся этого меньше, ведь арабы, прежде чем подавить нас численностью, понесли бы огромные потери. Лазутчики наверняка наблюдали за нами, однако время шло, а атаковать караван никто не спешил. На ночлег мы расположились в удобном месте у ручья. Ночь выдалась такая дивная, что мы решили не ставить палатки. Впоследствии я сожалел, что мы не ушли дальше от воды, так как над болотами, прилегавшими к ручью, кружили мириады москитов, отравлявших нам существование. На бедного Стивена, непривычного к ним, они набросились с особенной яростью, и на следующее утро он, избитый Хасаном, а теперь и искусанный насекомыми, являл собой печальное зрелище. Кроме того, наш покой нарушался необходимостью выставлять стражу на тот случай, если арабы вздумают напасть среди ночи, а носильщики сбегут, похитив у нас багаж. Перед тем как они улеглись спать, я недвусмысленно объяснил им, что любого, кто попытается бежать, застрелят, зато оставшимся гарантировано хорошее обращение. Черездвух мазиту они ответили, что бежать им некуда и у них нет желания снова попасть в руки Хасана, которого они вспоминали с содроганием, показывая на спины в шрамах и на шеи со следами невольничьих ошейников. Казалось, говорят они искренне, но уверенности, конечно, не было. Следующим утром я проверял, все ли благополучно, не разбежались ли ослы, и вдруг сквозь легкий туман заметил ярдах в пятидесяти от лагеря белый предмет, который сначала принял за маленькую птичку, сидящую на тростинке. Я направился туда и увидел, что это не птица, а бумажный листок, вложенный в расщепленную на конце и воткнутую в землю палку — приспособление для туземной почты. Я развернул листок и с большим трудом прочел письмо, написанное на плохом португальском.Английские шайтаны! Не надейтесь, что избавились от меня. Я знаю, куда вы направляетесь, и если вы не погибнете в пути, то все равно умрете от моей руки. У меня три сотни вооруженных храбрецов, которые почитают Аллаха и жаждут крови христианских собак. Они последуют за вами, и если вы попадетесь мне живыми, то узнаете, что значит умереть от огня или от солнца, когда вас привяжут к муравейнику. Посмотрим, поможет ли вам тогда ваш военный корабль или ваш лжебог. Пропадите вы пропадом, белые разбойники, грабящие честных людей!
Сие приятное послание не было подписано, но разве трудно догадаться, кто его анонимный автор? Я показал письмо Стивену, и тот разозлился настолько, что случайно мазнул уголок глаза нашатырным спиртом, которым обрабатывал укусы. Сомерс промыл глаз, и, когда боль стихла, мы сочинили ответ.
Убийца, известный среди людей под именем Хасана бен Магомета! Поистине мы совершили грех, не повесив тебя, когда ты был в нашей власти. Такой ошибки мы больше не сделаем. О волк, питающийся кровью невинных! Твоя смерть близка, и мы уверены, что ты примешь ее от наших рук. Приводи своих приспешников, когда пожелаешь. Чем больше их явится с тобой, тем лучше: мы уничтожим больше негодяев и сделаем мир чище. До скорого свидания.Аллан Квотермейн, Стивен Сомерс
— Превосходно, — похвалил я, перечитав письмо, — хоть и не по-христиански. — Да, — ответил Стивен, — но не слишком ли хвастливо по тону? Вдруг этот господин явится к нам с тремя сотнями вооруженных людей? — Так или иначе, дорогой мой, — ответил я, — мы одолеем его. Предчувствия у меня возникают редко, но сейчас кажется, что мистеру Хасану осталось недолго. Вот увидите караван невольников, тогда поймете, о чем я. Я этих людей знаю. Наше предсказание отлично подействует Хасану на нервы и даст представление о том, что его ждет. Ханс, пойди и вложи это письмо в расщепленную палку. За ним скоро явится почтальон. Спустя несколько дней мы действительно увидели невольничий караван, принадлежавший благородному Хасану. Мы следовали по красивой местности, направляясь на запад, вернее, на северо-запад. Земля здесь была плодородная, ухоженная, хорошо орошенная. Кустарник рос только по соседству с ручьями, более высокие участки оставались открытыми, кое-где виднелись деревья. Не вызывало сомнений, что еще недавно здесь жило много людей, ведь мы проходили мимо деревень, точнее, крупных поселений с большими рыночными площадями. Иные спалили, иные просто покинули, в иных остались старики, добывающие себе пропитание в запущенных садах. Эти бедняги сидели на солнце, бурча себе под нос, или вяло работали на некогда плодородных полях, а при нашем приближении разбегались, так как думали, что вооруженные люди наверняка работорговцы. Время от времени нам удавалось поймать кого-то из местных и с помощью членов нашего отряда узнать их историю. По сути, история не менялась. Арабы-работорговцы стравливали племена под тем или иным предлогом, вставали на сторону сильного племени и, разумеется, побеждали слабое. Стариков и младенцев убивали, а молодых мужчин, женщин и детей угоняли в рабство. По-видимому, все это началось лет двадцать назад, когда Хасан бен Магомет и его товарищи прибыли в Килву и заставили бежать миссионера. Вначале ремесло Хасана шло как по маслу: живого товара хватало с избытком. Постепенно арабы истребили все окрестные общины — многих поубивали, уцелевших увезли на кораблях в неведомые страны. Тогда работорговцам пришлось двигаться вглубь страны и совершать свои набеги почти у самых границ земли великого народа мазиту, о котором я уже упоминал. По слухам, вскоре работорговцы собирались напасть на мазиту, рассчитывая одолеть их с помощью ружей и открыть новый, почти неисчерпаемый запас живого товара. Пока они истребляли небольшие племена, которые могли спастись лишь тем, что прятались среди холмов, поросших непроходимым кустарником. Тропа, по которой мы следовали, оказалась оживленной невольничьей дорогой. Это мы скоро поняли по множеству человеческих скелетов, усеявших высокую траву у обочины. На запястьях у некоторых остались тяжелые кандалы. Вероятно, кто-то из этих несчастных умер от истощения, а иные, судя по разбитому черепу, были убиты в пути. На восьмой день мы набрели на следы невольничьего каравана. Он направлялся к берегу, но по той или иной причине повернул обратно. Возможно, его предводителей известили о приближении нашего отряда. Или же им сообщили о караване, шедшем из другого места, и караванщики решили соединиться с ним. С такого следа не собьешься. Сперва мы увидели труп мальчика лет десяти. Потом — стервятников, пировавших останками двух юношей. Одного из них застрелили, другого зарубили топором. Неизвестно почему, но их тела кое-как спрятали в траву. Еще через две мили мы услышали плач ребенка и скоро нашли девочку лет четырех, хорошенькую, но похожую на живой скелет. При виде нас она уползла прочь на четвереньках, словно обезьяна. Стивен поспешил за ней, а я — за банкой консервированного молока из наших запасов. Сердце у меня было не на месте. Вдруг Стивен окликнул меня, он явно был напуган. Я побрел к нему через кусты, понимая, что он обнаружил нечто ужасное. Там сидела молодая женщина, привязанная к стволу дерева, очевидно мать девочки: малышка цеплялась за ее ногу. Слава богу, женщина была еще жива, хотя, наверное, умерла бы на заре следующего дня. Мы освободили ее, и зулусские охотники (добрейшие люди, когда не воюют) перенесли ее в лагерь. Мать и ребенка мы спасли, хотя и с трудом. Я послал за двумя мазиту, с которыми теперь сносно объяснялся, и спросил, зачем работорговцы так поступили. Мазиту пожали плечами, и один из них ответил, криво усмехнувшись: — Господин, эти арабы черны душою. Они убивают тех, кто не в силах идти дальше, или привязывают их к месту, обрекая на смерть. Если отпустить слабых, они могут окрепнуть и спастись. Свобода и счастье невольников — мука для арабов. — Неужели? — гневно воскликнул Стивен, напомнив мне своего отца. — Неужели? При случае я покажу им, что такое мука! Стивен, юноша добрый и мягкосердечный, в гневе становился неуправляем. Через сорок восемь часов ему такой случай представился. В этот день мы рано разбили лагерь по двум причинам. Во-первых, спасенные женщина и дитя настолько ослабли, что не могли идти без отдыха, а нести их было некому. Во-вторых, мы нашли идеальное место для ночлега — покинутую деревню, через которую протекал ручей. Мы заняли несколько крайних хижин, огороженных забором, и благодаря Мавово, подстрелившему канну с подросшим теленком, предвкушали отличную трапезу. Пока Сэм варил бульон для несчастной рабыни, а мы со Стивеном наблюдали за ним и курили трубки, в сломанных воротах бомы, или терновой ограды, показался Ханс и объявил, что приближаются два отряда арабов с многочисленными невольниками. Мы выбежали посмотреть и увидели два каравана, которые уже входили в деревню с другого конца и устраивали стоянку на бывшей рыночной площади. За одним из караванов мы следовали, хотя последние несколько часов шли стороной, поскольку зрелища, подобные тем, что я описывал выше, были невыносимы. Он состоял приблизительно из двухсот пятидесяти невольников и сорока с лишним стражников с ружьями — судя по платью, в большинстве своем арабов или полукровок. Во втором караване, который подошел с другой стороны, было не более сотни невольников и двадцать-тридцать стражников. — Давайте поужинаем, — предложил я, — ну а потом навестим этих джентльменов, покажем, что мы их не боимся. Ханс, возьми флаг и привяжи его к верхушке этого дерева. Пусть увидят, к какой нации мы принадлежим. Мы подняли английский флаг и вскоре в бинокль увидели, как забегали работорговцы, а рабы изумленно уставились на развевающееся знамя и оживленно заговорили между собой. Вероятно, иные из невольников уже видели такие флаги в руках английских путешественников или слышали, что их поднимают на кораблях и на побережье. Что английский флаг значит для рабов, они тоже наверняка понимали. Или же они уловили смысл фраз, которыми перекидывались надсмотрщики. В любом случае рабы не сводили глаз с флага до тех пор, пока не прибежали арабы с шамбоками, то есть с кнутами из кожи бегемота, и хлесткими ударами не оборвали их разговоры. Вначале я думал, что арабы снимутся с лагеря и уйдут. В самом деле, они начали готовиться к этому, но потом передумали, вероятно, потому, что обессилевшие невольники засветло не дошли бы до другого источника. В конце концов арабы остались и развели костры. Кроме того, я заметил, что они приняли меры предосторожности на случай нашего нападения — расставили часовых и велели невольникам окружить лагерь бомами. — Ну что, навестим соседей? — спросил Стивен, когда мы отужинали. — Нет! — ответил я. Поразмыслив, я решил, что лучше на рожон не лезть. Возможно, арабам уже известно, как мы поступили с их достойным хозяином, Хасаном, ведь он наверняка посылал к ним гонцов. Если пойдем к ним в лагерь, нас могут перебить без промедления. Или сначала примут как дорогих гостей, а потом отравят или перережут глотки. Лучше оставаться здесь и ждать, что будет дальше. Стивен буркнул что-то относительно моей чрезмерной осторожности, но я пропустил его слова мимо ушей. Сделал я вот что: послал за Хансом и велел ему взять одного мазиту (обоими проводниками рисковать я не решился) и туземца из Хасановых рабов, смельчака, владевшего несколькими местными наречиями. Когда стемнеет, все трое должны были пробраться в лагерь работорговцев, разведать как можно больше, а если удастся, подобраться к невольникам и объяснить, что мы им друзья. Ханс кивнул — ему нравились именно такие задания — и занялся необходимыми приготовлениями. Мы со Стивеном тоже не сидели без дела: укрепили ограду, развели большие сторожевые костры, расставили часовых. Наступила ночь. Ханс и его товарищи отправились на разведку, бесшумные, как змеи. Тишина изредка нарушалась меланхоличным пением, сменявшимся ужасными криками, когда арабы хлестали кнутами бедных певцов. Один раз грянул выстрел. — Они заметили Ханса, — сказал Стивен. — Вряд ли, — ответил я. — В таком случае стреляли бы не один раз. Это либо случайный выстрел, либо арабы убили невольника. Затем надолго воцарилась тишина, пока наконец не появился Ханс — он вырос как из-под земли. За ним я увидел мазиту и другого туземца. — Ну рассказывай, — велел я. — Дело ясное, баас. Арабам все известно. Хасан направил им приказ убить бааса. Хорошо, что баас не пошел к ним. Они собираются напасть завтра на заре, если мы не оставим эту деревню. — А если оставим? — спросил я. — Тогда, баас, они нападут, едва мы построимся или снимемся с места. — Понятно. Еще что-нибудь скажешь, Ханс? — Да, баас. Наши охотники подползли к невольникам и говорили с ними. Рабы очень грустны. Многие умирают от тоски, потому что каждого увели из дому и они не знают, куда их гонят. Я сам видел, как умерла одна женщина. Она разговаривала с подругами и казалась здоровой, только сильно усталой. Вдруг она громко объявила: «Я умираю, но сюда вернется мой дух, чтобы терзать этих демонов, пока они сами не сделаются духами». Потом она призвала бога своего племени, сложила руки на груди и пала мертвой. Только, — прибавил Ханс, задумчиво сплевывая на землю, — она не совсем упала, потому что ошейник удержал ее голову. Арабы сильно рассердились за то, что она прокляла их и умерла. Один из них пнул труп, потом в наказание застрелил ее больного сынишку. К счастью, тот араб не заметил нас, потому что мы были в темноте и далеко от огня. — Еще что, Ханс? — Мои спутники, баас, отдали свои ножи двум самым сильным невольникам, чтобы те перерезали путы себе и помогли освободиться другим. Но арабы могут найти эти ножи. Тогда мазиту и другой охотник лишатся их навсегда. Вот и все. Чуток табаку у бааса не найдется? Ханс ушел, а я перевел его слова Сомерсу. — Теперь у нас два варианта, — добавил я. — Либо немедленно сбежать от этих джентльменов — правда, тогда придется бросить на произвол судьбы женщину с ребенком, — либо остаться здесь и ждать нападения. — Я никуда не уйду, — мрачно заявил Стивен. — Бросать женщину с ребенком подло. Было бы низостью покинуть эту несчастную женщину. Кроме того, в пути нам будет тяжелее. Ханс ведь говорит, что арабы следят за нами. — Вы за то, чтобы ждать нападения? — Есть третий выход, Квотермейн: напасть на них самим. — Отличная мысль! — похвалил я. — Пошлем за Мавово. Мавово пришел и сел перед нами. Я изложил ему суть дела. — У моего народа есть обычай не ждать, пока нападут на тебя, а нападать самому. Впрочем, отец, на сей раз мое сердце против этого. Инблату говорит, что этих желтых собак шестьдесят и что все они вооружены винтовками. — (Мавово и другие кафры звали Ханса Инблату, что означает «пятнистая змея» в переводе с зулусского.) — Между тем нас лишь пятнадцать, ибо на носильщиков полагаться нельзя. Кроме того, по словам Инблату, вражеский лагерь укреплен и охраняется часовыми. Поэтому трудно будет застигнуть их врасплох. Но мы, отец, тоже в укрепленном месте, нас тоже голыми руками не возьмешь. Кроме того, люди, которые войну не ведут, но мучат и убивают женщин и детей, наверняка трусы и не дадут достойный ответ хорошим стрелкам, если вообще ответят. Поэтому я говорю: «Подожди, пока буйвол либо нападет сам, либо убежит». Но окончательное слово не за мной, а за тобой, о мудрый Макумазан, Бодрствующий в ночи. Молви, о состарившийся в войнах, я повинуюсь тебе! — Говоришь ты убедительно, — признал я. — Но я подумал: если арабы спрячутся за спины невольников, мы будем стрелять по этим беднягам, а не по врагам. Стивен, по-моему, над этим нужно как следует поразмыслить. — Да, Квотермейн. Только я надеюсь, что Мавово неправ относительно того, что эти негодяи могут изменить свои намерения и удрать. — Вы, молодой человек, становитесь слишком кровожадным для орхидиста, — заметил я, глядя на него. — Что касается меня, то я искренне надеюсь, что Мавово не ошибся. В противном случае нам придется нелегко. — До сих пор я считал себя очень мирным, — ответил Стивен. — Но эти невольники, эта бедная женщина, которую привязали к дереву и обрекли на голодную смерть… — Вынуждают брать промысел Божий в свои руки. Порыв вполне естественный, и в такой ситуации Всевышний не прогневается, — сказал я. — Однако, раз мы определились с планом действий, нужно претворить его в жизнь, чтобы, когда заглянут арабские джентльмены, встретить их готовым завтраком.
Глава 7
НАТИСК НЕВОЛЬНИКОВ
Мы подготовились как могли — постарались укрепить бому, а для света снаружи развели большие костры. После этого я указал каждому охотнику его пост, осмотрел ружья и удостоверился, что патронов достаточно. Потом я уговорил Стивена лечь спать, мол, я разбужу и он сменит нынешних стражников. Однако я не собирался этого делать: пусть выспится к своей первой битве. Едва Стивен закрыл глаза, я сел на ящик и задумался. Сказать правду, тревожные мысли одолевали меня. Прежде всего, я не знал, как наши двадцать носильщиков поведут себя при перестрелке. Вдруг растеряются, начнут метаться? В таком случае я решил выпустить их за бому, ведь паника заразительна. Куда больше меня беспокоила неудачная позиция нашего лагеря. Вокруг него росло много деревьев, которые послужат нападающим отличным прикрытием. Они спрячутся от наших пуль и в камышах у ручья. Но особенно меня пугал склон холма за лагерем: там и густая трава, и кустарник, и подъём — ярдов двести, до самого гребня. Если арабы обойдут нас с этой стороны, то смогут стрелять прямо в бому и сделают из нее решето. При благоприятном ветре противники либо спалят лагерь, либо нападут под прикрытием дымовой завесы. Но, по особой милости Провидения, ничего такого не произошло. Сейчас объясню почему. Если грядет ночная, вернее, предрассветная атака, последний темный час для меня всегда самый трудный. Как правило, к тому времени все, что нужно приготовить, уже готово, остается сидеть без дела, тело и воля слабеют. Все в человеке опускается к низшей точке, словно ртуть в термометре. Ночь умирает, день еще не родился. Вся природа под влиянием этого часа. Снятся дурные сны, просыпаются и плачут дети, вспоминаются безвозвратно ушедшие, мятежный дух рвется в глубины неведомого. Поэтому неудивительно, что для меня время тянулось невыносимо медленно. Чувствовалось, что утро близко. Спящие носильщики ворочались и бормотали во сне; лев перестал рычать и ушел в свое логово; где-то прокричал бдительный петух; ослы поднялись и начали теребить свою привязь. Однако было еще совсем темно. Ко мне подкрался Ханс. При свете сторожевого костра я отчетливо видел его морщинистое желтое лицо. — Я чувствую приближение зари, — сказал он и исчез. Из мрака проступила массивная фигура Мавово. — Ночь прошла, о Бодрствующий в ночи, — сказал он. — Враг если появится, то скоро. Он поклонился и тоже пропал в темноте. Вскоре я услышал скрежет взводимых курков и бряцание копий. Я разбудил Стивена. Тот сел, зевая, пробормотал что-то про оранжереи, потом окончательно очнулся и сказал: — Что, идут арабы? Мы наконец сражаемся! Здорово, старина, правда здорово?! — Здорово, что вы такой глупец! — невпопад рявкнул я и ушел рассерженный. Я очень беспокоился за этого неопытного юношу. Если со Стивеном случится беда, что я скажу его отцу? Впрочем, нас, вероятно, постигнет одинаковая участь. Вполне возможно, что через час нас обоих убьют. Я, конечно, не имел ни малейшего намерения сдаваться живым в руки гнусных работорговцев. Слова Хасана об огне и муравейниках слишком сильно меня впечатлили. Через пять минут все были на ногах, хотя носильщиков пришлось будить пинками. Бедняги привыкли к тому, что смерть бродит неподалеку, и ее близость не могла нарушить их сон. Впрочем, сейчас я заметил, что они встревожены и перешептываются между собой. — При малейших признаках измены убивай подстрекателей, — велел я Мавово, и тот кивнул, как всегда молча и серьезно. Не разбудили мы лишь спасенную нами женщину и ее ребенка. Обессилевшие, они спали в дальнем углу лагеря. Что толку их тревожить? Сэм, которому было явно не по себе, принес нам со Стивеном по кружке кофе. — Мистер Квотермейн, мистер Сомерс, наступил исключительно важный момент, — объявил Сэм, передавая нам кофе, и я заметил, что руки у него трясутся, а зубы стучат. — Холод стоит чрезвычайный! — продолжал он на своем канцелярском английском, объясняя симптомы, которые я не мог не заметить. — Мистер Квотермейн, вольно вам «в порыве и ярости» глотать землю и издалека чуять битву, как написано в Книге Иова, а я к сражениям не привык и отношусь к ним иначе. Мое желание — оказаться сейчас в Кейптауне, пусть даже в беленых стенах городской тюрьмы. — Я тоже тебе этого желаю, — пробормотал я, с трудом удерживаясь, чтобы не дать ему хорошего пинка. Но Стивен расхохотался и спросил его: — Сэм, что же ты будешь делать, когда начнется сражение? — Мистер Сомерс, я затратил несколько часов на копание ямы вон за тем деревом, которое, я надеюсь, защитит от пуль. В той яме я, будучи человеком мирным, стану молиться о нашей победе. — А если арабы проникнут сюда, Сэм? — Тогда, сэр, мне придется положиться на свое умение бегать. Я больше не мог вытерпеть и пнул Сэма туда, куда целился. Тот мигом исчез, глянув на меня с укоризной. Тут в лагере работорговцев, до сих пор чрезвычайно тихом, поднялся ужасный шум, и в этот самый миг первый отблеск зари заиграл на стволах наших ружей. — Смотрите! — закричал я, моментально проглотив остатки кофе. — Там что-то происходит! Шум нарастал, пока небо не заполонили дикие вопли и проклятия. Отчетливо слышались возгласы гнева и команды боевой тревоги, затем выстрелы, страдальческие стоны и топот. Рассвело стремительно, что для этих широт не редкость. Еще минуты три — и сквозь серую дымку проступили десятки черных фигур, карабкавшихся вверх по склону по направлению к нам. У кого-то к спине было привязано полено, кто-то полз на четвереньках, кто-то тащил за руку ребенка — и каждый кричал во весь голос. — Невольники атакуют нас, — сказал Стивен, хватая ружье. — Не стреляйте! — крикнул я. — Думаю, что они вырвались на свободу и ищут у нас защиты. Я оказался прав. Бедняги воспользовались двумя ножами, тайком переданными им нашими лазутчиками. За ночь рабы разрезали путы и теперь бежали под защиту англичан и английского флага. Приближались они ужасной толпой, многие так и не избавились от деревянных ошейников — не хватило времени, ведь арабы шли по пятам и стреляли. Опасность нам грозила серьезнейшая: если туземцы ворвутся в лагерь, то сметут его и оставят нас беззащитными перед пулями работорговцев. — Ханс! — позвал я. — Возьми охотников, которые сопровождали тебя вчера, и попробуй провести невольников в обход лагеря. Торопись, торопись, не то нас растопчут! Ханс умчался, и скоро я увидел его и охотников бегущими навстречу приближавшейся толпе. Чтобы привлечь внимание, Ханс размахивал чем-то белым, кажется рубашкой. Невольники в первых рядах остановились, разглядели дула наших ружей, закричали: — Англичане, сжальтесь! Англичане, спасите нас! Получилось очень удачно, ведь Ханс и его товарищи не остановили бы толпу. Потом рубашка метнулась влево от нашей бомы, к кустам за лагерем. Рабы следовали за белым пятном, как овцы за бараном-вожаком. Итак, опасность миновала. Кто-то из невольников пал от пули арабов, кого-то затоптали, кто-то свалился от изнеможения. Уцелевших обстреливали преследователи. Одна женщина не выдержала тяжести ошейника и опустилась на четвереньки. Араб выстрелил в нее, но пуля попала в землю, не причинив вреда невольнице, которая быстро поползла прочь. Я знал, что теперь он постарается не промахнуться, и приготовился. Видимость стала хорошей, и я разглядел стрелка: высокий мужчина в белом выступил из-за бананового дерева ярдах в ста пятидесяти от нас и тщательно целился в свою жертву. Но я тоже взял его на мушку, а стрелок я неплохой. Ружье араба так и не выстрелило, а сам он подскочил на пару футов и навзничь упал на землю, получив пулю в голову — она-то и была моей мишенью. Охотники восхищенно ахнули, а Стивен воскликнул: — Отличный выстрел! — Неплохой, только мне стрелять не следовало, — отозвался я. — Арабы нас не атаковали, вышло, что мы объявили войну. А вот и ответ, — добавил я, когда пуля сбила пробковый шлем с головы Стивена. — Всем лечь на землю и стрелять через бреши! Сражение началось. Если не считать развязки, его и полноценным сражением не назовешь, особенно по сравнению с теми схватками, что ожидали нас в будущем. С другой стороны, пришлось нам солоно. Вначале арабы с криком «Аллах!» бросились в атаку, но, смелости своей вопреки, повторить ее не решились. Благодаря удаче или ловкости Стивен уложил пару врагов из двустволки, я тоже не без результата разрядил крупнокалиберную централку (свою первую), между тем как охотники сделали одно или два удачных попадания. После этого арабы попрятались за деревьями и, как я и опасался, в камыши у ручья. Спокойно целясь из укрытия, противники здорово нас потрепали, так как среди них были приличные стрелки. Плохо пришлось бы нам, если бы мы не приняли мер предосторожности и не обложили нашу терновую изгородь землей и дерном. Убили одного нашего охотника: пуля пролетела через брешь и попала ему в горло, когда он приготовился стрелять. Несчастные носильщики стояли выше и пострадали куда больше: двоих сразили наповал, четверых ранили. После этого я велел остальным залечь пластом у изгороди, чтобы мы стреляли поверх них. Скоро стало ясно, что арабов куда больше, нежели думалось вначале, чуть ли не пятьдесят человек палили из разных мест. Они постепенно приближались к нам с явным намерением обойти с фланга и занять более высокую позицию в нашем тылу. Некоторых мы остановили, когда они перебегали от одного прикрытия к другому, но ведь это все равно что отстреливать кроликов, скачущих через лесную тропу и ныряющих в заросли. Не без гордости скажу, что получалось лишь у меня: сказались сноровка и меткость. Через час наше положение усугубилось настолько, что пришлось обсуждать дальнейшую тактику. Я заявил, что небольшими силами атаковать рассредоточенных стрелков бесполезно и наивно надеяться, что бома продержится до ночи. Если арабы обойдут наш лагерь, они быстро перестреляют нас с более высокой точки. В течение последующего получаса нам удавалось удерживать позиции, и враги не могли прорваться в обход лагеря. К счастью, с одной стороны от нас был ручей, с другой — открытое место, и арабы несли большие потери. — Боюсь, у нас есть единственный выход, — сказал я, когда арабы приостановили атаку, чтобы посовещаться или дождаться новой партии боеприпасов. — Нужно бросить лагерь со всем, что в нем есть, и бежать вверх по холму. Арабы наверняка устали, а мы бегуны хорошие, спасемся. — Как же быть с ранеными? — спросил Стивен. — А с женщиной и ее ребенком? — Не знаю, — ответил я, потупившись. Разумеется, я знал, но здесь возникал извечный вопрос: следует ли жертвовать собой ради случайных людей, которых все равно не спасти? В лагере наша гибель неизбежна, если же попробуем бежать, может, и скроемся. Но в последнем случае мы должны бросить на произвол судьбы раненых носильщиков и женщину с ребенком, которых мы избавили от голодной смерти. Их, возможно, пощадят, а вот мужчин наверняка убьют. Пока эти мысли мелькали у меня в голове, я вспомнил француза Леблана, изрядного выпивоху, которого знал в юности. Леблан водил дружбу с Наполеоном (по крайней мере, он так утверждал) и рассказывал, что великий полководец осаждал Акру на Святой земле, но был вынужден отступить. Он не мог взять раненых с собой и оставил их в монастыре на горе Кармель, каждого с дозой яда. Очевидно, яд солдаты не приняли, так как, по словам Леблана (он там был, но не в числе раненых), их перерезали турки. Итак, Наполеон предпочел спасти свою жизнь и армию ценой некоторых потерь. Только разве его поступок — хороший пример для христианина, да и где сейчас искать яд? Я вкратце объяснил Мавово наше положение (опустив, конечно, историю Наполеона) и попросил у него совета. — Нужно бежать, — ответил он. — Я не любитель спасаться бегством, но жизнь дороже. Тот, кто сохранил ее, может со временем вернуть свой долг. — А раненые, Мавово? Мы не можем взять их с собой. — Я останусь с ними, Макумазан. Война есть война. Или, если им угодно, пусть остаются одни и ждут милости арабов. Такой вариант — повторение истории Наполеона. Признаюсь, я уже был готов согласиться на него, но тут произошло нечто неожиданное. Напомню, что вскоре после рассвета Ханс, размахивая рубашкой, как флагом, увлек невольников на холм за нашим лагерем. Там он спрятался вместе с ними, и с тех пор мы их не видели. Теперь Ханс снова появился, по-прежнему размахивая рубашкой. За ним неслась огромная, сотни в две, толпа нагих людей с дубинами, камнями и обломками невольничьих ошейников. У самой бомы, из-за которой мы удивленно за ними наблюдали, невольники разделились на два отряда. Один из них побежал налево, очевидно под командованием мазиту, который сопровождал Ханса в невольничий лагерь, второй бросился направо под предводительством старого готтентота собственной персоной. Я молча смотрел на Мавово, от изумления утратив дар речи. — Ах! — воскликнул он. — Пятнистая змея по-своему велик. Он сумел наполнить души рабов смелостью. Отец мой, ты же понимаешь, что они хотят напасть на арабов, как дикие псы на буйволенка? Святая правда, в этом и заключался блестящий план готтентота. Больше того, этот план сработал. Ханс с вершины холма наблюдал за ходом битвы и понял, чем она закончится. Тогда он через переводчика обратился к невольникам и объяснил, что нас, белых друзей, скоро одолеют, поэтому рабам следует либо проявить храбрость, либо снова сунуть шею в ярмо. Некоторые из невольников были воинами в своем племени, с их помощью Ханс растормошил остальных. Они захватили палки, камни — все, что попалось под руку, — и по сигналу бросились в атаку. В стороне остались только женщины и дети. Завидев толпу, арабы начали стрелять. Несколько человек они уложили наповал, но тем самым обнаружили свое укрытие. Рабы атаковали. Они раздирали врагов на части, вышибали им мозги с такой яростью, что через пять минут было убито почти две трети арабов. Уцелевшие обратились в бегство, многие из них падали под нашими пулями. Воздаяние было ужасным. В жизни не видел, чтобы мстили с такой беспощадностью. Когда почти всех арабов перебили, отыскался старший из погонщиков — он прятался в сухих камышах у ручья. Рабы ухитрились поджечь сухостой. Думаю, спички им дал Ханс, который в начале побоища осмотрительно отступил, а к концу его вернулся на передовую позицию. Едва несчастный араб показался из горящих камышей, рабы набросились на него, как муравьи на гусеницу, и, вопреки мольбам о пощаде, буквально разорвали на куски. Упрекнуть мстителей язык не поворачивался. Если бы мы видели, как убивают наших стариков и грудных детей, как жгут наши дома, как женщин и молодежь угоняют, чтобы продать в рабство, поступили бы мы иначе? Думаю, нет, несмотря на то что не считаем себя дикарями. Так нам спасли жизнь те, кого мы сами пытались спасти. На сей раз справедливость восторжествовала даже в африканской глуши, каковой являлся Занзибар в ту пору. Если бы не Ханс, сумевший вдохнуть мужество в сердца измученных рабов, не сомневаюсь, что к ночи мы все лежали бы мертвыми. Нам бы вряд ли удалось бежать. Да и что, даже при невероятном везении, сталось бы с горсткой чужаков в дикой стране, где на каждом шагу враги? Тем более у нас кончились боеприпасы… — Как хорошо, что баас внял моей мольбе и взял меня с собой, — чуть позже сказал готтентот, скосив на меня глаза-бусинки. — Да, старый Ханс был пьяницей, игроком и, быть может, пойдет в ад. Но старый Ханс умеет хорошо думать, как некогда думал перед сражением у Марэфонтейна, или на холме смерти около крааля Дингаана, или сегодня утром в кустарнике. Старый Ханс знал, чем все должно окончиться! Он видел, как эти собаки-арабы рубят дерево, чтобы перекинуть мост через глубокий ручей и пробраться на холм позади лагеря, откуда они в пять минут перестреляли бы всех. Теперь, баас, в животе у меня урчит. Завтрака на холме не было, а солнце так и пекло. Мне бы каплю бренди… Знаю, я обещал не пить. Но если баас меня угостит, грех будет не мой, а бааса. Вопреки своим правилам, я угостил верного слугу неразбавленным бренди. Он сделал глоток и закрыл бутылку. Еще я пожал старику руку и поблагодарил его. Растроганный Ханс бормотал: мол, все это пустяки, а если бы погиб баас, то и Хансу конец, так что он пекся в первую очередь о себе самом. При этом с его курносого носа скатились две крупные слезы, хотя, может, на готтентота подействовал бренди. Итак, мы стали победителями и чувствовали себя в безопасности, ибо понимали, что горстка бежавших работорговцев больше не нападет на нас. Первым делом мы подумали о еде, ведь перевалило за полдень и животы у всех подвело с голоду. Но чтобы приготовить обед, нужен повар, и это напомнило нам о Сэме. Стивен, который от ликования пританцовывал, так что шлем, пробитый пулей, съехал ему на самый затылок, отправился искать Сэма и вскоре окликнул меня. В его голосе слышалась тревога. Я пошел на зов вглубь лагеря и увидел Сомерса у похожей на могилу норы, вырытой за одиноко растущим терновым кустом. На дне кто-то лежал, и, судя по всему, то был Сэм. Мы вытащили его, почти бесчувственного. Сэм едва держался на ногах, но не выпускал из рук Библию в переплете. В самом центре Библии зияла дыра от пули, застрявшей, помнится мне, в Первой книге Царств. В общем, бедняга отделался испугом. После того как мы побрызгали на него водой — а воды Сэм не любил, — он довольно быстро пришел в себя и рассказал, что случилось. — Джентльмены, будучи, как я уже говорил, человеком мирным, я сидел в своем убежище и искал утешения в религии. — (В минуты опасности он становился чрезвычайно религиозным.) — Наконец стрельба утихла, и я, думая, что враг бежал, решил выглянуть наружу. На всякий случай я держал Библию перед собой. Далее ничего не помню. — М-да, — хмыкнул Стивен, — пуля попала в Библию, Библия стукнула вас по голове и оглушила. — Ах! — воскликнул Сэм. — Верно меня учили: «Библия — щит праведников». Теперь я понимаю, почему предчувствие заставило меня взять старую толстую Библию, принадлежавшую моей покойной матери, а не тоненькую, подаренную мне учителем воскресной школы, — ту вражеская пуля пробила бы насквозь. После этого Сэм ушел варить обед. Воистину, спасение чудесное, а вот считать ли его наградой за благочестие Сэма — другое дело. Подкрепившись, мы обсудили создавшееся положение и главный вопрос: что делать с невольниками. Они группами сидели за бомой, многие были ранены в недавней схватке. Туземцы тупо смотрели на нас, а потом чуть ли не хором потребовали еды. — Чем же нам кормить несколько сотен человек? — спросил Стивен. — Работорговцы как-то справлялись, — ответил я. — Надо пойти и обыскать их лагерь. Мы отправились туда в сопровождении голодных подопечных и обрадовались, обнаружив, помимо множества полезных вещей, большой запас риса, кукурузы и прочего зерна, смолотого в муку. Молотое зерно мы смешали, добавили соль, и вскоре котелки наполнились кашей. Господи, как несчастные набросились на еду! Им следовало быть осторожнее, но у нас не хватало духу пенять за жадность людям, которые недоедали неделями. Когда они наконец насытились, мы поблагодарили их за храбрость, сказали, что они свободны, и поинтересовались, каковы их намерения. Бывшие невольники ответили единодушно: они хотят идти с нами. Последовал большой индаба, или совет, который, за нехваткой времени, описывать не стану. В конце концов мы согласились, чтобы все желающие сопровождали нас до знакомых мест, а затем отправились домой. Потом мы разделили между ними одеяла и другие вещи арабов и удалились, приставив стражу к пищевым запасам. Что касается меня, я от всей души желал, чтобы к утру подопечные нас покинули. После этого мы вернулись в лагерь, как раз к началу грустной церемонии погребения нашего охотника, убитого в сражении. Его товарищи выкопали глубокую яму за изгородью, в нескольких ярдах от места, где он пал. Убитого посадили в яму лицом к стране зулусов, рядом поставили две тыквенные бутыли, принадлежавшие ему. Одну бутыль наполнили водой, другую зерном. Кроме того, товарищи снабдили покойного одеялом и двумя ассегаями. Одеяло разорвали, древки копий сломали — «убитому убитое», приговаривали участники обряда. Потом туземцы деловито забросали могилу землей, а сверху навалили больших камней, чтобы гиены не разрыли яму. Охотники поочередно прошли мимо могилы, каждый останавливался, называя убитого по имени. Мавово был последним и сказал небольшую речь. Он пожелал погибшему «намба качле», то есть благополучно добраться до земли духов, и прибавил, что это обязательно случится, ибо охотник погиб, как подобает воину. Кроме того, Мавово потребовал, чтобы погибший, сделавшись духом, приносил нам удачу. В противном случае он обещал строго потолковать с ним, когда сам станет духом. Мавово напомнил, что предсказал гибель охотника еще в Дурбане. Мол, слова вещей змеи исполнились, и погибший не может жаловаться, что напрасно заплатил шиллинг за гадание. — Да! — испуганно воскликнул один из охотников. — Но твоя змея говорила о шестерых. — Так и будет, — ответил Мавово, поднося к здоровой ноздре понюшку табаку, — наш брат — первый из шести. Не бойтесь, остальные пять присоединятся к нему в свое время, ибо моя змея говорит только правду. Но если кто-нибудь из вас торопится, — он окинул взглядом небольшое собрание, — пусть поговорит со мной. Быть может, я устрою, чтобы его черед… — Мавово замолчал, так как охотники начали расходиться. — Я очень рад, что Мавово не гадал для меня, — сказал Стивен, когда мы вернулись за бому. — Но зачем они зарыли вместе с умершим горшки и копья? — Чтобы дух его пользовался ими во время своего путешествия, — ответил я. — Зулусы верят, что после смерти человек переходит в иной мир.Глава 8
МАГИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО
Той ночью я спал плохо: опасность миновала, но бесконечные тревоги сказались на моих нервах. Кроме того, кругом стоял порядочный шум. Тела убитых носильщиков, переданные их товарищам, теперь валялись в кустах и привлекали гиен. Четверо раненых, лежащих недалеко от меня, громко стонали, а когда не стонали, то истово молились своим богам. Мы сделали все, что могли, для этих несчастных. Добросердечный трусишка Сэм, некогда служивший медбратом в госпитале, обработал их раны, к счастью не смертельные, и периодически их навещал. Но особенно меня беспокоил невообразимый шум из невольничьего лагеря. Многие племена тропической Африки ведут ночной образ жизни, вероятно, потому, что ночь прохладнее дня. В данном случае эта привычка давала о себе знать. Казалось, каждый из освобожденных невольников воет, надрывая горло, под аккомпанемент грохота железной посуды, в которую они, за неимением барабанов, колотили палками. Кроме того, туземцы развели огромные костры, и темные фигуры зловеще мелькали среди языков пламени, как на средневековом изображении ада в старинной книге. Наконец я не выдержал, разбудил Ханса, который спал, по-собачьи свернувшись у моих ног, и поинтересовался, что происходит. Услышав ответ, я очень пожалел о своем любопытстве. — Среди тех невольников, баас, много людоедов. Небось едят арабов, вот и веселятся, — сказал он, зевая. Я не стал продолжать этот разговор, и Ханс снова уснул. Следующим утром, когда мы пустились в путь, солнце стояло уже высоко. В одночасье лагерь не свернешь, забот хватало. Следовало собрать ружья и патроны убитых арабов, зарыть в землю слоновую кость, которую караван вез в большом количестве, так как взять ее с собой не представлялось возможным[301], и распределить багаж между носильщиками. Также пришлось сделать носилки для раненых и призвать к порядку освобожденных невольников. В подробности их ужасного пиршества вдаваться не хотелось. Собрав туземцев вместе, я увидел, что за ночь многие исчезли. Остались двести с лишним человек, в основном женщины и дети. Казалось, этой толпой бывших рабов руководило одно желание: сопровождать нас, куда бы мы ни отправились. Наконец сборы были окончены, и мы снялись с места. Описать события следующего месяца трудно, более того, невозможно: за столько лет они перепутались в памяти. Непросто было кормить многочисленных подопечных, ведь за запасами зерна не уследишь, и они быстро истаяли. К счастью, местность, по которой мы следовали, после сезона дождей изобиловала дичью, и мы, продвигаясь медленно, успевали подстрелить ее достаточно, чтобы утолить голод. Но охота хороша лишь в удовольствие, а по принуждению это занятие быстро надоедает. Да и патронов мы истратили изрядно. Зулусские охотники зароптали: заботы о пище в основном были возложены на них, поскольку мы со Стивеном не могли часто отлучаться из лагеря. В конце концов я разрешил этот вопрос следующим образом. Выбрав тридцать-сорок невольников способнее прочих, я дал каждому по трофейному ружью с патронами и, как мог, научил стрелять. Потом я сказал обученным, что теперь они сами должны добывать пропитание себе и своим товарищам. Разумеется, не обошлось без потерь: в одного невольника попала случайная пуля, троих растерзали слониха и раненый буйвол. Но в итоге туземцы настолько хорошо научились обращаться с оружием, что снабжали дичью весь лагерь. Почти каждый день исчезали маленькие группы наших темнокожих спутников — полагаю, они уходили, чтобы разыскать свой дом. Когда мы подошли к границам земли мазиту, при нас осталось не более пятидесяти человек, включая пятнадцать из числа обученных стрелять. Тут начинаются наши настоящие приключения. Однажды вечером, после трехдневного пути через густой кустарник, где львы унесли невольницу, разорвали одного осла и настолько изранили другого, что его пришлось пристрелить, мы оказались на краю большого, поросшего травой плоскогорья, поднимавшегося, согласно показаниям моего анероида[302], на 1640 футов над уровнем моря. — Что это за местность? — спросил я у двоих проводников-мазиту, тех самых, которых мы взяли у Хасана. — Это земля нашего народа, господин, — отвечали они. — С одной стороны она ограничена кустарником, с другой — большим озером, на котором живет народ понго. Я посмотрел на пустынное плоскогорье, уже начинавшее буреть, но увидел лишь большие стада антилоп — они часто встречаются южнее. Пейзаж выглядел весьма унылым из-за мороси с туманом и холодным ветром. — Я не вижу ни ваших соплеменников, ни их краалей, — сказал я. — Только траву и диких животных. — Наши сородичи придут, — нервно произнес проводник. — Дозорные наверняка следят за нами из высокой травы или из норы. — Да и черт с ними! — буркнул я и перестал об этом думать. Если с тобой может случиться что угодно — а я привык к неожиданным поворотам судьбы чуть ли не с рождения, — перестаешь беспокоиться о будущем. Я давно считаю себя фаталистом. Верю, что человек, точнее, его душа появилась из источника жизни сотни тысяч илимиллионов лет назад. Когда миссия будет исполнена — через сотни тысяч или миллионов лет, а может быть, завтра, — обогащенный опытом человек вернется к источнику жизни. Еще я верю, что жизнь человека в любом из миров предопределена и предначертана свыше. Человек своими поступками способен лишь менять ее ход, но не удлинять и не укорачивать даже на час. Поэтому я уповаю на волю Творца и о завтрашнем дне не думаю. Однако в этот, очередной, раз «завтрашний день» пошел по собственному плану. Еще не рассвело, когда Ханс, чей сон обычно был недолог, как у собаки, разбудил меня со зловещим известием, что слышит топот сотен ног. — Где? — спросил я, потому что ничего не услышал, хотя насторожился. Увидеть я тоже ничего не увидел, ведь темно было, хоть глаз выколи. — Здесь! — воскликнул он, прижавшись ухом к земле. Я последовал его примеру, но опять ничего не услышал, несмотря на то что слух у меня острый. Тогда я послал за часовыми, но они недоуменно помотали головой, и я «умыл руки», то есть лег спать. Однако Ханс был прав. В таких случаях он никогда не ошибается: органы чувств у него, как у дикого зверя. На заре меня снова разбудили — на сей раз Мавово, сообщивший, что нас окружает «целый полк или несколько полков». Я встал и сквозь туман увидел ряды вооруженных людей. Даже на расстоянии я заметил, как копья поблескивают в свете зари. — Что делать, Макумазан? — спросил Мавово. — Завтракать, — ответил я. — На сытый желудок и умирать легче. Я позвал дрожащего от страха Сэма и приказал ему приготовить кофе. Потом разбудил Стивена и объяснил ему положение дел. — Великолепно! — ответил он. — Это, без сомнения, мазиту. Они нашлись неожиданно легко. А то ведь в этой бескрайней глухомани без труда никого не сыщешь! — Интересный взгляд на вещи, — отозвался я. — Прошу вас, обойдите лагерь и объясните всем, что без моего приказа стрелять нельзя. Погодите! Лучше отберите ружья у этих неумех, а то они бог знает что натворят, если испугаются. Стивен кивнул и ушел с тремя или четырьмя охотниками. После его ухода я, посоветовавшись с Мавово, занялся кое-какими приготовлениями, о которых нет нужды распространяться. Словом, при наихудшем раскладе хотелось продать свою жизнь максимально дорого. В Африке необходимо производить впечатление на врагов. Ты поможешь этим если не себе, то будущим путешественникам. Спустя некоторое время Стивен и четверо охотников вернулись с ружьями, вернее, с большей частью розданных ружей и сообщили, что невольники перепуганы и хотят сбежать. — Пусть бегут, — сказал я. — Толку от них мало, а вот испортить дело они могут. Позовите зулусов, которые их караулят. Стивен кивнул, и через пять минут я услышал голоса и топот. Увидеть бегущих мешал густой туман, нависший над кустарником в восточной части лагеря. Невольники, включая носильщиков, сбежали все до единого, даже раненых с собой захватили. Окружавшие нас воины постепенно смыкали кольцо, но беглецы успели шмыгнуть в кусты, через которые мы пробирались накануне. С тех пор мне часто хотелось узнать, что с ними сталось. Без сомнения, некоторые из них погибли, остальные вернулись в свои хижины или нашли себе новый дом в другом племени. Испытания, пережитые теми, кому удалось спастись, наверняка пробудили жгучий интерес у их соплеменников. Я представляю себе легенды, которые будут рассказывать об этих событиях два-три поколения туземцев. После побега невольников и носильщиков, которых дал нам Хасан, нас осталось только семнадцать, а именно: одиннадцать зулусских охотников, включая Мавово, двое белых, Ханс, Сэм и двое мазиту, пожелавших остаться с нами. Тем временем вокруг нас медленно смыкалось кольцо воинов племени мазиту. В это пасмурное утро туман рассеивался медленно, но по мере того, как прояснялось, я украдкой рассматривал этих людей. Все они были выше и стройнее среднего зулуса, их кожа отличалась более светлым оттенком. Вооружились они по-зулусски — копьями с широкими наконечниками и кожаными щитами. Метательных ассегаев я не заметил, зато за спиной у каждого висели лук и колчан со стрелами. На старейшинах были кароссы из кожи, на подчиненных — из древесной коры. Мазиту приближались очень медленно и очень тихо. Никто не говорил ни слова, — очевидно, приказы отдавали знаками. Огнестрельного оружия я не увидел ни у одного из воинов. — Если начнем стрелять и уложим пару воинов, остальные могут испугаться и убежать, — сказал я Стивену. — Хотя могут и не убежать. А могут убежать и вернуться. — В любом случае после выстрелов мы вряд ли встретим на их земле теплый прием, — рассудительно заметил Стивен. — Думаю, лучше не предпринимать ничего, пока положение не заставит. Я кивнул, понимая, что сотни воинов нам точно не одолеть, и приказал бледному от страха Сэму подать нам завтрак. Неудивительно, что бедняга перепугался: опасность нам грозила нешуточная. У мазиту дурная слава, если нападут, нам и пяти минут не протянуть. Кофе и холодную козлятину Сэм поставил на походный столик перед палаткой, которую мы разбили по случаю дождя. Мы начали есть. Зулусские охотники ели из общей миски кашу, сваренную накануне. Каждый из них держал на коленях заряженное ружье. Наше поведение сильно озадачило мазиту. Они приблизились — теперь нас разделяло ярдов сорок, — сомкнули круг и таращились на нас круглыми глазами. Происходящее напоминало сон, который я никогда не забуду. Мазиту удивляло абсолютно все — наше внешнее безразличие, цвет нашей со Стивеном кожи (до сих пор они встречали только одного белого — Брата Джона), палатка и два уцелевших осла. Когда один из ослов заревел, мазиту испуганно переглянулись и даже отступили на несколько шагов. Нервы у меня не выдержали, когда я увидел, что некоторые воины натягивают луки. Их предводитель, высокий одноглазый старик, явно решил что-то предпринять. Я вызвал одного из проводников (забыл сказать, что мы назвали их Томом и Джерри[303]) и вручил ему кружку кофе. — Джерри, передай кофе вождю с моими наилучшими пожеланиями и спроси его, не желает ли он отведать этот напиток вместе с нами, — сказал я. Смельчак Джерри повиновался. Кружку с дымящимся кофе он поднес прямо к носу старика. Очевидно, Джерри знал его по имени, так как я услышал следующее: — О Бабемба, белые господа Макумазан и Вацела приглашают тебя отведать с ними их священный напиток! Я отлично понял фразу, ведь Джерри говорил на диалекте, очень близком к зулусскому, который хорошо мне знаком. — Их священный напиток! — воскликнул старик и отпрянул. — Это красная вода, только горячая! Белые колдуны решили отравить меня мвави? Мвави, или мказа, как ее порой называют, — крепкая настойка из коры мимозы особого сорта, которую туземные колдуны дают обвиняемым в преступлении. Если обвиняемого стошнит, значит он невиновен, если же начнутся судороги или оцепенение, он объявляется виновным и умирает либо от яда, либо иначе. — Это не мвави, о Бабемба, — сказал Джерри. — Это чудесная жидкость, благодаря которой белые господа метко стреляют из своих удивительных палок, убивающих на расстоянии тысячи шагов. Смотри, я проглочу немного. — Джерри сделал глоток и наверняка обжег себе язык. Это придало смелости старому Бабембе. Он понюхал кофе и нашел его ароматным. Потом подозвал мужчину, судя по наряду, колдуна, и заставил его хлебнуть из кружки. Тот начал пить и вошел во вкус. Бабемба с негодованием отнял кружку и выпил кофе сам. Напиток ему понравился, так как я не пожалел сахару. — Действительно священное питье! — похвалил Бабемба, причмокивая. — У тебя еще есть? — У белых господ его много, — сказал Джерри. — Они приглашают тебя поесть с ними. Бабемба сунул палец в чашку и, подцепив сладкий осадок, лизнул его и задумался. — Дело налаживается, — шепнул я Стивену. — Вряд ли он убьет нас после того, как испробовал наш кофе. Он и завтракать придет. — Вдруг это ловушка? — сказал Бабемба и принялся вылизывать из кружки сахар. — Нет, — ответил Джерри с похвальной находчивостью, — белые господа легко убили бы тебя, но они не причиняют вреда тем, кто пил их священный напиток, разумеется, если те ведут себя мирно. — Не принесешь ли сюда еще немного священного напитка? — спросил Бабемба, в последний раз облизывая кружку. — Нет, — произнес Джерри, — ты должен идти туда, если хочешь еще. Не бойся. Могу ли я, сын твоего племени, предать тебя? — Правда! — воскликнул Бабемба. — По твоей речи и лицу видно, что ты мазиту. Но о том, как ты попал сюда, мы поговорим после. Я хочу пить и пойду туда. Воины! Сядьте и будьте настороже. Если со мной что-нибудь случится, отомстите за меня и обо всем доложите королю. Пока шли переговоры, я велел Хансу и Сэму открыть один из ящиков и достать оттуда большое зеркало в деревянной раме и на подставке. К счастью, оно не сломалось. Мы упаковали все так тщательно, что бинокли и другие хрупкие вещи оказались в целости. Зеркало я тщательно вытер и поставил на стол. Старый Бабемба опасливо приблизился, косясь на нас и на наши пожитки. Когда он подошел совсем близко, его взгляд упал на зеркало. Он замер, удивленно посмотрел в него, отступил, но любопытство пересилило, старик снова шагнул вперед и снова остановился. — В чем дело? — окликнул его военачальник, оставшийся за главного. — Здесь большое колдовство, — ответил он. — Я вижу себя, идущего навстречу. Ошибки быть не может, потому что у двойника тоже нет одного глаза. — Подойди ближе, о Бабемба, и посмотри, в чем дело! — крикнул колдун, который пробовал кофе и пытался выпить всю кружку. — Копье держи наготове и, если двойник попробует напасть, убей его! Ободрившись, Бабемба поднял копье, но торопливо опустил. — Этого нельзя делать, глупец! — закричал старик колдуну. — Он тоже поднял копье. Кроме того, все вы должны стоять позади меня, а находитесь передо мной. Священное питье опьянило меня. Я околдован! Спасите! Я понял, что шутка зашла слишком далеко: воины зароптали и натянули луки. К счастью, в эту минуту взошло солнце. — О Бабемба, мы дарим тебе магический щит, который позволяет раздваиваться. Отныне труд твой уменьшится наполовину, а твое удовольствие удвоится, ибо при взгляде на этот щит у тебя появится двойник. Щит имеет еще одну особенность. Смотри! Я поднял зеркало и, пользуясь им как гелиографом[304], пустил зайчик прямо в глаза воинам мазиту, сидевшим перед нами длинным полукругом. Клянусь честью, они побежали со всех ног! — Удивительно! — воскликнул старый Бабемба. — Могу ли я, белый господин, научиться делать то же самое? — Конечно, — заверил я. — Попробуй. Держи щит вот так, пока я буду говорить заклинание. — Я пробормотал несколько ничего не значащих слов, потом снова направил зеркало на мазиту. — Смотри, смотри! Ты попал им в глаза. Ты сам могущественный чародей. Они бегут, бегут! — (Воины на самом деле помчались прочь.) — Есть ли среди твоих соплеменников те, которых ты не любишь? — Таких немало. — Бабемба скривился. — Особенно не люблю колдуна, который чуть не выпил весь священный напиток. — Хорошо. Со временем я покажу тебе, как с помощью этого волшебного щита прожечь в нем дыру. Нет, не сейчас. Пусть этот солнечный пересмешник отдохнет. Смотри… — Я перевернул зеркало и положил его на стол. — Теперь ты ничего не видишь? — Ничего, кроме дерева, — ответил Бабемба, глядя на раму. Тогда я набросил на зеркало полотенце и, чтобы переменить разговор, предложил Бабембе сесть и выпить с нами «священного напитка». Старик с большой осторожностью сел на складной стул, воткнул огромное копье наконечником в землю и взял кружку с кофе. Однако не свою. Бабемба так смешно сидел на стуле, с копьем между колен, что легкомысленный Стивен забыл об опасности положения. Сомерса душил смех, и после неудачной попытки его подавить он с грохотом поставил свою чашку на стол и убежал в палатку, где разразился неприлично громким хохотом. Сбитый с толку Сэм вручил кружку Стивена Бабембе. Вскоре Сомерс вышел из палатки и, чтобы сгладить впечатление, взял кружку Бабембы и залпом выпил почти весь кофе. Сэм, заметив свою ошибку, сказал: — Простите, мистер Сомерс, мне очень жаль, но вышла путаница. Вы выпили кофе из кружки, которую только что вылизал этот вонючий дикарь. Фраза имела мгновенный и чудовищный результат — Стивену стало дурно. — Что это с белым господином? — удивился Бабемба. — А, теперь я вижу, что вы действительно меня обманываете. Вы дали мне горячую мвави, которая вызывает тошноту у невиновных, а замышляющих зло убивает. — Прекратите валять дурака! — прошептал я Стивену, пиная его в голень. — Из-за вас нам глотки перережут. — Потом, собравшись с духом, я обратился к Бабембе: — О нет, вождь! Белый господин — жрец священного напитка, и то, что ты видишь, — религиозный обряд. — Вот оно что! — воскликнул Бабемба. — Но я надеюсь, этот обряд не переходит на других? — Нет, — ответил я, предлагая ему сдобные булки. — Теперь скажи мне, вождь Бабемба, зачем ты вышел против нас с пятью сотнями вооруженных людей? — Чтобы убить вас, белый господин… Ох, как горяч ваш священный напиток! Горяч да вкусен! Говоришь, обряд не переходит на других? Ибо я чувствую… — Ешь булку, — сказал я Бабембе. — А зачем тебе убивать нас? Пожалуйста, говори правду, или я прочту ее в магическом щите, который отражает человека изнутри, так же как и снаружи. — Я поднял салфетку и посмотрел в зеркало. — Если ты, белый господин, способен читать мои мысли, то зачем утруждаешь меня, заставляя высказывать их? — весьма резонно спросил Бабемба, набив рот сдобой. — Однако я изложу их тебе, ибо этот блестящий предмет может солгать. Бауси, король нашего племени, велел перебить вас, так как слышал, что вы работорговцы и идете сюда с ружьями, чтобы взять в плен мазиту, отвести их к Черной воде[305] и продать. Мазиту посадят на большие лодки, которые плывут сами собой, и увезут в рабство. Об этом Бауси сообщили арабские посланцы. Мы знаем, что это правда, так как вчера с вами было много невольников. Завидев наши копья, все они разбежались не более часа назад. Я внимательно посмотрел в зеркало и спокойно проговорил: — Магический щит рассказывает иную историю. Он утверждает, что ваш король Бауси приказал провести нас к нему с почестями, чтобы мы могли переговорить с ним. Между прочим, у нас есть для него скромные дары. Я попал в цель. Бабемба чрезвычайно смутился. — Верно… — пробормотал он, запинаясь, — То есть… я хочу сказать, что король позволил мне поступить по своему усмотрению. Я посоветуюсь с колдуном. — Раз так, дело улажено, — отозвался я. — Ведь ты, человек благородный, не поднимешь руку на тех, с кем только что разделил священный напиток. Если же ты поступишь иначе, то сам проживешь недолго, — сухо прибавил я. — Одно тайное слово, и этот напиток обратится внутри тебя в мвави наихудшего сорта. — О да, белый господин, все улажено! — воскликнул Бабемба. — Не произноси тайного слова. Я провожу тебя к королю, и ты переговоришь с ним. Клянусь своей головой и духом своего отца, что не причиню вам вреда. С твоего позволения, я позову сюда великого колдуна Имбоцви и подтвержу наш договор в его присутствии. Кроме того, я покажу ему магическое зеркало. Джерри отправился за Имбоцви, и вскоре явился этот мерзкий субъект неопределенного возраста, горбатый, словно Панч[306], худой и косоглазый. Нарядился Имбоцви, как и подобает туземному колдуну, — он весь был увешан лоскутами змеиной кожи, рыбьими пузырями и мешочками со снадобьями. Вдобавок ко всем этим амулетам широкая красная полоса, нанесенная, вероятно, охрой, спускалась у Имбоцви со лба и по носу, губам и подбородку тянулась к шее, где заканчивалась пятном размером с пенни. Прическа тоже соответствовала образу — густые курчавые волосы были пропитаны жиром, припудрены синим порошком и с помощью кольца из черной смолы уложены в рог, острым концом поднимающийся дюймов на пять над макушкой. В общем, Имбоцви весьма напоминал дьявола, причем дьявола раздраженного — он издали начал осыпать нас упреками в том, что мы не пригласили его выпить священный напиток с Бабембой. Мы предложили Имбоцви кофе, но он отказался, заявив, что мы хотим отравить его. Тогда Бабемба немного суетливо, видимо от страха, передал старому колдуну свое решение, которое тот выслушал в полном молчании. Когда Бабемба объяснил ему, что без повеления короля будет неоправданной глупостью предать смерти таких колдунов, как мы, Имбоцви спросил, почему он называет нас колдунами. Бабемба сослался на чудеса блестящего щита, показывающего различные изображения. — Фу! — фыркнул Имбоцви. — Разве спокойная вода или отполированное железо не показывают картинки? — Но этот щит способен разжигать огонь, — заявил Бабемба. — Белый господин говорит, что он может сжечь человека. — Пусть он сожжет меня, — с глубочайшим презрением бросил Имбоцви. — Тогда я поверю, что эти белые люди — колдуны, достойные пощады, а не простые работорговцы, о которых мы часто слышим. — Сожги его, белый господин, докажи ему, что я прав! — раздраженно воскликнул Бабемба. И вождь с колдуном принялись громко ссориться. Очевидно, эти двое были соперниками, и на сей раз они потеряли самообладание. Солнце сияло достаточно ярко, чтобы продемонстрировать мистеру Имбоцви наше «колдовство», чего мне очень хотелось. Я вынул из кармана сильное зажигательное стекло, которым, с целью экономии спичек, часто пользовался для разведения огня. Взял в одну руку стекло, в другую зеркало и занял положение, удобное для эксперимента. Бабемба и колдун яростно спорили, явно не замечая моих действий. Я направил зажигательное стекло прямо на грязный волосяной рог Имбоцви, намереваясь прожечь в нем дыру. Этот рог явно держался на чем-то легковоспламеняющемся — на тростинке или палочке из камфорного дерева, — ибо через тридцать секунд запылал, как факел. — Ох! — завопили наблюдавшие за колдуном кафры. — Вот это ловко! — воскликнул Стивен. — Смотрите, смотрите! — восхищенно закричал Бабемба. — Теперь ты, гнилой нарыв, поверишь, что есть на свете колдуны могущественнее тебя? — Почему ты, сын собаки, надо мной смеешься? — завизжал разъяренный Имбоцви, который один не понимал, в чем дело. Тут у него зародилось подозрение, он поднес руку к волосяному рогу и отдернул ее с воем. Имбоцви запрыгал, завертелся, отчего огонь разгорелся сильнее. Зулусы захлопали в ладоши, Бабемба тоже. Стивена охватил один из его идиотских припадков веселья. Что касается меня, то я испугался. Неподалеку стояло большое деревянное кафрское ведро, из которого брали воду для варки кофе. Я схватил ведро и подбежал к Имбоцви. — Спаси меня, белый господин! — завопил он. — Ты величайший колдун, и я твой раб… Тут его речь оборвалась, поскольку я опрокинул ему на голову ведро, в котором она исчезла, словно свеча в колпачке. Имбоцви стоял очень смирно, вода стекала по нему, а из-под ведра шел дым с неприятным запахом. Убедившись, что огонь потух, я снял ведро с колдуна, растрепанного, лишившегося диковинной прически. Я помог вовремя — Имбоцви почти не обжегся, зато облысел. При малейшем прикосновении сожженные волосы обламывались под корень. — Выпали… — удивленно сказал Имбоцви, ощупывая голову. — Да, — ответил я, — наш щит сработал, верно? — Можешь ли ты, белый господин, вернуть волосы на место? — спросил он. — Это зависит от твоего дальнейшего поведения, — ответил я. Не сказав ни слова, Имбоцви направился к воинам, которые встретили его хохотом. Очевидно, они не любили колдуна, раз так радовались его конфузу. Бабемба сиял. Он тотчас распорядился доставить нас к королю в город Беза, причем дал торжественное обещание, что ни он, ни его подчиненные не причинят нам вреда. Один только Имбоцви не оценил нашей магии. Перед уходом он метнул в мою сторону взгляд, исполненный лютой ненависти, и я пожалел, что использовал зажигательное стекло. Право, мне вовсе не хотелось, чтобы он остался без волос. — Отец мой, лучше бы ты спалил эту змею дотла, ибо тогда ты уничтожил бы ее яд, — чуть позже сказал мне Мавово. — Я тоже немного колдун и скажу тебе, что наш брат больше всего не любит быть осмеянным. Ты, Макумазан, осмеял этого колдуна перед всем народом, и он этого не забудет.Глава 9
БАУСИ — КОРОЛЬ ПЛЕМЕНИ МАЗИТУ
Около полудня мы тронулись в путь и направились в город Беза, резиденцию короля Бауси, куда должны были прибыть к вечеру следующего дня. Несколько часов отряд мазиту шел перед нами, вернее, туземцы шагали со всех сторон. Но мы пожаловались Бабембе на пыль и шум, и он с трогательным доверием к нам приказал воинам идти вперед. Предварительно он заставил нас поклясться именем матери (для многих африканских племен это самая сильная священная клятва), что никто не сбежит. Признаюсь, я, не особенно радуясь компании, согласился не сразу. От Джерри я узнал, что расстроенный Имбоцви покинул соплеменников и отправился по своим делам. Если бы решение зависело исключительно от меня, я попытался бы нырнуть в густой кустарник и затеряться там. Потом пересек бы границу и несколько месяцев сухого сезона пробирался к югу, добывая себе пропитание охотой. Зулусские охотники, Ханс и особенно Сэм желали того же. Но когда я сказал об этом Стивену, он начал упрашивать меня оставить эту мысль. — Послушайте, Квотермейн, — говорил он, — я явился в это захолустье за прекрасной орхидеей циприпедиум и либо добуду ее, либо умру. Конечно, — прибавил он, не увидев в наших глазах согласия, — я не имею никакого права подвергать риску вашу жизнь. Поэтому, если вы считаете затею опасной, я пойду один со стариной Бабембой. Кто-нибудь из нас должен посетить крааль Бауси, на случай если туда явится джентльмен, которого вы называете Братом Джоном. В общем, решение принято, обсуждать больше нечего. Я закурил трубку и, глядя на этого упрямого юношу, постарался обдумать вопрос с разных сторон. В конце концов я пришел к заключению, что Стивен прав. Конечно, подкупив Бабембу или как-нибудь иначе, мы могли бы бежать и избавиться от многих опасностей. Но с другой стороны, мы приехали явно не для того, чтобы так быстро ретироваться. Далее, за чей счет мы сюда приехали? За счет Стивена Сомерса, желавшего следовать плану. Наконец, не говоря уж о шансе встретить Брата Джона (перед ним я морального долга не чувствовал, он ведь сбежал от нас в Дурбане), я не люблю проигрывать. Мы собирались посетить загадочных дикарей, почитающих обезьяну и цветок, и должны идти вперед, пока позволяют обстоятельства. Опасность всюду. Тот, кто бежит от них, успеха не добьется. — Мавово, инкози Вацела не желает бежать, — пояснил я, указывая своей трубкой на Стивена. — Он хочет идти дальше в страну народа понго, раз такая возможность существует. Помни, Мавово, он заплатил за все и нанял нас. Если все сбегут, сказал Вацела, он пойдет с мазиту один. Но если кто-нибудь из вас, охотников, захочет уйти, ни он, ни я не воспротивимся. Что ты скажешь на это? — Я скажу, Макумазан, что инкози Вацела великодушен, хоть и очень молод. Куда бы вы ни отправились, я последую за вами, другие охотники, думаю, тоже. Не люблю я этих мазиту: отцы у них зулусы, а вот матери не могут похвастаться благородным происхождением. Мазиту все как есть ублюдки, о понго я слышал только дурное… Но плох тот бык, который, завидев лужу, замирает на месте. Надо идти вперед. Даже если мы увязнем в болоте, что с того? Тем более моя змея говорит: если мы и увязнем, то не все. Итак, мы решили попыток к бегству не предпринимать. Сэм, правда, настаивал, но когда дошло до дела и ему предложили взять осла и припасы в дорогу, он изменил свое намерение. — Думается мне, мистер Квотермейн, — провозгласил он, — что лучше окончить дни в благородном обществе, нежели в одиночестве пытаться ускользнуть от неизбежного. — Отлично сказано, Сэм! — похвалил я. — А пока не настало неизбежное, приготовь-ка нам обед. Итак, отбросив сомнения, мы продолжили наше путешествие — без особых проблем, так как вместо сбежавших носильщиков нам предоставили новых. Бабемба в сопровождении одного воина шел вместе с нами. От него мы узнали многое. Оказывается, мазиту были многочисленным народом, способным собрать от пяти до семи тысяч воинов. По преданию, они происходили от того же племени, что и зулусы, о которых мазиту едва слышали. И действительно, многие их обычаи, не говоря уже о языке, напоминали зулусские. Впрочем, и по военной организации, и в других отношениях мазиту казались более примитивными. Зато в устройстве жилища они зулусов превзошли. Многочисленные краали, которые мы видели, выглядели добротнее зулусских. Так, в домах вместо норы был предусмотрен дверной проем, и туда можно было войти не нагибаясь. По дороге мы ночевали в одном из таких домов и назвали бы его удобным, если бы не бесчисленные блохи, которые в конце концов выгнали нас во двор. В остальном же мазиту очень напоминали зулусов. Они жили в краалях и разводили скот. Народом управляли вожди, подчиненные верховному вождю, или королю. Они верили в колдовство и приносили жертвы духам предков и могущественному богу, который вершил дела мира и объявлял свою волю через колдунов. Наконец, мазиту не отличались миролюбием — предпочитали войну, под малейшим предлогом нападали на соседей, убивали мужчин, похищали женщин и скот. Достоинствами они тоже обладали — добротой, гостеприимством, хотя с врагами обращались жестоко. Кроме того, они ненавидели торговлю невольниками и тех, кто ею занимался, твердили, что лучше убить человека, нежели лишить его свободы. Они питали отвращение к людоедству и поэтому, более чем кто-либо, гнушались понго, слывших людоедами. Позади осталось живописное, плодородное высокогорье, прекрасно орошенное и, за исключением долин, не заросшее кустарником, и к вечеру второго дня мы прибыли в город Беза. Он располагался на обширной равнине, опоясанной невысокими холмами и возделанными полями, очень красивыми: пришла пора собирать кукурузу и другие зерновые. Город был неплохо укреплен — его обнесли неприступным деревянным палисадом, по обе стороны которого посадили опунцию и другие кактусы. Внутри палисада город делился на кварталы, населенные представителями различных ремесел. Так, один квартал назывался Кузнечным, второй — Военным, третий — Земледельческим, четвертый — Кожевенным и так далее. Король с гаремом и свитой жил у северных ворот, а перед ними в полукруге хижин лежал пустырь, куда при необходимости загоняли скот. Во время нашего пребывания в городе на пустыре кипела торговля и обучались воины. Мы вошли в этот город, вероятно многонаселенный, через южные ворота, сложенные из крепких бревен. Солнце уже садилось, когда мы добрели до гостевых хижин в конце центральной улицы, на которую высыпали местные жители, решившие на нас посмотреть. Хижины располагались в Военном квартале. Забор сулил гостям уединение. Вежливые по натуре, мазиту встретили нас молчанием. Мне казалось, они смотрят на нас со страхом, смешанным с любопытством. Воины салютовали нам копьями. Хижины, в которые нас привел Бабемба, наш новоиспеченный друг, удивляли чистотой и уютом. Все наше имущество, включая ружья, отобранные у невольников перед их бегством, сложили в одной из хижин и выставили там охранника. Ослов привязали к забору, по другую сторону которого тоже появился вооруженный охранник. — Разве мы пленники? — спросил я Бабембу. — Король охраняет своих гостей, — загадочно ответил тот. — Не угодно ли белым господам что-нибудь передать королю? Я увижу его сегодня вечером. — Да, — ответил я. — Передай королю, что мы братья того, кто около года тому назад вырезал ему опухоль. С тем человеком мы условились здесь встретиться. Я говорю о белом господине с длинной бородой, которого вы, туземцы, зовете Догитой. Бабемба встрепенулся: — Вы братья Догиты? Что же вы прежде не упоминали его имени? Когда вы должны с ним здесь встретиться? Знайте, для нас Догита — великий человек, ибо с ним одним наш великий король Бауси вступил в кровное братство. Для мазиту Догита то же, что и король. — Бабемба, мы не упоминали о нем потому, что не говорим обо всем сразу. Что касается того, когда мы должны встретиться, то я не знаю этого. Знаю лишь то, что Догита сюда придет. — Да, господин Макумазан, но когда, когда? Король захочет это знать, и вы должны ответить. Господин, — прибавил он, понизив голос, — вы в опасности, у вас здесь много врагов… Наши земли закрыты для белых людей. Если хочешь спастись, завтра сообщи королю, что Догита, которого он очень любит, придет сюда, чтобы поручиться за вас. Надо, чтобы он явился поскорее, и в тот день, который ты укажешь, иначе твой брат Догита может не застать тебя в живых. Все это я сказал тебе как друг. Остальное зависит от тебя. Бабемба встал и, не проронив больше ни слова, вышел через дверь хижины и ворота ограды мимо часового, который отступил в сторону, чтобы дать ему дорогу. Я тоже поднялся с табуретки, на которой сидел, и в ярости зашагал по хижине. — Понятно, что сказал этот старый дурак? — воскликнул я, обращаясь к Стивену (боюсь, прозвучало словцо покрепче). — Он сказал, что мы должны точно указать день, когда в город Беза явится другой старый дурак — Брат Джон. В противном случае дикари нам перережут глотки, как и собирались изначально. — Положение незавидное, — заметил Стивен. — В город Беза не ходят поезда-экспрессы, да если бы и ходили, мы не поручились бы, что на одном из них приедет Брат Джон. Он ведь впрямь существует? А то очень похоже на имя нарицательное… — Конечно существует, точнее, существовал. Ну почему этот осел не дождался нас в Дурбане, а удрал на север страны зулусов, чтобы ловить бабочек и сломать там ногу или, чего доброго, шею. — Трудно сказать. Порой в собственных поступках не разберешься, а тут Брат Джон. Мы снова плюхнулись на табуретки и уставились друг на друга. Тут в хижину прокрался Ханс и сел на землю перед нами. Дверь имелась, он мог просто войти, но, неизвестно почему, вполз на животе. — Чего тебе надо, уродливая жаба? — злобно спросил я. Ханс действительно напоминал жабу, складки кожи на подбородке тряслись совсем по-жабьи. — У бааса неприятности? — спросил он. — Полагаю, да, — ответил я. — Тебе тоже наверняка неприятно будет корчиться на конце копья мазиту. — У мазиту широкие копья, они делают большие дыры, — заметил Ханс, и я в ответ встал, чтобы вышвырнуть его из хижины, ибо мне было противно слушать его изречения. — Баас, — продолжал он, — в этой хижине есть дыра, через которую слышно все, если лежать у стены, притворяясь спящим. Я слышал разговор бааса с этим одноглазым дикарем и баасом Стивеном. — И что с того, маленькая змея? — Чтобы нам не погибнуть в этом месте, откуда нет спасения, баас должен точно узнать день и час, когда прибудет Догита. — Эй, желтый идиот, если ты снова начинаешь свои… — И я осекся, решив, что лучше выслушать Ханса до конца, нежели срывать на нем раздражение. — Мавово — великий колдун, баас. Его змея — самая сильная во всей стране зулусов, за исключением змеи его учителя, старого раба Зикали. Он говорил, что Догита лежит где-то со сломанной ногой, но придет сюда встретиться с баасом. Мавово наверняка скажет и о том, когда придет Догита. Я сам спросил бы об этом Мавово, да он не заставит свою змею работать для меня. Поэтому пусть лучше баас его спросит. Вдруг Мавово забудет, что баас смеялся над его гаданием? — Ну конечно! — воскликнул я. — Где гарантии, что рассказы Мавово о Догите не вздор? Ханс изумленно на меня уставился: — История Мавово — вздор?! Змея Мавово солгала? Ох, баас смотрит на дело слишком по-христиански. Конечно, благодарение отцу бааса, я тоже христианин, но не настолько, чтобы не отличить хорошее гадание от плохого. Змея Мавово лгунья? И это после того, как похоронен первый из охотников, которым в Дурбане перья предсказали смерть? — Ханс захихикал, а потом добавил: — Расклад такой: либо баас спрашивает Мавово, вежливо спрашивает, либо нас убьют. Я-то не против, новую жизнь в другом мире начну с удовольствием. Но пусть баас представит, какой шум поднимет Сэм. — С этими словами Ханс выскользнул из хижины. — Ну и положение! — пожаловался я Стивену. — Я, белый человек, понимающий, что кафрское гадание чистый вздор, должен просить дикаря сообщить мне то, чего он знать не может! Это унизительно! Пусть меня повесят, если я сделаю это! — Сделаете вы это или нет — вас все равно повесят, — проговорил Стивен, мило улыбаясь. — Но, старина, почему вы так уверены, что все это вздор? Сколько чудес вздором не были? Раз чудеса существуют, почему бы им не существовать теперь? Я знаю, что вы мне на это возразите, потому дальше спорить бесполезно. Однако я не так горд, как вы. Я попробую смягчить каменное сердце Мавово — мы с ним почти приятели — и уговорю его раскрыть книгу оккультной мудрости, — пообещал Стивен и вышел. Несколько минут спустя меня вызвали из хижины принять овцу, которую вместе с молоком, туземным пивом, хлебом и другими припасами, включая фураж для ослов, прислал нам Бауси. Тут я должен заметить, что во время нашего пребывания у мазиту мы ни в чем не нуждались. Здесь не знали голода, типичного для Восточной Африки, где путешественнику не купить еды ни за какие деньги: ее попросту нет. Я велел поблагодарить короля и передать, что завтра надеюсь посетить его с дарами. Потом я отправился искать Сэма, чтобы приказать ему зарезать и приготовить овцу. Я нашел его, вернее, услышал его голос за камышовой перегородкой между двумя хижинами. Он выступал в качестве переводчика между Стивеном Сомерсом и Мавово. — Мистер Сомерс, этот зулус утверждает, что хорошо вас понял и что дикарь Бауси убьет нас, если не услышит, когда придет сюда его любимец, белый человек Догита. Он также убежден, что с помощью гадания мог бы выяснить, когда это случится и случится ли вообще. Скажу по секрету, мистер Сомерс, это ложь невежественного язычника. Он добавляет, что ни собственная, ни чужая жизнь для него ничего не стоит. «Не стоит и зернышка на кукурузном початке» — вот как он на самом деле выразился. И я верю в это, судя по тому, что слышал о его деяниях. На своем вульгарном языке он говорит, что нет разницы между желудком гиены из страны мазиту и желудком другой гиены, что здешняя земля так же хороша для его костей, как и любая другая, ведь земля есть худшая из гиен, рано или поздно пожирающая все, что родит. Извините, мистер Сомерс, что я повторяю пустую болтовню этого дикаря, но вы сами приказали точно передавать его слова. Этот безрассудный человек говорит, что неведомая сила — он называет ее «силой, которая заставляет сиять солнце и вышивает покров ночи звездами», еще раз извините, — заставила его появиться на свет и в определенный час унесет его из этого мира назад во мрак, в вечное лоно, где он либо уснет, либо вернется к жизни по воле той неведомой силы, — я точно перевожу его слова, мистер Сомерс, хотя не знаю, что все это значит, — и что ему безразлично, когда это случится. Еще он твердит, что стареет, что он повидал много горя, — полагаю, он подразумевает гибель своих чернокожих жен, которых другие дикари забили до смерти, и ребенка, к которому он был привязан, — а вы молоды, ваша жизнь, полная счастья, как он искренне надеется, еще впереди. Поэтому он с радостью сделает все, что в его силах, чтобы спасти вам жизнь, ибо хоть вы белый, а он черный, он любит вас и считает своим сыном. Да, мистер Сомерс, и мне очень неловко это повторять. Если понадобится, он отдаст за вас жизнь. Отказать вам в чем-нибудь для него все равно что разрезать себе сердце пополам. И все-таки он должен отказать вам в просьбе и не станет спрашивать у существа, которое называет змеей (что он под этим подразумевает, я не знаю), когда белый человек по имени Догита сюда прибудет. Он говорит, что после того, как мистер Квотермейн посмеялся над его гаданием, он больше не станет этим заниматься и скорее умрет, нежели нарушит свое слово. Вот и все, мистер Сомерс, вполне достаточно, как вам, наверное, кажется. — Ясно. Передай вождю Мавово, что я все понял и благодарен ему за подробное объяснение, — ответил Стивен. (Я отметил, что слово «вождь» он произнес с особым нажимом.) — Еще спроси, нет ли выхода из такого серьезного положения. Сэм перевел эти слова на зулусский язык, которым владел в совершенстве, без всяких добавлений или комментариев. — Выход только один, — проговорил Мавово, то и дело нюхая табак. — Макумазан должен сам меня попросить. Макумазан — великий вождь и мой старый друг. Ради дружбы я готов забыть то, что припомнил бы кому-то другому. Если он придет ко мне и без насмешки попросит применить мое искусство на благо всем нам, я соглашусь, хотя прекрасно понимаю, что для него ветер просто шевелит прах и разбрасывает как попало. Макумазан, как и другие белые мудрецы, забывает, что ветер, разбрасывающий прах, дует нам в ноздри и для ветра мы тот же прах. На пару минут я задумался. Слова свирепого дикаря Мавово, несмотря на то что их неминуемо искажал перевод Сэма вкупе с его глупыми замечаниями, потрясли меня до глубины души. Кто я такой, чтобы судить Мавово и его необыкновенный самородный талант? Кто я такой, чтобы насмехаться над ним и объявлять обманщиком? Я прошел через ворота в изгороди и остановился перед зулусом. — Мавово, — начал я, — я подслушал ваш разговор и очень жалею, что смеялся над тобой в Дурбане. Твоя магия мне непонятна, она непостижима, посему может оказаться и правдой, и ложью. Однако я буду премного благодарен тебе, если ты воспользуешься своей способностью и постараешься разузнать, придет ли сюда Догита, и если придет, то когда. Ну вот, я сказал что хотел, решение за тобой. — Хорошо, отец мой Макумазан. Сегодня вечером я спрошу об этом свою змею. Но я не могу заранее сказать, ответит она или нет. Мавово провел надлежащую церемонию, и, по словам Стивена, присутствовавшего при этом (я отказался), таинственное пресмыкающееся объявило, что Догита, он же Брат Джон, прибудет в город Беза на закате солнца через три дня, считая от нынешнего вечера. По нашему календарю гадал Мавово в пятницу; следовательно, мы могли надеяться на появление Брата Джона в понедельник к ужину. Слово «надеяться» как нельзя лучше отражало мое настроение. — Хорошо, — коротко сказал я, — пожалуйста, больше не говорите мне об этом нечестивом вздоре, я спать хочу. Следующим утром мы распаковали свои ящики и выбрали несколько великолепных подарков для Бауси, чтобы смягчить его царственное сердце. Мы взяли рулон ситца, несколько ножей, музыкальную шкатулку, дешевый американский револьвер, упаковку зубочисток и несколько фунтов самых модных бус для жен короля. Эти богатые дары мы отправили королю с двумя нашими слугами-мазиту Томом и Джерри. Их сопровождал вооруженный конвой. Я рассчитывал, что послы расскажут своим сородичам, какие мы хорошие люди, и дал соответствующие наставления. Вообразите наш ужас час спустя: мы приводили себя в порядок после завтрака, и вдруг в воротах показалась процессия, но то были не Том и Джерри — они бесследно исчезли, — а воины, каждый из которых нес по одной вещи из посланных нами королю. Последний водрузил на лохматую голову зубочистки, словно большую вязанку хвороста. Один за другим они разложили наши дары на глиняном полу самой большой хижины. Потом старший воин торжественно произнес: — Великий Черный не нуждается в подарках белых людей. — В самом деле? — раздраженно отозвался я. — Раз так, ему больше не представится случая получить их. Мазиту ушли, не сказав больше ни слова. Вскоре после их ухода явился Бабемба в сопровождении пятидесяти воинов. — Король ждет вас, белые господа, — сказал он с напускной веселостью, — я пришел, чтобы проводить вас к нему. — Почему он не принял наших даров? — спросил я, указывая на возвращенные вещи. — Ох, все это из-за Имбоцви, он рассказал о магическом щите. Король заявил, что не желает даров, которые опаляют волосы. Но пойдемте скорее! Король сам все объяснит. Если Черного слона заставляют ждать, он злится и трубит. — Вот как? А сколько нас должно к нему пойти? — спросил я. — Все-все, белый господин. Король желает видеть всех вас. — Я полагаю, кроме меня, — проговорил Сэм, стоявший рядом. — Мне нужно готовить еду. — Нет, ты тоже должен идти, — ответил Бабемба. — Король пожелает увидеть того, кто сварил тот священный напиток. Вариантов не было, и мы пошли — разумеется, вооруженные до зубов. Сразу за порогом хижины нас окружили воины. Чтобы подчеркнуть важность момента, я велел Хансу идти первым, держа на голове отвергнутую королем музыкальную шкатулку, которая играла трогательную мелодию «Дом, милый дом». За ним шествовал Стивен с английским флагом на шесте, следом я и охотники в сопровождении Бабембы, упирающийся Сэм и два наших осла, которых вели мазиту. Видимо, король особо распорядился, чтобы не забыли привести ослов. Думаю, со стороны процессия выглядела презабавно, и в иной ситуации я засмеялся бы. Зато наш вид действовал на других: оживились даже молчаливые конвоиры-мазиту. Очевидно, их растрогал «Милый дом», а еще больше впечатлили ослы, которые то и дело ревели. — Где Том и Джерри? — спросил я Бабембу. — Не знаю, — ответил он. — Думаю, им разрешили отдохнуть, навестить друзей. «Имбоцви удалил наших предполагаемых сторонников», — подумал я и больше ничего не сказал. Вскоре мы добрались до королевского жилища. Здесь, к моему недовольству, воины отобрали у нас ружья, револьверы и даже охотничьи ножи. Тщетно я, протестуя, твердил, что мы не привыкли расставаться с нашим оружием. На это мне ответили, что к королю нельзя являться даже с простой палкой. Мавово и зулусы хотели оказать сопротивление. Я уже думал, что неизбежна стычка, которая, конечно, закончилась бы нашей гибелью. Разве справились бы мы с сотнями мазиту, пусть даже они страшились наших ружей? Я приказал Мавово подчиниться, но он впервые хотел ослушаться. Тут мне пришла в голову удачная мысль напомнить ему, что, согласно его предсказанию, явится Догита и все закончится хорошо. Тогда Мавово смирился, но весьма неохотно, и наши драгоценные ружья унесли неведомо куда. Воины мазиту сложили свои копья и луки у вороткрааля, и мы отправились дальше только с флагом и со шкатулкой, которая играла теперь «Правь, Британия». Через пустырь, на котором росло несколько деревьев с широкими листьями, мы прошли к большому туземному дому. У дверей на табурете сидел немолодой сердитый толстяк. Он был почти голым, если не считать мучи[307] из кошачьих шкур и крупных синих бус на шее. — Король Бауси! — прошептал Бабемба. Горбуна, сидевшего на корточках у ног короля, я узнал без труда, хотя Имбоцви раскрасил опаленный череп белым и оранжевым, а на курносый нос надел бордовый наконечник, в общем, принарядился. Вокруг короля застыли молчаливые индуны — советники. По условному сигналу на некотором расстоянии от правителя все воины, включая Бабембу, опустились на колени и поползли. Они хотели, чтобы мы сделали то же самое, но я категорически отказался, понимая, что, если поползем однажды, будем ползать вечно. Гордо выпрямившись, очень медленно ступали мы среди ползущих по земле людей и наконец очутились перед августейшим ликом Прекрасного Черного, Бауси, короля мазиту.Глава 10
СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
Мы смотрели на Бауси, а тот на нас. — Я — Черный слон Бауси! — воскликнул он, раздраженный нашим упорным молчанием. — Я трублю, трублю, трублю! По-видимому, с такой древней священной формулировки короли мазиту начинают разговор с чужестранцами. После соответствующей паузы я холодно ответил: — Мы — белые львы, Макумазан и Вацела. Мы рычим, рычим, рычим! — Я могу топтать! — сказал Бауси. — А мы можем кусать! — хвастливо ответил я, хотя не представлял, чем нам кусать, если у нас нет ничего, кроме флага. — Что это? — спросил Бауси, указывая на флаг. — То, что осеняет целый мир, — гордо ответил я. Мое замечание впечатлило короля, хотя он совершенно его не понял, так как приказал воину держать над собой зонтик из пальмовых листьев, чтобы тень от нашего флага не падала на его королевское величество. — А что это шумит, хоть и неживое? — снова полюбопытствовал король, указывая на музыкальную шкатулку. — Это ящик, поющий военную песнь нашего народа, — сказал я. — Мы послали тебе его в дар, и наш дар был отвергнут. Почему ты вернул наши подношения, о Бауси? Внезапно король мазиту разгневался. — Зачем вы пришли сюда, белые люди? — спросил он. — Зачем пришли без приглашения, вопреки закону моей страны, куда имеет доступ только один белый человек, мой брат Догита, с помощью ножа исцеливший меня от болезни? Я знаю, кто вы. Вы торговцы людьми. Вы пришли сюда, чтобы похищать моих людей и продавать их в рабство. С вами было много рабов, но вы отпустили их на границе моей земли. Вы, именующие себя львами, умрете, а цветная тряпка, которая, по вашим словам, осеняет целый мир, сгниет вместе с вашими костями. Я разобью вашу коробку, которая поет военную песню. Она не околдует меня, как ваш магический щит, который околдовал великого колдуна Имбоцви и сжег его волосы! Бауси вскочил с проворством, удивительным для толстяка, и сбил музыкальную шкатулку с головы Ханса. Шкатулка упала на землю и, немного погудев, затихла. — Правильно! — завизжал Имбоцви. — Растопчи их колдовство, о Слон! Убей их, о Черный Бауси! Сожги их так же, как они сожгли мои волосы! Я понял, что наше положение крайне опасно: Бауси оглядывался по сторонам и явно намеревался натравить на нас свое воинство. Тогда я в отчаянии воскликнул: — О король! Ты упомянул белого человека Догиту, врача из врачей, с помощью ножа исцелившего тебя от болезни, и назвал его своим братом. Догита и нам брат, по его приглашению мы пришли сюда и скоро должны с ним встретиться. — Друзья Догиты — мои друзья, — ответил Бауси, — ибо на этой земле он правит наравне со мной. Его кровь течет в моих жилах, а в его жилах течет моя кровь. Но вы лжете! Догита не может быть братом работорговцев. У него доброе сердце, а у вас злое. Вы говорите, что он должен здесь с вами встретиться. Когда это будет? Если скоро, то я удержу свою карающую длань и подожду его, чтобы услышать, что он о вас скажет. Ибо, если он скажет хорошее, вы не умрете. Я замялся. Поскольку Бауси считал нас работорговцами, он злился не без причины. Пока я обдумывал ответ, который устроил бы короля и не загнал бы нас в тупик, произошло нечто неожиданное: вперед выступил Мавово. — Кто ты? — закричал Бауси. — Я воин, о король! Свидетельство тому — мои шрамы. — Мавово указал на следы, оставленные ассегаем у него на груди, и на свою разрезанную ноздрю. — Я вождь народа, от которого происходит твой народ, зовут меня Мавово. Я готов сразиться с тобой или с любым из твоих людей, готов убить тебя или любого другого. Есть здесь желающие быть убитыми? Никто не отозвался: уж очень внушительно выглядел могучий зулус. — Кроме того, я колдун, — продолжал Мавово, — причем один из самых могущественных. Я способен открывать ворота расстояния и читать скрытое в чреве будущего. Поэтому я отвечу на вопросы, которые ты задал белому господину, Макумазану, великому и мудрому, которому я служу, ибо мы сражались вместе во многих битвах. Да, я буду его устами и отвечу так: белый человек Догита, твой кровный брат, чье слово для мазиту имеет тот же вес, что твое слово, прибудет сюда через два дня на закате солнца. Я все сказал! Бауси вопросительно посмотрел на меня. — Да, — изрек я, чувствуя, что молчать нельзя, — Догита прибудет сюда на третий день, считая от сегодняшнего, через полчаса после заката солнца. Что-то побудило меня прибавить эти лишние полчаса, которые в итоге спасли нам жизнь. Потом Бауси советовался с мерзавцем Имбоцви и с одноглазым стариком Бабембой, а мы смотрели на них, зная, что от исхода этого совещания зависит наша судьба. Наконец король вновь заговорил: — Белые люди! Имбоцви, глава наших колдунов, волосы которого вы сожгли с помощью злых чар, считает, что лучше убить вас немедленно, ибо сердца у вас злые и вы замышляете недоброе против моего народа. Я тоже так думаю. Но Бабемба, на которого я сердит за то, что он не исполнил моего приказания и не предал вас смерти на границе моей земли, когда встретил с невольничьим караваном, считает иначе. Он умоляет меня не спешить и заступается за вас. Во-первых, вы колдовством расположили его к себе, во-вторых, если вы говорите правду (во что мы не верим) и действительно пришли сюда по приглашению моего брата Догиты, то он огорчится, увидев вас мертвыми и не имея возможности вернуть вам жизнь. Это верно. Мне же безразлично, умрете вы сейчас или позже. Поэтому я решил держать вас пленниками до заката солнца указанного вами дня. Вечером того дня вас выведут на площадь и привяжут к столбам, где вы дождетесь наступления темноты, когда, по вашим словам, должен явиться Догита. Если он придет и назовет вас братьями, будет хорошо. Если же Догита не посетит нас или при встрече отзовется о вас дурно, будет еще лучше — вас пронзят стрелами в упреждение другим похитителям людей: пусть не переступают границ страны мазиту! Я с ужасом выслушал этот суровый приговор, потом проговорил: — Мы не похитители людей, о король! Мы скорее освободители, как это могут засвидетельствовать Том и Джерри, твои соплеменники. — Кто такие Том и Джерри? — равнодушно спросил Бауси. — Хотя какая разница? Они наверняка лгуны вроде вас. Я все сказал! Уведите пленников. Хорошо кормите их и охраняйте до заката солнца назначенного дня. Бауси встал, не позволив нам добавить ни слова, и удалился в большую хижину в сопровождении Имбоцви и советников. Нас увели под удвоенной охраной с военачальником, которого мы раньше не видели. У ворот крааля мы остановились и потребовали, чтобы нам возвратили отобранное у нас оружие. Вместо ответа воины положили нам руки на плечи и погнали дальше. — Вот так дела! — шепнул я Стивену. — Ничего страшного, — ответил он, — в хижинах у нас еще много ружей. Мне говорили, что мазиту ужасно боятся пуль. Начнем стрелять, и они разбегутся. Я молча посмотрел на него — сказать правду, мне не хотелось спорить. Воины подвели нас к хижинам и расположились снаружи. Стивен, горевший желанием поскорее осуществить свой воинственный план, сразу бросился в хижину, где мы держали ружья, отнятые у работорговцев, свои запасные винтовки и патроны. Вышел он побледневшим, и я спросил, в чем дело. — В чем дело? — со смятением в голосе повторил он. — Дело в том, что мазиту украли у нас ружья и патроны. Ни крупинки пороха не оставили, теперь и огоньку в «Синий дьявол» не добавишь! — Попросим мазиту, они и без коктейля огоньку нам добавят! — пошутил я, невзирая на смертельную опасность, которая нам угрожала. Положение наше было ужасным. Пусть читатель представит его себе. Чуть более сорока восьми часов, и нас расстреляют из луков, если чудаковатый джентльмен, которого, может, уже нет в живых, к тому времени не появится здесь, в одной из самых труднодоступных точек Центральной Африки. Единственная наша гарантия — пророчество кафрского колдуна. Надеяться на туземные гадания было глупо, вот я и стал думать о том, как бы нам спастись, но после нескольких часов размышлений ничего толкового мне в голову не пришло. Даже опытный и дьявольски хитрый Ханс разводил руками. Нас, безоружных, окружали тысячи дикарей, и все они, за исключением одного Бабембы, считали нас работорговцами, которых с полным основанием ненавидели. Ведь мы якобы явились, чтобы похитить у мазиту жен и детей. Король Бауси был настроен категорически против нас. Теперь я горько раскаивался в своей глупой шутке — и вообще раскаивался, что организовал экспедицию, в которую, по крайней мере, не стоило отправляться без Брата Джона. Из-за моей неосмотрительности мы нажили себе неумолимого врага в лице главного колдуна мазиту — для этого племени он был вроде архиепископа Кентерберийского. Нам оставалось лишь уповать на чудо и молиться, готовясь к неизбежному концу. Правда, Мавово хранил бодрость духа благодаря воистину трогательной вере в свою змею. Он предложил погадать еще раз в нашем присутствии, дабы продемонстрировать, что в его пророчестве нет ошибки. Я отказался, ибо не верю в гадание. Стивен тоже отказался, но по другой причине. Он считал, что, если результат будет иным, на нас это подействует угнетающе. Зулусы колебались между верой и скептицизмом, как случается с неустойчивыми личностями, приступающими к изучению христианской апологетики. А вот Сэм не ведал колебаний, то есть буквально выл от страха, а еду готовил так плохо, что стряпню я поручил Хансу. Аппетит у нас пропал, но нужно было поддерживать силы. — Мистер Квотермейн, к чему готовить изысканные блюда, если наши организмы не успеют извлечь из них пользы? — сквозь слезы вопрошал Сэм. Прошла первая ночь, за ней следующий день и следующая ночь, которую сменило последнее утро. Я поднялся очень рано и наблюдал за восходом солнца. Никогда еще восход не казался мне таким прекрасным, как сегодня, когда я прощался с ним навсегда. Если только там, по ту сторону жизни, меня не ждут восходы еще прекраснее этого. Я вернулся в хижину. Стивен, толстокожий, как носорог, спал, словно черепаха зимою. Я вознес к небу искреннюю молитву и покаялся в своих грехах, коих набралось столько, что в отчаянии бросил это занятие и занялся чтением Ветхого Завета, который мне всегда нравился. Попался мне псалом, описывающий, как пророк Самуил (вместо «Самуил» мне мерещилось «Имбоцви») рассекает Агага на части, после того как Бауси, то есть Саул, смилостивился и сохранил Агагу жизнь. Не слишком меня это утешило. Вне сомнений, мазиту верили, что я подобен Агагу, чей меч «лишал жен детей их», значит суждено мне, по примеру злосчастного царя амаликитян, отправиться, дрожа, навстречу своей участи[308]. Стивен все спал — как он только мог?! — и я занялся подсчетом расходов на нашу экспедицию на сегодняшний день. Она стоила уже одну тысячу четыреста двадцать три фунта. Только подумайте, истратить одну тысячу четыреста двадцать три фунта для того, чтобы нас привязали к столбу и расстреляли из луков! И все ради редкой орхидеи! «Ох, — говорил я себе, — если я чудом спасусь или попаду туда, где растут эти особенные цветы, то и краем глаза на них не взгляну». Кстати, взглянуть мне так и не довелось. Наконец Стивен проснулся. Он плотно позавтракал, как завтракают, если верить газетам, перед казнью все преступники. — К чему терзать себя? — удивился он. — Если бы не мой бедный отец, я вообще не тревожился бы. Конец ведь неминуем. Как там в колыбельной поется: «Чем скорее день пройдет, тем скорей уснешь»? Сон — вещь хорошая, только во сне человек абсолютно счастлив. Однако, прежде чем уснуть навеки, мне хотелось бы взглянуть на циприпедиум. — Черт побери ваш циприпедиум! — выпалил я и бросился вон из хижины. — Скажу Сэму, что, если он не перестанет стонать, я голову ему проломлю! — Нервы! Вот что значит нервы! И это Квотермейн! — сетовал Стивен, закуривая трубку. Утро промелькнуло, по замечанию Сэма, как «смазанная жиром молния». В три пополудни Мавово и охотники принесли козленка в жертву духам своих предков. Это Сэм назвал «ужасным языческим обрядом, в котором нас обвинят, когда мы предстанем перед высшими силами». После жертвоприношения, к моей радости, явился Бабемба, такой веселый, что я подумал, не принес ли он добрых вестей. Может, король помиловал нас или, еще лучше, Брат Джон прибыл раньше срока. Увы, ничего подобного. Бабемба сказал только, что его дозорные прошли миль сто по дороге к побережью и следов Догиты не обнаружили. Черный слон, подстрекаемый Имбоцви, злится все сильнее, поэтому вечерняя церемония неминуема. Бабембе поручили следить, как воины ставят столбы, к которым нас привяжут, и роют могилы у их основания, вот он и хотел пересчитать нас, чтобы не ошибиться в числе. Если мы желаем, чтобы с нами похоронили какие-нибудь вещи, следовало сообщить Бабембе: он позаботится, чтобы наше желание исполнили. Казнь будет быстрой и для нас не мучительной, ведь Бабемба выбрал самых метких лучников города Беза, способных уложить буйвола. Бабемба еще немного поболтал и спросил, где магический щит, подаренный ему мной. Он обещал хранить его как память… Потом Бабемба взял у Мавово понюшку табаку и ушел, сказав, что вернется в надлежащее время. Четыре пополудни. Сэм сидел тише воды ниже травы, и Стивен приготовил чай сам. Получилось отлично, ведь мы сдобрили чай молоком, хотя этот вкус я оценил гораздо позднее. Надежды на спасение не осталось, и я уединился в хижине, чтобы приготовиться встретить смерть так, как подобает джентльмену. В полумраке и тишине мне стало куда спокойнее. «К чему, в конце концов, цепляться за жизнь?» — думал я. Читателям, которые следят за моими приключениями, известно, что в той запредельной дали, куда меня собирались отправить, ждали те, по кому я стосковался, — мои родители и две благородные, очень дорогие мне женщины. Мой сын останется один (тогда он был еще жив), но я не сомневался, что друзей он найдет. Я, в ту пору человек состоятельный, сумел должным образом его обеспечить. Может, и лучше, что я ухожу, ведь в долгой жизни больше тягостей и разлук. Каким получится грядущее путешествие, я не представлял, но твердо знал: это не конец существования и не сон, как говорил Стивен. Может, я попаду в край, где тучи наконец разбегутся и возникнет ясность; там я увижу прошлое и будущее, как орел с небес, а не как тварь, которая пробивается сквозь густой кустарник, боится змей и дикого зверья, страшится грома и молний и не знает, куда ведет ее путь. Может, в том краю не властен закон, который святой апостол Павел называет «иным, противоборствующим закону ума моего и делающим меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих»[309]. Может, в том краю деяния прошлого простит мне Сила, которой ведома моя сущность, и я стану тем, кем хотел быть всегда, — абсолютным праведником — и даже узрею новые пути служения, открытые мне. Эти мысли я переношу из записной книжки, в которой их тогда зафиксировал. Хорошенько поразмыслив, я написал несколько коротких прощальных писем в глупой, несбыточной надежде, что они дойдут до адресатов. Эти письма у меня сохранились, очень странно сейчас их перечитывать. Потом я мысленно обратился к Брату Джону, чтобы уведомить его (как это однажды у меня вышло) о нашем бедственном положении и упрекнуть его в том, что он, по своей безумной беспечности и недостатку веры, довел нас до такого конца. Пока я этим занимался, пришел с воинами Бабемба, чтобы отвести нас к месту казни. О его приходе сообщил мне Ханс. Бедный старый готтентот вытер слезы рукавом рваной куртки и пожал мне руку. — Ох, баас, мы отправляемся в последний путь, — сказал Ханс. — Бааса убьют, и все из-за меня. Я должен был придумать, как спастись, для этого меня и нанимали. Но я не придумал, ничего не придумал. Ах, как поглупела моя голова! Вот бы с Имбоцви поквитаться, но я поквитаюсь, поквитаюсь, когда вернусь сюда в виде духа. Предикант, отец бааса, рассказывал, что мы не сгораем, покидая этот мир, а пылаем вечно. «Надеюсь, отец ошибся», — подумал я. — Мы горим вечно, и за дрова платить не нужно. Я очень надеюсь, что мы с баасом будем гореть вместе. Пока же я принес баасу вот что. — Ханс показал мне нечто вроде особенно уродливых конских бобов. — Баас примет это и ничего не почувствует. Это очень хорошее снадобье, дед моего деда получил его от духа своего племени. Баас уснет от него как пьяный и проснется в прекрасном огне другого мира, который горит без дров и никогда не гаснет, аминь. — Нет, Ханс, я предпочитаю умереть с открытыми глазами. — Я тоже предпочел бы, баас, если бы дело того стоило. Но я больше не верю змее черного глупца Мавово. Была бы змея умной, посоветовала бы ему обойти город Беза стороной. Поэтому один шарик я проглочу сам, а другой предложу баасу Стивену. — Ханс сунул грязный комочек в рот и проглотил с трудом, словно молодой индюк, схвативший слишком большой кусок. Тут я услышал, как меня зовет Стивен, и оставил Ханса осыпать выразительными проклятиями на разных языках колдуна Имбоцви, которого он вполне справедливо считал виновником наших бед. — Наш друг твердит, что пора идти, — пробормотал Стивен дрожащим голосом, — по-видимому, он наконец прочувствовал ситуацию — и указал на старого Бабембу, который весело улыбался с таким видом, будто собирался проводить нас на свадьбу. — Да, белый господин, уже пора. Я поспешил сюда, чтобы не заставлять вас ждать. Церемония обещает получиться очень зрелищной: соберется не только все население города Беза и его дальних окрестностей, но и сам Черный слон почтит ее присутствием. — Придержи свой язык и перестань скалиться, старый дурак! — бросил я. — Будь ты настоящим другом, выручил бы нас из беды. Понимаешь ведь, что мы не торговцы людьми, а скорее враги тех, кто занимается такими делами. — О белый господин, поверь, улыбаюсь я лишь потому, что хочу тебя поддержать! — сказал Бабемба изменившимся голосом. — Мои уста смеются, но в глубине души я плачу. Я знаю, вы хорошие люди, и говорил об этом Бауси, но он не верит мне, думая, что я подкуплен вами. Что я могу поделать с этим злым Имбоцви, главным колдуном, который ненавидит вас, потому что вы превзошли его колдовской силой? Имбоцви день и ночь шепчет королю на ухо, что, если тот не убьет вас, весь наш народ истребят или продадут в рабство, так как вы лазутчики большого войска, идущего следом. Вчера вечером был индаба, и Имбоцви устроил гадание. О большом войске и о многом другом он прочел в заколдованной воде и красочно описал королю. Я заглядывал Имбоцви через плечо, но увидел в воде лишь его уродливое отражение. Помимо того, он клялся, что его дух сообщил ему о смерти Догиты, кровного брата короля. Мол, Догита никогда больше не придет в город Беза. Я сделал все что мог. Не держи на меня зла, Макумазан, а когда станешь духом, не преследуй. При удобном случае я отомщу Имбоцви, если только он не отравит меня первым. Клянусь, он умрет не так быстро, как вы! — Вот бы мне ему отомстить! — пробормотал я. Даже в такой важный момент я не мог относиться к Имбоцви по-христиански. Старый Бабемба говорил искренне, и я, пожав ему руку, вручил свои письма с просьбой при возможности переслать их на побережье. После этого мы отправились в свой последний путь. Зулусские охотники уже ждали за изгородью — сидели на земле, болтали и нюхали табак. Мне хотелось понять, в чем причина их спокойствия — в искренней вере в змею Мавово или в природном мужестве. При виде меня зулусы вскочили, подняли правую руку и приветствовали меня громкими, бодрыми восклицаниями: «Инкози! Баба́! Инкози! Макумазан!» По знаку Мавово они затянули зулусскую военную песню и пели ее до тех пор, пока мы не достигли места казни. Сэм тоже «пел», только совершенно о другом. — Замолчи! — приказал ему я. — Неужели ты не можешь умереть как мужчина? — Не могу, мистер Квотермейн, — ответил тот и продолжил вопить, моля о пощаде приблизительно на двадцати разных языках. Мы со Стивеном шли рядом. Он по-прежнему нес английский флаг, который никто у него не отнимал. Должно быть, мазиту считали этот флаг его фетишем. Говорили мы мало. Только раз Стивен произнес: — Да, любовь к орхидеям сгубила немало людей. Интересно, сохранит отец мою коллекцию или продаст ее? Затем Стивен погрузился в молчание. Я не знал, что станет с его коллекцией, и не горел желанием узнать, поэтому не ответил. Прогулка получилась короткой, лично я предпочел бы подольше. Мы под конвоем прошли по некоему подобию улицы и внезапно очутились на рыночной площади, которую переполняли собравшиеся посмотреть на нашу казнь. Я заметил, что люди стоят группами, а в середине оставлен широкий проход до южных ворот рынка, вероятно, для того, чтобы облегчить движение большой толпе. Встретили нас почтительным молчанием. Завывания Сэма вызывали улыбки, а зулусская военная песня не то удивляла, не то восхищала. В конце площади, недалеко от ограды королевского жилища, установили пятнадцать столбов на возвышениях. Их насыпали, чтобы казнь увидел каждый из собравшихся, землю для них взяли (по крайней мере, частично) из пятнадцати глубоких могил, вырытых рядом. Точнее, столбов было семнадцать: первым и последним в ряду стояли особо крепкие столбы для наших ослов, по-видимому тоже приговоренных к расстрелу. На открытом месте перед возвышениями ждал большой отряд воинов. Тут же устроились Бауси, его советники, старшие жены, Имбоцви, размалеванный еще страшнее обычного, и пятьдесят-шестьдесят стрелков из лука с большим запасом стрел. Нетрудно было догадаться, какая роль отведена стрелкам в предстоящей церемонии. — Король Бауси! — сказал я, проходя мимо короля мазиту. — Ты убийца, и Небо отомстит тебе за это преступление. Если прольется наша кровь, ты скоро умрешь и встретишься с нами там, где мы имеем силу, а народ твой будет истреблен! Мои слова, казалось, испугали Бауси, и он ответил: — Я не убийца! Я казню вас как похитителей людей. Кроме того, к смерти приговорил вас не я, а Имбоцви, главный колдун, рассказавший мне все о вас. Его дух говорит, что вы должны умереть, если мой брат Догита не появится и не спасет вас. Если Догита придет (что невозможно, ибо он мертв) и поручится за вас, я буду знать, что Имбоцви подлый лжец, и вместо вас умрет он. — Да-да! — взвизгнул Имбоцви. — Если придет Догита, как предсказывает этот ложный колдун, — он указал на Мавово, — я готов умереть вместо вас, белые работорговцы. Да-да, тогда вы можете расстрелять меня из луков! — Король Бауси и народ мазиту, запомните эти слова! Запомните, ибо они должны быть исполнены, если придет Догита, — твердым голосом произнес Мавово. — Я запомню их, — пообещал Бауси, — и во всеуслышание клянусь моей матерью в том, что они будут исполнены, если только придет Догита. — Хорошо, — проговорил Мавово и направился к указанному ему столбу. По дороге он что-то шепнул Имбоцви на ухо, что, по-видимому, испугало это исчадие ада, так как он отшатнулся и задрожал. Однако скоро колдун оправился и через минуту уже отдавал приказания тем, кому поручили привязать нас к столбам. Сделали это просто и надежно: плетеной веревкой скрутили нам руки позади столбов, выступающие бруски которых проходили у нас под мышками и не давали шевельнуться. Нам со Стивеном отвели почетное место в центре. По просьбе Стивена к верхушке его столба прикрепили английский флаг. Мавово привязали справа от меня, остальных зулусов — по разные стороны от нас. Ханс и Сэм занимали предпоследние столбы, по краям поставили злосчастных ослов. Я заметил, что Ханс очень сонный; голова его свесилась на грудь. Очевидно, снадобье подействовало, и я почти раскаивался, что отказался, когда Ханс предлагал его мне. Когда все было готово, Имбоцви обошел нас, чтобы проверить путы и каждому начертить мелом на груди кружок — мишень для стрелков. — А, белый человек! — прошипел он, разрисовывая мелом мою охотничью куртку. — Больше ты никому не сожжешь волосы своим магическим щитом. Никому и никогда, ибо я стану топтать землю, в которую тебя зароют, и присвою твое имущество. Я не ответил. Если времени в обрез, зачем тратить его на разговоры с этим подлецом? Имбоцви подошел к Стивену и принялся чертить мишень. Стивен, еще способный на естественную человеческую реакцию, закричал: — Убери прочь свои грязные лапы! Одна нога у Стивена оставалась свободной, и он так пнул раскрашенного колдуна в живот, что тот полетел в разрытую могилу. — Молодец, Вацела! — закричали зулусы. — Надеемся, что ты убил его! — Я тоже надеюсь, — отозвался Стивен. Зрители изумленно наблюдали за таким обращением со священной особой, — по-видимому, главного колдуна очень боялись. Только Бабемба ухмылялся, да и король Бауси не проявлял особенного неудовольствия. Но Имбоцви было не так легко убить. С помощью своих приспешников, младших колдунов, он, весь в грязи, с проклятиями выкарабкался из ямы. После этого я не смотрел в их сторону. Жить мне оставалось всего полчаса, и я занялся другим.Глава 11
ПРИБЫТИЕ ДОГИТЫ
Закат того дня был не менее прекрасен, чем заря. Сгустились тучи, что означало неминуемую грозу, как это всегда бывает в Африке. Солнце напоминало большой красный глаз, на который внезапно опустилось черное веко в обрамлении пурпурных ресниц. «В последний раз смотрю я на тебя, дружище, — подумал я. — Если в ближайшее время тебя не догоню». Смеркалось. Король оглядел небо, опасаясь дождя, потом что-то шепнул Бабембе. Тот кивнул и направился к моему столбу. — Белый господин, — начал он, — Черный слон желает знать, готов ли ты, ибо скоро станет слишком темно для стрельбы. — Нет, — решительно ответил я. — Готов я буду не раньше чем через полчаса после захода солнца, как было условлено. Бабемба подбежал к королю, потом снова вернулся ко мне: — Белый господин! Король говорит, что уговор остается уговором, и слово он сдержит. Только не брани его, если наши лучники будут плохо стрелять. Король не знал, что настанет такой пасмурный вечер, поскольку в это время года редко бывает гроза. Стремительно темнело, мы словно погружались в лондонский туман. Плотные ряды зрителей казались берегами, лучники, которые сновали туда-сюда, готовясь к стрельбе, — тенями подземного царства. Пару раз блеснула молния, после паузы вдали гремело. Воздух становился душным и тяжелым. Зрители молчали и не двигались. Даже Сэм затих, наверное, выбился из сил и лишился чувств, как бывает с осужденными перед самой казнью. Во всем ощущалась торжественность. Природа точно примирилась с предстоящей жертвой и готовила нам величественную усыпальницу. Наконец я услышал, как стрелы вынимают из колчанов, потом писклявый голос Имбоцви: — Погодите, пусть уплывет вон то облако, — советовал он. — Будет светлее. Пусть белые люди видят, как летят стрелы. Облако медленно плыло прочь, брызнул зеленоватый свет. Раздался голос старшего лучника: — Можно стрелять, Имбоцви? — Нет, еще нет. Надо, чтобы белые люди увидели свою смерть. Облако ушло, и в лучах заката зеленоватый свет превратился в огненно-алый, озарил черные тучи. Казалось, земля пылает, но небеса сохраняли прежний чернильный оттенок. Снова сверкнула молния, осветила лица тысяч зрителей, и я даже заметил, как блеснули белые зубы летучей мыши, несущейся прочь. Вспышка молнии словно воспламенила нижнюю кромку облачной завесы. Свет становился все ярче и ярче, все алее и алее. Имбоцви зашипел, как змея. Запела тетива, и почти в тот самый миг чуть выше моей головы в столб вонзилась стрела — я мог бы задеть ее макушкой, потянувшись вверх. Я закрыл глаза, и пред моим внутренним взором пронеслись видения давно забытого прошлого. Образы закружились и слились в общую картину. Среди напряженного молчания мне послышался тяжелый топот, будто кто-то вспугнул крупную антилопу. Чей-то вопль заставил меня открыть глаза. Сначала я увидел отряд стрелков мазиту с поднятыми луками. Очевидно, первый выстрел был пробным. Потом я увидел высокого человека верхом на белом быке, который несся к месту казни по проходу, тянувшемуся от южных ворот рыночной площади. Было ясно, что у меня начался бред: всадник на быке удивительно напоминал Брата Джона. Я видел и длинную седую бороду, и сачок, ручкой которого ездок погонял быка. Голову человека и громадные бычьи рога украшали цветочные гирлянды. По сторонам от всадника бежали девушки, тоже в венках. Галлюцинации, чистой воды галлюцинации… Я снова закрыл глаза, ожидая роковой стрелы. — Стреляйте! — велел Имбоцви. — Нет, стойте! — закричал Бабемба. — Догита явился! Последовала короткая пауза, и я услышал, как стрелы падают на землю. Потом раздался тысячеустый крик: — Догита! Догита пришел, чтобы спасти белых господ! Вообще-то, нервы у меня крепкие, но, признаюсь, я не выдержал и на несколько минут потерял сознание. Во время обморока мне чудилось, что я говорю с Мавово. Было так на самом деле или только пригрезилось мне — не знаю, у Мавово я так и не уточнил. Он спросил, или мне казалось, что он спрашивает: — Что ты теперь скажешь, отец мой Макумазан? Стои́т ли моя змея на хвосте или нет? Ну же, я слушаю! На это я будто бы ответил: — Мавово, сын мой, стои́т, конечно же. Впрочем, я считаю, что змея — плод нашего воображения. Мы живем в мире грез, где реально лишь то, что можно видеть, осязать и слышать. Нет ни меня, ни тебя, ни змеи, нет ничего, кроме Силы, в которой мы движемся. Эта Сила показывает нам различные образы и картины и смеется, когда мы принимаем их за реальные. А Мавово будто бы сказал мне: — А! Наконец-то ты договорился до истины, отец мой Макумазан! Все вещи — тень, и мы тени в тени. Но что отбрасывает тень, о мой отец Макумазан? Почему нам грезится Догита, приехавший сюда на белом быке, и по какой причине эти тысячные толпы уверовали, что моя змея твердо стоит на хвосте? — Пусть меня повесят, если я знаю, — ответил я и очнулся. Без сомнения, это был старый Брат Джон. Он и вправду украсил себя цветами — я с отвращением отметил, что это орхидеи, — и венок вакхически свешивался с мятого пробкового шлема ему на левый глаз. Вне себя от гнева, Брат Джон бранил Бауси, который буквально пресмыкался перед ним. Я с не меньшей яростью обрушился на Брата Джона, но слов своих не помню. Зато не забуду, как седая борода Брата Джона бешено тряслась от негодования, когда, грозя королю ручкой сачка, он кричал: — Ты собака! Ты дикарь, которого я спас от смерти и назвал братом! Что ты хотел сделать с этими белыми людьми — моими братьями — и их спутниками? Ты хотел убить их? Если так, я забуду свою клятву, забуду о том, что нас связывает… — Не надо, пожалуйста, не надо! — взмолился Бауси. — Это ужасная ошибка. Во всем виноват главный колдун Имбоцви, которому я, по древнему обычаю нашего племени, должен повиноваться в таких делах. Он посоветовался со своим духом и объявил, что ты умер, а эти белые господа — самые злые из всех людей, работорговцы с запятнанной совестью, которые пришли сюда как лазутчики, чтобы истребить мазиту с помощью пуль и колдовства. — Он лгал и знал, что лжет! — гремел Брат Джон. — Да-да, ясно, что Имбоцви лгал, — ответил Бауси. — Приведите сюда его вместе с прислужниками. Грозовые тучи разошлись с последним отблеском солнца, и при ярком свете луны воины начали усердно разыскивать Имбоцви и младших колдунов. Поймать удалось человек десять. Они были размалеваны так же, как и их главарь, и вид у них был отвратительный. Сам же Имбоцви исчез. Я уже подумал, что колдун сбежал, воспользовавшись суматохой, как вдруг от крайнего столба (нас так и не отвязали) донесся голос Сэма, хриплый, но бодрый: — Мистер Квотермейн! Будьте добры в интересах правосудия уведомить его величество, что вероломный колдун, которого он ищет, сидит на дне могилы, вырытой для моих бренных останков. Я уведомил его величество — и Бабемба с воинами вмиг вытащили нашего приятеля Имбоцви из ямы и привели к королю. — Освободите белых господ и их спутников, — приказал Бауси. — Пусть они придут сюда. Путы были развязаны, и мы направились к месту, где стояли король и Брат Джон. Несчастный Имбоцви и его прислужники сбились перед ними в кучу. — Кто это? — спросил колдуна Бауси, указывая на Брата Джона. — Не ты ли клялся, что его уже нет в живых? Имбоцви, по-видимому, не думал, что этот вопрос требует ответа. — Какую песню пел ты нам еще недавно? — продолжал Бауси. — Мол, если Догита придет, пусть тебя расстреляют из луков вместо этих белых господ, так? Имбоцви снова промолчал, хотя Бабемба угостил его здоровенным пинком, чтобы он повнимательнее слушал короля. Тогда Бауси закричал: — Ты осудил себя, о лжец, своими же устами! С тобой поступят так, как ты сам это решил, — объявил король и, вторя Илии, восторжествовавшему над пророками Вааловыми, добавил: — Уведите этих ложных пророков, и чтобы ни один из них не укрылся![310] Правильно ли я поступил, о народ? — Правильно! — дружно ответили собравшиеся. — Пусть их уводят. — Не любят они Имбоцви, — задумчиво изрек Стивен. — Колдун попал в ту самую яму, которую рыл для нас. Поделом ему! Повисла тишина, нарушил ее Мавово. — Кто оказался ложным пророком? — насмешливо осведомился он. — Кто теперь испробует стрел, о рисовальщик белых кругов? — Он указал на мишень, которую, для удобства лучников, Имбоцви с таким злорадством начертил ему на груди. Проклятый горбун понял, что дело плохо, припал к моим ногам и взмолился о пощаде. Стонал он так жалобно, что я, осчастливленный чудесным избавлением от смерти, был готов его помиловать. Я обернулся к королю, чтобы попросить его подарить колдуну жизнь, хотя на исполнение просьбы надеялся мало, ведь Бауси боялся и ненавидел Имбоцви и очень радовался возможности от него избавиться. Но Имбоцви истолковал мой порыв иначе: отвернуться от просителя для туземца означает отказать в просьбе. От гнева и отчаяния яд, пропитавший его черное сердце, полился через край. Из складок колдовского наряда Имбоцви вытащил большой кривой нож, бросился на меня, словно дикая кошка, и закричал: — По крайней мере, со мной погибнешь и ты, белый пес! «Колдун вершит судьбу колдуна», — гласит старая добрая зулусская пословица. Помня об этом, Мавово не спускал глаз с Имбоцви. Один прыжок — и Мавово настиг горбуна. Кривой нож коснулся меня и слегка оцарапал кожу — слава богу, не до крови, ведь лезвие наверняка было смазано ядом, — но в тот самый миг Мавово схватил Имбоцви и легко швырнул на землю, словно тот был малым ребенком. На этом подлая выходка закончилась. — Пошли отсюда, — сказал я Стивену и Брату Джону, — здесь нам не место. Нам удалось уйти беспрепятственно и незаметно: жители города Беза отвлеклись на другое. С рыночной площади доносились такие ужасные крики, что мы спешно заперлись у меня в хижине, чтобы не слышать их. К моей великой радости, в хижине царила тьма, которая благотворно действовала на нервы. Хорошо, что я успел немного успокоиться к тому моменту, когда Брат Джон проговорил: — Друг мой Аллан Квотермейн и молодой джентльмен, имя которого мне неведомо! Хочу сообщить вам то, о чем вряд ли упоминал прежде, — я не только доктор, но и священнослужитель Епископальной церкви Соединенных Штатов. Как священник, прошу позволить мне поблагодарить Всевышнего за ваше чудесное спасение. — Конечно, — буркнул я за нас со Стивеном, и Брат Джон вознес к Небу прекрасную искреннюю молитву. Возможно, он и был слегка не в своем уме, но в одаренности и порядочности ему никто не отказал бы. Вскоре ужасные крики утихли, сменившись многоголосым ропотом. Мы вышли из хижины, уселись под навесом, и я представил Брату Джону Стивена Сомерса. — Теперь скажите на милость, — начал я, — откуда явились вы увенчанным цветами, словно римский жрец во время жертвоприношения, и верхом на быке, словно молодая особа, которую звали Европой?[311] Зачем вы так зло пошутили над нами в Дурбане — уехали, не сказав ни слова, хотя обещали проводить нас в эту дьявольскую дыру? Брат Джон погладил длинную бороду и посмотрел на меня с упреком. — По-моему, Аллан, тут вышло недоразумение, — проговорил он со своим американским акцентом. — Сначала отвечу на второй вопрос. Я не уезжал из Дурбана тайно. Покидая город, я оставил для вас письмо у вашего садовника, хромого гриквы Джека. — В таком случае этот идиот либо потерял письмо и солгал мне, как это часто бывает с гриквами, либо вовсе забыл о нем. — Вполне возможно, Аллан, зря я об этом не подумал. В том письме я писал, что буду ждать вас здесь, и намеревался прибыть в город Беза шесть недель назад. Кроме того, на случай моей задержки я отправил гонца к королю Бауси, чтобы предупредить о вашем приходе, но, по-видимому, с ним что-то случилось по дороге. — Почему вы не поступили как разумный человек — не подождали в Дурбане, чтобы ехать вместе нами? — спросил я. — Вы спрашиваете меня напрямик, Аллан, и я отвечу, хотя этой темы касаться не люблю. Я знал, что вы отправитесь сюда через Килву. Если много людей и много багажа, это единственный вариант. Мне же не хотелось посещать эти места. — Брат Джон сделал небольшую паузу и продолжил: — Давным-давно, почти двадцать три года назад, я с молодой женой прибыл в Килву в качестве миссионера. Мы построили миссию, церковь и довольно успешно несли службу. Мы были очень счастливы. Но в один злополучный день в Килву приплыли арабы на своих дау, чтобы устроить там пункт торговли невольниками. Я воспротивился. В конце концов они напали на нас, убили бо́льшую часть моих людей, а остальных обратили в рабство. В той схватке меня полоснули саблей по голове. Видите, вот шрам. — Брат Джон откинул волосы и показал нам длинный шрам, который мы ясно различили при свете луны. — Удар оглушил меня, я лишился чувств — случилось это вечером, на закате, — а когда очнулся, уже рассвело. В миссии осталась лишь старуха, которая ухаживала за мной. Она почти обезумела от горя, ведь ее мужа и двух старших сыновей арабы убили, а дочь и младшего сына похитили. Я спросил, где моя молодая жена, и в ответ услышал, что ее тоже увезли. С того времени прошло восемь, а то и десять часов. Арабы заметили на море огни, решили, что это английский военный корабль, крейсирующий вдоль побережья, и бежали вглубь страны. Перед тем как уйти, они добили раненых, меня же сочли мертвым и не тронули. Сама же старуха спряталась на прибрежных скалах, после ухода арабов вернулась в дом и обнаружила меня — полуживого от сабельного удара. Я спросил ее, где сейчас может быть моя жена. Женщина точно не знала, но слышала, что арабы направились куда-то за сотню миль от берега для встречи со своим предводителем, негодяем по имени Хасан бен Магомет, которому намеревались подарить мою жену. Мы знали этого негодяя, так как по прибытии в Килву, еще до нападения на миссию, он заболел оспой и моя жена его выхаживала. Если бы не она, он наверняка умер бы. В нападении на миссию он не участвовал, хоть и был предводителем шайки, потому как организовал другой набег внутри страны. Эти ужасные вести потрясли меня, и я, уже обессиленный от потери крови, снова лишился сознания. Очнулся через два дня на борту голландского торгового судна, шедшего на Занзибар, — его-то арабы и приняли за английский военный корабль. Оно встало на якорь в Килве, чтобы запастись водой, и матросы нашли меня на веранде дома. Я едва дышал, и они из сострадания перенесли меня на борт, старухи же никто не видел. Полагаю, она испугалась их и убежала. На Занзибаре меня почти умирающим передали священнику нашей миссии. В его доме я долгое время пролежал в постели, находясь между жизнью и смертью. Минуло шесть месяцев, прежде чем мой рассудок восстановился. Некоторые и теперь считают меня слабоумным, возможно, в их числе и вы, Аллан. Рана на голове зажила после того, как искусный морской хирург-англичанин удалил из нее осколки раздробленной кости. Силы вернулись ко мне. Я был и остаюсь американским подданным. В ту пору на Занзибаре не было ни американского консула (да и теперь вряд ли есть), ни американских военных кораблей. Английские власти постарались навести для меня справки, но не выяснили ничего, так как области, прилегавшие к Килве, находились во власти арабских работорговцев, которых поддерживал разбойник, называвший себя занзибарским султаном. Брат Джон умолк, охваченный печальными воспоминаниями. — Вы больше никогда не слышали о своей жене? — спросил Стивен. — Слышал на Занзибаре от невольника, купленного и освобожденного нашей миссией. Он говорил, что видел женщину, живую и невредимую, подходящую под описание моей жены, но где, я так и не смог толком понять. По словам невольника, это место расположено в пятнадцати днях пути от побережья. Там живет никому не известное племя, и тамошние туземцы случайно наткнулись на эту женщину, прятавшуюся в кустарнике. Мол, относились они к ней с большим почтением, хотя речи ее не понимали. На следующий день после встречи с женщиной невольник разыскивал сбежавших коз и попал в плен к арабам, которые, как он впоследствии выяснил, разыскивали эту белую даму. Вскоре тот освобожденный миссионерами человек заболел воспалением легких и умер, поскольку силы его были подорваны в невольничьем лагере. Теперь ясно, почему мне не хотелось ехатьчерез Килву? — Да, — ответил я, — теперь ясно и это, и многое другое, о чем мы поговорим позже. Но откуда вы сегодня взялись и как ухитрились прибыть в самый нужный момент? — Я направился сюда кружным путем, который покажу вам на карте, — ответил Брат Джон. — В пути я повредил ногу. — (Мы со Стивеном переглянулись.) — Мне пришлось пролежать в кафрской хижине шесть недель. Однако и после этого было трудно наступать на больную ногу, поэтому я научил быков ходить под седлом. Белый бык, которого вы видели, последний, остальные погибли от укусов мухи цеце. Необъяснимый страх заставил меня поспешить сюда. В течение двадцати четырех часов я ехал почти без остановки. Сегодня утром я пересек границы земли мазиту, но увидел в краалях лишь женщин. Некоторые узнали меня и украсили этими цветами. Они сказали мне, что мужчины ушли в город Беза на большое торжество. В честь чего устроено празднество, они не знали или не открыли мне. Я погнал быка во весь опор и, слава богу, успел. История очень длинная, подробности расскажу потом. Сейчас вы слишком устали. Что это за шум? Я прислушался и узнал ликующее пение зулусских охотников, которые возвращались с дикого спектакля, разыгравшегося на рыночной площади. Вел их Сэм, совершенно не похожий на жалкого плаксу, что ковылял к месту казни два часа назад. Теперь он был бодр и весел, а на шею надел побрякушки, в которых я узнал амулеты Имбоцви. — Добродетель восторжествовала, правосудие свершилось, мистер Квотермейн! Это военные трофеи, — объявил он, указывая на украшения покойного колдуна. — Убирайся вон, ничтожный трус! — сказал я. — Подробности оставь при себе, лучше ужин приготовь! Сэм ушел, ничуть не смущенный. Охотники принесли чье-то недвижное тело. Я узнал Ханса, сначала испугался, что старый готтентот мертв, но, осмотрев, понял: он без сознания, вероятно от опия. Брат Джон велел завернуть его в одеяло и положить у огня. Подошел Мавово и сел перед нами на корточки. — Ну, что скажешь, отец мой Макумазан? — тихо спросил он. — Слова благодарности, Мавово. Если бы не ты, Имбоцви прикончил бы меня. А так нож едва меня задел, Догита проверил, даже царапины нет. Мавово отмахнулся, словно считал такую услугу малостью, и спросил, глядя мне прямо в глаза: — А что скажешь о моей змее? — Ты был прав, а я ошибался, — пристыженно ответил я. — Все произошло так, как ты предсказывал, но почему, я не знаю. — Это потому, отец мой, что вы, белые люди, слишком тщеславные, — (вообще-то, Мавово сказал «надутые»), — и считаете, что вы одни обладаете мудростью. Теперь ты видишь, что это не так. Я доволен. Ложные колдуны мертвы, отец мой, и я думаю, что Имбоцви… Я поднял руку, показывая, что подробности не нужны. Мавово встал и с легкой улыбкой отправился по своим делам. — Что он говорил о какой-то змее? — полюбопытствовал Брат Джон. Я вкратце поведал ему о предсказании Мавово и спросил, нет ли у него объяснений. Брат Джон отрицательно покачал головой: — На моей памяти это самый удивительный случай ясновидения у туземцев, и самый полезный. Объяснения? У меня объяснение лишь одно — непостижимы земля и небеса, а Господь одаривает каждого по-своему. Потом мы ужинали. По-моему, та трапеза получилась самой приятной в моей жизни. Удивительный вкус приобретает пища для человека, который на ужин больше не рассчитывал. Затем все улеглись спать, а я остался рядом с Хансом — готтентот так и не очнулся. Я сидел у огня и курил, чувствуя, что не смогу уснуть. Мне мешал шум, доносившийся из города, где мазиту праздновали уничтожение колдунов и приезд Догиты. Вдруг Ханс шевельнулся и сел, уставившись на меня через яркое пламя, которое я только что подкормил сухим хворостом. — Баас, мы оба здесь, у прекрасного неугасимого огня, — глухо пробормотал он. — Почему же мы не внутри пламени, как обещал отец бааса, а около, на холоде? — Потому что ты еще жив, старый дурак, хотя и не заслуживаешь этого, — ответил я. — Змея Мавово сказала правду, и Догита пришел, согласно ее предсказанию. Наши спутники живы, а у столбов погибли Имбоцви и его приспешники. Все это ты увидел бы, если бы не наглотался своего грязного снадобья, как трусливая баба, что страшится смерти. А ей в твоем-то возрасте нужно радоваться. — Ох, баас, только не говорите, что дела так плохи и мы с вами до сих пор в мире, который почтенный отец бааса называл сосудом, полным слез! — взмолился Ханс. — Не обвиняйте меня в трусости. Я проглотил эту мерзость — знали бы вы, из чего она сделана! — только ради головной боли. Не говорите мне о приходе Догиты, раз мои глаза были закрыты и я не мог видеть его. А что хуже всего: я не помог Имбоцви и его приспешникам перебраться из сосуда, полного слез, в неугасимый огонь, когда их привязали к столбам. Ох, для меня это слишком! Клянусь, баас, отныне я всегда буду встречать смерть с открытыми глазами! — Несчастный Ханс обхватил руками свою разболевшуюся голову и закачался взад-вперед. Неудивительно, что Ханс горевал, ведь о том случае ему постоянно напоминали. Охотники дали ему новое длинное имя, которое означало «маленькая желтая мышь, которая спит, пока черные крысы пожирают своих врагов». Над ним насмехался даже Сэм — козырял трофеями, «без посторонней помощи отнятыми у могущественного колдуна Имбоцви». Сэм не врал — амулеты он отнял собственноручно, ведь к тому моменту Имбоцви стоял у столба мертвым. Все это было очень забавно, пока я не начал опасаться, что Ханс, чего доброго, убьет Сэма, и не положил насмешкам конец.Глава 12
ИСТОРИЯ БРАТА ДЖОНА
Поднялся я до рассвета, хотя спать лег очень поздно. Сделал я это главным образом потому, что хотел поговорить наедине с Братом Джоном, который, как я знал, встает очень рано. Я не встречал человека, который тратил бы меньше времени на сон. Когда я заглянул к нему в хижину, Брат Джон был уже на ногах и при свете свечей занимался прессованием цветов. — Джон, — начал я, — хочу вернуть вам то, что вы, как мне кажется, потеряли. Я вручил ему книгу «Христианский год» в сафьяновом переплете и акварельный портрет молодой женщины, найденные мной в ограбленном миссионерском доме в Килве. Он взглянул сначала на портрет, потом на книгу. По крайней мере, я представлял себе такую картину, потому что вышел из хижины полюбоваться зарей. Через несколько минут Брат Джон позвал меня и дрожащим голосом спросил: — Где вы нашли эти вещи, Аллан? Я рассказал ему эту историю от начала до конца. Брат Джон молча выслушал меня, а когда я закончил, проговорил: — Я должен подтвердить вашу догадку: на портрете моя жена, а книга принадлежит ей. — Принадлежит ей? — изумленно переспросил я. — Да, Аллан. Я говорю «принадлежит», потому что убежден: она жива. Растолковать, на чем основано это убеждение, я могу не лучше, чем объяснить, каким образом свирепый дикарь-зулус точно предсказал мой приход. Иногда нам удается выпытать у неведомого секрет. Мне вот в награду за молитвы открылась истина — моя жена жива до сих пор. — Спустя двадцать лет, Джон? — Да, спустя двадцать лет. Как вы думаете, зачем я почти целое десятилетие под видом сумасшедшего брожу среди африканских дикарей, которые почитают безумных и не причиняют им вреда? — спросил он почти свирепо. — Я думал, для того, чтобы собирать бабочек и цветы. — Бабочек и цветы! Это лишь предлог. Я искал и ищу свою жену. Вам это покажется безумием, особенно если учесть, что, когда мы расстались, она ждала ребенка… но я верю, Аллан, моя жена живет в каком-нибудь диком племени. — Тогда, может, лучше не искать ее, — заметил я, вспомнив об участи, которая в те времена постигала белых женщин, когда они после кораблекрушения попадали к кафрам и становились их женами. — Нет, Аллан. Того, о чем вы думаете, я не боюсь. Если Господь спас мою жену, то и от бед уберег. Теперь вы понимаете, — прибавил он, — почему я хочу посетить этих понго, почитающих белую богиню… — Понимаю, — сказал я. Затем я простился с Братом Джоном, так как все выяснил и решил не продолжать этот мучительный разговор. Я не верил, что его супруга жива, однако страшно было представить, как тяжело он воспринял бы свидетельство о ее кончине. Сколько романтики в нашем убогом мире! Подумать только, какую жизнь прожил Брат Джон! (Впоследствии я выяснил, что его фамилия Эверсли.) Благородный и образованный человек, он преданно служил Отцу Небесному в глухом и темном краю. Но зачем он взял с собой молодую жену? Вот этого я никогда не одобрял. Ни из преданий, ни из Библии не следует, что апостолы отправлялись к язычникам вместе с женами и детьми, а ведь среди этих светочей веры, кстати, были люди, обремененные семьей. Итак, случилась беда. Миссия была разорена, миссионер чудом спасся, а его жену увели в плен, чтобы предать в руки подлого работорговца. По крайне сомнительному свидетельству умирающего невольника, молодая женщина прибилась к неизвестному племени. Известие заставило супруга изображать безумного ботаника, двадцать лет искать ее, терпеть лишения, утешаясь святой верой. История прекрасная, трогательная, только по причине, уже упомянутой, я надеялся, что душа несчастной давно вернулась к Творцу, ибо страшился представить состояние белой женщины после двадцати лет жизни с дикарями. Но все же после урока, полученного от Мавово и его змеи, я не считал возможным высказываться категорично. Кто я такой, чтобы не только составлять мнение, но и навязывать его другим? Да и знания, на которые мы можем опереться, слишком скудны. Не безопаснее ли плыть по морю интуиции, чем искать спасения на крохотных островках личного опыта? Между тем мне следовало не рассуждать о чужих мечтах и моральных установках, а, будучи профессиональным охотником и коммерсантом, успешно провести экспедицию, за что мне хорошо заплатили, и, если удастся, выкопать корневище редкого растения, в продажной стоимости которого есть моя доля. Я всегда гордился как отсутствием воображения и склонности к фантазиям, так и готовностью к тяжелому труду и умением смотреть жизни в лицо, что, по сути, является долгом каждого. Мой характер действительно таков, по крайней мере, я надеюсь на это. Если говорить абсолютно честно, а этого не делает никто, за исключением мистера Сэмюэла Пипса[312] — он жил при Карле II и, судя по «Дневнику», который я недавно прочел, откровенничал не для печати, — есть во мне и другое начало. Я безжалостно подавляю его, во всяком случае мне удавалось это до сих пор. Во время завтрака к нам в хижину, словно побитая собака, вполз Ханс. Он все еще страдал от головной боли и раскаяния и боялся высунуть нос за ворота, где бесновалась толпа. Готтентот объявил, что к нам идет Бабемба с воинами, несущими что-то тяжелое. Я хотел их встретить, но потом вспомнил, что, по странному туземному обычаю, благодаря которому сэра Теофила Шепстона, моего близкого друга[313], признали хранителем духа великого Чаки, а посему приравняли к зулусским монархам, самая важная персона среди нас — Брат Джон. Я отошел в сторону, попросил его занять мое место и держаться соответственно особому положению в туземном обществе, которое отвел ему Господь. Должен сказать, что Брат Джон, отличавшийся редким благородством духовного и внешнего облика, и тут оказался на высоте. Он поспешно допил свой кофе, выступил вперед и застыл в величавой позе. Бабемба со спутниками подползли к нему на четвереньках. Даже носильщики, несмотря на тяжесть своего груза, старались выказывать раболепие. — О король Догита, — начал Бабемба, — твой брат король Бауси возвращает оружие твоим братьям, белым людям, и посылает им подарки. — Рад слышать это, Бабемба, — отозвался Брат Джон, — хотя отнимать вообще ничего не стоило. Положите все на землю и встаньте! Не люблю, когда люди ползают предо мной, словно обезьяны. Приказ Брата Джона исполнили. Мы осмотрели оружие, патроны и другие отобранные у нас вещи. Все было в полном порядке. К нашему имуществу добавили четыре великолепных слоновьих бивня — подарки Стивену и мне. Я, как человек расчетливый, охотно их принял. Кароссы и оружие мазиту поднесли в дар Мавово и охотникам, великолепную туземную кровать с ножками из слоновой кости — Хансу, за его способность спать при самых исключительных обстоятельствах (услыхав это, зулусы громко захохотали, а готтентот с проклятиями скрылся за хижинами). Для Сэма предназначался причудливый музыкальный инструмент, с просьбой в будущем на людях пользоваться им вместо своего голоса. Отмечу, что Сэм воспринял шутку не лучше, чем Ханс, зато остальные оценили юмор мазиту. — Мистер Квотермейн, чернокожие несмышленыши глумятся напрасно, — заявил Сэм. — В подобных случаях от тихих молитв мало толку. Я убежден, что, услышав мой громкий плач, Небо отвело от нас стрелы язычников. — О Догита и белые господа! — провозгласил Бабемба. — Король приглашает вас к себе, чтобы попросить у вас извинения за случившееся. На этот раз вам не надо брать с собой оружие, так как отныне среди мазиту вам ничто не угрожает. Мы немедленно отправились к королю, захватив отвергнутые им дары. Дорога к королевскому жилищу обернулась триумфальным шествием. Туземцы рукоплескали в знак приветствия, некоторые падали ниц, девушки и дети забрасывали нас цветами, словно новобрачных. Мы обогнули место казни, где все еще стояли столбы. Признаться, я посмотрел туда с содроганием, хотя могилы были уже засыпаны. Завидев нас, Бауси и его советники встали и поклонились. Более того, король приблизился к Брату Джону, взял его за руку и уродливым черным носом потерся о нос своего почетного гостя. По-видимому, мазиту это заменяет объятия, но, боюсь, Брат Джон не оценил оказанной ему чести. Затем, после длинных речей, мы пили густое туземное пиво. Бауси объяснил, что все зло исходило от покойного Имбоцви и его последователей, от тирании которых давно стонала земля мазиту, ведь племя верило, что их устами вещает глас свыше. Брат Джон принял от нашего имени извинение Бауси, потом прочел ему целую лекцию или, вернее, проповедь, занявшую ровно двадцать пять минут: лаконичностью любитель бабочек никогда не отличался. Брат Джон предупредил о зле, происходящем от суеверия, и указал на лучший, праведный путь. Бауси ответил, что о пути этом он охотно поговорит в другой раз. Случай наверняка представится, мы ведь проведем остаток своих дней вместе, — к примеру, после весеннего сева, когда у мазиту будет много свободного времени. Потом мы поднесли королю наши дары, которые на сей раз он принял весьма охотно. Потом слово взял я и объяснил Бауси, что мы не намерены провести в городе Беза остаток своих дней и в ближайшее время хотим отправиться в страну понго. В ответ на это король и его советники помрачнели. — Послушайте, о господин Макумазан и все те, кто пришел сюда вместе с ним! — начал Бауси. — Понго — племя большое, могущественное, живет на болотах особняком. Попавшего в плен мазиту или человека из другого племени понго убивают либо угоняют в рабство, а то и приносят в жертву демонам, которым поклоняются. — Это правда, — вмешался Бабемба. — Мальчишкой я угодил к ним в плен, и меня хотели принести в жертву Белому дьяволу. Спасаясь от них, я потерял глаз. Разумеется, я принял эти слова к сведению, но от дальнейших расспросов воздержался. «Раз Бабемба уже был в стране понго, то может отправиться туда снова или, по крайней мере, показать нам дорогу», — подумал я. — Когда понго выходят на охоту за рабами и нам удается поймать лазутчиков, мы их убиваем, — продолжал Бауси. — Испокон веков мазиту воюют с понго и люто их ненавидят. Если бы я уничтожил это злое племя, то мог бы умереть спокойно. — Понго так просто не победить, о король, — напомнил Бабемба. — Разве не слыхал ты о пророчестве, которое гласит, что это племя будет существовать до тех пор, пока жив Белый дьявол и цветет Священный цветок? Но стоит Белому дьяволу умереть, а Священному цветку отцвести, бесплодие сразит женщин племени — и понго придет конец. — Ну, Белый дьявол когда-нибудь да умрет, — предположил я. — Нет, Макумазан. Своей смертью он не умрет никогда. Подобно нечестивому жрецу понго, он будет жить до тех пор, пока его не убьют. Но кому по силам убить Белого дьявола? «Я не прочь попытаться», — подумал я, но не стал развивать эту мысль. — Брат мой Догита и белые господа! — воскликнул Бауси. — В страну этих колдунов вы проникнете лишь во главе большого войска. Но как мне послать с вами войско, если у мазиту нет ни лодок, чтобы переправиться через большое озеро, ни деревьев, чтобы их построить? Мы ответили, что тоже не знаем способа, но постараемся придумать, ибо явились в эти края с целью наведаться к понго и хотим своего добиться. Аудиенция закончилась, и мы вернулись в свои хижины, оставив Догиту побеседовать с «братом Бауси» о здоровье последнего. Бабембе я сказал, что хочу переговорить с ним с глазу на глаз, и он пообещал заглянуть ко мне вечером, после ужина. Остаток дня прошел спокойно, так как мы попросили, чтобы мазиту не приближались к нашей стоянке. Ханс на аудиенции не присутствовал, ему было стыдно показаться на людях. Мы застали его за чисткой ружей. Тут я кое о чем вспомнил и, позвав Мавово, взял обещанную двустволку и вручил зулусу со словами: — Она твоя, о истинный пророк! — Да, отец мой, — ответил он, — на время это оружие станет моим, но потом, вероятно, вернется к прежнему хозяину. Слова Мавово потрясли меня, однако суть их я выяснять не стал, не желая слышать новые пророчества. После обеда мы завалились спать, так как все, включая Брата Джона, остро нуждались в отдыхе. Вечером пришел Бабемба, и мы, трое белых, стали с ним советоваться. — Расскажи нам, Бабемба, о понго и о Белом дьяволе, которого они почитают, — попросил я. — О Макумазан, пятьдесят лет минуло с тех пор, как я побывал в их стране, и картины прошлого видятся будто сквозь густой туман. Помню, двенадцатилетним мальчишкой я ловил рыбу в камышах. Вдруг на лодке подплыли высокие люди в белом, схватили меня и увезли в город. Тамошние жители выглядели так же, как мои похитители, — высокого роста и в белых одеждах. Обращались со мной хорошо, кормили сластями. Вскоре я стал лосниться от жира. Однажды вечером меня куда-то повели. Шли мы всю ночь и наконец добрались до большой пещеры. В пещере той сидел страшный старик, вокруг которого плясали ряженые, исполнявшие обряд Белого дьявола. Старик сказал мне, что на следующий день меня зажарят и съедят, мол, для этого и откармливали. Пещера была прямо на берегу, у входа стояла лодка, к ней я и подполз, когда все уснули. Пока я отвязывал ее, один из жрецов проснулся и подбежал ко мне. Несмотря на юные годы, силы и храбрости мне было не занимать. Я изловчился и ударил жреца веслом по голове. Он упал в воду, но тут же вынырнул и ухватился за борт лодки. Тогда я стал бить преследователя веслом по пальцам до тех пор, пока он не разжал их. Той ночью дул сильный ветер, ломавший ветки на деревьях, которые росли на другом берегу. Лодку кружило, и мне что-то попало в глаз, должно быть сук. Сгоряча я почти ничего не почувствовал, но потом глаз вытек. Не знаю, может быть, то была не ветка, а копье или нож? Я греб, пока не потерял сознание, а ветер не стихал. Последнее, что помню, — это шелест камышей, через которые ветер гнал лодку. Очнулся я недалеко от берега, до которого добрел по илистой отмели, распугав больших крокодилов. Думаю, случилось это на второй или на третий день побега, так как я заметно исхудал. На берегу я снова лишился чувств. Там люди нашего племени нашли меня и сумели выходить. Вот и все. — Для нас вполне достаточно, — отозвался я. — Теперь скажи мне, далеко ли город понго от того места, где тебя похитили? — На лодке плыть туда целый день, о Макумазан. Похитили меня рано утром, и только к вечеру мы добрались туда, где стояло множество лодок. Было их около пятидесяти, иные могли вместить до сорока человек. — А от пристани до города? — Они рядом, Макумазан. — Не слышал ли ты о земле, лежащей за водой, что протекает у пещеры? — спросил Брат Джон. — Слышал, о Догита, — то ли при похищении, то ли позднее, поскольку до нас долетают россказни об этих понго. Говорят, на их землях есть остров, где растет Священный цветок, о котором ты знаешь, ибо в последний раз ты приезжал к нам именно с таким цветком. За ним присматривает жрица, именуемая Матерью Цветка, а также ее служанки, все до единой девственницы. — Кто эта жрица? — Не знаю. По слухам, ее выбирают из новорожденных с белой кожей, у понго так бывает, даже если родители темнокожие. Если девочка рождается белой, или с розовыми глазами, или глухонемой, ее отдают жрице в услужение. Но прежней жрицы, верно, уже нет в живых, так как мальчишкой я запомнил ее очень старой, и понго сильно беспокоились, ибо не было среди них белокожей женщины, которая могла бы принять священный сан. Однако много лет назад племя устроило большой праздник и на пиру съели немало рабов, так как была найдена новая прекрасная жрица с белой кожей, желтыми волосами и ногтями нужной формы. Тут я подумал, что поиски жрицы, которая именуется Матерью Цветка и обладает особыми приметами, напоминают поиски быка Аписа в Древнем Египте, описанные Геродотом. Однако вслух я ничего не сказал, так как Брат Джон вдруг спросил: — Новая жрица тоже умерла? — Не знаю, Догита, но думаю, что нет. Если бы она умерла, до нас дошел бы слух о празднике по случаю съедения мертвой Матери Цветка. — Съедение мертвой матери?! — воскликнул я. — Да, Макумазан. По священному обычаю понго, после смерти Матери Цветка ее тело нужно разделить между теми, кто имеет право на священную еду. — А Белого дьявола не едят? — уточнил я. — Нет, ибо, как я уже говорил, он никогда не умрет. Он несет смерть другим, в чем ты наверняка убедишься, если отправишься в страну понго, — мрачно прибавил Бабемба. «Клянусь честью, — подумал я, когда добавить Бабембе стало нечего и разговор закончился, — если бы дело касалось только меня, я охотно оставил бы в покое понго и их Белого дьявола». Потом, вспомнив позицию Брата Джона, я со вздохом решил покориться судьбе. И судьба благоволила нам. Следующим утром, очень рано, к нам снова пришел Бабемба. — Белые господа, случилось нечто удивительное, — объявил он. — Вчера вечером мы говорили о понго, а сегодня на заре они прислали послов. — Зачем? — спросил я. — Они предлагают прекратить вражду между понго и мазиту. Да, они просят Бауси отправить к ним послов для заключения прочного мира. Будто кто-нибудь согласится к ним пойти! — прибавил он. — Может, кто-нибудь и согласится, — ответил я, поскольку мне в голову пришла интересная идея. — Позволь нам переговорить с Бауси. Через полчаса мы уже сидели в королевском жилище. Мы — это Стивен и я; Брат Джон отправился к Бауси чуть раньше. Прежде чем разделиться, мы с Братом Джоном перекинулись парой слов. — Джон, вас не посещала мысль, что представляется удобнейший случай посетить страну понго, раз она вас так манит? — спросил я. — Мазиту ничем туда не заманишь: слишком боятся обрести там вечный покой. Вы кровный брат Бауси, так предложите себя на роль чрезвычайного посла, мы же станем вашей свитой. — Я уже думал об этом, Аллан, — ответил он, поглаживая длинную седую бороду. Мы со Стивеном уселись среди королевских советников. Вскоре появился Бауси в сопровождении Брата Джона и, поздоровавшись с нами, велел привести послов понго. Вошли высокие светлокожие мужчины с правильными семитскими чертами лица, одетые, как арабы, в белое. На шее и запястьях они носили золотые и медные кольца. В общем, выглядели послы солидно; они разительно отличались от большинства жителей Центральной Африки. Мне же их внешность внушала страх и отвращение. Добавлю, что копья понго остались за изгородью, окружавшей королевское жилище. Послы сложили руки на груди и с достоинством поклонились королю. — Кто вы и что вам нужно? — осведомился Бауси. — Я Комба, — ответил их предводитель, молодой еще человек с блестящими глазами. — Комба, Признанный богами, который в скором времени может занять место Калуби, а это мои слуги. Я пришел сюда с дарами дружбы по желанию священного Мотомбо, верховного жреца богов. Дары оставлены за изгородью… — Разве не Калуби жрец ваших богов? — прервал его Бауси. — Нет, Калуби — король понго, так же как ты — король мазиту. Мотомбо же, которого мы редко видим, — король духов и уста богов. Бауси кивнул на африканский манер — поднял подбородок и не опустил. Комба продолжал: — Я отдался на твою милость. Если хочешь, убей меня, но толку от этого немного, ибо место мое займет другой, дожидающийся очереди стать королем. — Разве я понго, чтобы убивать послов и поедать их? — съязвил Бауси, чем явно задел высоких гостей. — Ты ошибаешься, о король! Понго едят лишь избранных Белым дьяволом. Это религиозный обряд. К чему тем, у кого много скота, есть людей? — Не знаю, — буркнул Бауси. — Среди нас есть человек, у которого другое мнение. — Король глянул на Бабембу, и тот нервно заерзал. Комба обжег Бабембу свирепым взглядом. — Не представляю, чтобы кто-то покусился на костлявого старика, — парировал он. — Но оставим это. Я благодарю тебя, король, за гарантию безопасности. Я пришел сюда просить, чтобы ты направил посланников для переговоров с Калуби и Мотомбо о заключении прочного мира между нашими народами. — Почему же Калуби и Мотомбо сами не пришли сюда для переговоров? — спросил Бауси. — Потому что, о король, по закону им нельзя покидать свою страну. Поэтому они послали меня, будущего правителя племени. Послушай меня! Поколениями наши народы ведут войну. Началась она давным-давно, один только Мотомбо знает, когда это случилось, ибо его известили боги. Прежде понго владели всей этой землей, за водой находились наши священные места. Потом явились ваши предки, напали на понго, многих перебили, оставшихся захватили в плен и сделали своими рабами, а женщин — своими женами. Теперь Мотомбо и Калуби говорят: пусть вместо войны воцарится мир; пусть там, где был бесплодный песок, вырастут злаки и цветы; пусть мрак, в котором теряются и гибнут люди, сменится ласковым светом и наши народы протянут друг другу руки! «В самом деле», — пробормотал я, тронутый его словами. А вот Бауси был холоден как камень и поэтические разглагольствования посла выслушал с мрачным подозрением. — Перестаньте убивать людей нашего племени, брать их в плен и приносить в жертву Белому дьяволу, тогда через пару лет мы прислушаемся к твоим медоточивым речам, — пообещал король. — Пока же они напоминают ловушку для мух. Впрочем, если кто-то из советников хочет рискнуть жизнью и посетить Мотомбо и Калуби, запрещать не стану. Скажите, о индуны, кто из вас готов на это? Хором не говорите, лучше по одному и поскорее, ведь первого, кто пожелает отправиться послом к понго, я удостою этой чести. В жизни не слышал я такой тишины, какая воцарилась после приглашения. Индуны переглядывались, но ни один не проронил ни слова. — Как? — с притворным удивлением воскликнул Бауси. — Желающих нет? Впрочем, ваш удел — закон и порядок. Что скажет предводитель воинов Бабемба? — Скажу, о король, что в юности я побывал в стране понго и потерял там глаз. Меня затащили туда насильно, и сейчас своими ногами я идти туда не желаю. — Очевидно, о Комба, никто из моих советников не желает быть послом. Поэтому, если Мотомбо и Калуби хотят поговорить о мире, пусть сами придут сюда под надлежащей охраной. — Я уже сказал, о король, что это невозможно. — Если так, то говорить больше не о чем, Комба! Отдохни, поешь нашей пищи и ступай восвояси. Тогда Брат Джон встал со своего места и сказал: — Мы кровные братья, Бауси, потому я могу говорить за тебя. Если ты, советники и послы согласны, то я и мои друзья готовы отправиться к Мотомбо и Калуби, чтобы переговорить с ними о мире от имени твоего народа. Мы не боимся, напротив, нам очень нравится посещать новые земли и незнакомые племена. Скажи, о Комба, примете ли вы нас как послов, если король Бауси даст согласие? — Король волен назначить своим послом кого пожелает, — ответил Комба. — Калуби слышал о прибытии белых господ в страну мазиту и велел сообщить им, что будет рад, если они захотят сопровождать посланников. Но когда вопрос передали Мотомбо, оракул сказал так: пусть белые люди придут к нам, если хотят, только без железных труб, больших и малых, которые с шумом изрыгают дым и убивают на расстоянии. Съестное им добывать не потребуется: еду они получат от нас в изобилии. Более того, среди понго они будут в полной безопасности, если не нанесут оскорбление богам. Конец фразы Комба произнес нарочито медленно и отчетливо, а затем пытливо взглянул на меня, словно старался прочесть мои сокровенные мысли. У меня душа в пятки ушла. Вне сомнений, Калуби звал нас к себе, чтобы мы убили Белого дьявола, угрожающего его жизни. Насколько я понял, этот дьявол — чудовищная обезьяна. Только как мы справимся с обезьяной или с другим страшным зверем без огнестрельного оружия? — О Комба! — сказал я. — Мое ружье для меня отец, мать, жена — вся моя родня. Без него я с места не сдвинусь. — В таком случае тебе, белый господин, — ответил Комба, — лучше остаться здесь со своей родней, ибо, если попробуешь взять ее с собой в страну понго, то будешь убит, едва ступишь на наш берег. Прежде чем я успел открыть рот, заговорил Брат Джон. — Вполне объяснимо, что великий охотник Макумазан не хочет расстаться со своим ружьем, — сказал Брат Джон. — Для него оно что палка для хромого, чего нельзя сказать обо мне. Я годами не брал в руки оружия и не убивал божьих тварей, за исключением насекомых с яркими крылышками. Я готов посетить вашу страну, имея при себе только это. — Он указал на сачок, прислоненный к изгороди. — Хорошо. У нас тебя ждет самый радушный прием, — пообещал Комба, и в его взгляде мне почудилось злорадство. Последовала пауза, во время которой я объяснил все Стивену, подчеркнув, сколь безумна затея Брата Джона. К моему ужасу, в юноше взыграло ослиное упрямство. — Квотермейн, отпускать старика одного нельзя, — заявил он. — По крайней мере, так считаю я. Вы другое дело, у вас есть сын, который от вас зависит. Если оставить в стороне мою цель добыть… — Стивен хотел сказать «орхидею», но я подтолкнул его локтем. Глупо, наверное, однако я испугался, что Комба таинственным образом поймет его слова. — В чем дело? — удивился Стивен. — А, ясно! Да ведь этот тип не говорит по-английски! В общем, надо отложить в долгий ящик все, что может подождать, и немедленно действовать, а не в игры играть. Итак, если Брат Джон пойдет в страну понго, я составлю ему компанию; если же он останется, я отправлюсь один. — Несносный мальчишка, глупец! — в сердцах пробормотал я. — Что этот молодой господин желает увидеть на нашей земле? — спросил невозмутимый Комба, с дьявольской проницательностью прочитавший мысли Стивена на его лице. — Он называет себя мирным путешественником, говорит, что хочет изучить ваши края и узнать, нет ли у вас золота, — пояснил я. — Хорошо, пусть изучает, и золото у нас есть. — Комба коснулся браслета на своей руке. — Он получит столько золота, сколько сможет унести с собой. Белым господам угодно обсудить это наедине? Если да, то позволь нам, о король, на время удалиться. Пять минут спустя мы сидели в большом королевском доме с самим Бауси и с Бабембой. Мы с Бауси умоляли Брата Джона отказаться от своего намерения. Бабемба называл это решение безумным: мол, он хорошо знает понго и предчувствует, что они не погнушаются убийством и злыми чарами. Брат Джон спокойно и твердо ответил, что само Провидение предоставило ему шанс посетить один из немногих уголков Африки, в котором он еще не бывал. Стивен зевал, обмахивался платком (в хижине было очень жарко), а потом заявил, что раз уж он забрел так далеко ради редкого цветка, грех возвращаться с пустыми руками. — Догита, я чувствую, что к понго ты собрался идти с тайной, неведомой мне целью, — проворчал Бауси. — И я готов удержать тебя силой. — Только посмей, и нашему братству конец! — пригрозил Брат Джон. — Не пытайся, о Бауси, выведать мою тайну, подожди, и со временем все узнаешь. Король застонал от досады, но сдался. Бабемба заявил, что Догита и Вацела околдованы, и лишь я, Макумазан, сохранил здравомыслие. — Итак, решено! — воскликнул Стивен — Мы с Джоном отправимся послами к понго, а вы, Квотермейн, останетесь здесь с охотниками и багажом. — Молодой человек, вы оскорбить меня хотите? — возмутился я. — Забыли, что ваш отец наказал мне вас опекать? Раз пойдете вы с Джоном, пойду и я, даже нагишом, если понадобится. Но в кои веки скажу откровенно: вы оба вконец спятили, и если понго съедят вас, так вам и надо! Подумать только, меня, в таком возрасте, тащат к дикарям-людоедам безоружным — голыми руками сражаться с неведомым зверем! Что ж, двум смертям не бывать, а одной не миновать, по крайней мере насколько сейчас известно. — Верно! — вскричал Стивен. — Поразительно, но совершенно верно! Ох, с каким удовольствием я надрал бы ему уши! Мы снова вышли во двор, куда призвали Комбу и его свиту. На сей раз они принесли дары: два хороших слоновьих бивня (я понял, что страна понго не со всех сторон окружена водой, ведь слоны на островах — редкость); золотой порошок в тыквенной бутыли и медные браслеты (доказательство того, что страна богата металлами); белое, хорошо вытканное полотно и несколько красиво расписанных горшков (очевидно, у понго был художественный вкус). Мне очень хотелось выяснить, откуда у них такие умения, да и вообще, откуда взялось это племя. Точного ответа на свои вопросы я не получил, вряд ли об этом знали сами понго. Совет возобновился. Бауси объявил, что трое белых господ, каждый в сопровождении одного слуги (на этом настоял я), согласны без огнестрельного оружия отправиться в страну понго в качестве послов, чтобы обсудить условия мира между двумя народами и особенно вопросы, касающиеся торговли и заключения браков. Этот пункт предложил Комба, и тогда я недоумевал зачем. Он же, Комба, от имени Мотомбо, духовного вождя, и Калуби, избранного правителя своей страны, гарантировал нам полную безопасность при условии, что мы ни словом, ни действием не оскорбим богов понго. Это требование могло легко завести нас в тупик, и мне оно не понравилось. Кроме того, Комба поклялся, что мы целыми и невредимыми вернемся в страну мазиту спустя шесть дней после того, как покинем ее берега. Бауси сказал, что это хорошо, и пообещал снарядить пятьсот воинов, которые проводят нас к месту отплытия и встретят по возвращении. Еще король заявил, что, если нас обидят, он будет воевать с понго до тех пор, пока полностью не истребит все племя. Мы расстались, решив выступить следующим утром.Глава 13
ГОРОД РИКА
Мы покинули город Беза на двадцать четыре часа позднее, чем планировали, так как старику Бабембе, которому поручили организовать сопровождение, понадобилось время, чтобы собрать отряд в пятьсот человек и запастись провизией. Тут стоит упомянуть, что в хижине мы застали за трапезой Тома и Джерри, наших носильщиков-мазиту. Оба ели с аппетитом, однако вид у них был усталый. Выяснилось, что колдун Имбоцви в свое время решил избавиться от неугодных свидетелей, но убить Тома и Джерри побоялся, поэтому отправил носильщиков в отдаленную часть страны, где их взяли под стражу. Едва весть о казни Имбоцви и его приспешников прилетела в то захолустье, носильщики получили свободу и сразу вернулись к нам, в город Беза. Разумеется, наши планы пришлось изложить слугам. Сообразив, куда и зачем мы направляемся, они покачали головой, а когда услышали, что нас обязали оставить ружья здесь, онемели от удивления. — Крансик! Крансик! — выразительно стуча себе по лбу, восклицал Ханс, что означало «сбрендили». — Заразились от Догиты, который ловит сеткой насекомых и ест, а ружья не носит, чтобы не убивать дичь. Так я и знал! Охотники согласно закивали, а Сэм молитвенно воздел руки. Один Мавово сохранял непроницаемое выражение лица. Потом встал вопрос о том, кому из них нас сопровождать. — Что касается меня, — сказал Мавово, — то сомнений нет. Я пойду с моим отцом Макумазаном, ибо и без ружья достаточно силен и могу сражаться копьем, как сражались мои праотцы. — Я тоже пойду с баасом Квотермейном, — проворчал Ханс, — ибо и без ружья хитер, как мои праматери. — За исключением того времени, когда ты, Пятнистая змея, принимаешь свои снадобья и погружаешься в сон, — насмешливо сказал один из зулусов. — А прекрасную кровать, подарок короля, ты возьмешь с собой? — Нет, сын глупца! — ответил Ханс. — Я оставлю ее тебе, который не понимает, что во мне спящем больше мудрости, нежели в тебе бодрствующем. Оставалось решить, кто будет третьим. Слуги Брата Джона не годились (один занемог, другой струсил), и Стивен предложил взять Сэма, главным образом потому, что тот умел готовить. — Ни за что, мистер Сомерс! — горячо запротестовал Сэм. — Этому предложению я говорю решительное «нет». Звать человека, умеющего жарить мясо, в страну, где могут зажарить его самого, — все равно что варить козленка в молоке его матери. Мы махнули на него рукой и после недолгих споров выбрали сметливого крепыша Джерри, который охотно согласился сопровождать нас к понго. Остаток дня мы посвятили подготовке; дело было немудреное, однако подумать все же следовало. К моему неудовольствию, Ханс, в помощи которого я нуждался, куда-то исчез. Когда он наконец появился, я спросил его, где он был. Ханс ответил, что ходил в лес, чтобы срезать палку, так как путь нам предстоял неблизкий. И показал увесистую дубинку из твердого бамбука, растущего в этих краях. — Зачем тебе такая громоздкая дубина? — спросил я. — Ведь кругом так много хороших палок. — Для нового путешествия нужна новая палка, баас! Кроме того, это дерево полое и палка удержит меня на воде, если лодка опрокинется. На заре следующего дня мы выступили. Я и Стивен ехали на ослах, которые отъелись и окрепли, Брат Джон — на белом быке, очень послушном и привязанном к своему хозяину. Охотники во всеоружии провожали нас до границы страны мазиту, где вместе с отрядом местных воинов собирались ожидать нашего возвращения. Сам король проводил нас до западных ворот города, где простился с нами и особенно сердечно — с Братом Джоном. Вдобавок Бауси послал за Комбой и его свитой и еще раз поклялся, что, если нас обидят, он не успокоится, пока поголовно не истребит понго. — Не волнуйся, — невозмутимо сказал ему Комба. — В священном городе Рика гостей не привязывают к столбам, чтобы расстрелять из луков. Остроумный ответ разозлил Бауси, не любившего вспоминать тот случай. — Если белым господам ничто не грозит, почему ты не позволяешь им взять с собой ружья? — не совсем последовательно спросил он. — Гостей лишь горстка, а нас много, о король, разве помогли бы им ружья, задумай мы против них зло? Разве не сумели бы мы обезоружить белых господ обманом, как сделал ты, когда решил их убить? По закону магическое оружие на территории нашей страны запрещено. — Почему? — спросил я, чтобы сменить тему разговора, так как видел, что Бауси злится, и боялся осложнений. — Нам предрекли, господин мой Макумазан, что, когда в стране понго выстрелит оружие, боги покинут нас и Мотомбо, их жрец, умрет. Это предсказание очень древнее, и еще недавно никто не ведал, что оно означает, ибо дословно в нем говорилось о полом копье, которое дымит, а такого оружия мы прежде не видели. — Вот как?! — отозвался я, про себя сетуя, что мы не сможем исполнить это пророчество. — Жаль, очень жаль, — тихонько пробормотал Ханс, качая головой, и я с ним согласился. Три дня мы спускались с высокогорного плато, на котором раскинулся город Беза, к озеру Кируа. Это название, по-моему, означает «место, где находится остров». Самого озера мы не могли видеть из-за высокого густого камыша, скрывавшего добрую милю мелководья. Тут и там камышовые заросли рассекали каналы, точнее, тропы — их проложили гиппопотамы, что ночью паслись на берегу. Впрочем, с вершины высокого холма, весьма напоминающего могильник, просматривалась синь воды, а вдали я разглядел в бинокль лесистый горный пик. Я спросил Комбу, что это за гора, и он сказал, что это дом богов понго. — Каких богов? — снова спросил я, и Комба, словно темнокожий Геродот, ответил, что говорить о них запрещено законом. Редко я встречал таких закрытых людей, как этот бесстрастный Комба, совершенно не похожий на африканца. На вершине холма мы водрузили английский флаг на самом высоком шесте, какой только могли найти. Комба подозрительно спросил, зачем нам это, и я решил доказать сему неприятному типу, что мы тоже умеем быть сдержанными и бесстрастными. Я объяснил, что флаг — божество нашего племени и любой, кто оскорбит его хоть словом, хоть действием, непременно умрет, как колдун Имбоцви и его приспешники. Комбу это явно впечатлило, он даже поклонился флагу, когда проходил мимо него. Я умолчал, что флаг мы поставили как веху, как маяк, на случай если придется возвращаться сюда без провожатых или в спешке. Удивительно, что сей благоразумный совет дал Стивен, самый беспечный из нас, а впоследствии его предусмотрительность спасла нам жизнь — об этом расскажу позднее. На ночь мы расположились лагерем у подножия холма. Бабемба и его воины, не боявшиеся москитов, устроились ближе к озеру, напротив широкого канала, проложенного через камыши гиппопотамами. Я спросил Комбу, когда и как мы переправимся через озеро. Он ответил, что выступим мы на заре следующего дня, ведь в это время года ветер дует с берега именно по утрам, и при благоприятной погоде мы достигнем города Рика до наступления ночи. О способе переправы Комба обещал рассказать, если я за ним последую. Я согласился, и он увел меня ярдов на четыреста-пятьсот к югу от лагеря. По дороге случились две неожиданности. Во-первых, огромный черный носорог, спавший в кустарнике ярдах в пятидесяти от нас, вдруг почуял наше присутствие и, как свойственно этим животным, бросился в атаку. С оружием мы еще не расстались, и я нес тяжелую одностволку. При виде носорога Комба пустился бежать, и ведь не упрекнешь его в трусости — у него было только копье. Явзвел курок и стал ждать удобного момента. Шагах в пятнадцати от меня носорог запрокинул голову, но из-за рога стрелять в нее бессмысленно, и я пальнул ему в горло. Думаю, пуля попала точно в цель, ибо носорог перевернулся, как подстреленный кролик, и испустил дух чуть ли не у моих ног. Моя удача потрясла Комбу до глубины души. Он подошел ко мне. Посмотрел на убитого носорога и на брешь у него в горле; взглянул на меня и на ружье, которое еще дымилось. — Большой зверь убит простым шумом! — бормотал он. — Убит в одно мгновение белым коротышкой (я мысленно поблагодарил его за комплимент) и его колдовством! Мотомбо поступил очень мудро, когда приказал… — Комба осекся. — В чем дело, дружище? — спросил я. — Зря ты побежал. Спрятался бы за меня и остался бы цел и невредим, а беготня ни к чему. — Верно, господин Макумазан, только мне это все в новинку. Прости мне мое невежество. — О, я охотно прощаю тебя, будущий вождь! В стране понго тебе предстоит многое узнать от нас. — Да, господин мой Макумазан, наверное, так же как тебе от нас, — сухо ответил Комба. Вероятно, он начал приходить в себя, раз к нему вернулся его обычный сарказм. На выстрел прибежал Мавово. По-видимому, он охранял меня, тайком следуя за нами. Я велел ему собрать людей для разделки туши носорога, и мы с Комбой продолжили путь. Чуть дальше, у самых камышей, я заметил узкую продолговатую канаву, вырытую в каменистой почве, и ржавую жестянку из-под горчицы, наполовину заросшую чахлой травой. — Что это? — удивленно спросил я. — Ox! — воскликнул Комба — должно быть, он не вполне оправился от изумления. — Это место, где господин Догита, кровный брат Бауси, устраивал свой полотняный дом двенадцать с лишним лун назад. — Вот как?! Он не говорил мне, что бывал здесь! — воскликнул я. Это была неправда, но я не боялся лгать Комбе. — Откуда это известно тебе? — Его видел человек из нашего племени, рыбачивший здесь в камышах. — Тогда понятно, Комба. Но что за странное место для рыбной ловли! Так далеко от дома… Что он мог тут поймать? На досуге расскажешь мне, какую рыбу ловят на мелководье, среди густого камыша. Комба пообещал, что с удовольствием мне все расскажет, когда будет время. Чтобы избежать дальнейших расспросов, он помчался вперед и, раздвинув камыши, показал мне большую, человек на сорок, лодку, выдолбленную из цельного ствола огромного дерева, явно ценой колоссального труда. У этого судна была съемная мачта, в отличие от большинства лодок, что я видел в африканских озерах и реках. Я похвалил лодку, и Комба заявил, что флотилия города Рика насчитывает сотню челнов, хотя не все они так велики. «Что ж, — рассуждал я по дороге в лагерь, — если в каждой лодке по двадцать гребцов, значит в племени понго две тысячи взрослых крепких мужчин». Впоследствии мой расчет оказался на диво точным. На заре следующего дня мы тронулись в путь, правда с некоторыми задержками. Начну с того, что среди ночи в палатку, где спал я, пришел старый Бабемба. Он разбудил меня и долго умолял отказаться от путешествия в страну понго. Мол, те замыслили недоброе, а все разговоры о мире — только предлог, чтобы заманить нас, белых, к себе и по религиозному обряду принести в жертву своим богам. Я ответил, что вполне согласен с ним, но не могу покинуть товарищей, которые настроены на это путешествие, и лишь просил его быть начеку, чтобы помочь нам в случае затруднения. — Я останусь здесь и буду ждать вас, мой господин Макумазан, — пообещал Бабемба. — Но если вы попадете в западню, смогу ли я переплыть это озеро, как рыба, или перелететь через него, как птица, чтобы освободить вас? После него явился зулусский охотник по имени Ганза, помощник Мавово, и завел ту же самую песню. Мол, нельзя без оружия отправляться в страну дьяволов, там я погибну и брошу его и других зулусов на произвол судьбы. Я так же выразил согласие с его опасениями, но пояснил: раз Догита настаивает на путешествии, оно состоится. — Так давай убьем Догиту или хотя бы свяжем. Хватит с нас его безумных выходок! — любезно предложил Ганза, и дальше я слушать не пожелал. Наконец явился Сэм. — Мистер Квотермейн, прежде чем вы окунетесь в омут глупости, прошу вас подумать об ответственности перед Богом за нас, ваших слуг, которые подобны овцам, заблудившимся вдали от дома, — изрек он. — Кроме того, если с вами случится беда, вы останетесь должны мне жалованье за два месяца и оно, вероятно, останется неуплаченным. Я вынул из жестяного ящика кожаный мешочек, отсчитал причитающуюся ему сумму и прибавил аванс за три месяца. К моему удивлению, Сэм заплакал. — Сэр, мне не нужны деньги! Я только хотел сказать, что переживаю, как бы вас не убили эти понго. Я очень привязан к вам, сэр, но, увы, боюсь отправиться в страну понго и погибнуть вместе с вами. Таким создал меня Бог. Но я прошу вас, мистер Квотермейн, не ходите туда, потому что, повторяю, я очень привязан к вам… — Верю тебе, дружище, — ответил я ему, — я сам боюсь погибнуть, а храбрюсь лишь потому, что так велит долг. Однако надеюсь, что все окончится благополучно. А сейчас я отдам тебе, Сэм, на хранение этот ящик. В нем полно денег и золота. Если с нами случится беда, переправь его в Дурбан. — Ох, мистер Квотермейн! — воскликнул он. — Своим доверием вы оказываете мне большую честь, особенно после того, как я был в тюрьме за… растрату при смягчающих вину обстоятельствах. Я скажу вам, мистер Квотермейн, хоть я и трус, но скорее умру, нежели позволю кому-нибудь коснуться этого ящика. — Я верю тебе, Сэм, — сказал я. — Но надеюсь, что, опасности вопреки, никто из нас не погибнет. Наконец настало утро, и мы, вшестером, отправились к лодке, которую вывели в открытый канал. Здесь Комба и его товарищи подвергли нас сущему таможенному досмотру. Они, очевидно, опасались, что мы тайно провезем огнестрельное оружие. — Разве ты не знаешь, как выглядят ружья? — гневно осведомился я. — Разве ты видишь у нас в руках хоть одно из них? Кроме того, я даю тебе честное слово, что при нас их нет. Комба учтиво поклонился и сказал, что в багаже у нас могут быть маленькие ружья — он имел в виду пистолеты. Доверчивостью он не отличался. — Распакуй багаж, — велел я Хансу, и тот повиновался с подозрительной готовностью. Откуда в скрытном и коварном Хансе такая покладистость? Он раскатал свое одеяло, внутри которого оказалась коллекция самых разнообразных предметов. Я помню грязнущие штаны, мятую жестяную кружку, деревянную ложку, какими едят кафры, бутылку с непонятной смесью, высушенные коренья и другие туземные лекарства, старую трубку, подаренную мной, и огромную связку желтого листового табака, который мазиту и понго разводят в большом количестве. — Ханс, зачем тебе столько табака? — спросил я. — Для нас, троих черных людей, баас. Мы будем его курить, нюхать и жевать. Вдруг там, куда мы направляемся, окажется мало еды, а на табаке можно продержаться много дней. Он и заснуть помогает… — Ох, довольно! — сказал я, опасаясь, как бы Ханс не уподобился сэру Уолтеру Рэли[314] и не устроил лекцию о целебных свойствах табака. — Желтому человеку незачем брать это растение в нашу страну, — вмешался Комба. — У нас оно растет в изобилии. Зачем обременять себя лишней ношей? Он лениво потянулся к табачным листьям, по-видимому чтобы их проверить. В этот момент его внимание отвлек Мавово, нарочно или случайно, сказать не берусь. Мавово развязал свой узел, и Комба принялся его осматривать. Ханс же с удивительной быстротой скатал свое одеяло. Менее чем через минуту оно, перехваченное ремнями, уже висело у Ханса за спиной. Во мне снова проснулись подозрения, но тут Брат Джон и Комба начали спорить из-за сачка — понго принял его за ружье или за магическое приспособление. После этого вспыхнула перепалка из-за простой садовой лопатки, которую хотел взять с собой Стивен. Комба спросил, зачем она, и Стивен через Брата Джона ответил, что для выкапывания цветов. — Цветов! — воскликнул Комба. — Один из наших богов — Цветок. Не задумал ли белый господин выкопать нашего бога? Конечно, именно это Стивен и задумал. Спор разгорелся настолько, что я объявил: если наш багаж будут осматривать с такой подозрительностью, то, может, нам лучше отказаться от путешествия в страну понго. — Мы дали слово, что не возьмем с собой огнестрельного оружия, — с достоинством напомнил я. — Этого достаточно, о Комба! Тогда Комба, посоветовавшись с товарищами, оставил нас в покое. Очевидно, ему очень хотелось, чтобы мы посетили страну понго. Наконец мы отплыли. Мы, трое белых и наши слуги, расположились на корме, на подстилках из травы. Комба и его люди заняли места на носу. Мощными взмахами широких весел гребцы погнали лодку по каналу, проложенному гиппопотамами через густые камышовые заросли, откуда с громкими криками разлетались утки и прочие птицы. Четверть часа спустя мы выбрались из заросших отмелей на глубоководье. Тогда в центре лодки поставили высокий шест-мачту и подняли квадратный парус из плотной циновки. Утренний ветер с берега расправил его и понес судно со скоростью не менее восьми миль в час. Дымка понемногу застилала берег, но флаг, который мы водрузили на холме, еще долго виднелся вдали, постепенно превращаясь в крохотную точку. И вот он исчез. Таял и мой оптимизм, а когда флаг растворился в дымке, я окончательно пал духом. «Снова впутался ты, Аллан, в глупую историю, — сказал я себе. — Хотелось бы знать, сколько еще таких историй суждено тебе пережить». Очевидно, у моих спутников на душе тоже скребли кошки. Брат Джон пристально смотрел на горизонт и шевелил губами, словно читая молитву. Подавленным казался даже Стивен. Джерри спал, как свойственно туземцам, когда тепло и делать нечего. Мавово погрузился в размышления. Я подумал, не советуется ли он снова со своей змеей, но не спросил. После несостоявшейся казни я побаивался этого странного пресмыкающегося. Еще предскажет нам скорую гибель, я ведь поверю. Что касается Ханса, он казался взволнованным и яростно рылся в карманах старого вельветового жилета, в котором, судя по фасону, много лет назад красовался какой-нибудь английский егерь. — Три! — донеслось до меня его бормотание. — Клянусь духом своего деда, их осталось только три! — Чего именно осталось три? — спросил я его по-голландски. — Три оберега, баас, а должно быть двадцать четыре. Остальные вывалились в дыру, которую сам дьявол проделал в этой гнилой материи. Теперь нас не заморят голодом, не застрелят, не утопят, по крайней мере меня, но остается еще двадцать одно несчастье, ведь обереги от них потеряны. Теперь… — Перестань молоть ерунду! — прервал я его и снова погрузился в свои печальные думы. Я задремал и проснулся за полдень. Ветер стихал. Он держался, пока мы ели свои припасы, после чего наступил штиль. Тогда понго взялись за весла. Я подумал, что стоит научиться грести, и мы предложили свою помощь. Нам выдали шесть весел, и Комба, с присущим ему высокомерием, пояснил, как с ними обращаться. Вначале дело не клеилось, но через несколько часов практики появился результат. К концу переправы я понял, что, если потребуется, мы сможем управлять лодкой. К трем пополудни береговая линия острова (остров это или нет, я так и не выяснил) просматривалась довольно четко, а гору, удаленную от нее на несколько миль, мы увидели еще раньше. Очертания пика я рассмотрел в бинокль в самом начале переправы. Около пяти вечера лодка вошла в глубокий залив, окаймленный лесом, возделанными полями и обычными для Африки деревеньками. По краю полей росли невысокие деревья, и я понял, что некогда, вероятно в прошлом веке, земли здесь обрабатывали гораздо больше. Я спросил Комбу, отчего произошли такие перемены, и он ответил мне загадочной фразой, поразившей меня настолько, что я дословно занес ее в записную книжку: «Когда умирает человек, умирает и хлеб. Человек есть хлеб, и хлеб есть человек». Чуть ниже я приписал: «Сравни с поговоркой «Хлеб — всему голова»». Больше я ничего не выпытал. Очевидно, Комба намекал на сокращение численности племени понго, и обсуждать это ему не хотелось. Через несколько миль залив заметно сузился, и лодка подошла к устью реки. На ее берегах, соединенных примитивными мостами, и стоял город Рика — большие хижины из глины, точнее, как впоследствии выяснилось, из озерного ила с рубленой соломой или травой, крытые пальмовыми листьями. Солнце клонилось к закату, когда мы подплыли к пристани, укрепленной вбитыми в илистое дно сваями. К ним было привязано множество лодок. За нашим приближением явно следили: едва нос лодки ткнулся в сваю, на берегу заиграл рог. На звук из хижин высыпали люди и помогли нам причалить. Лицом и сложением они очень напоминали Комбу и его товарищей. Казалось, это разновозрастные члены одной семьи. По сути, так оно и было из-за частых браков между родственниками. В наружности высоких, бесстрастных, облаченных в белое людей ощущалось нечто недоброе, неестественное и даже нечеловеческое. Типичная для африканцев веселость в них отсутствовала совершенно. Понго не кричали, не болтали, не смеялись. Они не толпились вокруг, пытаясь потрогать гостей и потеребить чужеземное платье. Они не выказывали ни страха, ни удивления. Они молчали и смотрели на нас с пугающим безразличием, словно прибытие троих белых людей считали рядовым явлением. Не впечатлил понго и облик чужестранцев. Правда, кое-кто улыбался, глядя на белую бороду Брата Джона и на мои торчащие волосы, показывал на них тонким пальцем или древком большого копья. Я заметил, что острием копья понго для этой цели не пользовались, вероятно чтобы мы не расценили жест как враждебный. Как ни унизительно, но нужно прибавить, что Ханс единственный смог заинтересовать понго. Его безобразное сморщенное лицо вызывало у них острое любопытство — может, казалось диковинным, а может, у столь пристального внимания была иная причина, которую читатель со временем угадает. По крайней мере, я слышал, как один из понго показал Комбе на Ханса и спросил: кто этот человек-обезьяна, бог или всего лишь предводитель прибывших чужеземцев? Ханс впервые слышал подобный комплимент и был весьма польщен. Остальным нашим спутникам сравнение лестным не показалось. Разгневанный Мавово пригрозил Хансу: мол, еще одна любезность, и он поколотит готтентота прямо на глазах у понго, чтобы его больше не путали ни с богом, ни с предводителем. — Не грози мне, зулусский мясник, я гожусь на любую из этих ролей! — негодующе воскликнул Ханс и с характерным готтентотским хихиканьем прибавил: — Хотя прежде, чем будет съедено все мясо, то есть еще до конца нашего странствия, вы увидите меня и тем и другим. Смысл этого замечания мы поняли не сразу. Когда мы вылезли из лодки и собрали свой багаж, Комба повел нас по широкой чистой улице. По обеим сторонам ее стояли большие хижины, о которых я упоминал. При каждой хижине имелся огороженный сад, что для Африки редкость. Благодаря этому малонаселенный город Рика занимал довольно большое пространство. Кстати, ни стена, ни другие укрепления город не окружали — его жители не боялись нападения, их надежно защищало озеро. Главной особенностью этого места была тишина. По-видимому, понго не держали ни собак, ни домашней птицы; лая или кудахтанья я ни разу не слышал. Мелкий скот имелся в изобилии, но пасли его за городом, там было безопасно, а молоко и мясо доставляли жителям по мере надобности. Взглянуть на нас собралось немало горожан, но они не толпились вокруг, а небольшими группами стояли у ворот своих домов. Семьи состояли в основном из одного мужчины и одной или нескольких женщин. Детей я видел лишь изредка, максимум по трое на одно семейство, а вот бездетных семей — немало. Женщины и дети были в длинных белых нарядах — еще одна особенность, указывающая, что понго не относились к африканским дикарям. Сегодня, спустя много лет, город Рика так и стоит у меня перед глазами — молчаливые люди, широкие чистые улицы, беленые хижины с бурыми крышами, ухоженные сады, дымок костров, поднимающийся прямо в неподвижном воздухе; изящные пальмы и другие тропические деревья, а далеко на севере — округлая громада лесистой горы, называемой Домом богов. Город часто является мне во сне и наяву, когда сильный запах напоминает дурманящий аромат крупных воронкообразных цветков, которыми обильно были усыпаны широколистые кустарники, что росли почти в каждом саду. По улице мы дошли до высокой живой изгороди, усеянной алыми цветками. Догорел последний луч заката, быстро смеркалось. Комба открыл ворота, и нашему взору предстало зрелище, которое никому из нас не забыть… За изгородью был участок площадью около акра, в глубине стояли две большие хижины, окруженные обычным садом. Перед хижинами, шагах в пятнадцати от ворот, высилось строение вроде навеса. Пятьдесят футов длиной, тридцать шириной, он состоял из крыши, поддерживаемой резными деревянными столбами. В промежутках между ними висели циновки из травы. Большинство из них опустили, словно шторы, но четыре, как раз против ворот, были подняты. Под навесом собралось человек пятьдесят в белых одеждах и причудливых колпаках. Они устроились с трех сторон огромного костра, разведенного в яме, и пели заунывную песнь. С четвертой стороны, напротив ворот, спиной к нам стоял мужчина с простертыми руками. Он услышал наши шаги и отступил влево. На нас упал яркий свет пламени. Тогда мы увидели жаровню — железную решетку, на которой лежало нечто ужасное. — Боже, там женщина! — вскрикнул Стивен, немного обогнавший нас. В следующую секунду циновки опустились, скрыв от нас жуткое зрелище, и пение прекратилось.Глава 14
КЛЯТВА КАЛУБИ
— Тише! Молчите! — прошептал я, и все поняли меня, если даже не разобрали слов. При виде этой адской картины мне стало дурно, и я едва овладел собой. В паре шагов впереди нас стоял Комба. Его плечи подрагивали — он явно был смущен, чувствуя, что допустил промах. Наконец он замер, потом повернулся ко мне и спросил, не заметили ли мы чего-нибудь. — Да, — равнодушно ответил я, — мы видели людей вокруг огня, и больше ничего. Он пытливо заглядывал нам в глаза, но ничего в них не прочел. Взошла полная луна, но в ту секунду, на наше счастье, она спряталась за тучу. Комба вздохнул с облегчением и сказал: — По нашему обычаю, в ночи, когда меняется луна, Калуби и старейшины жарят овцу, потом вместе пируют. Следуйте за мной, белые господа. Он повел нас мимо навеса (на него мы даже не взглянули) и через сад к двум хижинам, о которых я уже упоминал. Здесь он хлопнул в ладоши. Неизвестно откуда появилась женщина, которой Комба что-то шепнул. Она ушла и вскоре возвратилась с четырьмя или пятью подругами, несшими глиняные светильники, наполненные маслом, с фитилем из пальмовых волокон. Их свет озарил хижины, очень чистые и удобные, с деревянными стульями и низкими столиками, ножки которых были вырезаны в виде ног антилопы. В глубине каждого помещения притаился деревянный топчан, застеленный циновками и тюфяками. — Здесь вы спокойно отдохнете, — пообещал Комба. — Ведь вы, белые господа, почетные гости народа понго. Сейчас вам принесут еду. — (При этом слове я содрогнулся.) — А когда утолите голод, можете навестить Калуби и его советников в Доме празднеств и побеседовать с ними перед сном. Если вам что-нибудь понадобится, ударьте палкой в этот чан. — Комба указал на медный котел, который стоял в саду у хижин, недалеко от места, где женщины уже разводили огонь. — На звон придет служанка и сделает все, что нужно. Вот ваши вещи; ничего не пропало. Вот вода для умывания. А теперь я должен идти и доложить обо всем Калуби. Комба учтиво поклонился и ушел. За ним последовали прекрасные молчуньи, вероятно, чтобы принести нам ужин. Наконец мы остались одни. — Клянусь своей теткой, я видел, как они жарят ту леди! — воскликнул Стивен, обмахиваясь носовым платком. — Я часто слышал о людоедах, взять хотя бы этих невольников… но видеть своими глазами… брр… это ужасно! — Если даже у вас есть тетя, поминать ее сейчас без толку! Чего вы ждали, когда настаивали на поездке в этот ад? — мрачно поинтересовался я. — Не знаю, старина. У меня правило: не беспокоиться о том, что меня ожидает. Вот почему мы с моим бедным отцом не ладили. Я цитировал Евангелие: «…Довольно для каждого дня своей заботы»[315], пока отец не велел принести семейную Библию и в гневе не зачеркнул те строки красными чернилами. Но неужели вы думаете, что нас заставят уподобиться святому Лаврентию[316] на решетке? — Конечно думаю, — ответил я, — а раз старый Бабемба предупреждал вас об этом, то и жаловаться не след. — Ну уж нет, я могу и буду жаловаться. И вы, Брат Джон, тоже будете, правда? Брат Джон вырвался из плена своих мыслей и погладил свою длинную бороду. — Шла бы речь о подвиге мученичества, вроде того, что совершил святой, которого вы упомянули, я не возражал бы, по крайней мере теоретически, а вот как мирянину мне совершенно не хочется, чтобы меня жарили и ели эти мерзкие дикари. Впрочем, я не вижу оснований предполагать, что мы падем жертвами местного обычая. Будучи в весьма подавленном настроении, я хотел возразить, но тут в дверях хижины показалась голова Ханса, который объявил: — Несут ужин, баас, очень хороший ужин! Мы вышли в сад, где высокие бесстрастные женщины расставляли на земле деревянные миски, содержимое которых мы теперь видели, благо луна вышла из-за туч. Здесь было мясо под соусом: похоже, баранина, а впрочем, кто знает? Овощи тоже принесли — целое блюдо жареных кукурузных початков и вареную тыкву. Еще помню большие чаши кислого молока. Глядя на эти яства, я вдруг проникся идеями вегетарианства, которые мне постоянно внушал Брат Джон. — Вы правы, утверждая, что в жарком климате овощи полезнее всего, — нервно сказал ему я. — Попробую несколько дней питаться исключительно постной пищей. С этими словами я, отбросив условности, схватил четыре початка и срезал ножом верхушку вареной тыквы. Она оказалась очень вкусной. Верхушку я выбрал, потому что она не касалась блюда — кому известно, что в него накладывали и как часто мыли? Видимо, идеями вегетарианства утешался и Стивен. Кукурузу с тыквой предпочел и он, и Мавово, и даже завзятый мясоед Ханс. Только простак Джерри отведал содержимое египетских (точнее, африканских) котлов с мясом и сказал, что все очень вкусно. По-моему, Джерри прошел через ворота последним и не видел, что лежало на решетке. Долго ли, коротко ли, — мы окончили свой нехитрый ужин. Голодного пища вроде тыквы быстро не насытит, поэтому жвачные животные, казалось бы, едят непрестанно. Овощи мы запили водой, а густое молоко оставили туземцам. — Аллан, у решетки спиной к нам стоял Калуби, — тихо сказал мне Брат Джон, когда мы закурили трубки. — При свете пламени я узнал его по отсутствию пальца на поднятой руке. — Что ж, если мы хотим приблизиться к цели, нужно заручиться его поддержкой, — отозвался я. — Но вот вопрос: удастся ли нам пойти дальше… этой решетки? Я убежден, что нас заманили сюда для того, чтобы съесть. Прежде чем Брат Джон ответил, явился Комба и, осведомившись, хорошо ли мы поели, сообщил, что Калуби и старейшины готовы нас принять. Мы взяли с собой приготовленные загодя дары и отправились к Калуби — все, за исключением Джерри, которого оставили сторожить наши вещи. Комба повел нас к Дому празднеств. Огонь в яме уже догорел или его потушили, решетку с ее ужасным грузом убрали, циновки между столбами подняли, так что навес теперь освещала луна. Восемь седовласых старейшин восседали лицом к воротам на деревянных табуретах, составленных полукругом, в самом центре — вождь. В жизни я не видал таких нервных людей, как высокий худой Калуби. Лицо у него постоянно дергалось, руки безостановочно двигались, в глазах, насколько я мог разглядеть в свете луны, плескался ужас. Калуби поднялся и отвесил поклон, а его советники остались сидеть, но долго хлопали нам. Видимо, аплодисменты означали у понго приветствие. Мы поклонились в ответ и сели на заранее поставленные для нас табуреты: Брат Джон в центре, мы со Стивеном по краям. Мавово и Ханс встали позади нас; последний опирался на большую бамбуковую палку. После этого Калуби приказал Комбе, к которому обращался официально, называя его не иначе как Признанный богами и будущий Калуби (мне почудилось, что он вздрагивает, произнося эти слова), доложить о выполненном задании и объяснить, по какой причине белые господа осчастливили понго своим появлением. Комба повиновался. Он коротко и ясно рассказал о путешествии в город Беза, при этом обращаясь к вождю со всевозможным почтением. Комба величал его и Всевластным повелителем, и Владыкой, чьи ноги лобзает его раб, и Тем, чьи глаза — огонь, а язык — острый нож, и Тем, по мановению которого умирают люди, и Устроителем жертвоприношений, и Первым, кто вкушает священное мясо, и Любимцем богов (тут Калуби съежился, как от удара копьем), и Вторым после святейшего и древнейшего Мотомбо, Посланца и Глашатая небес, и так далее. Комба поведал, как по велению Мотомбо пригласил в страну понго белых господ, которые пришли сюда в качестве послов мазиту, так как никто из этого племени не отозвался на призыв короля Бауси. Он, Комба, опять же по велению Мотомбо, поставил белым людям условие: не брать с собой магического оружия, изрыгающего дым и смерть. При этом известии на нервном лице Калуби отразилось сильное волнение, которое наверняка заметил и Комба. Однако он ничего не сказал и после небольшой паузы продолжил свой доклад. Он заверил, что такого оружия при нас нет, ибо он и его товарищи, не удовлетворившись нашими гарантиями, обыскали наш багаж на границе страны мазиту. Поэтому Комба не видел причин опасаться, что мы приведем в исполнение древнее пророчество о том, что, когда в стране понго грянет ружейный выстрел, боги покинут ее и народ понго перестанет существовать. Окончив свою речь, Комба скромно сел позади нас. Потом Калуби, выразив формальное согласие считать нас послами Бауси, короля мазиту, долго говорил о пользе прочного мира между двумя народами и изложил свои условия, которые, по-видимому, подготовил заранее. Подробности опускаю, ведь мир так и не заключили, да и сомневаюсь, что понго действительно имели эти намерения. Скажу лишь, что речь шла о заключении браков, свободной торговле между двумя странами, кровном братстве и прочих вещах, о которых я уже забыл. Предполагалось скрепить договор двойными брачными узами: Бауси возьмет в жены дочь Калуби, а тот — дочь короля. Мы молча выслушали Калуби и сделали вид, что обсуждаем его предложение. Потом я от имени Брата Джона (которого я представил слишком важной персоной, чтобы он говорил сам) сказал, что условия Калуби кажутся нам обоснованными и справедливыми и по возвращении в страну мазиту мы с удовольствием изложим их Бауси. Калуби остался доволен моим ответом, но заметил, что условия перемирия нужно передать Мотомбо, без одобрения которого ни один договор у понго не считается законным. Он предложил нам посетить «его святейшество», выступив завтра через три часа после восхода солнца, ибо от города Рика до жилища Мотомбо целый день пути. Мы посовещались и ответили, что дорожим своим временем, но понимаем, что Мотомбо стар и сам сюда не явится, поэтому готовы уступить и посетить его сами. Я добавил, что мы устали и хотим отдохнуть. Потом Калуби были преподнесены дары, которые он принял благосклонно, пообещав одарить нас в ответ, перед тем как мы покинем страну понго. После этого Калуби взял маленькую палочку и сломал ее в знак того, что аудиенция окончена. Мы пожелали спокойной ночи ему и его советникам и удалились в свои хижины. В пояснение дальнейшего я должен прибавить, что теперь нас провожали два советника, а не Комба. Когда мы поднялись с мест, чтобы проститься с Калуби, я заметил, что Комбы на собрании нет. Когда он ушел, сказать не могу, никто из нас не видел этого, поскольку он сидел позади. — Ну и как все это понимать? — спросил я, когда мы закрыли дверь. Брат Джон молча покачал головой; в те дни он пребывал в мире грез. За него ответил Стивен: — Вздор! Ерунда! Не знаю, что на уме у этих людоедов, но точно не мир с мазиту! — Согласен с вами, — сказал я. — Если бы понго всерьез стремились к миру, то больше торговались бы, настаивали бы на более выгодных условиях, на выдаче заложников и все такое прочее. Кроме того, они заранее получили бы согласие Мотомбо. Ясно, что хозяин здесь он, а Калуби лишь его орудие. Если бы понго хотели мира, первым высказался бы Мотомбо. Кстати, неизвестно, существует ли он в действительности. Считаю, что самое разумное — забыть об этом волхве и завтра же утром бежать отсюда к мазиту на первой попавшейся лодке. — Я намерен посетить Мотомбо, — решительно заявил Брат Джон. — Я тоже, — отозвался Стивен. — Бесполезно спорить еще раз. — Лучше скажите: бесполезно спорить с сумасшедшими! — разозлился я. — Поэтому давайте лучше спать. Вероятно, это наш последний сон. — Ладно-ладно, — буркнул Стивен, снял куртку и свернул пополам, чтобы положить себе под голову. — Посторонитесь-ка, я встряхну одеяло. Оно трухой засыпано, — прибавил он. — Трухой? — с подозрением переспросил я. — Зря вы поторопились и не показали мне одеяло. Прежде оно было чистым. — Должно быть, по крыше бегают крысы, — беспечно отмахнулся Стивен. Не удовлетворившись этим объяснением, я при слабом свете ламп начал осматривать потолок и глиняные стены хижины, расписанные узором из завитков. Тут в дверь постучали, и я, забыв о трухе, открыл ее. В хижину заглянул Ханс. — Один из этих дьявольских людоедов хочет поговорить с баасом. Мавово не пускает его сюда. — Впусти, — велел я. В такой ситуации бесстрашие казалось мне наилучшей тактикой. — Но пока он здесь, глаз с него не спускай. Ханс что-то шепнул, обернувшись через плечо, и в следующий момент в хижину вошел, точнее, влетел высокий мужчина, с головы до ног закутанный в белое, отчего был похож на призрака. Вошедший плотно прикрыл за собой дверь. — Кто ты? — спросил я. Вместо ответа он открыл лицо, и я увидел, что перед нами сам Калуби. — Я хочу поговорить наедине с белым господином Догитой, — хрипло сказал он. — Прямо сейчас, ибо потом такой возможности не будет. — Как поживаешь, мой друг Калуби? — спросил Брат Джон, поднявшись. — Вижу, твоя рана зажила. — Да-да, однако я хочу поговорить с тобой наедине. — Нет, — ответил Брат Джон, — если ты хочешь что-нибудь сказать, ты должен говорить перед всеми или не говорить вообще. Я и эти господа — единое целое. То, что знаю я, должны знать и они. — Могу ли я довериться им? — пробормотал Калуби. — Так же как и мне. Поэтому либо говори, либо уходи. Но наш разговор могут подслушать… — Нет, Догита, здесь толстые стены. На крыше никого нет, я проверил. Никто не сможет влезть на нее бесшумно, к тому же этого смельчака заметят ваши охранники у двери. Нашу беседу услышат разве что боги. — Тогда испытаем богов, Калуби. Говори смело, мои братья знают твою историю. — О белые господа, я в ужасном положении, — начал Калуби, вращая глазами, как загнанный зверь. — С тех пор как мы расстались, Догита, я должен был посетить Белого дьявола, живущего в горном лесу, и разбросать там священные семена. Но я притворился больным, поэтому Комба, будущий Калуби, Признанный богами, взял на себя эту обязанность и вернулся невредимым. Завтра полнолуние, и я должен снова посетить страшное божество и разбросать семена. Дьявол убьет меня, о Догита, ведь я уже пережил одно нападение! Он наверняка одолеет меня, если я не смогу уничтожить его. Вместо меня будет царствовать Комба, и он, как вы догадываетесь, обречет вас на горячую смерть — принесет в жертву богам, чтобы у женщин понго снова рождалось много детей. Да-да, если мы не убьем Белого дьявола, живущего в лесу, то все погибнем! Калуби замолчал. Он весь дрожал, притом что с него лился пот. — Все это хорошо, — сказал Брат Джон. — Пусть нам удастся победить дьявола, но как это поможет нам избежать гнева Мотомбо и твоего племени? Они ведь растерзают нас за оскорбление святыни. — Нет, Догита. Если умрет божество, умрет и Мотомбо. Это издревле известно. Поэтому Мотомбо оберегает его, словно мать свое дитя. До тех пор пока не отыщется новый Белый дьявол, его место займет Мать Священного цветка, а она милосердна и никому не причиняет зла. Я буду править от ее имени и, конечно, уничтожу своих врагов, особенно этого колдуна Комбу. Тут я услышал слабый звук, похожий на шипение змеи, но он не повторился, и я, ничего не заметив, решил, что мне просто почудилось. — Кроме того, — продолжал Калуби, — я дам вам много золота, даров, каких вы только пожелаете, и невредимыми переправлю в страну ваших друзей мазиту. — Погоди, — вмешался я, — давай разберемся. Джон, пожалуйста, переведите все Стивену. Для начала скажи мне, друг Калуби, что это за божество, о котором ты говоришь? — Это огромная обезьяна, о господин Макумазан, белая то ли от старости, то ли с самого рождения. Она вдвое больше любого из нас и сильнее двадцати мужчин. Гигантская обезьяна может сломать человека пополам, как я ломаю тростинку, или откусить ему голову, как откусила мне палец в знак предостережения. Так она поступает со всеми вождями, надоевшими ей. Сначала она откусывает им палец, но позволяет уйти, потом ломает их, словно тростник, и вместе с ними убивает всех, кого хотят принести в жертву. — Ага, это большая обезьяна! — сказал я. — Так я и думал. Давно это животное считается у вас священным? — Точно не знаю. Испокон веков. Белый дьявол существовал всегда, так же как и Мотомбо, ибо они — одно целое. — Полная ерунда, — сказал я по-английски; потом прибавил: — А что это за Мать Священного цветка? Она тоже существовала всегда и живет там же, где бог-обезьяна? — Нет, господин Макумазан, она смертна, как и все люди. Ей наследуют те, кто может занять ее место. Нынешняя Мать Цветка — белая женщина средних лет, принадлежащая к вашему народу. Когда она умрет, ее место займет дочь, тоже белокожая и очень красивая. После ее смерти найдутся другие белые женщины — возможно, из числа рожденных от черных родителей. — А сколько лет этой дочери? — спросил Брат Джон изменившимся голосом. — Кто ее отец? — Она родилась, Догита, свыше двадцати лет назад, после того как Мать Цветка захватили в плен и привели сюда, в страну понго. Мать Цветка говорила, что отец этой девушки — ее покойный супруг. Брат Джон опустил голову на грудь и закрыл глаза, словно погружаясь в сон. — Живет Мать Цветка на острове посреди озера — на вершине горы, которая окружена водой, — продолжал Калуби. — Жрица не общается с Белым дьяволом, но ее прислужницы временами переплывают озеро, чтобы присмотреть за полем, где вождь разбрасывает семена. Из этих семян вырастает хлеб, который служит пищей божеству. — Ну хоть что-то понятно, — проговорил я. — Теперь изложи нам свой план. Как мы попадем туда, где живет большая обезьяна, и каким образом можно убить ее, раз твой преемник Комба не позволил нам взять с собой огнестрельное оружие? — О господин Макумазан! Пусть зубы Белого дьявола сокрушат мозг Комбы за содеянное им! Пророчество, о котором он говорил тебе, совсем не древнее. Оно появилось в нашей земле не более месяца назад, хотя от Комбы ли оно исходит или от Мотомбо, я не знаю. Никто, кроме меня и нескольких человек в нашем племени, не слыхал о железных трубах, изрыгающих смерть. Откуда же взяться пророчеству? — Я тоже не знаю этого, Калуби. Но ответь мне на мои вопросы. — Ты спрашиваешь, как вы попадете в лес, ибо Белый дьявол живет в лесу, на склоне горы? Устроить это просто, ведь Мотомбо и все племя убеждены, что я заманил вас сюда, дабы принести в жертву, чего они желают по разным причинам. — Калуби выразительно посмотрел на упитанного Стивена. — Как убить божество без железных труб, я не знаю. Но вы великие маги, храбрецы и наверняка сами найдете способ. Тут Брат Джон вырвался из плена грез. — Да, способ мы найдем, — заверил он. — Мы не боимся обезьяны, которую ты называешь божеством. Но сделаем мы это только за плату. Безвозмездно мы не станем убивать это чудовище и спасать тебя от смерти. — За какую плату? — нервно пробормотал Калуби. — Я могу дать вам много женщин, много скота. Но женщины будут вам только обузой, а скот не переправить через озеро. Золото и слоновую кость я вам уже обещал. Больше у меня ничего нет. — В виде платы мы требуем у тебя, о Калуби, белую женщину, именуемую Матерью Священного цветка, и ее дочь. — И Священный цветок вместе с корневищем, — прибавил Стивен, которому я переводил каждую реплику. Услышав эти «скромные» требования, бедный Калуби чуть не сошел с ума. — Вы понимаете, что требуете богов моей страны? — спросил он, почти задыхаясь. — Конечно понимаем, — невозмутимо ответил Брат Джон. — Мы хотим богов твоей страны, ни больше ни меньше. Калуби бросился к двери хижины, но я поймал его за руку и сказал: — Постой, дружище. Ты просишь, чтобы мы ради твоего спасения рискнули жизнью и убили величайшего из богов понго. Взамен мы просим подарить нам остальных богов и перевезти нас с ними через озеро. Ты принимаешь наше предложение или нет? — Нет, — мрачно ответил Калуби, — если соглашусь, то навлеку на свой дух последнее проклятие. О нем даже говорить не хочется: слишком оно ужасно. — А если откажешься, то навлечешь проклятие на свое тело. Через несколько часов тебя загрызет обезьяна, которую ты называешь богом. Да, она загрызет тебя, а потом твой труп зажарят и съедят, устроив ритуальный пир, так? Калуби кивнул и застонал. — Мы только рады твоему отказу, — продолжал я. — Теперь мы избавимся от трудного и опасного дела и вернемся в страну мазиту целыми и невредимыми. — Как вы вернетесь на земли мазиту, о господин Макумазан? Даже если вас не коснутся клыки Белого дьявола, вы обречены на горячую смерть. — Очень просто, Калуби. Мы скажем Комбе, будущему вождю, о кознях, которые ты строишь против вашего бога. Мол, мы отказались слушать тебя. Особых доказательств не потребуется, ведь ты у нас в хижине. Кому придет в голову искать тебя здесь? Пойду-ка я, ударю в чан за дверью. На звук кто-нибудь да придет, хоть теперь и поздно. Стой спокойно! У нас есть ножи, а у наших слуг — копья. — И я шагнул к двери. — Господин, я отдам вам Мать Священного цветка и ее дочь, — сразу пообещал Калуби. — И Священный цветок вместе с корневищем. Постараюсь переправить вас через озеро целыми и невредимыми, клянусь! Только прошу вас, возьмите меня с собой, ведь после этого я не посмею остаться здесь. Проклятие последует за мной, но лучше погибнуть от проклятия в угодный судьбе день, чем от клыков Белого дьявола завтра. Ох, зачем я родился на свет? Зачем родился? — Калуби зарыдал. — Этот вопрос, о Калуби, задавали многие, но никто не получил на него ответа, хотя, вероятно, ответ все-таки существует, — участливо проговорил я. Я искренне жалел этого несчастного человека, заблудившегося в аду суеверия; владыку, который вырвется из сетей ненавистной власти, лишь угодив в объятия ужасной смерти; жреца, обреченного погибнуть от руки своего божества, как погибли его предшественники, как погибнут его преемники. — Впрочем, поступил ты мудро, клятву твою мы запомним, — продолжил я. — Пока ты верен нам, мы будем молчать, а если изменишь своему слову… Мы не так уж беззащитны, в ответ мы предадим тебя, и ты погибнешь вместо нас. Ну что, договорились? — Договорились, белый господин! Но не брани меня, если дела примут скверный оборот. Богам ведомо все, они упиваются людским горем, смеются над уговорами и мучают тех, кто их терзает. Но будь что будет. Я поклянусь вам в верности нерушимой клятвой. — Калуби вытащил из-за пояса нож и проколол себе кончик языка; из ранки на пол капнула кровь. — Если нарушу свою клятву, — начал он, — пусть мое тело похолодеет, как холодеет эта кровь, пусть оно сгниет, как сгниет эта кровь! Пусть мой дух затеряется в мире призраков и исчезнет в нем, как исчезнет в воздухе и в прахе земном эта кровь! Ужасная сцена потрясла меня до глубины души, уже тогда я почувствовал, что этому бедняге от судьбы не уйти. Мы промолчали, а мгновением позже Калуби закрыл лицо белой тканью и выскользнул из хижины. — Боюсь, с этим дерганым парнем мы играем не вполне чисто, — заметил Стивен, и в его голосе прозвучала нота раскаяния. — Белая женщина и ее дочь… — пробормотал Брат Джон. — Да, — размышлял вслух Стивен, — это можно оправдать желанием вырвать из ада двух белых женщин. А желание достать орхидею можно оправдать желанием не разлучать бедняжек с цветком. Хорошо, что я об этом подумал, теперь на душе спокойнее. — Надеюсь, спокойно вам будет и на горячей железной решетке. Мы втроем на ней прекрасно уместимся, — съязвил я. — А теперь попрошу тишины, я спать хочу. К сожалению, должен прибавить, что это желание не осуществилось. Но если я не мог уснуть, то думать мне ничто не мешало. И передумал я многое. Сперва я размышлял о понго и их богах. Странные люди, странный пантеон… Этот вопрос я скоро оставил, ибо он одинаково касался дюжины других темных культов, исповедуемых на обширном Африканском континенте. На сей вопрос не ответить никому, и уж точно не приверженцам суеверий. Ответ следует искать в тайниках человеческой души, которая видит вокруг себя только смерть, ужас и зло. Олицетворением зла в том или ином причудливом виде и являются боги или, вернее, демоны, которых можно умилостивить жертвой. Идолы или животные сами по себе редко становятся объектами поклонения. Чаще всего воображение невежественного дикаря рисует существо или предмет, в которые вселились божество или демон. Обиталище духа и признается фетишем, при этом разные духи обладают различными свойствами. Так, большая обезьяна, вероятно, олицетворяет Сатану, кровавого князя тьмы. Священный цветок — символ плодородия, даров земли, которыми питается человек. Мать Цветка — воплощенное милосердие, поэтому она всенепременно белая и живет не в темном лесу, а на горе, ближе к свету. Либо она африканская сестра Цереры, римской богини — хранительницы посевов, которые символизирует прекрасный цветок. Кому это ведомо? Точно не мне. На такиевопросы я не мог ответить ни тогда, ни впоследствии. А вот историю понго я представляю ясно. Последние потомки высшей расы, они вымирали, вырождались из-за родственных браков. Полагаю, что изначально они людоедствовали изредка или по религиозной причине. Потом неурожай и голод повысили роль религии, и страшный обряд укоренился. От человечины ни один африканский каннибал не откажется! Не исключено, что Калуби пригласил нас сюда в безумной надежде спастись от дьявола, которому служит, но Комба и старейшины под влиянием пророка, именуемого Мотомбо, явно собирались убить нас и съесть на жертвенном пиру. Как нам без оружия избежать страшной участи, я не представлял. Если только нас не ожидает чудесное спасение… Пока нужно идти вперед, идти до конца, каким бы он ни был. Брат Джон, или преподобный Джон Эверсли, как его зовут по-настоящему, твердо верил, что на вершине горы живет его супруга, пропавшая более двадцати лет назад, а вторая белая женщина — его дочь, о существовании которой он, как ни странно, услышал лишь сегодня вечером. Прав он или нет, не знаю. Так или иначе, в страшной африканской глуши томятся две белые женщины, и наша цель ясна: нужно спасти их во что бы то ни стало, невзирая на смертельную опасность. Вспомнились чьи-то благородные слова:Глава 15
МОТОМБО
Потом я снова заснул и спал, пока меня не разбудил яркий солнечный луч, светивший прямо в глаза. «Откуда он?» — с удивлением подумал я, ведь в хижине не было окон. Проследив за направлением луча, я понял, что свет льется из дырки, пробитой футах в пяти от пола в глиняной стене. Я поднялся и осмотрел отверстие. Проделали его недавно: глина по краям еще не побелела. Реши кто-нибудь подслушать говорившего в хижине, такое отверстие было бы кстати. Я вышел наружу и продолжил осмотр. Упомянутая стена находилась в четырех футах от восточной части камышовой изгороди, на которой следов не было, зато с внешней стороны стены у основания лежали хлопья побелки, осыпавшиеся совсем недавно. Я позвал Ханса и спросил его, хорошо ли он сторожил хижину, пока у нас был гость. Ханс заверил, что в то время поблизости никого не было, мол, он готов в этом поклясться, так как постоянно ходил вокруг нее. Немного успокоившись, я вернулся в хижину и разбудил остальных. Я ничего не сказал им, так как считал излишним тревожить их понапрасну. Через несколько минут высокие молчаливые женщины принесли нам горячей воды. Странно получать горячую воду в таком месте из рук таких «горничных», но факт оставался фактом. Замечу, что понго, подобно зулусам, отличались чистоплотностью, хотя умывались ли они горячей водой, не уверен. Полчаса спустя нам подали завтрак, состоявший главным образом из зажаренного целиком козленка, поэтому мы ели без опаски. Потом явился величественный Комба, поздоровался, справился о нашем здоровье и осведомился, готовы ли мы отправиться к Мотомбо, который, по его словам, ожидает нас с нетерпением. Я спросил, откуда Комбе это известно, ведь мы решили посетить Мотомбо только накануне вечером, а до его жилища целый день пути. В ответ Комба лишь улыбнулся. Итак, мы отправились к Мотомбо, захватив с собой весь багаж, который после раздачи подарков заметно полегчал. Главная улица города Рика вела к северным воротам, и через пять минут мы были уже там. Нас поджидал сам Калуби с конвоем из тридцати воинов, вооруженных копьями — у понго, как я заметил, в отличие от мазиту, нет луков и стрел. Калуби громко объявил, что окажет нам особую честь — проводит к священному жилищу Мотомбо. Мы вежливо попросили его не беспокоиться, но Калуби раздраженно велел нам помалкивать. Возможно, гнев его был напускным, однако склоняюсь к мысли, что злился вождь по-настоящему. При известных читателю обстоятельствах это неудивительно. Как бы то ни было, примерно через час злость Калуби вылилась в жестокий поступок, показывающий, сколь безгранична власть этого человека в мирских делах. Через кустарник мы прошли к саду, окруженному невысоким забором, через который пробрались коровы — некрупные, наподобие джерсейской породы — и поедали урожай. Выяснилось, что и сад, и стадо принадлежат Калуби. Вождя страшно возмутил нанесенный коровами ущерб. — Где пастух? — закричал он. Начались поиски. Мальчонку-пастуха вскоре обнаружили спящим в кустах и приволокли к Калуби. Тот показал недотепе сперва на коров, потом на сломанный забор и разоренный сад. Паренек принялся каяться и просить пощады. — Убейте его! — велел Калуби. Тогда пастушок обнял его колени и, рыдая от страха, стал целовать ему ноги. Вождь безуспешно пытался отбиться, затем схватил большое копье и оборвал не только причитания, но и жизнь бедняги. Свита Калуби зааплодировала, потом четыре воина подняли тело несчастного, понесли в город Рика, и я понял, кого нынче вечером поджарят на решетке. Брат Джон возмущенно наблюдал за происходящим, борода у него топорщилась, как шерсть разъяренного кота. — Негодяй! — прошипел Стивен, замахнулся и сбил бы Калуби с ног, если бы я не помешал. — О Калуби, неужели тебе неизвестно, что за кровь платят кровью? — осведомился Брат Джон. — На смертном одре ты непременно вспомнишь эту смерть. — Ты хочешь околдовать меня, белый человек? — спросил Калуби, свирепо на него глядя. — Если так… Он снова поднял копье и… замер в нерешительности. Брат Джон не шелохнулся. — О Догита, довольно попирать наши обычаи! — закричал Комба, встав между ними. — Перед тобой Калуби, владыка жизни и смерти! Брат Джон хотел ответить, но я сказал ему по-английски: — Ради бога, молчите, не то разделите участь пастушка! Мы же во власти этого человека! Брат Джон опомнился, отошел в сторону, и вскоре мы двинулись дальше как ни в чем не бывало. С того момента мы перестали беспокоиться о Калуби и его дальнейшей судьбе. Сейчас, переосмысливая случившееся, я могу оправдать вождя: несчастный обезумел от страха перед смертью и не ведал, что творит. Мы целый день шли по плодородной равнине — судя по ряду признаков, некогда все эти земли были возделаны. Теперь же хлебные поля попадались редко, свободное пространство зарастало бамбуком. Солнце жгло немилосердно, и около полудня мы остановились у озерца поесть и отдохнуть. Там нас нагнали воины, унесшие тело пастушка в город. После того как они доложили Калуби о выполнении приказа, мы отправились к причудливым черным скалам, за которыми возвышалась величественная гора, по-видимому вулканического происхождения. Скалы тянулись с запада на восток, насколько хватал глаз; к трем часам пополудни мы приблизились к ним достаточно, чтобы различить зияющий вход в пещеру, где заканчивалась дорога. К нам подошел Калуби и, смущаясь, попытался завязать разговор. Думаю, вид горы разбудил в нем страх с новой силой, поэтому вождь решил подольститься к нам, своим потенциальным спасителям. Помимо всего прочего, Калуби сообщил, что брешь в скалах — дверь в жилище Мотомбо. Я молча кивнул. В обществе убийцы мне становилось дурно. Калуби отошел, бросая на нас умоляющие взгляды. Без особых приключений мы достигли скалистой стены. Она, я полагаю, состояла из крепкого вулканического камня, миллионы лет выдерживавшего непогоду и разливы озера, в то время как более хрупкие породы вокруг рассыпались. Я не геолог и не могу точно определить минералогический состав, да и некогда было изучать местные камни. Зато я прекрасно видел брешь — вход в большую пещеру, очевидно естественного происхождения. Наверняка она некогда служила стоком для озерной воды, затоплявшей страну понго. Мы остановились и нерешительно смотрели на темный провал в скалах, без сомнения тот самый, который в юности разглядывал Бабемба. По приказу Калуби несколько воинов поспешили к окрестным хижинам, где жили слуги и охранники Мотомбо. Ни тех ни других мы не увидели. Воины быстро вернулись с горящими факелами, которые раздали нам. С содроганием (по крайней мере, меня била дрожь) мы вошли в мрачную пещеру: первым шел Калуби с половиной конвоя, потом мы, затем Комба с остальными. Пол пещеры был очень гладким — несомненно, благодаря действию воды, — равно как и своды. Правда, рассмотреть их толком не удалось: они расступались вширь и смыкались высоко над головой. Путь наш был извилист; углубляясь в толщу скал, мы несколько раз поворачивали. У первого поворота воины понго затянули дикую заунывную песнь и не смолкали до конца дороги, а прошли мы свыше трехсот ярдов, если считать по моим шагам. При свете факелов, мерцавших в густом мраке, как звезды, мы добрались до последнего поворота — там поперек пещеры висел большой занавес из циновки. Сейчас он был приподнят, и нашим глазам предстало весьма странное зрелище. По обеим сторонам пещеры у стен горело по большому костру. Пламя выхватывало из темноты часть пространства. Кроме того, свет проникал через дальний выход, находившийся шагах в двадцати от костров. Там виднелась протока шириной ярдов двести, а за ней поднимался лесистый горный склон. Вода проникала в пещеру, образуя маленькую бухту, она почти достигала огня, а поодаль, на отмели шириной футов шесть-восемь, стояла на приколе большая лодка. В стенах каменного зала зияло четыре дверных проема (по два с каждой стороны), которые, я полагаю, вели в покои, высеченные в скале. Каждый вход охраняла рослая женщина в белом, с горящим факелом в руках. Я решил, что это прислужницы, поставленные здесь, чтобы приветствовать нас. Однако, едва мы приблизились, женщины скрылись. Но это было еще не все. За маленькой бухтой, прямо над лодкой, высился деревянный настил на сваях площадью около восьми квадратных футов. По бокам к нему приладили по слоновьему бивню, почерневшему от времени, размером больше любого из всех мной виденных. Между бивнями на пушистой кароссе сидело на корточках существо, которое я вначале принял за огромную жабу. На вид жаба, раздувшаяся жаба — та же грубая сморщенная кожа, тот же выпирающий хребет (оно сидело спиной к нам), те же тонкие, вывернутые наружу ноги. Мы долго разглядывали это страшилище: при скудном освещении ничего не разберешь. Я не выдержал и решил спросить Калуби, кто это, но не успел и рта раскрыть, как существо зашевелилось. Оно повернуло голову, и в тот же миг Калуби и все понго оборвали свою дикую песнь и пали ниц. Несшие факелы продолжали держать их в правой руке. Святые Небеса, «жаба» оказалась человеком, двигавшимся на четвереньках! Большая лысая голова была вдавлена в плечи либо из-за врожденного дефекта, либо в силу возраста, ведь это создание, без сомнения, было очень старым. Я пытался представить, сколько ему лет, но терялся в догадках. Крупное широкое лицо сморщилось, как воловья кожа на солнце; нижняя губа свешивалась, почти касаясь выступающего костлявого подбородка; по углам рта торчали два желтых клыка, остальные зубы выпали. Порой существо по-змеиному облизывало белесые десна; мелькал язык с красным кончиком. Но особенно поражали глаза — огромные, круглые, они сверкали, словно в глубине черепа горело пламя, а плоть вокруг них ссохлась. Глаза полыхали как настоящий огонь, а порой вспыхивали, словно у льва в темноте. И это человеческое существо! Признаюсь, мне стало не по себе, и на минуту я застыл, как парализованный. Посмотрев на спутников, я понял, что они тоже напуганы. Стивен побледнел, и я подумал, что беднягу сейчас стошнит, как в первый день в стране мазиту, когда он хлебнул кофе не из той кружки. Брат Джон поглаживал бороду и шепотом молился, прося Господа о защите. Ханс воскликнул на ломаном голландском: — Гляньте, баас, уродливый старый дьявол во плоти! Джерри пал ниц вместе с понго, бормоча, что перед ним сама смерть. Только Мавово не шелохнулся. Наверное, понимал: ему, известному колдуну, не пристало поджимать хвост в присутствии злого духа. Человек-жаба медленно, по-черепашьи повернул голову из стороны в сторону, оглядывая нас пылающими глазами, и заговорил на языке банту, распространенном в этой части Африки и родственном языку зулу. Правда, в речи Мотомбо слышался странный акцент. — Итак, белые люди, вы вернулись, — медленно начал Мотомбо низким гортанным голосом. — Дайте мне сосчитать вас. — Он поднял костлявую руку и стал по очереди направлять на каждого из нас указательный палец. — Один. Высокий, с белой бородой. Да, правильно. Два. Низкий, ловкий, как обезьяна, с волосами, которые не расчешешь; хитрый, как Отец обезьян. Да, правильно. Три. Молодой и глупый, с нежным лицом, похожий на жирного ребенка, который улыбается небу, потому что полон молока, и думает, что небо улыбается ему. Да, правильно. Все трое те же самые. Помнишь, Белая борода, как мы убивали тебя, а ты взывал к Восседающему над миром и поднимал костяной крест с фигуркой человека в терновом венце? Помнишь, как ты целовал человека в терновом венце, когда в тебя вонзалось копье? Головой качаешь? Ты коварный лжец, но я изобличу тебя, ведь тот крест до сих пор у меня! — Мотомбо схватил рог, который лежал рядом на кароссе, и затрубил. На заунывные звуки рога выбежала женщина и упала перед Мотомбо на колени. Он что-то пробормотал, она ушла и скоро вернулась с распятием из пожелтевшей слоновой кости. — Вот он! — воскликнул Мотомбо. — Возьми его, Белая борода, и поцелуй, быть может в последний раз. — Он бросил распятие Брату Джону, который поймал его на лету и рассматривал с изумлением. — А ты, Жирный младенец, помнишь, как мы тебя поймали? Ты храбро сражался, но мы убили тебя, и ты оказался вкусным, очень вкусным. Ты дал нам много силы. А ты, Отец обезьян, помнишь, как спасся от нас благодаря своей хитрости? Я тебя не забуду, ведь ты оставил мне это. — Мотомбо показал на большой белый шрам у себя на плече. — Ты хотел убить меня, поднес огонь к железной трубе, но ее начинка загорелась не сразу. Я успел отпрыгнуть в сторону, и железный шар, вопреки твоему намерению, не поразил меня в сердце. Однако он еще здесь. О да! Я до сих пор ношу его в себе и теперь, когда плоть моя ссохлась, могу нащупать его пальцем. Я с изумлением слушал эту речь, смысл которой (если он был) сводился к тому, что все мы встречались в Африке в эпоху фитильных ружей, то есть около 1700 года или раньше. Однако, поразмыслив, я понял, что это полный вздор. Очевидно, предок этого старого жреца, а если ему лет сто двадцать (никак не меньше, считал я), то, может, и его отец, в молодости встретился с первыми европейцами, проникшими вглубь Африки. Полагаю, ему попались португальцы, из которых один был миссионер, двое других — отец и сын, или братья, или просто товарищи. Историю гибели тех людей часто вспоминали потомки вождя или верховного жреца племени. — Где же мы встречались и когда, о Мотомбо? — спросил я. — Не на этой земле, Отец обезьян, не на этой, — пророкотал Мотомбо, — а далеко-далеко на западе, где солнце садится в воду. С тех пор народом понго правили двадцать Калуби, некоторые в течение многих лет, некоторые недолго. Это зависело от воли моего брата, бога, живущего там. — Он страшно оскалился и указал через плечо на лесистую гору. — Да, правильно, двадцать вождей — некоторые правили по тридцать лет, некоторые менее четырех. «Теперь ясно: ты старый лгун, — подумал я, — ведь если в среднем Калуби правили лет по десять, то мы, по твоей логике, встречались по крайней мере два века назад». — Тогда вы были одеты иначе, — продолжал Мотомбо. — Двое покрыли голову железом, а белобородый брил ее. Я нашел хорошего кузнеца и велел выбить на медной дощечке ваши изображения. Она до сих пор у меня. Мотомбо снова затрубил в рог. Как и в прошлый раз, появилась женщина, которой он что-то шепнул. Она ушла и тотчас возвратилась с каким-то предметом, который Мотомбо бросил нам. Это была почерневшая от времени пластинка, медная или бронзовая, на которой гвоздем выбили изображение высокого бородача с тонзурой и крестом в руке и двоих низкорослых мужчин в круглых металлических шлемах, в странной одежде и в сапогах с квадратным носом. В руках они держали тяжелые ружья, а один еще и дымящийся фитиль. Больше мы ничего не разглядели на пластинке. — Почему ты покинул далекую страну и пришел на эту землю, о Мотомбо? — спросил я. — Потому что мы боялись, как бы по вашим следам не явились другие белые люди и не отомстили за вас. Так приказал Калуби тех дней, хотя я противился этому, зная: никто не избежит того, что настанет в свой час. Мы скитались, пока не нашли это место, где живем уже давно. Наши боги переселились сюда вместе с нами. Это мой лесной брат — мы ни разу не видели его в пути, ибо он опередил нас, — а также Священный цветок и Мать Цветка. Она жена одного из вас, которого — я не знаю. — Ты называешь бога своим братом, — сказал я, — но мы слышали, что он обезьяна. Разве может обезьяна быть братом человека? — Вы, белые люди, не понимаете этого, но мы, черные, понимаем. Вначале обезьяна убила моего брата-вождя. Его дух вошел в обезьяну и превратил ее в бога. Поэтому она убивает каждого Калуби, и их духи также входят в нее. Не так ли, о нынешний Калуби, уже потерявший палец? — насмешливо осведомился Мотомбо. В ответ распростертый на земле Калуби лишь застонал и затрясся. — Все сбылось, как я предвидел, — продолжал Мотомбо, человек-жаба. — Вы вернулись, и теперь мы узнаем, справедливы ли слова белобородого о том, что его Бог покарает нашего. Вы пойдете мстить, а мы на вас посмотрим. Только на сей раз у вас не будет железных труб, которых мы боимся. Ибо моими устами возвестил бог, что белые люди с железными трубами принесут ему гибель и я, Мотомбо, Глашатай небес, тоже умру. Священный цветок вырвут с корнем. Мать Цветка исчезнет, а понго разбредутся, превратятся в скитальцев и рабов. Бог возвестил, что, когда белые люди придут без железных труб, случится нечто тайное (не расспрашивайте меня, узнаете в свое время) и вымирающие понго снова станут большим и великим племенем. Вот почему я приветствую вас, о белые люди, пришедшие из земли призраков, ибо через вас мы, племя понго, обретем силу и славу! Пространный монолог оборвался, Мотомбо еще глубже вжал голову в плечи. Он долго сидел молча и буравил нас сверкающими глазами, будто старался прочесть наши сокровенные мысли. Если Мотомбо это удалось, то, думаю, он обрадовался, ведь я чувствовал страх, бессильную ярость и омерзение. Конечно, я не верил болтовне, похожей на бред злых африканских колдунов, но эту получеловеческую тварь возненавидел искренне. Вид и речи Мотомбо вызывали у меня глубокое отвращение и панический страх. Я словно оказался наедине со злым духом из рождественской истории, а еще не сомневался: Мотомбо желает нам зла. Вдруг он заговорил снова. — Кто этот маленький, желтый, с лицом, похожим на голый череп? — спросил Мотомбо, указывая на Ханса, который прятался за спиной у Мавово. — Кто этот сморщенный, курносый, который мог бы быть ребенком моего божественного брата? Зачем ему, такому маленькому, такая большая палка? — Он указал на бамбуковую дубинку Ханса. — Чую, коварства в нем, как воды в тыквенной бутыли. Того черного великана я не страшусь. — Он указал на Мавово. — Мое колдовство сильнее его колдовства! — (По-видимому, человек-жаба узнал в Мавово собрата по ремеслу.) — Я боюсь маленького желтого человека с большой палкой и мешком за плечами. Его надо убить. Мотомбо замолчал, и мы содрогнулись, ибо, прикажи он убить бедного готтентота, кто ему помешает? Но Ханс почувствовал большую опасность и призвал на помощь всю свою хитрость. — О Мотомбо, меня убивать нельзя, ведь я слуга посла! — пропищал он. — Знаешь ведь, что боги каждой земли мстят обидчикам своих послов и их слуг. Если убьешь меня, я начну являться тебе по ночам. Да, я буду садиться тебе на плечо и не дам тебе покоя до тех пор, пока ты не умрешь. Ибо рано или поздно ты умрешь, о Мотомбо! — Верно, — согласился Мотомбо. — Говорю же, этот маленький полон коварства. Все боги мстят тем, кто убивает послов их земли и их слуг. Это право дано одним богам. — Мотомбо еще раз усмехнулся. — Пусть решают боги понго! Я вздохнул с облегчением. Мотомбо продолжал иным, чуть ли не деловым тоном: — Скажи, о Калуби, что привело ко мне, Глашатаю небес, этих белых людей? Сдается мне, они явились просить о мире с мазиту? Встань и говори! Калуби поднялся, покорно изложил причину нашего прихода к понго в качестве послов Бауси и перечислил статьи договора, который ждал одобрения Мотомбо и короля мазиту. Мы отметили, что эта тема совершенно не интересовала колдуна. Слушая Калуби, он задремал, утомленный плетением козней или по иной причине. Едва Калуби закончил, Мотомбо открыл глаза и, указав на Комбу, молвил: — Встань, будущий Калуби! Комба поднялся. Четко и бесстрастно он рассказал о беседе с Бауси и обо всем, относившемся к его миссии. Мотомбо снова задремал и разлепил веки лишь в ту минуту, когда Комба описывал, как он обыскивал нас, чтобы мы не пронесли в страну понго огнестрельное оружие. Мотомбо одобрительно закивал и облизал губы тонким красным языком. Когда Комба умолк, он сказал: — Бог говорит мне, что план мудр, ибо без новой крови народ понго погибает. Но исход такого перемирия известен одному богу, если он в силах разглядеть будущее. — Мотомбо сделал паузу, потом резко спросил: — Не желаешь ли что-либо добавить, о будущий Калуби? Бог заставляет спросить тебя об этом. — Желаю, о Мотомбо. Много лун назад бог откусил палец у владыки нашего Калуби. Владыка прослышал, что в стране мазиту у большого озера живет белый человек, искусный врачеватель, способный ножом отсекать изувеченные пальцы. Калуби взял лодку и поплыл к тому месту, где поселился белый человек по имени Догита — вот этот, белобородый, стоящий пред тобой. Я последовал за владыкой на другой лодке, ибо хотел разведать его замыслы и посмотреть на белого человека. Спрятал лодку и спутников в камышах, далеко от лодки Калуби, прошел по мелководью и укрылся в камышовых зарослях близ полотняного жилища белого человека. Я видел, как Догита отрезает Калуби больной палец. И слышал, как Калуби умоляет белого человека прийти на нашу землю с железной трубой, изрыгающей дым, и убить бога, которого он боится. Присутствующие изумленно заохали, а Калуби снова пал ниц и замер. Только Мотомбо, казалось, совершенно не удивился — возможно, потому, что уже знал эту историю. — Это все? — спросил он Комбу. — Нет, о Глашатай небес! Вчера вечером, после совещания, о котором ты уже слышал, Калуби, закутанный с ног до головы, как мертвое тело, отправился в хижину к белым людям. Я знал, что он так поступит, и приготовился заранее. Острым копьем я из-за ограды пробил дыру в стене хижины, просунул туда длинную камышинку и через нее слышал все, что говорилось внутри. — Ох, как хитро! — невольно восхитился Ханс. — О Ханс, хоть ты и стар, тебе еще учиться и учиться! — Я слышал немало того, что могу передать тебе, о Мотомбо, — продолжал Комба, бесстрастный голос которого напомнил мне звон льда. — Изложу то, что считаю достаточным, хотя, если ты пожелаешь, о Глашатай небес, поведаю остальное, — спокойно продолжал Комба среди всеобщего молчания. — Я слышал, как владыка Калуби, Дитя бога, заключает с белыми людьми договор, по которому они должны убить бога (каким образом, не знаю, это не обсуждалось). Взамен они получат Мать Священного цветка, ее дочь, будущую Мать Цветка, и Священный цветок, выкопанный с корневищем. Кроме того, их вместе с женщинами и Священным цветком переправят через озеро. Вот и все, о Мотомбо! Среди полной тишины Мотомбо смотрел на распростертого перед ним Калуби, смотрел долго и грозно. Нарушил тишину несчастный вождь — вскочил и попытался заколоть себя копьем, но не успел. Копье вырвали у него из рук, и лишенный оружия Калуби сник. Тишину нарушил Мотомбо: он громко заревел. Да, он ревел, словно раненый буйвол! Я никогда не поверил бы, что такой звук способны издавать стариковские легкие. Почти целую минуту гневный рев эхом разносился по пещере. Воины понго вскочили на ноги и, показывая на несчастного Калуби, зашипели, словно змеи. Некоторые понго так и держали горящие факелы. Сцена получилась воистину адская. Напыщенный Сатана-Мотомбо на тонких жабьих ногах, большие костры, пылающие у стен пещеры, зарево заката на недвижной воде и лесистом склоне, белые фигуры понго, повернувшихся к злосчастному преступнику и шипящих, как разъяренные змеи, — все это казалось кошмаром. Но вот Мотомбо схватил свой причудливый рог и затрубил. Выбежали женщины, увидели, что в них нет надобности, и застыли, как бегуньи на старте. Потом рог умолк, воцарилась тишина, нарушаемая треском костров, которые горели, не ведая о трагедии в пещере. — Все кончено, старина! — шепнул мне дрожащим голосом Стивен. — Да, — ответил я, — все кончено. Встанем спина к спине и дадим бой. У нас есть копья… Мы встали плотнее друг к другу, и тут Мотомбо снова заговорил: — Итак, ты, бывший Калуби, подговаривал белых людей убить бога? Взамен посулил Священный цветок вместе с теми, кто его охраняет? Хорошо! Всем вам нужно пойти к богу и потолковать с ним. А я отсюда посмотрю, кто умрет, вы или бог. Взять их!Глава 16
БОГИ
Воины понго с криком бросились на нас. Один упал навзничь и не поднялся: его убил стремительный удар копья Мавово. Но с нами быстро справились, через полминуты нас шестерых (вернее, семерых, включая Калуби) схватили, обезоружили и швырнули в лодку. Туда же прыгнули несколько воинов под предводительством Комбы-рулевого. Лодка тотчас отчалила от свайного трона Мотомбо и через бухточку направилась в протоку, дельту, или как там называются воды, отделявшие скалу с пещерой от подножия горы. Когда мы выплывали из пещеры, Мотомбо, беспокойно вертевшийся на своем месте, закричал Комбе: — О будущий Калуби! Отвези бывшего Калуби и троих белых людей с их слугами к опушке леса, к Дому богов, и оставь их там. Потом возвращайся в город Рика. Когда все закончится, я призову тебя. Комба склонил свою красивую голову. По его знаку двое воинов взялись за весла — больше гребцов не требовалось, — и лодка медленно поплыла через заводь. Первым делом я отметил чернильный цвет воды, что, вероятно, объяснялось глубиной и тенью, отбрасываемой скалой с одной стороны и высокими деревьями с другой. Кроме того, я заметил на берегах крокодилов, лежавших, словно бревна. Надо сказать, в трудные моменты я не терял головы, напротив, все мои чувства обострялись, и мне сразу бросились в глаза обломанные сучья, торчавшие из воды в месте сужения протоки: большие деревья упали туда или их специально повалили. В памяти всплыл рассказ Бабембы, которому удалось бежать отсюда на лодке, и я подумал, что теперь это возможно разве только в большое половодье. Через пару минут мы достигли подножия горы, удаленной от пещеры всего на двести ярдов, как я уже упоминал. Лодка ткнулась носом в берег, спугнув больших крокодилов, которые с сердитым плеском исчезли под водой. — Высаживайтесь, белые господа, высаживайтесь! — сказал Комба с крайней учтивостью. — Идите скорее, бог, вне сомнения, ждет вас. Больше мы не свидимся, так что прощайте. Вы мудры, а я глуп, но выслушайте мой совет и помяните его, если когда-нибудь вернетесь в мир живых. Держитесь поближе к своему богу, если у вас таковой есть, и не вмешивайтесь в дела высших сил, которым поклоняются другие народы. Еще раз прощайте! Совет отличный, но в ту секунду меня переполняла ненависть к этому сверхчеловеку Комбе. Если бы злые помыслы убивали, мы впрямь попрощались бы навечно. Держа для острастки копья наперевес, понго высадили нас на илистый берег. Первым выбрался Брат Джон. Его улыбка, учитывая обстоятельства, казалась мне неуместной, хотя он, разумеется, лучше знал, когда можно улыбаться. Калуби вышел последним. Так сильно он страшился этого зловещего места, что преемник Комба едва ли не вытолкнул его на берег. Впрочем, на суше Калуби немного осмелел, обернулся и сказал Комбе: — Помни, о Калуби, что однажды моя участь постигнет тебя. Жрецы скоро надоедают богу. Через год-другой ты неизбежно последуешь за мной! — Тогда, о бывший Калуби, попроси за меня бога, чтобы это случилось попозже, — насмешливо ответил Комба, отталкивая лодку от берега. — Попроси его, когда твои кости затрещат в его объятиях! Глядя на удалявшуюся лодку, я вспомнил картинку из старой латинской книжки моего отца. Там изображались души умерших, перевозимые Хароном через реку Стикс. Сцена, которую мы наблюдали, очень напоминала ту картинку. Вот ладья Харона, плывущая по ужасному Стиксу. Огни покинутого нами мира мерцают на том берегу, а мы стоим на этом, мрачном и зловещем, ожидая гибели от зубов или когтей неведомой твари, под стать чудищам Аида… Ох, точным же получилось сравнение! Но что, по-вашему, брякнул этот несносный юнец, Стивен? — Наконец-то мы попали сюда, старина! — воскликнул он. — И можно сказать, отделались легким испугом. Вот так удача! Вот так радость! Гип-гип ура! Он плясал на топком берегу, подбрасывал свой шлем и ликовал. Я обжег, точнее, постарался обжечь его взглядом и процедил: — Сумасшедший! «Удача!» «Радость!» Хорошо, что порой безумие человека проявляется в веселости. Я повернулся к вождю и спросил, где может находиться пресловутый местный бог. — Всюду, — ответил Калуби, дрожащей рукой указывая на бескрайний лес. — Может, за этим деревом, может, за тем, может, далеко отсюда. Мы узнаем это до наступления утра. — Что же ты намерен делать? — зло осведомился я. — Умереть, — ответил Калуби. — Послушай, глупец! — воскликнул я. — Умирай, если хочешь, а мы не желаем. Отведи нас туда, где можно спастись от вашего Белого дьявола. — От него нет спасения, особенно в его собственном доме, — Калуби покачал своей глупой головой и продолжил: — Как спастись, если отсюда не выбраться и даже на дерево не влезть? Я понял, что он прав, глянув на высоченные стволы без единого сука; верхушки покачивались над головой футах в пятидесяти-шестидесяти. Тем более не исключено, что бог лазает по деревьям лучше нас. Калуби нерешительно зашагал прочь от берега, и я спросил, куда он направляется. — На кладбище, — ответил он. — Там вместе с костями лежат копья. Я принял это к сведению (если из оружия имеются лишь складные ножи, копьями не пренебрегают) и велел Калуби вести нас туда. Через минуту мы уже поднимались по склону. Царившие в страшном лесу сумерки напоминали лондонский туман. Шагов через триста-четыреста чаща расступилась. Исполинские деревья лежали на земле — должно быть, рухнули от старости, а молодые еще не выросли. На поляне стояли ряды саркофагов из прочного железного дерева, и на каждом возлежал проломленный гниющий череп. — Бывшие Калуби, — пояснил наш проводник. — Смотрите, Комба мне место приготовил! — Он указал на новый гроб с открытой крышкой. — Какой заботливый! — похвалил я. — Но покажи нам, где копья, пока совсем не стемнело. Калуби приблизился к одному из саркофагов, который явно стоял здесь с недавних пор, и сказал, чтобы мы подняли крышку, а то ему страшно. Я отодвинул ее в сторону. В саркофаг были уложены кости, и каждую, за исключением черепа, во что-то завернули. Тут же оказалось несколько горшков, наполненных, по-видимому, золотым песком, и два прекрасных копья с медным нержавеющим наконечником. Мы открыли несколько гробов и извлекли еще несколько копий, положенных туда для того, чтобы покойник мог пользоваться оружием по пути в царство теней. Древки в большинстве своем подгнили от сырости, но, к счастью, у наконечников имелись медные гнезда, трубки длиною около трех футов, что давало возможность пользоваться ими даже без древка. — Плохое оружие для борьбы с дьяволом! — посетовал я. — Да, баас, неважное, — весело ответил Ханс, — но у меня есть кое-что получше! Не я один — все посмотрели на него с изумлением. — О чем ты, Пятнистая змея? — спросил Мавово. — О чем ты, сын сотни идиотов? Разве сейчас время шутить? Довольно с нас и одного весельчака! — сказал я, кивнув на Стивена. — О чем я, баас? Разве баасу неизвестно, что при мне маленькое ружье Интомби, то самое, из которого баас стрелял по грифам около крааля Дингаана? Я ничего не говорил, потому что думал, что баас знает об этом, а если нет, то и не надо, ведь мерзкие понго могли случайно услышать о нем от бааса, и тогда… — Он помешался, — перебил Ханса Брат Джон, хлопая себя по лбу, — совсем помешался, бедняга! Неудивительно при столь удручающих обстоятельствах! Я мысленно согласился с Братом Джоном и снова посмотрел на Ханса. Однако тот казался не сумасшедшим, а… еще хитрее обычного. — Ханс, говори, где ружье, не то собью с ног и велю Мавово тебя высечь! — пригрозил я. — Где это ружье, баас? Да разве баас не видит, что оно перед глазами бааса? — Вы правы, Джон, бедняга не в себе, — вздохнул я. Стивен подбежал к Хансу и хорошенько его встряхнул. — Не трясите меня, баас! — запротестовал Ханс. — Не то ружье сломаете! Крайне изумленный, Стивен его отпустил. Тогда Ханс сделал что-то с верхним концом своей бамбуковой палки, осторожно перевернул ее, и из нее выскользнул… ствол ружья, тщательно обмотанный промасленной ветошью. Дуло было заткнуто паклей. Я чуть не расцеловал Ханса! Да, от радости я хотел расцеловать грязного, скверно пахнущего старого готтентота! — А ложе? — спросил я, едва дыша. — Без него ствол бесполезен. — Ох, неужели баас думает, что я, много лет владеющий оружием, не знаю, что у него должно быть ложе? Ханс снял с плеч узел и достал из него большую связку желтого табака, которая заинтриговала нас с Комбой на берегу озера перед отплытием в страну понго. Он разорвал эту связку и вынул из нее ружейное ложе, тщательно вычищенное и заряженное, с опущенным ударником, под который был подложен клочок пакли, чтобы предотвратить случайный выстрел от сотрясения. — Ты герой, Ханс! — воскликнул я. — Тебе цены нет! — Да, баас. Хотя до сих пор баас мне так не говорил. Я решил, что мне на этот раз не следует засыпать перед лицом смерти. Ну, кому теперь спать на кровати, которую прислал мне Бауси? — спросил он, собирая ружье. — Пожалуй, тебе, о большой глупый Мавово. Ты ружья не принес. Настоящий колдун загодя выслал бы сюда ружья, чтобы они нас здесь ждали. Будешь теперь надо мной смеяться, ты, зулусский болван? — Нет, — искренне ответил Мавово. — Я воздам тебе сибонгу — благодарность. Я сложу для тебя похвальное имя, о мудрая Пятнистая змея. — Однако я не вполне герой, — продолжал Ханс, — и похвалы заслуживаю только наполовину. Пороха и пуль у меня в кармане много, а пистоны вывалились в дыру в жилете. Баас помнит, как я говорил ему о потерянных оберегах? Но три пистона осталось, нет, четыре: один в ружье. Ну вот, баас, Интомби готово и заряжено. Теперь, когда явится Белый дьявол, баас прострелит ему глаз со ста ярдов, как он умеет, и отправит нечистого в ад к другим чертям. Предикант, отец бааса, очень обрадуется! Самодовольно улыбаясь, Ханс взвел курок и передал мне готовое к стрельбе ружье. — Благодарение Богу, научившему этого бедного готтентота, как спасти нас! — торжественно произнес Брат Джон. — Нет, баас Джон. Меня научил этому не Бог. Я сам додумался. Эх, темнеет уже. Не развести ли нам огонь? — И, забыв о ружье, Ханс начал искать растопку. — Ханс, если мы спасемся, я дам тебе пятьсот фунтов, — пообещал Стивен. — Ну, или мой отец даст, суть-то одна. — Спасибо, баас, спасибо, но сейчас мне больше всего хотелось бы капельку бренди. Что-то растопки не найти… Действительно, развести костер было нечем. Возле кладбища лежало несколько бревен, но слишком больших — ни с места сдвинуть, ни разрубить. Да и отсырели они настолько, что не подожжешь. Сумерки сгущались, но вскоре взошла луна, свет которой разбавлял мрак. Вот только небо заволокло тучами, которые часто ее скрывали, да еще огромные деревья буквально впитывали свет. Мы уселись в центре кладбища поплотнее друг к другу, развернули одеяла, чтобы защитить себя от холода и сырости, и подкрепились сушеным мясом и жареной кукурузой из мешка, который, к счастью, остался у Джерри на плечах, когда нас заталкивали в лодку. Кроме того, у меня сохранилась фляга с бренди. Вскоре после этого из лесной дали донесся ужасный рев, а за ним мерный, ритмичный звук. Ничего подобного никто из нас прежде не слышал: львы и другие звери так не ревут. — Что это? — спросил я. — Бог, — простонал Калуби, — бог, молящийся луне, вместе с которой он встает. Я промолчал, думая о том, что в распоряжении у нас лишь четыре выстрела. Ни один из них не следовало тратить понапрасну. Ох, зачем Ханс надел старый жилет вместо нового, подаренного мной в Дурбане?! Рев прекратился, и Брат Джон начал расспрашивать Калуби, где живет Мать Священного цветка. — Господин, — рассеянно ответил он, — она живет к востоку отсюда. Надо взобраться на гору по тропинке, отмеченной зарубками на деревьях, и миновать Сад бога. На вершине есть водоем с островом посредине. В прибрежных кустах спрятана лодка, на которой можно переправиться на остров. Там живет Мать Священного цветка. Брат Джон, по-видимому, не удовлетворился пояснениями Калуби и попросил, чтобы утром тот показал нам тропинку. — Не думаю, что мне суждено показать ее вам, — простонал несчастный, и в тот самый момент Белый дьявол снова заревел, на сей раз куда ближе. Нервы у Калуби сдали окончательно. Бедняга понял, что Брат Джон — жрец неведомого ему культа, и, подгоняемый дурным предчувствием, стал выспрашивать его о том, есть ли жизнь после смерти. Брат Джон, миссионер по призванию, постарался его утешить, а бог-обезьяна, подобравшийся к нам вплотную, будто бы заколотил в большой барабан. Теперь он не ревел, а только барабанил. По крайней мере, так нам казалось, судя по звукам. В жутком лесу, среди саркофагов с черепами, этот грохот угнетал не на шутку, доложу я вам. Барабанный бой стих, и Брат Джон, взяв себя в руки, продолжил благочестивые речи. Тут плотная туча закрыла луну, и стало еще темнее. В тот момент Брат Джон объяснял вождю, что он не Калуби, а бессмертная душа, однако понял ли тот слова миссионера? Внезапно страшная, чернее ночи тень — других слов мне не подобрать — метнулась к нам с дальнего конца поляны. Секундой позже в нескольких футах от меня раздался шум потасовки, потом прозвучали сдавленные крики, и ужасная тень скользнула прочь. — В чем дело? — спросил я. — Зажгите спичку, — велел Брат Джон, — кажется, что-то стряслось. Я чиркнул спичкой, которая в неподвижном воздухе загорелась отлично. При ее свете я увидел лица спутников, искаженные тревогой и страхом. Затем Калуби поднялся. Он махал правой рукой, превратившейся в окровавленный обрубок без кисти. — Бог явился ко мне и отнял руку! — горестно простонал он. Никто не проронил ни слова: слова были бессильны. Зажигая спички, чтобы разогнать мрак, мы кое-как перевязали несчастного, потом снова сбились в кучу и стали ждать, что будет дальше. На луну снова наползло облако, тьма сгустилась, и воцарилась тишина — глубокая тишина ночного тропического леса, нарушаемая только нашим учащенным дыханием, жужжанием москитов, далеким плеском воды — это ныряли крокодилы — и тихими стонами раненого. Примерно через полчаса к нам опять метнулась черная тень — так щукабросается на мелкую рыбешку. На сей раз шум борьбы послышался слева от меня, где сидели Ханс и Калуби, а за ним — протяжный вопль. — Вождь понго исчез! — шепнул Ханс. — Его как ветром сдуло, только в земле вмятина осталась. Вдруг луна выглянула из-за туч, и в ее бледном свете, ярдах в тридцати, на полпути от того места, где мы сидели, до края поляны, я увидел… ох, что я увидел! Дьявола, пожирающего грешную душу, — по крайней мере, мне так показалось. Огромное темно-серое существо, до абсурдного похожее на человека, стиснуло худое тело Калуби. Голова несчастного исчезла в пасти чудища, темные лапы раздирали его на куски. Похоже, Калуби уже умер, хотя его ноги, висевшие над землей, слабо шевелились. Я вскочил, поднял ружье со взведенным курком и пальнул зверю в голову, почти наудачу, не целясь, хотя видел ее довольно отчетливо. Выстрел грянул не сразу: либо порох, либо пистоны отсырели во время путешествия. Однако мигом ранее черный дьявол — иначе это чудовище не назовешь — увидел меня, а может, заметил блеск ружейного ствола. Он отшвырнул Калуби и, словно предчувствуя беду, вскинул длиннющую, толщиной в человеческое бедро, правую лапу в попытке прикрыть голову. Ружье выстрелило, и, судя по звуку, пуля попала в цель. Вспышка озарила безжизненно упавшую лапищу, и лес наполнился жуткими воплями, в которых слышалась жалоба. — Вы попали в него, баас! — объявил Ханс. — Этот бог не призрак, призраки не знают боли. А он скулит, значит жив-живехонек. — Сядьте плотнее друг к другу! — велел я. — Копья держите перед собой, пока я перезаряжаю ружье. Я опасался, что чудовище на нас бросится, но, как выяснилось, напрасно. До конца той ужасной ночи мы его не видели и не слышали. Была надежда, что обезьяна ранена смертельно и уже издохла. Рассвет забрезжил, как мне показалось, через несколько недель, и осветил нас, перепуганных и дрожащих среди серого тумана. Точнее, дрожали все, кроме Стивена, который сладко спал, прильнув к плечу Мавово. С такой невозмутимостью, с такими железными нервами он и трубный глас архангела проспит! По крайней мере, в этом я с возмущением заверил Стивена, когда после наших немалых усилий он наконец очнулся от неприлично крепкого сна. — Главное — результат, — парировал Стивен. — Я свеж как майская роза, а вы, Аллан, выглядите так, словно всю ночь кутили. Калуби уже нашли? Искать несчастного вождя мы отправились, едва рассеялся туман… Не желаю описывать то, что мы обнаружили. Инцидент с пастушком доказал, что погибший Калуби был человеком жестоким, но я искренне его жалел и надеялся, что он больше не страдает. Мы положили его изуродованные останки в саркофаг, заботливо приготовленный Комбой для этого неизбежного конца, и Брат Джон прочел над ним молитву. Потом, после небольшого совета, мы, унылые и подавленные, стали искать дорогу к обители Матери Священного цветка. Поначалу трудностей не возникло: от поляны вверх по склону тянулась узенькая, но хорошо видная тропка. Однако беды ждали нас впереди. По мере подъема лес становился все гуще. Лиан в нем росло немного, но вершины деревьев почти смыкались у нас над головой и загораживали небо, превращая день в ночь. Невеселое получилось путешествие! Бледные, испуганные, мы крались от ствола к стволу, высматривая зарубки-указатели, и разговаривали только шепотом, дабы не привлечь внимание ужасной обезьяны. Через пару миль мы поняли, что старались напрасно: этот дьявол нас заметил. Он двигался параллельно нам, огромная серая фигура то и дело мелькала среди деревьев. Ханс хотел, чтобы я выстрелил, но я не решался, понимая, что шансы попасть в цель невелики. В запасе имелось лишь три выстрела, точнее, три пистона, которые следовало беречь. Мы остановились, чтобы посоветоваться, и в конце концов решили, что идти вперед не опаснее, чем стоять на месте или возвращаться на поляну. И отправились дальше, держась поближе друг к другу. Мне, как единственному обладателю ружья, оказали честь возглавить процессию, чему я совершенно не обрадовался. Через полмили мы услышали звук, напоминающий бой барабана: вероятно, огромная обезьяна колотила себя в грудь. Впрочем, удары сыпались не так часто, как накануне ночью. — Ха! — воскликнул Ханс. — Теперь дьявол отбивает дробь только одной палкой. Другую сломала пуля бааса! Вскоре зверь заревел так близко от нас и так громко, что задрожал воздух. — Не знаю, как насчет палки, а барабан-то цел, — отметил я. Мы прошли еще ярдов сто, после чего разыгралась настоящая трагедия. Мы добрались до упавшего дерева. Здесь в кронах открывался просвет, и я до сих пор ясно помню это место. Тут лежал огромный ствол, покрытый серым мхом, вокруг рос крупный папоротник рода адиантум. С нашей стороны оказалась полянка футов в сорок шириной, куда свет падал отвесно, словно через дымоход в хижине. За поваленным деревом я сперва увидел глаза, горящие красным огнем, и почти в то же мгновение — обезьянью башку среди светло-зеленых листьев папоротника. Воистину дьявол во плоти: белесая морда, низко нависшие брови, большие желтые клыки! Прежде чем я поднял ружье, чудовище с ужасным ревом бросилось на нас. Раз — огромная серая фигура возникла на поваленном дереве. Два — пронеслась мимо меня, держась прямо, как человек, лишь голову наклонила вперед. Передняя лапа бессильно болталась вдоль туловища. Три — раздался испуганный вопль, и я обернулся. Обезьяна схватила несчастного мазиту, шедшего предпоследним в колонне, которую замыкал Мавово. Она поволокла Джерри прочь, здоровой лапой прижимая его к груди. Джерри, взрослый, склонный к полноте мужчина, казался в ее объятиях ребенком — пусть мой читатель представит себе размеры обезьяны. Несомненно, это была горилла. Бесстрашный, как бык, Мавово кинулся на чудовище и вонзил ему в бок медное копье. Все налетели на врага, словно бешеные. Все, кроме меня, ибо я — благодарение Богу! — знал более верное средство. Через три секунды на поляне кипела отчаянная борьба. Брат Джон, Стивен, Мавово и Ханс кололи копьями гориллу, для которой их удары были что булавочные уколы. К счастью, обезьяна не выпускала Джерри и в ответ на тычки могла лишь огрызаться. Верхняя часть тела у горилл куда массивнее нижней, и подними она заднюю лапу, чтобы схватить нападающего, неизбежно потеряла бы равновесие и упала. Наконец обезьяна, по-видимому, сообразила, что Джерри ей мешает, и швырнула его в Брата Джона и Ханса. Те покатились наземь. Потом она прыгнула на Мавово, который предвидел это и выставил копье, так что горилла, пытаясь его схватить, напоролась на медный наконечник. От боли она откинула лапу, невзначай сбив с ног Стивена, и занесла ее над Мавово, чтобы раздавить его, — наверное, так гориллы расправляются с жертвами. Вот он, долгожданный шанс! До того момента я не решался стрелять, боясь убить кого-нибудь из спутников. Теперь между мной и обезьяной не было никого, поэтому я, собравшись с духом, прицелился в ее огромную голову и спустил курок. Сквозь рассеивающийся дым я увидел, как обезьяна застыла, словно задумавшись, потом вскинула здоровую лапу, закатила свирепые глаза и, издав жалобный вой, пала мертвой. Пуля пробила ей башку за ухом и застряла в мозгу. Лесная тишь накрыла нас, долгое время мы со спутниками молчали. Потом откуда-то из мха послышался тоненький голосок: примерно так свистит воздух, выпускаемый из резиновой подушки. — Прекрасный выстрел, баас! — пропищал он. — Не хуже того, которым баас убил вожака стервятников у крааля Дингаана. Сейчас и положение наше тяжелее прежнего. И если баас стащит с меня бога, я скажу баасу спасибо. Последние слова я едва расслышал, ведь Ханс лишился чувств. Он лежал под трупом огромной гориллы, из-под лапищи едва виднелись рот и нос бедняги. Если бы не мягкий мох, Ханс бы не уцелел. Мы кое-как оттащили мертвую обезьяну и влили Хансу в горло немного бренди, которое произвело удивительное действие: менее чем через минуту готтентот приподнялся, хватая воздух ртом, словно рыба на берегу, и попросил добавки. Я поручил Ханса заботам Брата Джона, побежал к Джерри и с первого взгляда понял: он мертв. Бедняга напоминал кролика, побывавшего в объятиях удава. Потом Брат Джон объяснил, что чудище сломало Джерри обе руки, все ребра и даже позвоночник. Почему горилла, миновав нас, излила свой гнев именно на Джерри, который шел предпоследним? Возможно, потому, что накануне ночью бедняга был рядом с Калуби, пропитался его запахом, вот обезьяна и отождествила его с человеком, которого ненавидела. Вообще-то, с другой стороны от Калуби сидел Ханс, но либо к готтентоту не пристал запах понго, либо горилла хотела расправиться с ним после Джерри. Бедный мазиту в помощи уже не нуждался, а вот остальные мои спутники — хвала Небесам! — отделались синяками, а Стивен еще и порванной одеждой. Мы решили осмотреть мертвого «бога». Тварь оказалась воистину ужасной. Точные размеры и вес ее мы не установили, но столь огромных обезьян (если считать гориллу обезьяной) я прежде не видел и не слышал об их существовании. Лишь впятером удалось сдвинуть громадное тело и освободить потерявшего сознание Ханса, не меньше народу понадобилось и для того, чтобы освежевать чудовище. В жизни не поверил бы, что животное не более семи футов в длину окажется таким тяжелым. Несомненно, обезьяна была очень старой. Длинные желтые клыки наполовину стерлись, глаза ввалились, шерсть на голове, некогда бурая или рыжеватая, поседела, да и на груди была не черной, как обычно у молодых горилл, а серой. Точно не скажешь, но легко верилось в слова Мотомбо, что богу понго две сотни лет. Освежевать гориллу предложил Стивен, и я согласился. Маловероятно, что мы вывезем из страны понго этакую редкость, но не бросать же ее здесь! Брат Джон ворчал, что мы напрасно теряем время, однако я считал необходимым отдохнуть после всех тревог и особенно после битвы со священным чудовищем. Мы взялись за дело и через час с лишним содрали шкуру такой толщины, что медные копья едва смогли ее оцарапать. Моя пуля угодила обезьяне в левую лапу и обездвижила ее, что было весьма кстати. В противном случае зверюга навредила бы нам куда больше. Нам также повезло, что здоровой лапой обезьяна удерживала злосчастного Джерри и никого не цапнула своими жуткими клыками, перекусившими кисть Калуби, словно травинку. Шкуру мы содрали — только на лапах не тронули — и растянули на колышках сырой стороной вверх, чтобы высушить на солнце. Потом, похоронив бедного Джерри в полом стволе огромного упавшего дерева, мы вытерлись влажным мхом и подкрепились остатками еды. После этого наша команда снова пустилась в путь — теперь в значительно лучшем настроении. Джерри погиб, но погиб и бог понго, а мы остались целы и почти невредимы. Больше никогда не будут вожди племени понго трепетать перед ужасным божеством, которое рано или поздно становилось их палачом! Пара владык, может, из страха и совершили самоубийство, но остальные наверняка погибли от рук или зубов свирепого божества. Эх, узнать бы историю той гориллы! Неужели Мотомбо прав и обезьяна вместе с племенем пришла сюда с прародины понго в Западной или Центральной Африке? А может, чудище привели силой? Я не могу ответить на эти вопросы, но замечу, что никто из мазиту и других туземцев не слышал о существовании горилл в этой части Африки. Если горилла местная, то либо одиночка, либо изгнанница, — во всяком случае, такая судьба бывает у слонов, которые с возрастом впадают в бешенство. Вот и все, что я могу сказать об этом звере, хотя у понго, конечно, имелась собственная легенда. Согласно ей, злой дух, обитавший в теле вождя, в стародавние времена вселился в убившую его обезьяну. Всех Калуби и множество других обреченных она лишала жизни, чтобы «насытиться человеческим духом» и тем самым избегнуть разрушительного действия времени. Эту легенду упоминал Мотомбо, о ней же впоследствии подробно рассказывал Бабемба. Но если свирепое божество и обладало сверхъестественными способностями, они не уберегли его от пули из ружья Парди[317]. Недалеко от поваленного дерева находилась поляна, которую называли Садом бога. Несчастные Калуби дважды в год засевали его «священными семенами». Большой, площадью несколько акров, участок возделанной земли лежал на горном склоне и орошался ручьем. Здесь в плотном кольце банановых деревьев росли кукуруза и другие злаки. Судя по многим признакам, бог понго приходил сюда подкрепиться. Сад казался ухоженным, сорняки почти отсутствовали. Сперва я удивился этому, но потом вспомнил слова Калуби: садом занимаются служанки Матери Цветка, альбиноски либо немые. Мы пересекли поляну и быстро зашагали в гору по хорошо утоптанной тропинке. Стало ясно, что мы приближаемся к потухшему кратеру. От волнения мы не могли говорить, а Брат Джон, несмотря на свою больную ногу, спешил так, что мы не поспевали за ним. Он первым достиг кратера, Стивен следом. Вдруг Брат Джон осел на землю, словно ему стало дурно, а Стивен, очевидно потрясенный зрелищем, воздел руки. Я бросился к ним, и моему взору открылась дивная картина: крутой безлесный склон длиной около полумили спускался к берегу красивого озера площадью акров двести — как позднее выяснилось, бездонного. Посреди водной глади лежал остров площадью двадцать пять или тридцать акров; землю там, очевидно, обрабатывали, так как были видны нивы, плодовые деревья, пальмы; среди них стоял аккуратный домик с верандой и тростниковой изгородью, чуть поодаль — туземные хижины. Небольшой участок перед хижинами обнесли высокой стеной, поверх которой на шестах закрепили циновки, по-видимому защищавшие от ветра или от солнца. — Держу пари, там растет Священный цветок! — взволнованно воскликнул Стивен. Он только о проклятой орхидее и думал! — Смотрите, циновки повесили на солнечной стороне, чтобы защитить его от палящих лучей, а пальмы посадили, чтобы создать тень… — Там живет Мать Цветка, — прошептал Брат Джон, указывая на дом. — Кто она? Кто? Вдруг я ошибаюсь?.. Не дай бог, иначе я не перенесу этого. — Так давайте выясним! — предложил я. Через пять минут стремительного спуска мы, потные и запыхавшиеся, начали искать в камыше и прибрежных кустах лодку, о которой говорил Калуби. А если лодки нет? Как мы попадем на остров? Вдруг зоркий Ханс что-то заметил. Он кинулся влево, поднял руку и засвистел. Мы побежали к нему. — Лодка здесь, баас, — объявил он, указывая на заливчик, заросший кустарником и густым камышом. Мы раздвинули камыши и действительно нашли в них несколько пар весел и лодку, которая могла вместить двенадцать-четырнадцать человек. Через две минуты мы отчалили и вскоре благополучно достигли острова, где отыскали маленькую пристань на сваях. Потом привязали лодку (точнее, это сделал я, ведь никто больше об этом не подумал) и направились к дому по тропинке через возделанные поля. На случай внезапного нападения я настоял, что пойду первым с ружьем наготове. Тишина и полное отсутствие признаков жизни казались подозрительными: неужели местные не видели, как мы переправляемся через озеро? Впоследствии я узнал, почему остров казался необитаемым. Получилось так по двум причинам: во-первых, стоял жаркий полдень и бедные служанки удалились в хижины, чтобы поесть и отдохнуть; во-вторых, охранница лодку заметила, но решила, что это Калуби едет к Матери Цветка, и по традиции увела товарок. Редкие встречи вождя и жрицы носили религиозный характер, поэтому свидетели исключались. Сначала мы подошли к огороженному участку, обсаженному пальмами и защищенному от солнца циновками. Стивен резво вскарабкался на плетень и вытянул шею. Через секунду он уже сидел на земле, спустившись быстрее перепуганной мартышки. — Боже мой! Боже мой! — восклицал он. Большего я от него не добился, хотя, признаюсь, не очень усердствовал. Шагах в пяти от того участка высилась другая тростниковая изгородь — вокруг дома. В ней имелась калитка, тоже из тростника, и она была приоткрыта. Мне послышался незнакомый голос, я подкрался и осторожно заглянул внутрь. Футах в четырех-пяти от калитки была веранда, из нее дверь вела в комнату, где стоял стол, должно быть обеденный. На полу веранды, устланном циновками, стояли на коленях две белые женщины в белоснежных одеждах с пурпурной бахромой. На них были браслеты и другие украшения из туземного червонного золота. Одной, крепкой и голубоглазой, с длинными светлыми волосами, я дал бы лет сорок, другой, высокой сероглазой шатенке, лет двадцать. Нельзя было не отметить редкую красоту этой девушки. Старшая из женщин молилась, младшая внимала ей, безучастно глядя в небо. — Господи, сжалься над нами, бедными пленницами! Ниспошли нам освобождение из плена в этом диком краю. Мы возносим благодарность Тебе, много лет хранящего нас целыми и невредимыми, уповаем на милость Твою, ибо одному Тебе по силам помочь нам. Господи, пусть наш дорогой муж и отец будет жив и здоров, пусть в один благословенный час мы с ним воссоединимся. А коли мертв он и на земле нам не свидеться, пусть умрем мы и встретимся на небесах Твоих, — молилась старшая чистым твердым голосом, а на щеках у нее блестели слезы. — Аминь, — наконец произнесла она. — Аминь, — повторила девушка со странным акцентом. Я обернулся и посмотрел на Брата Джона: он тоже слышал молитву и пребывал в глубочайшем потрясении. Он не мог ни шевельнуться, ни слова вымолвить, и, пожалуй, это к лучшему. — Удерживайте его, а я поговорю с этими дамами! — шепнул я Стивену и Мавово, потом передал ружье Хансу, снял шляпу, прошел за ворота и кашлянул, чтобы привлечь внимание дам. Обе женщины поднялись с колен и смотрели на меня как на призрака. — Леди, прошу вас, не пугайтесь! — начал я с поклоном. — Господь Всемогущий услышал ваши молитвы. Я из отряда белых людей, которым, пусть не без труда, удалось сюда добраться. Вы позволите нам посетить ваше жилище? Во взгляде обеих женщин по-прежнему читалось изумление. Потом старшая сказала: — Я Мать Священного цветка. Чужестранец, говорящий со мной, обречен на смерть. Если ты человек, то как сумел добраться сюда живым? — История длинная, — весело ответил я. — Можно нам войти? Рисковать мы привыкли и очень надеемся быть вам полезными. Замечу, что в отряде трое белых, два англичанина и американец. — Американец? — изумленно повторила старшая женщина. — Как его зовут, как он выглядит? — Ох! — в замешательстве воскликнул я, ибо нервы у меня сдавали. — Он в возрасте, с белой бородой… В общем, похож на Санта-Клауса, а зовут его… — Полное имя я называть не решался. — Джоном… Братом Джоном. Между ним и вашей спутницей мне видится некоторое сходство… Я испугался, что моя новость убьет даму, и проклинал свою неловкость. Чтобы не упасть, бедняжка ухватилась за девушку. Увы, та оказалась ненадежной опорой, ибо сама едва держалась на ногах. Смысл моих слов она поняла, хотя, может, и не полностью. Не забывайте, что белых мужчин та девушка прежде не видала. — Прошу вас, мадам, успокойтесь! — взмолился я. — Пережив столько горя, неблагоразумно умирать от радости. Можно привести сюда Брата Джона? Он проповедник, он подберет нужные слова, а я простой охотник. Женщина сделала над собой усилие и прошептала: — Пришлите его сюда. Я выбежал за ворота, где дожидались мои спутники, схватил Брата Джона, успевшего немного оправиться, за руку, и поволок в хижину. Он и старшая женщина изумленно уставились друг на друга. Молодая леди следила за ними, изумленно раскрыв рот. Брат Джон и пожилая леди стояли, пристально глядя друг на друга. Девушка тоже смотрела на них во все глаза, приоткрыв рот. — Лизбет! — выпалил Брат Джон. — Муж мой! — вскрикнула она, бросаясь к нему на грудь. Я выскользнул за ворота и поспешно закрыл их за собой. — Аллан, вы рассмотрели ее? — поинтересовался Стивен, когда мы с ним отошли в сторонку. — Кого? — спросил я. — Молодую леди в белом. Она прехорошенькая. — Придержите язык, осел вы этакий! — ответил я. — Разве время теперь говорить о девичьей красе?! Я отошел к изгороди и буквально зарыдал от радости. Тот день стал одним из счастливейших в моей жизни, ибо редко все складывается так, как должно. Мне тоже захотелось вознести к небу молитву — поблагодарить Всевышнего, попросить сил и мужества для преодоления многочисленных испытаний, которые нам уготованы.Глава 17
ДОМ СВЯЩЕННОГО ЦВЕТКА
Прошло около получаса, в течение которого я обдумывал наше положение пункт за пунктом, вполуха слушая восторженную болтовню Стивена. Сперва он распространялся о красоте Священного цветка, на который успел глянуть, потом о прекрасных глазах молодой леди в белом. Лишь намекнув, что излишняя настойчивость оскорбит девушку, я убедил его пока не соваться на участок, где росла орхидея. Во время нашего разговора ворота открылись, и в них показалась юная красавица. — Господа, — с почтительным поклоном начала она на забавном тягучем английском, — мать и отец… да, отец… спрашивают, не желаете ли вы со спутниками утолить голод? Мы выразили согласие, и она повела нас к дому. — Не удивляйтесь, глядя на родителей, они очень счастливы, и не взыщите с нас за пресный хлеб, — попросила девушка и с почтением взяла меня за руку. В сопровождении Стивена мы вошли в дом, оставив Мавово и Ханса охранять его снаружи. Дом состоял из двух комнат — гостиной и спальни. В гостиной Брат Джон и его жена сидели рядом на диванчике и восхищенно смотрели друг на друга. Лица обоих блестели от слез, но то, несомненно, были слезы радости. — Лизбет, это мистер Аллан Квотермейн, благодаря решительности и смелости которого мы снова вместе, — сказал Брат Джон, когда мы вошли. — А этот молодой джентльмен — мистер Стивен Сомерс, его компаньон. Говорить леди не могла, поэтому поклонилась и протянула нам руку, которую мы пожали. — Что такое смелость и решительность? — шепотом спросила Стивена девушка. — И почему их нет у тебя, о Стивен Сомерс? — Долго объяснять, — засмеялся Стивен, и их болтовню я больше не слушал. Потом мы сели за стол и подкрепились овощами и утиными яйцами, сваренными вкрутую. Стивен и Хоуп[318] — именно так мать навала дочь, рожденную в час глубокого отчаяния, — вынесли большие порции еды для Мавово и Ханса. История миссис Эверсли оказалась невероятной, хоть и краткой. Она бежала от Хасана бен Магомета и работорговцев, как и поведал Брату Джону умирающий невольник на Занзибаре, и, проблуждав несколько дней, угодила в руки к понго, когда те небольшим отрядом вышли на охоту за рабами. Дикари переправили пленницу через озеро, на свою землю. К тому времени прежняя Мать Цветка, альбиноска, умерла, достигнув глубокой старости, и миссис Эверсли водворили на ее место, которое она с тех пор не покидала. Привез ее сюда тогдашний Калуби в сопровождении так называемых миновавших кары бога. Последнего она никогда не видела, хотя однажды слышала его рев. Чудище не тронуло их и ни разу не показалось за время путешествия. Вскоре после водворения на остров миссис Эверсли родила дочь. Выхаживали ее служанки Цветка. С того момента к пленницам относились с большой заботой и благоговением, ибо Мать Цветка и сам Цветок воплощали плодовитость, и вымирающее племя сочло рождение ребенка благим знамением. Кроме того, понго надеялись, что со временем Дитя Цветка займет место своей матери. Одинокие, беспомощные, мать и дочь посвятили себя земледелию. К счастью, даже в плену при миссис Эверсли осталась маленькая Библия. Благодаря Священному Писанию Хоуп научилась читать и узнала много полезного. Я часто думал, что, если бы меня обрекли на пожизненное одиночество и позволили бы взять с собой единственную книгу, я выбрал бы Библию, ведь в ней не только история мироздания, изложенная красочным языком, но и надежда человека на спасение. Этой книги было бы вполне достаточно, — уверен, миссис Эверсли и Хоуп согласились бы со мной. Поразительно, но все эти годы миссис Эверсли, подобно своему мужу, надеялась, что ее вызволят из плена. — Я верила, что ты жив, Джон, и мы встретимся, — говорила она мужу. Мать и дочь оказались невероятно сильны духом. Обе были очень жизнерадостны, особенно юная Хоуп. Я почувствовал это, едва улеглись треволнения, связанные с нашим приездом. Впрочем, другой жизни девушка не знала, а человек приспосабливается ко всему. Добавлю, что впоследствии она превратилась в самую настоящую леди. Как же иначе, раз ее спутницами и наставницами стали мать, природа и Библия. Немые служанки-невольницы были не в счет. Когда миссис Эверсли окончила рассказ, мы вкратце поведали ей о своих приключениях. С каким интересом слушали мать и дочь! О нашей беседе распространяться не буду, приведу лишь интересное замечание мисс Хоуп: — Получается, наш спаситель — вы, Стивен Сомерс! — Конечно, — подтвердил Стивен. — Но почему вы так решили? — Потому что вы, увидев Священный цветок в далекой Англии, сказали: «Я должен его заполучить». Потом вы заплатили сребреники за путешествие. — (Вот оно, чтение Библии!) — Затем наняли храброго охотника, чтобы он убил Белого дьявола и привел сюда вас и моего седовласого отца. Да, вы наш спаситель, — заключила Хоуп, очень мило ему кивнув. — Это не совсем так, — ответил Стивен. — Потом я вам объясню. А теперь, мисс Хоуп, не покажете ли вы нам Цветок? — Сделать это может только Мать Цветка. Если вы посмотрите на Цветок в ее отсутствие, вы умрете. — В самом деле? — воскликнул Стивен, умолчав о том, что влезал на плетень участка. После долгих колебаний Мать Цветка согласилась-таки показать свое сокровище, рассудив, что главный бог понго повержен и опасности нет. Однако сперва она отправилась в заднюю часть дома и хлопнула в ладоши. На этот зов явилась немая старуха, типичная туземная альбиноска. На нас она воззрилась с удивлением. Миссис Эверсли заговорила с ней жестами, да так быстро, что едва можно было уследить за движением ее пальцев. Старуха поклонилась до земли, потом выпрямилась и побежала к озеру. — Я послала ее за веслами, — пояснила миссис Эверсли. — Я помечу их своей печатью. Тогда никто не осмелится воспользоваться ими, чтобы переплыть через озеро. — Очень благоразумно, — похвалил я. — О том, что мы здесь, Мотомбо лучше не знать. Мы подошли к ограде, за которой рос Священный цветок. Миссис Эверсли разрезала туземным ножом пальмовые волокна, припечатанные глиной к столбу. Никто не мог проникнуть на участок, не порвав волокна. Печать, прелюбопытную золотую вещицу, Мать Цветка носила на шее как знак занимаемого ею положения. На лицевой стороне печати грубо вырезали обезьяну с цветком в правой лапе. Печать казалась очень старой, значит обезьяна и орхидея почитались народом понго с незапамятных времен. Мать Цветка открыла дверь. Посреди участка росло прекраснейшее растение из тех, что доводилось видеть человеку. Оно было футов восемь в поперечнике, с длинными и узкими темно-зелеными листьями. Из почек пробивались бутоны. О, какая это была красота! Распустившихся я насчитал около дюжины, ибо мы застали пору цветения. Размер бутонов я уже упоминал, когда описывал высушенный экземпляр, повторять нет нужды. По количеству цветков этого священного растения понго предсказывали урожайность года: если орхидея цвела обильно, ждали хорошего урожая, если скудно — плохого, если не цвела вообще, готовились к голоду и засухе. Воистину, бутоны были великолепны — чашечка белая в черную полоску, околоцветник золотистый, как и боковые лепестки. В центре каждого бутона темнело пятно, очень похожее на обезьянью голову. Если меня цветок поразил, несложно представить, как отреагировал Стивен, с его-то орхидейной манией. Да он чуть рассудка не лишился! Стивен долго таращился на цветок, потом рухнул перед ним на колени, заставив мисс Хоуп воскликнуть: — О Стивен Сомерс, вы тоже поклоняетесь Священному цветку? — Да, — ответил он, — я готов умереть за него. — Это вы еще успеете! — в сердцах пообещал я, так как не люблю, когда взрослые люди выставляют себя идиотами. Придуриваться можно по одной-единственной причине, и точно не ради цветка! Следом за нами за ограду прошли Мавово и Ханс, и я подслушал их разговор, который меня позабавил. Ханс объяснил Мавово, что белые люди восхищаются этим сорняком (он так и выразился: «сорняком») потому, что он похож на золото, а именно оно истинный бог белых, хоть и именуется по-разному. Мавово в ответ безразлично пожал плечами, мол, может, оно и так, хотя он видел истинную причину в другом: из сорняка готовят снадобье, дарующее белым силу и храбрость. Замечу, что зулусы ценят только те цветы, из которых потом завязываются съедобные плоды. Налюбовавшись великолепным цветком вдоволь, я спросил миссис Эверсли, что за холмики окружают торфянистую клумбу, на которой растет орхидея. — Это могилы Матерей Цветка, — ответила она. — Здесь их двенадцать; а вот место для тринадцатой. Оно предназначено для меня. Чтобы сменить тему разговора, я задал ей иной вопрос, а именно: единственный ли это цветок или у понго есть еще? — Других нет, — ответила она, — по крайней мере, я о них не слышала. Мне говорили, что много лет назад этот цветок доставили сюда издалека. Кроме того, согласно древнему закону, ему не дают разрастаться. Любой побег, тянущийся за пределы этой клумбы, я должна срезать и уничтожить с соответствующей церемонией. Видите семянку, оставленную на стебле прошлогоднего цветка? Она созрела, и в следующее новолуние, когда меня посетит Калуби, я должна буду сжечь ее на ритуальном костре в его присутствии. Если семянка проклюнется раньше, мне, опять-таки на ритуальном костре, следует сжечь побеги. — Вряд ли Калуби сюда явится, — заметил я. — Пока вы здесь, он точно не приедет. Перед тем как уйти, я, привыкший не упускать ничего полезного, сорвал эту зрелую семянку, размером не превосходящую апельсин. Никто не заметил, как я спрятал семянку в карман, никто ее не хватился. Потом, предоставив Стивену и молодой леди восхищаться орхидеей (или друг другом), мы, трое старших, вернулись в дом, чтобы обсудить положение вещей. — Миссис и мистер Эверсли, после двадцатилетней разлуки судьба свела вас снова, — начал я. — Но что нам делать дальше? Горилла убита, путь через лес свободен. Но за лесом озеро, а лодки у нас нет. К тому же на другом берегу, у входа в пещеру, сидит, словно паук в паутине, старый колдун Мотомбо. За пещерой нас могут поджидать Комба, или новый Калуби, и целое племя каннибалов… — Понго едят людей?! — перебила миссис Эверсли. — Я не знала, что они так кровожадны. Правда, я знаю понго очень мало, так как почти не видела их. — Раз так, поверьте мне на слово. Кроме того, понго наверняка рассчитывают нас съесть. Вряд ли вам хочется провести на острове остаток жизни, вот я и хотел бы узнать, как вы намереваетесь бежать из страны понго? Супруги Эверсли покачали головой. По-видимому, они не думали об этом. Брат Джон погладил белую бороду и спросил: — Аллан, у вас ведь есть план? Мы с женой полностью на вас полагаемся, вы так изобретательны! — План?.. — Я запнулся. — Знаете, Джон, в любой другой ситуации… — После минутного замешательства я позвал Ханса и Мавово, которые уселись на корточках на веранде. — Ну и что вы можете предложить? — осведомился я, после того как обрисовал суть дела. При отсутствии жизнеспособных идей мне не терпелось взвалить ответственность на чужие плечи. — Мой отец Макумазан смеется над нами, — мрачно изрек Мавово. — Какие планы может строить крыса, сидящая в норе, пока собака караулит ее у входа? Сейчас мы в безопасности, как те крысы. Я не вижу иного выхода, кроме смерти! — Весело! — заметил я. — А что скажешь ты, Ханс? — Ох, баас, мне хватило мудрости спрятать Интомби в бамбуковую палку, — ответил готтентот. — Но теперь моя голова уподобилась тухлому яйцу. Когда я пытаюсь вытряхнуть из нее мудрость, мозги тают и болтаются в ней, как протухший желток. Хотя одна мысль у меня есть — спросить совета у мисс. У нее молодой, свежий ум. Бааса Стивена спрашивать бесполезно: у него голова теперь другим занята. — Ханс слабо улыбнулся. Скорее чтобы выиграть время и обдумать положение, нежели по иной причине, я позвал мисс Хоуп. Она вместе со Стивеном вышла из-за ограды, возведенной вокруг Священного цветка. Я объяснил, в чем дело, говоря медленно и ясно, чтобы девушка меня поняла. К моему удивлению, она ответила сразу. — Что есть бог, о мистер Аллан? Это больше, чем человек? Может ли он годами томиться в яме, как Сатана из Библии? Если он пожелает переселиться, увидеть новую страну, кто ему запретит? — Не пойму, о чем вы, — ответил я, хотя и догадывался, к чему она клонит. — О Аллан, Священный цветок — бог, моя мать — его жрица. Если Священному цветку здесь надоело и он желает расти в другом месте, почему бы жрице не перенести его туда и не переселиться вместе с ним? — Великолепная идея! — сказал я. — Но видите ли, мисс Хоуп, тут есть или, вернее, было два бога, и один из них не может путешествовать. — О, это очень легко устроить! Наденьте шкуру лесного бога на того человека. — Она указала на Ханса. — Кто заметит разницу? Они похожи друг на друга, как родные братья. Только этот меньше. — Право, великолепная идея! — восхитился Стивен. — Что говорит мисс? — подозрительно спросил Ханс. Я объяснил ему. — Ох, баас! — воскликнул Ханс. — Только представьте, как будет пахнуть шкура, когда нагреется на солнце. Кроме того, обезьяна большого роста, а я малого. Он обернулся к Мавово и предложил ему взять эту роль на себя, намекая, что она больше подходит высокому статному зулусу. — Я скорее умру, чем соглашусь, — ответил гордый Мавово. — Мне, благородному воину, нарядиться в шкуру мертвого зверя и явиться перед людьми в виде обезьяны? Мы поссоримся с тобой, Пятнистая змея, если ты еще раз предложишь мне такое. — Мавово прав, — сказал я. — Он воин, которому нет равных в бою. Ты же, Ханс, силен своей хитростью и, надев шкуру гориллы, оставишь понго в дураках. Лучше тебе на пару часов вырядиться обезьяной, чем всем нам погибнуть. — Верно, баас. Вообще-то, мне, как и Мавово, легче умереть, чем напялить эту шкуру, но здорово будет одурачить этих понго еще раз. Кроме того, я не желаю, чтобы бааса убивали только потому, что мне противен запах. Коли нужно, я сделаюсь богом-обезьяной. Таким образом, благодаря самопожертвованию добряка Ханса, истинного героя этой истории, проблема решилась, насколько это было возможно. Отчаянную затею мы решили осуществить на заре следующего дня. Предстояла большая подготовка. Для начала миссис Эверсли созвала служанок, которые вскоре собрались у веранды. Печальное зрелище: все двенадцать оказались неприятными на вид альбиносками, половина еще и глухонемыми. Миссис Эверсли обратилась к ним на правах жрицы и объявила, что живущий в лесу бог мертв, поэтому ей следует взять Цветок, именуемый Супругой бога, и отправиться к Мотомбо, дабы известить его о трагедии. Тем временем они должны оставаться на острове и продолжать обработку полей. Приказ поверг несчастных женщин в уныние, ибо они сильно привязались к своей госпоже и к ее дочери. Старшая из них, высокая тощая старуха с белыми волосами и розовыми глазами — Ангорский кролик, как назвал ее Стивен, — бросилась на землю и, целуя ноги миссис Эверсли, спросила, когда госпожа возвратится, ведь без нее и Дочери Цветка все они умрут от тоски. Справившись с волнением, миссис Эверсли ответила, что не знает: все будет зависеть от воли Неба и Мотомбо. Потом, дабы прекратить дальнейшие разговоры, она велела служанкам принести кирки, которыми они обрабатывают землю, а также багры, циновки, веревки из пальмовых волокон и помочь нам выкопать Священный цветок. Выкапывали его под руководством Стивена, ведь для него это самая привычная работа, хотя выполнять ее было нелегко и невесело — служанки постоянно плакали, а имеющие голос рыдали навзрыд. У мисс Хоуп тоже были слезы на глазах, а миссис Эверсли заметно волновалась. Свыше двадцати лет она была хранительницей этого растения и, вполне естественно, стала относиться к нему с тем же благоговением, что и понго. — Как бы это святотатство не принесло нам беды, — проговорила она. Брат Джон, занимающий весьма определенную позицию по отношению к африканским суевериям, утихомирил ее, процитировав Вторую заповедь[319]. Наконец, стараясь не задеть корни, мы выкопали цветок вместе с куском дерна, чтобы не засох. В яме, на глубине около трех футов, обнаружилось несколько предметов. Во-первых, небольшой грубый амулет — каменная обезьяна в золотой короне. Тот древний амулет до сих пор хранится у меня. Во-вторых, слой угля, а в нем обгоревшие кости и малоповреждённый череп. Последний, по-видимому, принадлежал женщине низшей расы, возможно первой Матери Цветка, хотя мне он больше напомнил череп гориллы. Увы, темнота и нехватка времени не позволили рассмотреть останки, а увезти мы их не смогли. Впоследствии миссис Эверсли рассказывала: она слышала от Калуби, что некогда у бога понго была жена, умершая задолго до переселения племени. В таком случае нам попались кости супруги бога-обезьяны. Орхидею извлекли из почвы, в которой она росла много лет, поместили на большую циновку, и Стивен, сущий виртуоз в таких делах, искусно обложил растение влажным мхом. Корни обмотали циновкой, каждый стебелек из предосторожности привязали к тонкой бамбуковой палочке. Потом орхидею уложили на бамбуковые носилки и закрепили веревкой из пальмовых волокон. Тем временем стало темнеть. Всех нас одолевала усталость. — Баас, может, нам с Мавово взять немного еды и переночевать в лодке? — спросил Ханс, когда мы возвратились в дом. — Эти женщины-служанки выглядят безобидно, но я наблюдал за ними целый день и боюсь, как бы они не наделали весел из палок и не пересекли озеро, чтобы предупредить понго. Дробить наш небольшой отряд мне не хотелось, но мысль Ханса показалась благоразумной, и я согласился. Ханс и Мавово вооружились копьями, захватили провизию и отправились на берег. Тот вечер запомнился мне еще одним событием — Хоуп приняла крещение от своего отца. В жизни не видывал ничего трогательнее, но описывать не стану.Мы со Стивеном заночевали на огороженном участке, возле упакованной орхидеи: Сомерс не желал с ней расставаться. Предосторожность оказалась нелишней. Около полуночи дверь неслышно приоткрылась, и в свете луны я увидел женщин-альбиносок. Уверен, они собирались украсть Священный цветок. Я кашлянул и поднял ружье, после чего они убежали и больше не возвращались. Брат Джон, его жена и дочь встали задолго до зари, чтобы подготовиться к путешествию, собрать провизию и так далее. Позавтракали мы еще при луне и с первыми лучами солнца, после молитвы о заступничестве, которую вознес к Небу Брат Джон, тронулись в путь. Миссис Эверсли и ее дочь с грустью расставались с островком, где мирными затворницами прожили столько лет, где Хоуп родилась и выросла. Я очень старался отвлечь их разговорами. Священный цветок — ноша не из легких, но я решил: пусть орхидею несут женщины, ее жрицы. Впереди шел я с ружьем, следом мать и дочь с Цветком. Белые одежды они покрыли плащами из мягкой, специально обработанной коры. Замыкали шествие Брат Джон и Стивен с веслами. Мы без приключений добрались до озера и, к своему облегчению, встретили на берегу Мавово и Ханса. Не зря они спали в лодке — ночью подкрались альбиноски с явным намерением завладеть ею. Увидев, что она охраняется, женщины убежали. Когда мы приготовились к отплытию, несчастные служанки явились в полном составе, пали ниц и, кто мольбами, кто отчаянными жестами, упрашивали Мать Цветка не покидать их. В итоге зарыдали и миссис Эверсли с Хоуп. Только слезами тут не поможешь, и мы поскорее отчалили, оставив безутешных альбиносок на берегу. Если честно, совесть мучила и меня, только что я мог сделать? Надеюсь, с альбиносками не случилось ничего плохого, хотя дальнейшая их судьба мне неизвестна. На другом берегу озера мы спрятали лодку в кустах, в том самом месте, где нашли ее, и отправились дальше. Цветок несли теперь Стивен и Мавово, самые сильные из нас. Стивен на тяжесть не жаловался, зато как ругался зулус! Проклятия, которыми он сыпал несколько часов кряду, заполнят целую страницу, пожалуй, я как-нибудь их запишу, ведь некоторые из них прелюбопытны. Боюсь, если бы не дружба со Стивеном, Мавово бросил бы орхидею. Мы пересекли Сад бога, где, по словам миссис Эверсли, Калуби дважды в год разбрасывали священные семена. Таким образом, подтвердилась история, услышанная нами ранее. Вероломная тварь, которую мы уничтожили, нападала на опостылевших ей вождей, когда те брели через лес. Впрочем, атаковала горилла исключительно после того, как Калуби завершали сев. Из этих семян вырастали растения, кормившие ее, — разве это не доказательство дьявольской хитрости старой обезьяны? То, что наш Калуби погиб не в лесу, казалось исключением из правил. Вдруг горилла знала, что он явился сюда не ради ее блага? Вдруг ее подстегнуло наше появление? Кто может объяснить поведение дикого существа? Обычно преследование Калуби растягивалось года на полтора. В первый раз Белый дьявол сопровождал вождя до сада и обратно, проявляя свою неприязнь рыком. Во второй раз он хватал его за руку и откусывал ему палец (как случилось недавно), что вело к заражению крови и, как правило, к смерти. Если Калуби выживал, горилла убивала его позднее — чаще всего могучими челюстями ломала ему череп. Королей понго при посещении священного места сопровождали особо преданные им юноши, которых лесное божество также нередко лишало жизни. Те, кто остался невредим после шести посещений, подвергались особым испытаниям. Двое выживших удостаивались таких титулов, как Миновавший кары и Признанный богами, и пользовались большим почетом, как, например, Комба. После гибели Калуби один из них занимал его место, сохраняя его за собой лет десять, а то и дольше. Миссис Эверсли не подозревала ни о ритуальном поедании останков Калуби, ни о захоронении костей в саркофагах — подобные события от нее тщательно скрывались. Она добавила, что из знакомых ей вождей как минимум трое обезумели от страха перед скорым концом, особенно после божественного рыка и откусывания пальца. Воистину несладко жилось коронованным особам понго,обреченным на мучительную гибель без малейшей надежды спастись. Не представляю ничего ужаснее существования королей, лишавшихся привилегий и власти столь чудовищным образом. Я спросил миссис Эверсли, посещал ли бога Мотомбо. Она ответила, что раз в пять лет, в новолуние, после многочисленных обрядов колдун проводил в лесу целую неделю. Один из Калуби рассказывал ей, что видел, как Мотомбо и бог сидят в обнимку под деревом и «беседуют, словно братья». За исключением пары баек о сверхъестественной хитрости бога-обезьяны, это все, что я узнал о нем от понго, склонных считать его злым духом, вселившимся в огромную старую гориллу. Нет, есть еще один момент, подтверждающий рассказ Бабембы. Думаю, временами понго отправляли в лес пленников-инородцев, чтобы злобная тварь забавлялась, убивая беззащитных. На эту участь понго по жуткой традиции обрекли и нас. Мы вышли к упавшему дереву. Обезьянья шкура так и лежала растянутой на колышках, разве чуть усохла. Шкуру явно приметили лесные муравьи, которые, к счастью для Ханса, объели с нее мясо, а кожу не тронули, потому что она оказалась чересчур жесткой. Чистая работа, ничего не скажешь! Кроме того, трудолюбивые крохотные создания съели и саму гориллу. От нее остались только белые кости, лежащие в том же положении. Кусочек за кусочком многочисленная муравьиная армия уничтожила колоссальную тушу и скрылась в чаще. Как же мне хотелось добавить огромный скелет гориллы к своей коллекции трофеев, но это не представлялось возможным. По словам Брата Джона, любой музей предложил бы за него несколько сотен фунтов, так как в мире вряд ли существовал экземпляр, подобный этому. Но скелет был слишком тяжел. Я мог лишь запечатлеть его в памяти, внимательно осмотрев громадные кости. Кроме того, я извлек из правой лапы и сохранил пулю, которую всадил в гориллу, когда та похитила Калуби. Пуля не сломала, а лишь раздробила кость. Мы отправились дальше, захватив с собой шкуру лесного божества; голову и объеденные муравьями лапы предварительно набили влажным мхом, чтобы сохранить форму. Груз получился не из легких, по крайней мере так говорили Брат Джон и Ханс, несшие эти жуткие останки на суку поваленного дерева. О дальнейшем пути к озеру, омывавшему вход в пещеру, скажу, что, тяжелой ноше вопреки, спускаться с крутого склона было куда легче, чем подниматься на него. Однако вперед мы продвигались очень медленно. Когда наша процессия наконец достигла кладбища, до заката оставалось не более часа. Мы устроили привал и обсудили наше положение. Что нам следовало делать? Перед нами лежало озеро, но не было лодки, чтобы через него переплыть. Да и что ждало на другом берегу? Пещера, в которой, словно паук в паутине, сидел тот, кого и человеком не назовешь! Не думайте, что мы лишь тогда забеспокоились о своем спасении. Напротив, даже пытались перетащить через лес лодку, на которой переправлялись на Остров Цветка и обратно. Но затею пришлось бросить, поскольку «суденышко» с днищем толщиной в четыре-пять дюймов, выдолбленное из цельного бревна, мы и пятидесяти ярдов не проволокли. Как же нам быть? Переправиться вплавь нельзя из-за крокодилов, да еще выяснилось, что из всего отряда плавать умеем лишь мы со Стивеном. А где взять бревна на постройку плота? Я подозвал Ханса, и, оставив спутников на кладбище, где им ничего не угрожало, мы пошли на разведку. Спустились к берегу и пробрались к воде, опасливо скрываясь в камышах и мангровых зарослях. Пожалуй, нас вряд ли могли заметить — жаркий день клонился к вечеру, небо заволакивали огромные тучи, сулившие сильную грозу. Мы смотрели на темную илистую воду, на крокодилов, дюжинами сидевших на мелководье и явно поджидавших кого-то, на другой берег с отвесной скалой и черным провалом в скале. Заводь у пещеры напоминала ров вокруг замка. Единственный путь лежал сквозь гору, ведь протоку, по которой Бабемба доплыл до большой воды, завалило сломанными деревьями. Мы искали бревно, на котором можно добраться до пещеры, или сухой тростник, или хворост, чтобы соорудить плот, однако нам, увы, ничего не попалось. — Если не добудем лодку, лучше остаться здесь, — сказал я Хансу, притаившемуся в камышах рядом со мной, у кромки воды. На мои слова готтентот не ответил, и я, задумавшись, отвлекся, наблюдая за жизнью насекомых. В этом крохотном мирке произошла сцена, весьма напоминающая трагедию на театральных подмостках. Крупный лесной паук натянул между двумя камышинками ловчую сеть размером с раскрытый дамский зонтик. Нижняя часть паутины почти касалась воды. В центре сидел сам охотник в ожидании добычи, словно крокодилы, караулящие жертву у берегов, словно гигантская обезьяна, караулившая Калуби, словно смерть, караулящая жизнь, словно Мотомбо, караулящий неизвестно кого в своей пещере. Мне показалось, что черный паук с белым пятном на голове очень напоминает Мотомбо… И вот передо мной разыгралась настоящая драма. Большая белая бабочка из семейства бражников, порхавшая с камышинки на камышинку, запуталась в паутине, дюймах в трех от воды. Паук тотчас бросился на нее и обхватил несчастную жертву длинными лапами, чтобы та не билась. Потом он сполз ниже и начал оплетать пленницу паутиной. Вдруг из воды показалась голова крупной рыбы. Рыба преспокойно проглотила паука и исчезла в глубине, утащив за собой часть паутины, и тем самым освободила бабочку. Та упала на щепку и уплыла на ней. — Баас видел это? — спросил Ханс, указывая на разорванную паутину. — Пока баас размышлял, я молился покойному отцу бааса, и тот указал нам путь, послав знамение из огненного места. Даже в тот нелегкий момент я в душе рассмеялся, представив, как мой покойный отец отреагировал бы на слова своего крестника. Религиозные взгляды Ханса прелюбопытны, жаль, я так их и не проанализировал, а тогда, на берегу озера, задал лишь один вопрос: — Какое знамение? — Вот это самое, баас. Паутина — это пещера Мотомбо. Большой паук — сам Мотомбо. Белая бабочка — это мы, баас, запутавшиеся в паутине. — Прекрасно, Ханс! — похвалил я. — А рыба, которая проглотила паука и помогла бабочке уплыть на щепке? — Рыба — это вы, баас. Под покровом тьмы вы тихонько выберетесь из воды и застрелите Мотомбо из маленького ружья, после чего мы сядем в лодку и уплывем, как та бабочка на щепке. Гроза собирается. Кто ненастной ночью заметит, как баас переплывает заводь? — Крокодилы, — ответил я. — Баас, я не видел, чтобы крокодилы съели рыбу! Сейчас та рыба ушла глубоко, и она очень рада: в брюхе у нее жирный паук. А крокодилы в грозу ложатся спать — боятся, как бы молния не убила их за грехи. Ханс напомнил мне о том, что я уже слышал, да и сам нередко замечал: в непогоду эти гигантские рептилии прячутся, вероятно, потому, что прячется их добыча. Как бы то ни было, решение я принял быстро. Едва стемнеет, я переплыву озеро, держа Интомби над головой, и попытаюсь украсть лодку. Надеюсь, старый колдун спит, а если бодрствует, ему придется уснуть навеки. Я понимал, что затея отчаянная, но не видел иных вариантов. Без лодки мы были обречены на голодную смерть в лесу. Возвращение на Остров Цветка тоже сулило гибель — от рук понго. Ведь рано или поздно Комба с воинами придут искать растерзанные обезьяной тела чужеземцев. — Я попробую, Ханс, — пообещал я. — Я так и знал, баас! Я тоже отправился бы с баасом, да плавать не умею. А если начну тонуть, подниму шум, ведь тонущий над собой не властен. Все кончится благополучно, иначе покойный отец бааса не послал бы нам знамение. Бабочка спокойно уплыла на щепке, а потом наверняка расправила крылья и улетела. Жирный паук сейчас в желудке у рыбы. Ох, как она над ним смеется!
Глава 18
УДАРЫ СУДЬБЫ
Мы возвратились к спутникам — те явно пали духом, сидя на земле среди саркофагов. Неудивительно: близилась ночь, издали доносились раскаты грома, эхом отдававшиеся в лесу, первые крупные капли дождя орошали траву. В общем, вопреки заверениям Стивена, что из-за каждой тучи рано или поздно выглянет солнце — мол, нет худа без добра, — будущее казалось удручающим. — Ну, Аллан, каков ваш план? — спросил меня Брат Джон делано бодрым тоном и выпустил руку жены, что в те дни случалось крайне редко. — Я отправлюсь за лодкой, на которой мы переплывем заводь, — ответил я. Все посмотрели на меня с удивлением, и мисс Хоуп, сидевшая рядом со Стивеном, поинтересовалась, как обычно на библейский лад: — У вас есть крылья, чтобы перелететь через воду, аки голубь, о мистер Аллан? — Нет, но есть плавники, чтобы переплыть через воду, аки рыба. Тут же посыпались возражения. — Вы не должны подвергать себя риску, — заявил Стивен. — Я моложе вас и плаваю не хуже. Я и отправлюсь за лодкой, тем более мне охота помыться. — Потерпите, о Стивен! — воскликнула мисс Хоуп, и в ее голосе послышалась тревожная нотка. — Ночной дождь смоет всю грязь. — Да, Стивен, плавать вы умеете, — согласился я, — но, простите меня, с ружьем обращаться толком не можете, а от удачной стрельбы зависит успех нашей затеи. Так что идти должен я, и надеюсь, все кончится хорошо. А если нет, невелика беда, сильно вы не пострадаете. Вас три пары: Джон и его супруга, Стивен и мисс Хоуп, Мавово и Ханс. У меня пары нет, если погибну, выберете нового командира, но пока за экспедицию отвечаю я, вы должны мне повиноваться. Потом заговорил Мавово: — Мой отец Макумазан — храбрый человек. Если он останется в живых, он исполнит свой долг. Если же умрет, он исполнит его еще лучше. На земле — или на том свете, среди духов наших отцов — его имя навсегда возвеличится. Да, его имя станет песней! Когда Брат Джон перевел всем остальным эти слова, показавшиеся мне великолепными, наступило молчание. — Теперь всем лучше перебраться на берег, — сказал я. — В грозу там безопаснее, поскольку нет высоких деревьев. Леди, за время моего отсутствия постарайтесь облачить Ханса в шкуру гориллы. Затяните ее веревками из пальмовых волокон, которые мы принесли с собой, пустоты и голову набейте листьями и камышом. Когда я вернусь с лодкой, Ханс должен быть готов. Ханс громко застонал, но прекословить не решился. Мы захватили багаж и отправились на берег, где укрылись за мангровыми зарослями и высоким тростником. Там я снял с себя все, кроме серой рубашки и серых же кальсон, то есть стал почти невидим в ночной тьме. Теперь я был готов, и Ханс передал мне маленькое ружье. — Оно заряжено, баас, и на полном взводе, — сказал он. — Чтобы уберечь от влаги пистон и порох, я обмотал замок подкладкой своей шляпы, которая просалилась насквозь, ведь в жару волосы сильно салятся. Она не завязана, баас. Надо только слегка встряхнуть ружье, и подкладка отпадет. — Ясно, — отозвался я и левой рукой взял ружье за язычок у самого ударника, чтобы мерзкая жирная тряпица не слетела с замка и пистона. Потом я пожал спутникам руки. С гордостью добавлю, что, когда я подошел к мисс Хоуп, она по собственной воле запечатлела на моем старческом лбу поцелуй. Захотелось ответить тем же, но я удержался. — Это поцелуй-благословение, о Аллан, — проговорила девушка. — Возвращайтесь с миром! — Благодарю, — отозвался я. — А теперь, пожалуйста, сделайте из Ханса обезьяну. Стивен пробурчал, что ему за себя стыдно. Брат Джон вознес к Небу страстную молитву. Мавово отдал честь, подняв медный наконечник копья, забормотал, воздавая мне сибонгу, а миссис Эверсли сказала: — Слава богу, что я дожила до встречи с отважным англичанином! Я обрадовался комплименту, в том числе в адрес своей нации, но потом узнал, что миссис Эверсли урожденная англичанка, и воспоминание об этой радости слегка потускнело. Ослепительно сверкнула молния, гроза уже бушевала в полную силу, и я быстро спустился к воде вместе с Хансом, решившим проститься со мной последним. — Возвращайся, Ханс, а то тебя молния высветит, — сказал я, бесшумно соскальзывая по мангровым корням в мутную воду. — Передай остальным, пусть постараются сохранить мою одежду сухой. — До свидания, баас, — отозвался Ханс, и я услышал его всхлипывания. — Пусть бодрость не покидает бааса всех баасов! На холме смерти было страшнее, Интомби спасло нас тогда, спасет и сейчас, ибо оно чувствует, в чьи руки попало. Если Ханс сказал что-то еще, я не расслышал: помешал ливень. Да, перед другими я бодрился, но словами не передать, как мне было страшно. Наверное, страшнее всего в жизни, а это говорит о многом. Я решился на безумнейшую затею. Все опасные моменты перечислять не стану, скажу только, что больше всего боялся крокодилов. Ненавижу крокодилов с тех пор, как… неважно! В этой луже их было больше, чем черепах на острове Вознесения. Я поплыл. Протока ярдов двести шириной — небольшая преграда для хорошо плавающего человека. Вот только левой рукой мне приходилось удерживать ружье над водой: если окунешь, оно станет бесполезным. Еще я опасался, что меня увидят при вспышке молнии, поэтому на голове у меня была темная суконная шляпа. Меня пугали и сами молнии: сверкали они ослепительно и, казалось, били прямо в воду. Мне почудилось, что в нескольких ярдах от меня упала шаровая молния, словно ее притянул металл ружейного ствола, но вышла промашка. Впрочем, не исключено, что это крокодил всплывал на поверхность воды. Однако мне повезло в одном, вернее, в двух отношениях. Во-первых, мне благоприятствовало полное отсутствие ветра, от которого поднялись бы волны, захлестнули меня и неизбежно намочили ружье. Во-вторых, я совершенно не боялся заблудиться, так как видел огни, горевшие в пещере слева и справа от свайного трона Мотомбо. Они играли ту же роль, что маяк, который гречанка по имени Геро ночами зажигала на башне, дабы ее возлюбленный Леандр переплыл Геллеспонт. Впрочем, тому юноше тайные заплывы сулили нечто приятное, а вот мне… Хотя с легендой меня кое-что сближало. Если я правильно помню, Геро была жрицей греческой богини любви. Меня ожидал некто, так же связанный с религией. Однако он — и я в это твердо верил — служил дьяволу. Около четверти часа я плыл не торопясь, чтобы сберечь силы, хотя страх перед крокодилами бередил мое воображение. Но они, слава богу, не показывались, так что беспокоился я напрасно. Я достиг пещеры — над головой навис скалистый выступ, — потом пересек мелководную бухточку, где находился причал, и встал на дно. Вода доходила мне до груди. Я оценивал обстановку, а сам тем временем отдыхал, разминал левую руку, онемевшую от тяжести ружья, и протирал глаза, с трудом привыкая к неяркому свету костров. Я снял тряпицу с ружейного замка и выбросил, предварительно вытерев ей ствол Интомби. Особыми манипуляциями я ослабил предохранитель — теперь ружье отреагирует при слабейшем нажатии на спусковой крючок. Потом я снова огляделся по сторонам. Я увидел настил на сваях, а на нем — увы! — похожего на жабу Мотомбо. Он сидел спиной ко мне и смотрел не на воду, а вглубь пещеры. На роковой миг я замер в нерешительности. Вдруг жрец спит и я сумею взять лодку без стрельбы? Я не люблю убивать, но если уж стрелять, то наверняка. А Мотомбо, как назло, наклонил голову вперед, а где гарантии, что выстрел в спину окажется смертельным? Кроме того, мне хотелось избежать шума. Тут Мотомбо обернулся. Мое присутствие он, должно быть, почувствовал интуитивно, ибо мертвую тишину нарушал лишь тихий шорох дождя. В этот момент сверкнула молния, и жрец увидел меня. — Это белый человек, — прошелестел Мотомбо, а я с ружьем на плече стал ждать следующей молнии. — Белый человек, который стрелял в меня давным-давно. Он снова здесь с ружьем в руках. Судьба наносит удар! Бог мертв — значит умереть нужно и мне. Потом его словно одолели сомнения — Мотомбо поднял рог, чтобы позвать на помощь. Снова блеснула молния, страшно загремел гром. Умоляя Всевышнего не лишать меня меткости, я прицелился Мотомбо в голову и выстрелил в тот самый момент, когда он поднес рог к губам. Рог выпал из рук колдуна, тот съежился и замер. Хвала Всевышнему, в тот трудный момент мастерство не изменило мне. Если бы у меня дрогнула рука, если бы нервы не выдержали напряжения, если бы жирная Хансова тряпица не уберегла порох и пистон от влаги, сия история никогда не увидела бы свет, а на кладбище Калуби прибавилось бы костей. На минуту я застыл, опасаясь, что прислужницы появятся из дверных проемов по обеим сторонам пещеры и поднимут тревогу. Никто не вышел, и я понял, что раскаты грома заглушили треск выстрела, да и подобного звука прислужницы прежде не слышали. Десятилетиями Мотомбо день-деньской просиживал на троне, с которого едва мог спуститься. На закате прислужницы закутали его в меха и развели костры, чтобы жрец не замерз, так зачем им показываться, раз старик не трубил в рог, то есть не звал их? Приободренный, я отвязал лодку, влез в нее и повел прочь из бухты. Снова вспыхнула молния, высветив лицо Мотомбо в считаных футах от меня. Его выражение устрашило бы любого. Теперь подбородок почти касался коленей. Посреди лба виднелся след пули — синее входное отверстие, ибо я не промахнулся. Круглые, глубоко посаженные глаза остались открытыми. Казалось, они пристально смотрят на меня из-под нависших бровей. Массивная нижняя челюсть отвисла, язык вывалился на пухлую нижнюю губу. Надутые щеки посерели, но бурые старческие пятна еще проступали на них. Да, выглядел Мотомбо ужасно. Его образ преследует меня и поныне, особенно в минуты отчаяния. Впрочем, его гибель не терзает меня и не сильно обременяет мою совесть. Убить его было необходимо ради спасения невинных. Уверен, Мотомбо заслужил смерть. Я считаю его дьяволом, как и гориллу, которую застрелил в лесу. Мертвый Мотомбо поразительно ее напоминал. Если положить их головы рядом и отойти, не разберешь, кто есть кто из-за одинаковых кустистых бровей, срезанных безбородых подбородков и желтых клыков по углам рта. Я выплыл из пещеры и на время затаился под высокой скалой: прислушивался, не возникло ли переполоха, и прятался от ярких вспышек молнии, которые могли выдать меня врагу. Но гроза уже затихала. Выждав добрых десять минут, я рискнул и направил лодку к противоположному берегу. Я двигался на восток от пещеры, ориентируясь на рослое дерево, которое ранее приметил в глубине кладбища. Мой расчет оказался верным — лодка врезалась в камыши, за которыми остались мои спутники. В этот самый миг из-за разбегающихся туч выглянула луна, спутники увидели меня, а я… я увидел бога-обезьяну. Он направлялся ко мне вброд, явно с намерением вцепиться в борт лодки. Передо мной было то самое чудище из леса, только пониже. Тут я все вспомнил и с облегчением рассмеялся. — Баас?.. — Приглушенный голос, очевидно, принадлежал горилле. — Баас, вы целы? — Конечно, иначе разве я был бы здесь? — ответил я и весело поинтересовался: — Ханс, а как ты себя чувствуешь? Шкура-то чудо какая теплая, а ночь сырая. — Ох, баас, расскажите, как все было! — взмолился он. — Даже среди этой вони я сгораю от любопытства. — Мотомбо убит, — объявил я. — Стивен, дайте руку. И заодно мои вещи. А ты, Мавово, подержи ружье и лодку, пока я одеваюсь. Я выбрался на берег, укрылся в камышах и, сняв мокрую рубашку и кальсоны, сунул их в большие карманы охотничьей куртки, так как не хотел выбрасывать. Потом натянул сухие вещи. Они немного кололись, зато в теплом климате я вполне мог носить их и без белья. После этого я от души хлебнул бренди из фляги и утолил голод. Потом рассказал спутникам, как добыл лодку, и, оборвав их восторги, велел перенести в нее Священный цветок и занять места самим. Ханс просунул пальцы сквозь обезьянью шкуру и помог мне перезарядить ружье, надев последний пистон на боек. Когда мы закончили, я устроился на носу лодки и приказал Брату Джону со Стивеном грести. Как и раньше, мы поплыли по дуге, чтобы остаться незамеченными, и быстро добрались до пещеры. Я наклонился вперед и заглянул в нее из-за каменного выступа. Внутри по-прежнему царила тишина. Костры неярко горели по обеим сторонам настила, на котором неподвижно сидел Мотомбо. Не говоря ни слова, мы вылезли из лодки. Спутники нет-нет да и косились на ужасное лицо мертвого жреца, но я жестом отвлек их от этого зрелища и велел построиться в колонну. Я решил, что первым пойду сам, за мной Мать Священного цветка и Ханс в образе лесного бога, потом Брат Джон и Стивен со Священным цветком, за ними мисс Хоуп, а замыкающим будет Мавово. Возле одного из костров лежали факелы, о которых я упоминал выше. Мы взяли несколько и зажгли. Мавово вернул лодку на место и привязал к колышку. Казалось, ее никто не трогал, и теперь наше появление удивило бы понго еще больше. Я то и дело поглядывал на дверные проемы, ожидая появления прислужниц. Но никого не было. Спали они или отсутствовали — этого я до сих пор не знаю. В мрачном молчании двинулись мы по извилистым туннелям и потушили факелы, едва завидев свет вдали. У входа в пещеру спиной к нам стоял часовой. Лунный свет еле пробивался сквозь пелену облаков, моросил дождь, и нам удалось подобраться почти вплотную. Внезапно туземец обернулся. Он увидел богов своей страны, вскинул руки и упал замертво. Мавово я не расспрашивал, но, думаю, часового обезвредил он: чуть позже я оглянулся и заметил у него большое копье понго с длинным древком, а не медное, взятое на кладбище. К городу Рика мы направились той же тропой, по которой пришли к озеру. Как я уже упоминал, местность была пустынная, обитатели редких хижин, которые нам попадались, по-видимому, крепко спали, к тому же понго не держали собак, которые могли бы своим лаем разбудить хозяев. Думаю, по дороге от пещеры до города нас не видел никто. Шли мы всю ночь, стараясь не терять времени, и останавливались лишь затем, чтобы передохнули те, кто нес Священный цветок. Миссис Эверсли заменяла Брата Джона, а вот двужильный Стивен не выпускал носилки до самого конца пути. Хансу, разумеется, было солоно в шкуре — она вряд ли стала намного легче, хоть и усохла. Но готтентот был старик выносливый и держался молодцом, правда, на подступах к городу периодически уподоблялся божеству и ковылял на четвереньках, совсем как горилла. Незамеченными мы вышли на главную улицу города Рика и пробрались к Дому празднеств, ибо утро выдалось сырое и жители города спали. Лишь когда до пристани оставалось ярдов сто, женщина, чью привычку рано вставать можно приравнять не то к добродетели, не то к пороку, вышла из хижины на работу в саду, увидела нас и подняла ужасный крик. — Боги! — голосила она. — Боги покидают нашу землю и уводят с собою белых людей! Тотчас поднялась суматоха. Из дверей высовывались головы, люди выбегали на улицу с таким воем, словно их резали. Однако никто не решался приблизиться к нам. — Вперед или все погибло! — закричал я. Мои спутники не подвели. Ханс, задыхавшийся в жутком зловонном одеянии, пополз вперед на четвереньках. Брат Джон и Стивен, изнемогавшие под тяжестью Священного цветка, зашагали быстрее. Наконец мы достигли пристани, где стояла та самая лодка, что привезла нас сюда, и запрыгнули в нее. Отвязывать веревку, которая ее удерживала, не было времени; я перерезал ее ножом и оттолкнулся от берега. Забрезжила заря. На пристань выбежали сотни людей, в том числе немало воинов. В их рядах царила паника. Уловка Хоуп пока еще нас спасала. Я увидел Комбу: тот мчался с большим копьем в руках, но, завидев нас, замер от изумления. Тут произошла катастрофа, едва не стоившая нам жизни. Ханс, сидевший на корме лодки, начал терять сознание от вони шкуры и перегрева. Он решил вдохнуть свежего воздуха и высунул наружу голову, так что набитая листьями маска гориллы медленно сползла ему на плечи. Комба, увидев безобразное лицо готтентота, сразу узнал его. — Это обман! — закричал он. — Белые дьяволы убили бога! Они похитили Священный цветок и его жрицу! Желтый человек нарядился в шкуру бога! К лодкам! К лодкам! — Гребите! — велел я Брату Джону и Стивену. — Гребите изо всех сил! Мавово, помоги мне поднять парус! Случилось так, что в то пасмурное утро сильный ветер дул к берегу. Медленно, неумело мы поставили мачту и подняли парус из циновки. На веслах мы отплыли от пристани ярдов на четыреста. В погоню за нами отправилось множество лодок с уже поднятыми парусами. На носу первой из них стоял Комба — новоиспеченный Калуби. Он осыпал нас проклятиями и грозил огромным копьем. Я понял, что искусные лодочники-понго вот-вот нагонят нас и перебьют. К счастью, у меня появилась интересная мысль. Я велел Мавово следить за парусом, перешел на корму и, оттащив в сторону слабеющего Ханса, опустился на колени. У меня сохранился один заряд или, вернее, один-единственный пистон, который я намеревался использовать. Я отвел затвор, поднял ружье и прицелился в Комбу. Ни по возможностям прицела, ни как иначе на дальнюю стрельбу Интомби не рассчитано. В Комбу я мог попасть лишь за счет выброса пули. Парус мы подняли, наша лодка шла довольно ровно. Кроме того, мы находились под прикрытием берега, будто плыли в тихом пруду, так что стрелять с кормы было удобно. Сам я, усталости вопреки, сумел собраться и даже почувствовал себя увереннее. Еще повезло с освещением: солнце всходило у меня за спиной, ярко озаряя нужную мне мишень. Я затаил дыхание и спустил курок. Заряд взорвался почти в то же мгновение, над дулом взвился дымок. Комба вскинул руки и навзничь упал в лодку. С большим опозданием (по крайней мере, так показалось нам) ветер принес глухой звук удара смертоносной пули. Наверное, не стоит хвастаться, но выстрел получился замечательный: пуля, как я впоследствии выяснил, попала точно в цель — угодила Комбе в грудь и пробила сердце. С учетом всего сказанного, четыре выстрела, которые я произвел в стране понго, — венец моей стрелковой карьеры. Первым я в глухой ночи попал богу-обезьяне в лапу и убил бы его, да выстрел получился затяжным, вот горилла и успела прикрыть голову. Вторым я таки уложил чудовище, невзирая на суматоху и панику. Третьим после долгого заплыва, среди сверкания молний, я покончил с Мотомбо. Четвертым с большого расстояния, на плывущей лодке я уничтожил бессердечного, вероломного Комбу, что заманил нас в свою страну с целью убить и съесть на ритуальном пиру. На самом деле я ежесекундно понимал, что не имею права на ошибку: у меня лишь четыре пистона и исправить ее не удастся. Уверен, с другим ружьем, даже с самым лучшим и современным, у меня так не получилось бы. К маленькому шедевру Парди я привык с юности, любой снайпер подтвердит, что это очень важно. Я приноровился к Интомби, а Интомби — ко мне. Это ружьецо до сих пор висит у меня на стене, хотя сегодня, во времена казнозарядных ружей, я им не пользуюсь. Вот только местный оружейник, которому я отдал Интомби на чистку, без спросу отполировал и наворонил ствол. Теперь ружье как новенькое, а мне больше нравилось исцарапанным. Возвращаясь к нашей истории, скажу, что выстрел подействовал на Ханса, как рог Джона Пила[320]. Старый готтентот выглянул у меня из-за спины и увидел, как Комба падает навзничь. — Прекрасный выстрел, баас! — пролепетал Ханс. — Уверен, даже дух вашего преподобного отца в огненном месте не способен истреблять врагов так здорово. Выстрел прекрасный! Старый дурак принялся целовать мои сапоги, точнее, то, что от них осталось. Пришлось угостить Ханса остатками бренди, который привел его в чувство, особенно после того, как с него сняли грязную обезьянью шкуру и помогли ополоснуть лицо и руки. Гибель Комбы подействовала на понго престранным образом. Их лодки собрались вокруг той, где лежал его труп. После короткого совещания понго опустили паруса и на веслах вернулись к пристани. Почему они так сделали, не знаю. Возможно, они думали, что Комба околдован или только ранен и нуждается в помощи знахаря. Или закон запрещал им выступать без предводителя, а запасной Калуби из числа «миновавших кары» остался на берегу. Возможно, обычай требовал доставить тело Калуби на сушу с особыми церемониями. Поручиться не могу: помыслы жителей африканской глуши порой непостижимы. Зато в итоге у нас, казалось бы обреченных на верную гибель, появилась надежда на спасение. Когда мы вышли из залива, свежий ветер быстро понес лодку через озеро и начал стихать лишь в полдень. К счастью, штиль наступил лишь часам к трем пополудни, когда берег страны мазиту был уже поблизости. Мы даже разглядели пятнышко английского флага, водруженного Стивеном на вершине холма. За те спокойные часы мы подкрепились остатками еды, умылись и отдохнули. В свете будущих событий передышка оказалась весьма кстати. Едва ветер стал слабеть, я случайно оглянулся и увидел, что нас преследует целый флот понго — около сорока лодок, в каждой человек по двадцать. Под парусом мы старались идти как можно дольше: судно продвигалось медленно, но все равно быстрее, чем на веслах. Кроме того, следовало беречь силы для последних испытаний. Краткий отдых на озере я помню отлично: волнению вопреки, в памяти сохранились мельчайшие подробности, даже облака, которые плыли над головой, напоминая о вчерашней грозе. Одно было похоже на замок с обрушившейся башней и лестницей, другое — на подбитый корабль с выбоиной справа на крамболе[321], двумя сломанными мачтами и обрывками парусов, колышущимися на третьей. Еще запомнились виды большого озера, особенно в том месте, где встречались два течения. Поднимались невысокие волны, схлестывались друг с другом и опадали причудливыми изгибами. Косяки рыбешек, похожих на голавля, с круглым ртом и белоснежным брюхом, то и дело выпрыгивали из воды за невидимыми мухами. Рыбешки привлекали птиц, похожих на чаек, но поменьше. У них были смоляные головы, белые спины, сероватые крылья и оранжевые перепончатые лапки, которыми они хватали рыбешку, при этом издавая протяжное, жалобное «и-и-и!». Вожак стаи с белой, вероятно от старости, головой парил надо всеми. Сам он охотиться не удосуживался, зато отбирал добычу у других птиц — перехватывал ее прямо в воздухе. Такие подробности то и дело всплывают в памяти. Есть и другие, всего просто не перечислить. Штиль застиг нас милях в трех от берега, точнее, от мели, заросшей камышами, что тянется от берега страны мазиту ярдов на восемьсот. К тому моменту понго отставали мили на полторы. Но им ветер благоприятствовал на несколько минут дольше, чем нам, да и гребцов у них было поболе, поэтому, когда воцарилось полное безветрие, они отставали лишь на милю. Иначе говоря, им предстояло покрыть четыре мили, а нам — три. Безоблачное небо ветра не сулило, парус стал ненужным — мы опустили его, бросили мачту за борт, чтобы облегчить лодку, и стали работать веслами изо всех сил. К счастью, обе леди оказали нам посильную помощь, ибо грести научились на Острове Цветка, где у них была своя лодочка, с которой они рыбачили. Ханс еще не пришел в себя окончательно, поэтому мы отправили его на корму, где он лихорадочно орудовал одним веслом. Преследование в кильватер быстрым не бывает, но умелые гребцы понго постепенно настигали нас. Когда до камышовых зарослей оставалась миля, понго отставали от нас на полмили. Силы наши таяли, и враги быстро догоняли нас. Вскоре лишь двести ярдов разделяли наше суденышко и заросли, а преследователи были уже в ярдах пятидесяти-шестидесяти. Тогда началась настоящая борьба. Она была короткой, но безжалостной. Мы выбросили со дна лодки за борт все, что смогли, включая балластные камни и тяжелую шкуру гориллы. Шкура очень нам помогла — она тонула медленно и первые лодки понго задержались на минуту, чтобы выловить драгоценную реликвию из воды. Таким образом, они загородили путь остальным, и мы сумели оторваться ярдов на двадцать-тридцать. — За борт цветок! — скомандовал я. Но Стивен, выглядевший стариком от изнеможения и обильного пота (грести ему раньше не доводилось), прохрипел: — Нет, ради бога, нет! Бросить цветок после всех этих мытарств?! Я не настаивал: спорить не было ни сил, ни времени. Мы уже доплыли до камышей — благодаря флагу-указателю подошли точно к большому проходу, протоптанному гиппопотамами. Понго, бешено работающие веслами, отставали ярдов на тридцать. Я очень радовался, что воины этого примечательного племени не владеют луком и стрелами, а их тяжелые копья не годятся для метания. К тому моменту или даже чуть раньше нас заметили зулусские охотники, а также старый Бабемба и мазиту. Те и другие устремились к нам через отмель с громкими ободряющими возгласами. Зулусы открыли беспорядочный огонь, в результате одна пуля пробила нашу лодку, другая — поля моей шляпы. Зато третья поразила воина понго, что вызвало смятение в рядах войска Тускулума[322]. Тут мы окончательно выбились из сил, и враги нас догнали. Когда первую лодку понго отделяло от нас не более десяти ярдов, а нас от берега — ярдов двести, я опустил весло в воду, увидел, что глубина менее четырех футов, и закричал: — Идем вброд, иначе нам конец! Мои спутники прыгнули в воду. Я выбрался последним и толкнул нос лодки — она встала поперек канала, загородив путь понго. Все кончилось бы благополучно, если бы не Стивен, который, сделав несколько шагов, вдруг вспомнил о своей драгоценной орхидее. Он не только вернулся к лодке, но и уговорил Мавово сопровождать его. Они начали поднимать цветок, и понго бросились к ним, пытаясь достать врагов копьями через лодку. Мавово оборонялся копьем, отнятым у часового возле пещеры, и убил или ранил одного из нападавших. Понго швырнули в него балластный камень и угодили в висок. Мавово пошатнулся и упал, потом поднялся, но снова без чувств рухнул в воду. К счастью, кто-то из наших союзников мигом оттащил его на берег. Оставшись один, Стивен продолжал попытки спасти орхидею, пока воин-понго не ударил его копьем в плечо. Лишь тогда Стивен выпустил цветок и попробовал отступить. Слишком поздно! Полдюжины понго, преградив Стивену путь к камышам, направлялись к нему с угрожающим видом. Я не мог помочь ему, поскольку, сказать правду, угодил в выбоину — след гиппопотама, а зулусские охотники и мазиту были еще далеко. Стивен наверняка погиб бы, если бы не отвага юной Хоуп. Она шла к берегу впереди меня и, обернувшись, увидела, что Стивен в беде. Хоуп бросилась обратно, словно львица, спасающая детеныша. Добравшись до Стивена раньше понго, она загородила его собой и с необыкновенной выразительностью обратилась к нашим врагам на их родном языке, которому, вероятно, научилась от альбиносок, обладавших даром речи. Что сказала врагам Хоуп, я не расслышал из-за криков приближавшихся мазиту. Однако я догадался, что она произнесла страшное древнее проклятие, известное только хранительницам Священного цветка и обрекавшее тело и душу про́клятых на ужасную гибель. То проклятие ни молодая леди, ни ее мать впоследствии повторить не пожелали, однако на понго оно подействовало удивительным образом. Воины, в том числе атакующие Стивена, опустили руки и склонили голову перед юной жрицей, будто в знак благоговения или мольбы. Они застыли, всем своим видом выражая покорность, и девушке удалось отвести раненого Стивена в безопасное место. К берегу Хоуп пятилась, не сводя с понго пристального взгляда. Столь невероятного избавления я в жизни не видел! Добавлю, что воины понго захватили Священный цветок и увезли на лодке. Так настал конец поискам орхидеи и моим надеждам заработать на продаже этого сокровища. Очень хотелось бы знать, что с ним случилось. Есть основания предполагать, что на Остров Цветка его не вернули. Возможно, его доставили в африканскую глушь, откуда понго вывезли его при переселении. После того как на Стивена напали понго и отважная мисс Хоуп рискнула жизнью ради него, друзья вытащили нас на берег. Там обе леди и мы с Хансом свалились в полном изнеможении, лишь Брат Джон нашел в себе силы оказать медицинскую помощь раненым Стивену и Мавово. Тем временем в камышах завязался отчаянный бой. Понго, численностью не уступавшие нашим союзникам, яростно напирали, обозленные поражением своего бога и гибелью Мотомбо — о чем они наверняка уже узнали, — равно как и похищением Матери Священного цветка. Тропа гиппопотамов оказалась слишком узка для лодок, и понго прыгали в воду, чтобы идти к берегу вброд. В камышах их поджидали заклятые враги-мазиту под командованием старого Бабембы. Битва напоминала беспорядочную потасовку и со стороны выглядела странно: над зарослями виднелись только головы воинов, которые двигались парами и кололи друг друга копьями, пока один не падал. Раненых в той схватке почти не осталось: падавшие в ил захлебывались. Вскоре понго, сражавшиеся почти в родной стихии, начали теснить мазиту. Впрочем, исход сражения решили ружья наших зулусских охотников. Сам я был не в состоянии участвовать в стрельбе, но собрал вокруг себя зулусов и руководил ими. В результате перепуганные понго отступили и спешно забрались в лодки. По сигналу они взялись за весла и, осыпая нас проклятиями, поплыли прочь. Лодки удалялись все дальше и наконец исчезли из виду. Впрочем, нам удалось захватить две лодки с шестью-семью гребцами. Мазиту хотели казнить врагов, но по приказу Брата Джона, которого в этом племени почитали как короля, связали их и объявили пленными. Через полчаса все волнения закончились. О том, что происходило далее, я ничего сказать не могу, так как от переутомления лишился чувств. Неудивительно, если учесть все пережитое нами за четыре с половиной дня, проведенных в стране понго. За свою богатую приключениями жизнь не припомню, чтобы я был так измотан. Да и вообще, удивительно, что мы остались в живых! Последнее, что мне запомнилось в тот день, — явление Сэма, опрятного, в синем платье. Он напоминал мотылька, выпорхнувшего после дождя. — Мистер Квотермейн, приветствую вас, прошедшего суровые испытания и заглянувшего войне в жестокие глаза! Пока вы отсутствовали, я целыми днями и бессонными, отравленными москитами ночами истово молился о вашем спасении. Не исключено, мистер Квотермейн, что именно это помогло вам одолеть врага, ибо, как говорится, победу куют не только на поле боя, но и в тылу. Эти слова поразительным образом отпечатались в моем помутившемся сознании. Подозреваю, что это лишь отрывок из длинной речи, которую Сэм тщательно готовил, пока нас не было.Глава 19
ПОДЛИННЫЙ СВЯЩЕННЫЙ ЦВЕТОК
Очнувшись, я понял, что проспал не менее шестнадцати часов: солнце поднялось уже довольно высоко. Я лежал в шалаше у подножия холма, на котором развевался флаг, указавший нам путь через озеро Кируа. Рядом со мной сидел Ханс. Он расправлялся с большим куском мяса, жарившегося на костре неподалеку. Возле Ханса я, к своему удовольствию, увидел Мавово. На голове его красовалась повязка. Белому человеку балластный камень наверняка пробил бы череп, а Мавово отделался потерей сознания и ссадиной. Силу удара смягчило исикоко, восковое кольцо, которое он носил, как и все зулусы, достигшие определенного возраста. Поодаль были разбиты две палатки, которые мы взяли с собой, направляясь к озеру. В ярком свете солнца они выглядели мирно и радовали глаз. Ханс, украдкой за мной наблюдавший, принес большую чашку горячего кофе, сваренного для меня Сэмом; мои спутники знали, что я сплю здоровым сном, и ждали моего пробуждения. Я выпил кофе до последней капли и понял, что ничего вкуснее в жизни не пробовал. Утолив голод жареным мясом, я спросил Ханса, что случилось за время моего сна. — Ничего особенного, баас, — ответил он, — если не считать того, что мы живы, хотя должны были погибнуть. Обе леди спят в палатке, точнее, спит старшая, а мисс помогает своему отцу Догите ухаживать за тяжело раненным баасом Стивеном. Понго уплыли восвояси и вряд ли возвратятся: с ружьями белых людей они познакомились довольно близко. Убитых врагов — тех, кого удалось найти, — мазиту похоронили, а шестерых раненых отправили в город Беза на носилках. Вот и все, баас. Я вымылся — надо сказать, купание мне требовалось, как никогда раньше, — и надел белье, в котором переплывал озеро, перед тем как убить Мотомбо. Ханс выстирал мои вещи и высушил на солнце. Я спросил достойного готтентота, как он себя чувствует после наших приключений. — Неплохо, баас. В животе не пусто, хоть руки в мозолях и гудят после того, как я бегал на четвереньках, словно бабуин. Шкурой бога-обезьяны я пропах насквозь. Нет, вам не понять: белого человека та вонь доконала бы. Что, баас, не зря вы взяли в экспедицию старого пропойцу Ханса? Здорово я помог вам с маленьким ружьем? А с плаваньем в крокодильем канале? Хотя на ту мысль меня навели паук и мотылек, которых послал ваш преподобный отец. Все мы живы-здоровы, кроме Джерри, а он не в счет: таких мазиту сколько угодно. Ну, еще бааса Стивена в плечо ранили, да мы потеряли тот тяжелый цветок, которым он так дорожил. — Верно, Ханс, я не зря взял тебя с собой. Ты очень умен, без тебя понго зажарили бы нас и съели. Благодарю тебя за помощь, дружище! Только в следующий раз зашей, пожалуйста, карманы на своем жилете! С четырьмя пистонами не разгуляешься. — Не разгуляешься, баас, но четырех пистонов хватило, да и все они были хорошими. Вы и с сорока не сделали бы больше. Ваш преподобный отец это предвидел и не допустил, чтобы старый готтентот нес более того, что необходимо. Он знал, что вы, баас, не промахнетесь и что убить нужно одного бога, одного дьявола и одного человека. Да, мой покойный отец стал для Ханса кем-то вроде святого заступника… Я посмеялся над оригинальной философией готтентота, накинул куртку и отправился проведать Стивена. Возле палатки я встретил Брата Джона. От переноски тяжелой орхидеи у него сильно болело плечо, от долгой гребли — руки. Зато в остальном он чувствовал себя превосходно и весь лучился от счастья. Брат Джон сообщил, что промыл и перевязал рану Стивена, который сильно не пострадал: копье пронзило плечо, но артерии не повредило. Я заглянул к раненому и обнаружил его веселым, хоть и слабым от переутомления и потери крови. Мисс Хоуп кормила его бульоном с деревянной ложки. Долго я у него не просидел, ибо Стивен разволновался, едва вспомнив утраченную орхидею. Я утешил его, сказав, что сберег семянку. Стивен возликовал! — Подумать только! — воскликнул он. — Вы, Аллан, позаботились об этом, а я, орхидист, и думать забыл. — Предусмотрительность, молодой человек, приходит с опытом, — отозвался я. — Я не орхидист, однако вспомнил, что цветы разводят не только пересадкой корневищ. К тому же их в карман не спрячешь. Стивен начал даватьмне подробные указания: семянку нужно хранить в жестянке, обязательно сухой и герметичной. Мисс Хоуп не выдержала и бесцеремонно выпроводила меня из палатки. В полдень мы устроили совет. Было решено немедленно вернуться в город Беза, так как на месте нынешней стоянки нам грозила малярия. Да и понго могли снова напасть на нас. Для Стивена мы смастерили удобные носилки и постелили на них циновку. К счастью, носильщиков теперь хватало. Прочие приготовления много времени не заняли. Миссис Эверсли и Хоуп поехали на ослах, Брат Джон, у которого снова заболела нога, — на белом быке, успевшем изрядно раздобреть. Раненого Стивена понесли на носилках, а я пошел пешком, беседуя со старым Бабембой о нравах племени понго (довольно высоких, нужно отдать им должное) и их обычаях (иначе как чудовищными их не назовешь). Старый воин с восторгом слушал про священную пещеру, крокодилий канал и горный лес, про ужасного бога, про гибель Мотомбо (эту часть Бабемба трижды просил пересказать), после чего тихо произнес: — Господин мой Макумазан, ты великий человек! На свете стоит жить только ради знакомства с тобой. Никому другому таких подвигов не совершить. Похвала, конечно, лестная, но я счел долгом указать, что успех нашей затеи в большой степени заслуга Ханса. — Да-да, — согласился Бабемба, — Инблату, Пятнистая змея, хитер. Он мастер строить планы, зато у тебя есть сила осуществить задуманное. Много ли толку в хитроумном плане, если нет рук, чтобы его выполнить? То и другое редко сходится вместе. Имей змея силу слона и храбрость буйвола, на земле скоро никого, кроме нее, не осталось бы. Но Творец всего сущего предвидел это и разделил эти качества, господин мой Макумазан! Замечание простое, но тогда оно показалось мне мудрым. Я и сейчас так считаю. Мы, белые, презираем дикарей, но многие из них отнюдь не глупцы. После часового перехода был устроен привал. В десять часов вечера взошла луна, и мы снова пустились в путь. Шли почти до зари, так как решили, что Стивена лучше нести по ночной прохладе. В мирном свете луны наш отряд пробирался по кряжу и выглядел весьма живописно, даже внушительно, ведь нас окружали воины мазиту с длинными копьями. Подробно описывать переход в город Беза не вижу толка: ничего примечательного не произошло. Стивен держался молодцом, по словам Брата Джона — одного из лучших докторов, которых я знал. Однако выздоравливать больной не спешил, несмотря на то что много ел. Мисс Хоуп — за Стивеном ухаживала именно она, миссис Эверсли помогать ей не захотела — жаловалась, что он почти не спит. Я и сам это видел. — О Аллан! Ваш сын Стивен очень плох. — (По неведомой причине Хоуп называла Стивена моим сыном.) — Отец твердит, что дело только в ранении копьем, но я уверена: все куда серьезнее. — Серые глаза девушки наполнились слезами: говорила она искренне. Хоуп оказалась права: едва мы прибыли в город Беза, у Стивена открылась сильная африканская лихорадка, которая, при его слабости, едва не стоила ему жизни. Без сомнения, он подхватил ее в грязном крокодильем канале. В городе Беза нас приняли весьма торжественно. Все население во главе со старым Бауси высыпало нам навстречу с громкими приветствиями. Ради спокойствия раненого Стивена мы попросили тишины. По хижинам мы разошлись с радостью. Полагаю, в тот день мы упивались бы счастьем, если бы не тревога за Стивена. Хотя в жизни всегда так: кому удается съесть целую бочку меда, ни разу не поморщившись от дегтя? В общем, Стивен прохворал почти месяц. Согласно записям в дневнике, который от вынужденного безделья я вел очень подробно, на десятый день по прибытии в город Беза раненого сочли обреченным. Даже Брат Джон, со всем своим мастерством и достаточным запасом хинина и прочих лекарств, привезенных из Дурбана, потерял надежду. День и ночь бедный Стивен бредил проклятой орхидеей. Утрата сокровища терзала его душу, как сотня неискупленных грехов! Глубоко убежден, что своим спасением Стивен обязан уловке, точнее, находчивости мисс Хоуп. Однажды вечером мы с ней сидели у постели больного. Он был очень плох и, как безумный, бормотал что-то о потерянной орхидее. Вдруг девушка взяла его за руку и, указав на пустое место на полу, сказала: — Смотрите, о Стивен, цветок принесли обратно! Он долго вглядывался в указанное место и, к моему изумлению, ответил: — Ей-богу, он здесь! Но негодяи понго оборвали все бутоны, кроме одного. — Да, — согласилась Хоуп, — бутон остался только один, зато самый красивый! После этого Стивен уснул и проспал двенадцать часов, потом проснулся, немного поел и снова провалился в сон. За это время температура у него понизилась почти до нормальной. Мы с мисс Хоуп присутствовали при его пробуждении. Девушка стояла на том самом месте, что должна была занимать выдуманная ею орхидея. Стивен с напряжением прищурился — меня он не видел, ведь я стоял за изголовьем, — потом спросил слабым голосом: — Мисс Хоуп, вы же говорили, что на месте, где вы сейчас стоите, был цветок, на котором остался самый красивый бутон? Я не представлял, что ответит девушка, но она не сплоховала. — Цветок здесь — разве я не его дитя? — проговорила Хоуп. Нежный голос и особая манера выражаться лишили ее ответ излишней заносчивости. Если читатель помнит, в стране понго девушку называли Дитя Цветка. — Прекраснейший из бутонов тут, в этой хижине, ибо я — бутон, который вы вызволили из плена на острове. О Стивен, умоляю, не горюйте о потерянном цветке, ведь семян у вас предостаточно. Радуйтесь, что остались в живых! Ведь благодаря вам живы и мы с матерью. Если бы вы умерли, мы бы выплакали все глаза… — Благодаря мне? — удивился он. — Вы хотите сказать, благодаря Аллану и Хансу. Кроме того, вы спасли мне жизнь на озере. Да, теперь я все припоминаю. Вы правы, Хоуп: настоящий Священный цветок — это вы! Хоуп бросилась к Стивену, встала на колени и протянула ему руку, которую он приложил к своим бледным губам. Я выскользнул из хижины: пусть молодые побеседуют о Цветке, который снова нашелся. Та сцена получилась очень трогательной и, на мой взгляд, придавала духовную значимость безумным, по сути, поискам. Стивен искал идеальный цветок, а нашел любовь всей своей жизни. После этого он быстро поправился, ибо взаимные нежные чувства — лучшее лекарство. Я не знаю, что произошло между молодой парой и супругами Эверсли, но с того дня последние стали относиться к Стивену как к сыну. Новые отношения между Стивеном и Хоуп супруги приняли без возражений. Молодую пару признали и туземцы: старый Мавово спросил меня, сколько коров Стивен посулил Брату Джону за красавицу-невесту. Зулус не сомневался, что стадо будет большим, а коровы — крупными. Сэм в разговоре со мной назвал Хоуп «нареченной супругой мистера Сомерса». Только Ханс не сказал ничего. Мелочи вроде сватовства и женитьбы его не интересовали. Либо он давно предугадал развитие отношений между молодыми людьми и не считал нужным это комментировать. Мы прожили в краале Бауси еще месяц, пока Стивен поправлял свое здоровье. Мне, равно как Мавово и остальным зулусам, город Беза наскучил, а вот Брат Джон и его жена недовольства не выражали. Покладистая миссис Эверсли роптать не привыкла: после стольких лет вдали от цивилизации лишний месяц ее не пугал. Тем более рядом теперь был любимый Джон, на которого она могла смотреть часами, как кошка на хозяина. С мужем она не разговаривала, а нежно мурлыкала. Через пару часов таких бесед бедняге становилось не по себе — порой он хватал сачок и убегал ловить бабочек. Сказать правду, под конец крааль мне осточертел: перед глазами мелькали то милующиеся Хоуп со Стивеном, то счастливые супруги Эверсли. Мне и поговорить стало не с кем. Наверное, эти четверо считали, что в собеседники мне годятся Мавово, Ханс, Сэм, Бабемба и прочие, если они вообще над этим задумывались. Вообще-то, с туземцами проблем хватало: от праздности зулусские охотники начали злоупотреблять едой, местным пивом, курением одурманивающей дакки[323] и заигрыванием с женщинами-мазиту. В итоге вспыхивали ссоры, улаживать которые приходилось мне. Наконец я не выдержал и объявил, что нам пора в путь, ведь Стивену дорога вполне по силам. — Верно, Аллан, — спокойно отозвался Брат Джон. — Какой у вас план? Любимый вопрос Брата Джона давно набил оскомину, и я раздраженно ответил, что плана пока нет, но раз нет и предложений, мне стоит посоветоваться с Хансом и Мавово. Так я и поступил. Нет нужды рассказывать о том, как мы совещались, ибо неожиданно наши планы были нарушены. Все случилось с той внезапностью, с какой иногда происходят крупные события в жизни отдельных людей и целых народов. Мазиту родственны зулусам, но их военная организация куда менее основательна. Например, когда я указал Бауси и старому Бабембе на то, что у них плохо поставлена караульная служба и разведка, они, смеясь, ответили, что прежде понго на мазиту не нападали, а сейчас это тем более исключено, поскольку враги получили хороший урок. Кстати, я еще не рассказывал, что по требованию Брата Джона воинов-понго, плененных во время битвы в камышах, отвели на берег озера, дали одну из захваченных лодок и отпустили восвояси. К нашему удивлению, спустя три недели они возвратились в город Беза. По словам понго, они переправились через озеро и обнаружили, что город Рика опустел, хотя и не был разрушен. В своих скитаниях по стране они наведались в священную пещеру, где на деревянном настиле нашли останки жреца. В отдаленной деревне воины наткнулись на умирающую старуху. Перед тем как испустить дух, та поведала, что племя испугалось «труб, изрыгающих смерть», и, повинуясь древнему пророчеству, «ушло туда, откуда некогда явилось», захватив отбитый у нас Священный цветок. Старухе, чересчур слабой для странствий, оставили запас пищи. Вероятно, Цветок теперь растет где-то в африканской глуши, но его поклонникам придется найти нового лесного бога, новую Мать Цветка и нового жреца вместо погибшего Мотомбо. Бывшие пленные лишились дома, потеряли свой народ (они знали только, что племя ушло на север), вот и попросили пристанища у мазиту. В просьбе им не отказали. Рассказ тех воинов укрепил меня во мнении, что страна понго расположена не на острове и оттуда можно перебраться на материк — либо через горный хребет, либо через топи. Задержись мы у мазиту, я удовлетворил бы свое любопытство: отправился бы в страну понго. Но такая возможность представилась лишь через несколько лет, когда при невероятных обстоятельствах я снова попал в ту часть Африки. На следующий день после разговора о возвращении в Дурбан мы завтракали очень рано, так как предстояло много дел. Утром стоял туман, который в то время года на холмах страны мазиту предвещает сильные суховеи. Видимость сократилась до нескольких ярдов. Думаю, при определенных погодных условиях туман наползает с озера. После завтрака я, вялый от духоты, послал одного из зулусов проверить, хорошо ли покормили двух ослов и белого быка, — накануне их пригнали в город и привязали у хижины. Потом Ханс вытащил, а я осмотрел наши ружья и боеприпасы. Тут издали донесся подозрительный звук, и я спросил Ханса, что это может быть. — Ружейный выстрел, баас, — с тревогой сказал он. Тревожился он не напрасно: мы оба знали, что в окрестностях огнестрельное оружие есть только у нас. Правда, мы обещали подарить Бауси бо́льшую часть ружей, отобранных у работорговцев, и уже научили лучших воинов-мазиту обращаться с ними, но пока ни одного ружья им не передали. Я вышел за ворота и послал часового к Бауси и Бабембе. Следовало разузнать, в чем дело, а также собрать воинов, которых в городе было не более трехсот. Остальных, ввиду продолжительного затишья, отпустили по домам на уборку урожая. Во власти смутного беспокойства — над подобными предчувствиями нередко посмеиваются — я велел зулусам вооружиться и на всякий случай приготовиться к бою. Потом я сел и задумался о том, как лучше действовать, если в этом плохо организованном туземном поселении на нас нападет многочисленный противник. Я и прежде размышлял о стратегических возможностях города Беза, а сейчас, сделав вывод, посоветовался с Мавово и Хансом. Наши мнения совпали. Единственное подходящее для обороны место находилось за городом — там, где дорога спускалась к южным воротам с крутых лесистых склонов. Если читатель помнит, именно оттуда появился Брат Джон на белом быке, когда нас едва не расстреляли на рыночной площади. Беседу пришлось прервать — двое вождей мазиту мчались к нам со всех ног и волокли за собой пастушка с простреленной рукой. Раненый рассказал следующее: с двумя мальчишками он пас королевское стадо в полумиле от города, когда появились люди в белом с ружьями в руках. Незваные гости (было их сотни три-четыре) начали угонять скот, а завидев пастушков, открыли огонь. Этого паренька ранили, двух его товарищей убили. Раненый пастушок спасся бегством. По его словам, кто-то из бандитов кричал ему вслед: мол, передай белым людям, что их перебьют, равно как их прихвостней-мазиту, а белых женщин заберут в рабство. — Хасан бен Магомет и работорговцы! — объявил я, когда подоспел Бабемба с воинами. — Работорговцы вторглись в нашу страну, господин мой Макумазан! Они незаметно подкрались к нам под покровом тумана. У северных ворот стоит их посланец и требует, чтобы мы выдали им вас, белых людей, и ваших слуг. Кроме того, мы должны отдать им сотню юношей и сотню девушек для продажи в рабство. В противном случае он грозит перебить наше племя, за исключением юношей и девушек, а вас, белых людей, предать смерти через сожжение. Этот посланец говорит от имени какого-то Хасана. — Ясно, — спокойно ответил я, ибо в сложной ситуации ко мне вернулось обычное хладнокровие. — И Бауси намерен нас выдать? — Разве Бауси выдаст своего кровного брата Догиту и его друзей? — возмутился старик. — Бауси посылает меня к своему брату Догите за приказаниями, он взывает к твоей мудрости, господин мой Макумазан! — Бауси не чуждо здравомыслие, — заметил я. — А Догита моими устами приказывает: вели посланцу Хасана спросить своего господина, помнит ли он содержание письма, оставленного двумя белыми людьми в расщепленной палке у лагеря. Пусть передаст ему, что белым людям пора исполнить обещание, данное в том письме, и что к завтрашнему дню они повесят его на дереве. Потом, Бабемба, собери воинов-лучников и, сколько получится, удерживай северные ворота. После этого отступай через город и присоединяйся к нам. Мы укрепимся на скалистом склоне против южных ворот. Нескольким воинам прикажи увести из города всех стариков, женщин и детей. Пусть выберутся через южные ворота и укроются в лесу за горой, причем немедленно! Ты понял меня, о Бабемба? — Понял, господин Макумазан! Приказ Догиты будет исполнен. Напрасно мы не прислушались к тебе и не усилили караул! Проворный, как юноша, Бабемба бросился собирать лучников, на ходу отдавая приказания. — Теперь нам пора, — сказал я. Мы забрали все ружья, патроны, еще кое-какие вещи и вместе с оставшимися при нас воинами Бабембы зашагали через город к южным воротам, ведя с собой двух ослов и белого быка. По дороге я велел перепуганному Сэму вернуться к нашим хижинам за одеялами и котелками, которые могли понадобиться. — Я содрогаюсь от страха, но повинуюсь вам, мистер Квотермейн! — отозвался он. Сэм ушел. Несколько часов спустя я хватился его и, решив, что он попал в беду и погиб, тяжело вздохнул, ибо очень к нему привязался. Вероятно, он, «содрогаясь от страха», растерялся и с одеялами и котелками побежал не в том направлении. Вначале через город мы шли сравнительно легко, но когда пересекли рыночную площадь и попали в переулочек, петлявший между хижинами и выводивший к южным воротам, продвигаться стало очень трудно из-за беспорядочной толпы перепуганных беглецов — стариков, больных, детей, женщин с младенцами на руках. Управлять такой толпой невозможно — пришлось через нее пробиваться. Зато, поднявшись по склону, мы заняли удобнейшую позицию под самым гребнем: деревья и крупные валуны образовывали надежное прикрытие от пуль. Кроме того, мы сложили из камней небольшие брустверы. Сопровождавшие нас беженцы у гребня не остановились, а поспешили по дороге дальше и исчезли в лесу. Я предложил Брату Джону взять животных и вместе с женой и дочерью последовать за беженцами. Он хотел согласиться, не ради себя, конечно, он не робкого десятка, но обе леди наотрез отказались. Хоуп не пожелала бросать Стивена, а ее мать сказала, что вполне полагается на меня и предпочитает остаться здесь. Тогда я предложил Стивену бежать вместе с ними, но он так рассердился, что пришлось спешно прекратить тот разговор. Итак, женщины остались. Мы устроили их в лощине у ручья на самой вершине горы. Там пули грозили им лишь в том случае, если арабам удастся обойти нас с флангов или смести стремительной атакой. К тому же мы без лишних слов вручили дамам по двустволке и по заряженному пистолету.Глава 20
БИТВА У ВОРОТ
У северных ворот города послышалась пальба и громкие крики. Вначале густой туман не давал ничего разглядеть, но вскоре подул сильный суховей, всегда следующий за таким туманом, и, набрав силу, поднял и рассеял его. Тогда Ханс, взобравшись на дерево, на гребне горы, сообщил, что арабы приближаются к северным воротам, стреляют на ходу, а мазиту в ответ пускают в них стрелы из-за палисада, окружающего город. Состоял палисад из земляной насыпи, плотно утыканной стволами деревьев. Попав на плодородную почву, они дали ростки и образовали живую изгородь. С внутренней и наружной стороны палисад оброс опунцией и высокими, похожими на пальцы кактусами. Спустя некоторое время Ханс сообщил, что мазиту отступают. Действительно, через пару минут они потянулись через южные ворота, унося раненых. По словам вождей, мазиту не выдержали обстрела, решили покинуть город и схлестнуться с врагом на горе. Чуть позже подоспели остальные воины, которые вели стариков, женщин и детей, замешкавшихся в городе. С ними был король Бауси, вне себя от волнения. — О Макумазан, — сказал он, — напрасно ли я говорил, что боюсь работорговцев и их ружей? Теперь они пришли сюда, чтобы перебить стариков и угнать в рабство молодых. — Да, Бауси, ты был прав, — ответил я. — Но если бы ты послушался меня и усилил оборону, Хасан не подкрался бы к нам, как леопард к козе. — Это правда, — простонал он. — Но кто узнает вкус плода, не отведав его? После этого Бауси отправился осматривать диспозицию своих воинов на гребне горы. По моему совету он поставил больше людей по краям линии обороны, на случай если неприятель попытается обойти нас с флангов. Мы же раздали ружья, захваченные в первом бою с работорговцами, тридцати или сорока воинам, которых научили обращаться с огнестрельным оружием. «Даже если они не попадут в цель, то хотя бы внушат арабам, что мы вооружены до зубов», — рассуждал я. Минут через десять появился Бабемба с последним отрядом из пятидесяти воинов. Он сообщил, что старался выиграть время — пока мог, удерживал северные ворота — и что арабы прорываются в город. По моей просьбе Бабемба приказал воинам сложить из камней укрытие и лечь за него. Немного спустя показался большой отряд арабов. Они двигались к нам по центральной улице. Человек двенадцать, помимо ружей, несли копья, на которые были насажены головы убитых мазиту. Арабы размахивали копьями и торжествующе кричали. Отвратительное зрелище! Я от злости скрипнул зубами. Поневоле думалось, что вскоре на остриях окажутся наши головы. Я решил, что при наихудшем раскладе живым не дамся — меня не сожгут на догорающем костре и не посадят на муравейник. Спутники со мной соглашались, хотя Брат Джон не одобрял самоубийства даже в отчаянной ситуации. Тогда я и заметил, что Ханс исчез, и спросил, где он. Мне ответили, что он убежал. — Пятнистая змея нашла себе нору! — воскликнул Мавово, распаляясь все больше и больше. — Змеи шипят, но не нападают! — Иногда они кусаются, — заметил я; не хотелось верить, что Ханс струсил. Мы надеялись, что опьяненные близкой победой работорговцы двинутся по рыночной площади, весьма удобной для обстрела с наших позиций. Так и случилось. Но мазиту, которым мы раздали ружья, к моему великому отчаянию, по собственной инициативе открыли огонь с расстояния около четырехсот ярдов и после беспорядочной пальбы убили или ранили двоих или троих. Почуяв опасность, арабы отступили, потом разбились на два отряда и снова пошли в атаку, но сей раз улочками, плотно застроенными хижинами. Улицы тянулись между палисадом и рыночной площадью, которая, как я уже упоминал, в случае надобности служила загоном для скота и была обнесена прочной деревянной оградой. Замечу, что в описываемое время мазиту и не помышляли о возможной атаке на родной город, а скот держали на отдаленных пастбищах. Между палисадом и оградой стояло несколько сот хижин из сухих веток и травы, в основном крытых пальмовыми листьями, — здесь жило большинство населения города Беза, а северную часть города занимали король, военачальники и старейшины. Кольцо хижин вокруг рыночной площади было шириной ярдов сто двадцать. Около четырехсот арабов и полукровок двигались к южным воротам с восточной и западной стороны, пробираясь тропками среди хижин. Все несли ружья и, без сомнения, хорошо стреляли. Встреча с такими отрядами пугала: численностью мы им почти не уступали, но располагали только пятьюдесятью ружьями, бóльшая часть которых оказалась в руках неопытных мазиту. Вскоре арабы снова открыли огонь из-за хижин, и у нас, несмотря на каменные укрытия, появились убитые и раненые. Хуже всего было то, что мы не могли успешно отвечать на обстрел, ведь арабы прятались за хижинами, а для залпов у нас не хватало ружей. Я бодрился, но, если честно, стал опасаться худшего и даже подумывать об отступлении. Впрочем, смысла в том не было — арабы нагнали бы нас и перестреляли. В итоге я убедил Бабембу отправить воинов пятьдесят, чтобы забаррикадировали южные ворота землей и крупными валунами, которые в изобилии валялись неподалеку. Ворота, сложенные из бревен, открывались вовнутрь. Пока мазиту выполняли приказ — они работали как черти, а палисад защищал их от обстрела, — я заметил струек пять дыма, одна за другой поднимающихся над северной частью города. Следом появилось столько же языков пламени, и сильный ветер гнал его прямо на нас. Кто-то поджег город Беза! И часа не пройдет, как пламя под напором ветра испепелит сотни хижин, от жары сухих, как трут. Город обречен, его не спасти. Сперва я решил, что это происки арабов, однако новые возгорания появлялись в разных точках. Я понял: город Беза поджигают не арабы, а наши союзники или друзья, вздумавшие истребить арабов огнем. Я вспомнил о Сэме. Без сомнения, он задержался в городе, дабы исполнить ужасный, но блестящий план, и его задумали явно не мазиту, ибо он подразумевал уничтожение их жилищ и имущества. Сэм, над которым мы всегда смеялись, был героем, готовым погибнуть в огне ради спасения друзей. Бабемба вскочил и указал копьем на языки пламени. Тут меня осенило. — Возьми всех, кто без ружей, и раздели на отряды, — велел я. — Окружите город и стерегите северные ворота, хотя вряд ли арабы прорвутся к ним через огонь. Любого, кто перелезет через палисад, убивайте. — Будет исполнено! — закричал Бабемба. — Беда с моим родным городом Беза! Беда, беда с моим городом! — Плевать на город Беза! — заорал я вслед старику на его родном наречии. — Нужно людей спасать! Через три минуты мазиту, разделившись на два отряда, начали быстро окружать город. При спуске с горы несколько воинов было убито, но остальные благополучно достигли палисада, где под умелым командованием Бабембы укрылись от пуль за стволами. Теперь на склоне оставались только мы, белые люди, двенадцать зулусов под предводительством Мавово и около тридцати мазиту, вооруженных ружьями. Арабы не сразу сообразили, в чем дело. Они обстреливали мазиту, решив, что те в состоянии повального бегства. Впрочем, вскоре работорговцы увидели или услышали, что творится. Какая тут поднялась паника! Четыреста арабов разом завопили. Некоторые рванули к палисаду, взобрались на него, но, достигнув вершины, упали, пронзенные стрелами. Те, кому удалось перелезть через изгородь, запутались в колючих зарослях опунции и погибли от ударов копий. Сообразив, что палисад — ловушка, арабы побежали назад, намереваясь выйти из города через северные ворота. Не успели они пересечь площадь, как путь им преградило дикое, клокочущее пламя, пожиравшее хижину за хижиной. После короткого совещания арабы беспорядочной толпой ринулись обратно, рассчитывая прорваться через южные ворота. Тут пробил наш час. Враги падали как подкошенные, ведь они бежали по открытому месту — лучше мишеней не придумаешь. Я палил сразу из двух ружей, проклиная Ханса за то, что он не помогает мне перезаряжать. В этом отношении Стивену было проще: обернувшись, я с изумлением увидел рядом с ним Хоуп. Девушка не осталась с матерью в лощине у ручья, а поспешила на подмогу Стивену и теперь надевала пистон на боек второго ружья. Добавлю, что в городе Беза мы научили Хоуп стрелять. Я крикнул Стивену, чтобы он отправил девушку в укрытие, но та наотрез отказалась, даже после того, как пуля задела ее платье. Однако выстрелами мы не могли сдержать напор работорговцев, спасавшихся от огненной смерти. Арабы прорывались к южным воротам, бросая убитых и раненых товарищей. — Отец мой, сейчас начнется настоящая битва! — сказал мне на ухо Мавово. — Ворота скоро падут. Мы сами должны стать воротами. Я кивнул, понимая, что, если арабы прорвутся за ворота, нам конец. Полагаю, к тому времени они потеряли человек сорок, не более. Я кратко обрисовал ситуацию Стивену и Брату Джону, убедив последнего укрыться в лощине у ручья вместе с женой и дочерью. Мазиту я приказал бросить ружья — в пылу сражения они наверняка подстрелили бы кого-то из нас — и сопровождать нас только с копьями. Мы торопливо спустились по горному склону и заняли позицию на открытом участке у ворот, едва не падавших под ударами арабов. Нашему взору предстало невероятно жуткое зрелище. Пламя охватило кольцо хижин у рыночной площади и, раздуваемое ветром, неслось к нам, словно живое существо. Над нами простиралась гигантская пелена дыма с огненными прожилками, такая плотная, что заслоняла небо. К счастью, ветер пелену не тревожил — она не оседала, иначе бы мы задохнулись. Вокруг царила какофония: рев пламени, пожиравшего хижину за хижиной, мешался с воплями арабов-полукровок, в гневе и ужасе цеплявшихся за ворота и друг за друга, и с треском ружей, из которых работорговцы стреляли, в основном наудачу. Мы выстроились у ворот: впереди зулусы, Стивен и я, позади тридцать лучших воинов мазиту под предводительством самого короля Бауси. Долго ждать не пришлось. Ворота рухнули, и на насыпи, которую мы построили из земли и камней, появились люди в белых одеждах и тюрбанах. Они не спускались, а будто бы стекали вниз, как сок и косточки из выжатого плода маракуйи. По моей команде мы выстрелили в плотную толпу, погубив немало арабов. Думаю, каждая пуля уложила двоих-троих. Потом по команде Мавово зулусы побросали ружья и кинулись в атаку со своими широкими копьями. Стивен, раздобывший себе ассегай, рванул за ними, на бегу стреляя из кольта. Следом выступил Бауси с тридцатью рослыми мазиту. Признаюсь, я к атаке не присоединился: для рукопашной не гожусь из-за субтильности. Я чувствовал, что принесу больше пользы, если останусь в стороне и, дождавшись нужного момента, поддержу тех, кому трудно. В потасовке меня бы быстро покалечили. Или отвага изменила мне и я струсил? Может, и так, никогда не считал себя храбрецом. Как бы то ни было, я отступил с поля боя, стреляя при каждом удобном случае, и пусть немного, но помог товарищам. Стычка переросла в настоящую битву. Как сражались зулусы! Они отважно защищали узкие ворота и насыпь от воющих арабов! Почти как римлянин Гораций[324] с двумя друзьями, что в давние времена защищали мост от несметного полчища, явившегося не помню откуда. С криками «Лаба! Лаба!» — полагаю, то был боевой клич зулусского полка, все воины которого были примерно одного возраста, — они дрались, бились, орудовали копьями и падали один за другим. Зулусов теснили, но они вместе с тридцатью мазиту снова бросились вперед под предводительством Мавово, Стивена и Бауси. Языки пламени почти смыкались над ними. Живая изгородь из опунции и кактусов вяла, сохла и трещала, а они все сражались и сражались под огненной аркой у ворот. Арабы снова потеснили зулусов и мазиту: на сей раз подавили численностью. У меня на глазах Мавово пырнул араба копьем, сам повалился наземь, поднялся, поразил другого врага и снова упал под сокрушительным ударом. Двое арабов бросились его добивать, но я выстрелил из двух ружей — благо успел перезарядить их — и уложил обоих. Мавово поднялся и вонзил острие в третьего араба. На помощь зулусу бросился Стивен и, схлестнувшись с другим арабом, швырнул его на воротный столб с такой силой, что противник свалился без чувств. Старый Бауси, пыхтя от натуги, повел в атаку уцелевших мазиту. Ряды смешались, и в густом дыму сражающихся было уже не различить. Разъяренные арабы напирали, да и разве могло быть иначе? Под силу ли нашему маленькому отряду устоять перед их натиском? Тем более нас становилось все меньше… Теперь мы стояли тесным кругом, в самом центре — я. Враги сжимали кольцо. Стивен получил прикладом по голове, покачнулся и едва не сбил меня с ног. В отчаянии я огляделся по сторонам и увидел… Ханса! Долгожданного, пропавшего Ханса! Засаленная шляпа с тлеющими страусовыми перьями болталась у него на затылке. Готтентот ковылял молча, но отчаянно жестикулировал. Еще бы, ведь он вел подкрепление — сотни полторы мазиту! Теперь перевес был на нашей стороне. С криком бросились мазиту на арабов, а тем отступать было некуда — лишь в огненный ад. Вскоре подоспел Бабемба с воинами и завершил начатое. Несколько арабов сумели вырваться, но в итоге сложили оружие и сдались в плен. Остальные отступили к центру рыночной площади, и наши люди двинулись за ними. В сложный момент сказалось происхождение мазиту: врага они преследовали типично по-зулусски. Хвала Небесам, битва закончилась, и мы начали считать потери. Арабы убили четверых зулусов и двоих — нет, троих, включая Мавово, — тяжело ранили. Бабемба и другой вождь мазиту подвели его ко мне. Трижды подстреленный, весь израненный, избитый, выглядел он ужасающе. Мавово пристально взглянул на меня, потом, тяжело дыша, заговорил: — Отец мой, битва получилась славная, на моей памяти лучшая, а ведь я участвовал во многих славных битвах. Вот и хорошо, ведь для меня она последняя. Я знал это наперед, но скрыл от тебя. Когда гадал в Дурбане, первой я увидел собственную смерть. Отец мой, возьми свое ружье обратно. Говорил я тебе: моим оно будет лишь на время. Теперь я отправлюсь в другой мир, к духам своих предков, павших соратников и женщин, родивших мне детей. Я расскажу им обо всем, отец мой, и мы вместе будем ждать тебя, пока ты сам не падешь в битве! Мавово снял руку с плеча Бабембы, поприветствовал меня громким возгласом: «Баба́! Инкози!», дал еще несколько почетных прозвищ, повторять которые я не стану, и опустился на землю. Я послал за Братом Джоном, который вскоре пришел вместе с женой и дочерью. Он осмотрел Мавово и прямо сказал, что ему ничто не может помочь, кроме молитвы. — Не молись за меня, Догита! — попросил старый язычник. — С рождения я следовал за своей звездой, я жил по своим законам и готов съесть плод древа, которое посадил. Если на нем плодов нет, я выпью его сок и засну. — Отстранив Брата Джона, Мавово подозвал к себе Стивена. — О Вацела, ты доблестно сражался в этой битве! — похвалил он Сомерса. — Не изменяй себе, и со временем станешь великим воином, а когда присоединишься ко мне, своему другу, Дочь Цветка со своими детьми сложит в честь тебя песни. Сейчас мы с тобой простимся. Возьми этот ассегай, но не чисти его. Пусть красная ржавчина напоминает тебе о Мавово, зулусском колдуне и вожде, с которым ты стоял рядом в битве у ворот, когда огонь, словно сухую траву, жег гнусных похитителей людей и они не могли миновать наших копий! Он снова махнул рукой, и Стивен отступил в сторону, бормоча что-то прерывающимся от волнения голосом, ведь он очень любил Мавово. Теперь горящий взгляд старого зулуса упал на Ханса, который держался неподалеку, по-видимому ожидая своей очереди проститься с Мавово. — А, Пятнистая змея! — вскричал умирающий. — Теперь, когда все окончилось, ты выполз из своей норы полакомиться лягушками, сгоревшими в золе? Жаль, что ты такой трус, даром, что умен. Если бы ты не покинул нашего господина Макумазана и на горном склоне заряжал бы для него ружья, он истребил бы куда больше арабских гиен. — Верно, Пятнистая змея, верно! — отозвались негодующим эхом зулусы, между тем как я, Стивен и кроткий Брат Джон посмотрели на Ханса с упреком. Тут Ханс, обычно сама невозмутимость, вышел из себя. Он бросил на землю свою шляпу и истоптал ее. Он плюнул в зулусских охотников и даже обругал умирающего Мавово. — О сын глупца! — воскликнул он. — Ты утверждаешь, что способен видеть скрытое от других, а я утверждаю, что в твоих устах лживый дух! Ты назвал меня трусом за то, что я не такой большой и сильный, как ты, и не могу удержать быка за рога. Но в желудке у меня больше мозгов, чем у тебя в голове. Где были бы вы, если бы не «трусливая Пятнистая змея», которая сегодня дважды спасла жизнь всем, за исключением тех, кого преподобный отец бааса, предикант, ожидает в месте, пылающем жарче этого города? Мы все с удивлением посмотрели на Ханса, не понимая, каким образом он дважды спас нам жизнь. — Говори скорее, Пятнистая змея, — попросил Мавово, — иначе я не услышу конца твоей истории. Как ты помог нам из своей норы? Пошарив в карманах, Ханс вытащил спичечную коробку, в которой осталась одна спичка. — А вот как, — ответил он. — Разве никто из вас не понимает, что люди Хасана попали в западню? Разве вы не знаете, что огонь пожирает хижины с тростниковыми крышами, а ветер быстро уносит его далеко-далеко? Пока вы сидели на горе, повесив голову, словно овцы перед закланием, я пробрался через кусты и взялся за работу. Планом своим я не поделился ни с кем из вас, даже с баасом. Ведь баас наверняка заявил бы: «Нет, Ханс, хижины поджигать нельзя: вдруг в одной из них бросили больную старуху?» В таких делах белые — сущие глупцы, даже мудрейшие из них. Кстати, старух попалось несколько: я видел, как они бегут к воротам. В общем, я прокрался мимо зеленой изгороди, которую не подпалить, и у северных ворот наткнулся на арабского часового. Он выстрелил в меня. Спасибо моей матери, что родила коротышку! — Ханс продемонстрировал дыру на засаленной шляпе. — Перезарядить ружье араб не успел: трусливый Ханс пырнул его ножом в спину. Поглядите! — Ханс снял с пояса большой нож наподобие мясницкого и показал нам. — Дальше пошло как по маслу, ведь огонь — вещь удивительная. Он рождается маленьким, потом растет, как ребенок, становится все больше и больше. Он быстрее коня, не ведает усталости и всегда голоден. Я выбрал самые удобные места и развел шесть костерков. Последнюю спичку я сберег, ведь у нас их очень мало. После этого я ушел через северные ворота, чтобы огонь не сожрал меня, своего отца, сеятеля красного семени! Мы с восхищением смотрели на старого готтентота. Даже умирающий Мавово поднял голову. Ханс, выпустив пары, зачастил: — Когда я возвращался к баасу, не зная, жив он или нет, разгорающийся пожар заставил меня подняться на возвышение у западной части ограды. Оттуда я увидел, что творится у южных ворот. Я понял, что арабы прорываются, ведь обороняющихся крайне мало. Поэтому я поспешил к Бабембе и к другим вождям и сказал: мол, ограду сторожить больше не нужно, лучше помочь сражающимся у южных ворот, иначе все погибнут. Бабемба послушался, и мы пришли сюда как раз вовремя. Вот так я отсиживался в норе во время битвы у ворот, о Мавово. Прошу передать мою историю преподобному отцу бааса, предиканту. Он наверняка возрадуется, услышав, что не зря учил меня быть мудрым, помогать людям и всегда заботиться о баасе Аллане. Жаль, я потратил столько спичек. Лагерь сгорел, где теперь нам спички раздобыть?! — Ханс с досадой уставился на почти пустой коробок. — Никогда больше не будешь ты называться Пятнистой змеей, о маленький желтый человек, который так велик и чист душой, — медленно, задыхаясь, проговорил Мавово, обращаясь к Хансу. — Нарекаю тебя новыми именами, да восславятся они в поколениях! Отныне ты Светоч во мраке и Владыка огня. Мавово закрыл глаза и потерял сознание. Через несколько минут его не стало. Но почетные имена, данные им перед смертью Хансу, навсегда остались за старым готтентотом. С того дня туземцы не смели называть Ханса иначе и выказывали ему всяческое уважение. Бушующее пламя постепенно утихало и наконец погасло совсем. Мазиту возвратились со сражения на рыночной площади (если это можно назвать сражением), с целыми охапками ружей, принадлежавших убитым врагам. Отчаянно пытаясь спастись, большинство арабов бросили свое оружие. Но где искать спасения, если с одной стороны разъяренные туземцы, с другой — клокочущее пламя? Сколько арабов погибло, могли определить лишь их мерзкие сообщники, схоронившиеся в городах и лагерях Западной Африки и острова Мадагаскар, ведь из ушедших на войну с мазиту и их белыми соратниками ни один не вернулся и не привел, вопреки ожиданиям, пленных. Погибшие арабы отправились в далекие края, которые для меня порой символизирует пылающий город Беза. Это были дьяволы в человеческом обличье, чуждые стыда и сострадания, но я невольно жалел их: такой ужасный конец! Мазиту привели к нам пленных. Среди прочих я увидел отталкивающее, изуродованное оспой лицо Хасана бен Магомета, белое одеяние которого наполовину обгорело. — Довольно давно я получил твое письмо, в котором ты обещал заживо сжечь нас на костре, — сказал я. — Сегодня утром я снова получил от тебя известие, принесенное пареньком, товарищей которого ты убил. На то и другое я послал тебе ответ. Если ты ничего не получил, оглянись и прочти этот, ибо он написан здесь на языке, понятном каждому. Этот изверг бросился на землю и молил о пощаде. Увидев миссис Эверсли, он подполз к ней и, уцепившись за ее подол, стал просить о заступничестве. — Ты сделал меня своей рабыней, после того как я выходила тебя, больного, — ответила она, — и без всякой причины хотел убить моего мужа. По твоей вине, Хасан, я провела лучшие годы своей жизни среди дикарей, в одиночестве и отчаянии. Однако я прощаю тебя. Но чтобы я больше никогда не видела твоего лица! Она высвободила край платья из его рук и ушла вместе с дочерью. — Я также прощаю тебя, хотя ты перебил моих людей и заставил меня страдать долгие двадцать лет, — сказал Брат Джон, истинный христианин. — Да простит тебя Бог! — И он последовал за своей женой и дочерью. Тогда заговорил старый король Бауси, легко раненный в сражении: — Я рад, Красный вор, что эти белые люди простили тебя, ибо сей великодушный поступок сделал их еще благороднее в моих глазах и перед всем моим народом. Но знай, о мучитель и торговец людьми: судья здесь я, а не белые! Посмотри на свою работу! — Бауси указал сперва на ряды мертвых зулусов и мазиту, потом на горящий город. — Посмотри и вспомни, какую участь готовил ты нам, не сделавшим тебе никакого зла! Смотри! Смотри, о гиена в человеческом облике! Тут я ушел и никогда не пытался выяснить, что сталось с Хасаном и другими пленными. Кроме того, всякий раз, когда Ханс или кто-нибудь из туземцев начинали рассказывать мне об этом, я приказывал им молчать.Эпилог
К этой истории мне добавить почти нечего. Боюсь, она и так вышла немного длинной. Писать ее было забавно, я скоротал за этим занятием немало зимних вечеров. Но вот в Англию пришла весна, а я слегка устал от писательства. Поэтому каждый читающий эти страницы все недосказанное волен домыслить по-своему.Мы победили и должны были благодарить судьбу за то, что живы. Однако ночь после битвы у ворот была очень печальной, по крайней мере для меня, ибо я сильно скорбел об утрате бесстрашного Мавово, склонного к пафосу, но преданного Сэма и нескольких храбрых зулусских охотников. Кроме того, меня тяготило прорицание старого зулуса о том, что и я встречу смерть в бою. Слишком многие погибли в сражениях за последние несколько дней, и мне, глядя на это, захотелось мирной кончины. Сейчас я тихо и спокойно живу в Англии, в ближайшее время покидать ее не намерен, так что в предсказание верится с трудом. Однако в пророческом даре змеи Мавово я уже убедился, поэтому опасения насчет будущего имеются. Да и кому оно открыто? Тем более зачастую с нами случается самое невероятное[325]. Не располагала к веселости и изменившаяся к вечеру погода: после заката полил дождь и не стихал почти до самого утра. Нам и сотням бездомных мазиту укрыться было негде. Однако в конце концов дождь перестал, и следующим утром солнце приветливо засияло на небе. Когда мы обсохли и согрелись, кто-то предложил посетить сгоревший город, ведь ливень потушил пламя и хижины превратились в тлеющие обломки. Я согласился, в основном из любопытства. Мы со спутниками (за исключением Брата Джона, оставшегося при раненых) в сопровождении Бауси, Бабембы и многих мазиту перебрались через развалины южных ворот и по усеянной трупами рыночной площади зашагали туда, где прежде стояли наши хижины. Сырой дымящийся пепел — зрелище удручающее. Я едва не зарыдал: ведь снаряжение наше сгорело, а как мы без него вернемся в Дурбан? Пропало столько ценных трофеев! Слезами горю не поможешь, и через обгоревшие руины королевского жилища мы двинулись к северным воротам. Я шел последним вместе с Хансом, по привычке тщательно все осматривавшим. Вдруг он положил мне руку на плечо и сказал: — Баас, я слышу голос духа! Вероятно, это дух Сэма просит нас, чтобы мы похоронили его тело. — Вздор! — буркнул я, а сам прислушался. Мне тоже показалось, что невесть откуда доносится повторяющаяся просьба: «Мистер Квотермейн, умоляю вас, откройте дверцу этой печи!» Сперва мне показалось, что я схожу с ума. Затем я позвал остальных, они вернулись, и мы прислушались вместе. Вдруг Ханс бросился вперед, словно такса, почуявшая крота, и начал разгребать, точнее, ворошить палкой пепел, слишком горячий для того, чтобы прикасаться к нему руками. Мы насторожились и на сей раз ясно услышали голос из-под земли. — Баас, Сэм в зерновой яме! — догадался Ханс. Я тут же вспомнил, что народы группы банту роют такие ямы перед каждой хижиной и используют для хранения припасов. В тот момент хранилища пустовали. Вообще, с зерновыми ямами у меня связаны неприятные воспоминания, это подтвердит любой, кто прочтет книгу «Мари», посвященную моей первой жене. Мы быстро расчистили то место и подняли каменную затычку. Сэму повезло, что камень сидел плотно и в нем имелись отверстия для вентиляции! Он скрывал зацементированный погребок в форме бутыли футов десять глубиной и восемь шириной. В горлышке ямы тотчас показалась голова Сэма. Он разинул рот и дышал тяжело, словно рыба на песке. Когда мы вытаскивали нашего повара, тот вопил от боли: его кожа нагрелась и стала очень чувствительной. Мазиту напоили беднягу ключевой водой, а я гневно спросил, почему он прятался в яме, ведь мы оплакивали его как погибшего. — Ох, мистер Квотермейн, меня чуть не погубила излишняя верность! — отозвался он. — Я не смог оставить наше ценное имущество на разграбление алчному врагу. Поэтому я сложил все в эту яму и уже собрался уходить. Вдруг мне показалось, что кто-то приближается. Я влез в яму, закрыв ее снизу камнем. Началось сражение. Враги не только убивали и грабили, они подожгли город, и я услышал, как надо мной бушует пламя. Камень засыпало пеплом, он накалился так, что не притронешься. Я просидел здесь целую ночь, изнемогая от жары и страха, что взорвутся два бочонка с порохом. Они в яме, рядом со мной. Я уже потерял надежду и приготовился умереть, подобно черепахе, живьем зажаренной бушменом, как вдруг услышал ваш голос. Мистер Квотермейн, не дадите ли вы мне заживляющей мази? Я сильно обжегся. — Ах, Сэм, Сэм, вот до чего доводит трусость! — посетовал я. — На горе́ с нами ты не получил бы ожоги. Умирать бы тебе в этой яме, если бы не острый слух Ханса! — Касательно ожогов вы правы, мистер Квотермейн. Признаю себя виновным. Но на горе меня могли застрелить, а это хуже, чем обжечься. Кроме того, вы поручили мне свое имущество, и я решил сохранить его, даже в ущерб себе. В конце концов, мой ангел-хранитель привел вас сюда, и насквозь я не прожарился. Все хорошо, что хорошо кончается, мистер Квотермейн, а кровавых сражений с меня довольно. Если суждено мне вернуться в цивилизованные края, посвящу себя искусству приготовления пищи на безопасной кухне отеля, если, конечно, не сумею занять место преподавателя английского языка. — Да, Сэм, все хорошо, что хорошо кончается, — согласился я. — По крайней мере, ты спас наше имущество, нам следует тебя благодарить. Тебе нужна медицинская помощь, так что ступай с мистером Стивеном, а мы пока вытащим наше добро из ямы. Три дня спустя мы простились со старым Бауси, который отпустил нас чуть ли не со слезами, и с племенем мазиту. Они уже начали отстраивать заново родной город. На горном склоне напротив ворот похоронили Мавово и других зулусов. Они погибли, защищая эти ворота. В честь доблестных воинов соорудили высокий могильник, чтобы грядущие поколения могли их вспоминать. Рядом обрели вечный покой павшие мазиту. На обратном пути зулусы остановились и, включая двух раненых, которых несли на носилках, громко запели, отдавая последнюю дань тем, кто пал в битве. Мы, белые, молча сняли шляпы. Добавлю, что змея Мавово не ошиблась. Она обещала, что в экспедиции погибнут шестеро, так и вышло, ни больше ни меньше. После долгого совещания мы решили возвратиться в Наталь по суше. Во-первых, работорговцы, узнав о своих ужасных потерях, могли снова напасть на нас на побережье. Во-вторых, если даже мы без приключений прибудем в Килву, нам, вероятно, придется просидеть там несколько месяцев, дожидаясь корабля, который доставит нас в относительно цивилизованный порт. К тому же Килва в те времена пользовалась весьма дурной славой. Кроме того, Брат Джон хорошо знал выбранную нами дорогу и поддерживал дружбу с племенами, чьи земли граничили со страной зулусов, где я всегда мог рассчитывать на самый лучший прием. Мазиту выручили нас, предоставив нам эскорт и носильщиков на первое время. Отпустив их, мы сможем нанять новых людей благодаря заботам Сэма, сохранившего достаточно товара. Поэтому у нас были все основания полагать, что обратная дорога не займет слишком много времени. Путь обратно растянулся на целых четыре месяца, но завершился благополучно, если не считать легкой лихорадки, которой переболели мы с Хоуп. По дороге мы славно поохотились. Жаль, новый маршрут путешествия не позволил нам взять с собой слоновьи бивни, которые мы отбили у работорговцев и зарыли там, где никому, кроме нас, не найти. Тем не менее я, по объективным, уже названным причинам оказавшийся третьим лишним, на обратном пути очень скучал. Ханс — человек хороший, в некотором роде гений, но постепенно его общество стало меня тяготить, ведь даже разговоры о моем преподобном отце — старый готтентот был буквально одержим его духом! — получались на один манер. Разумеется, у нас нашлись бы и другие темы для бесед, например битва у Кровавой реки (в том сражении уцелели только мы с Хансом), но вспоминать об этом было слишком больно. Излишне говорить, что я очень обрадовался, когда в Зулуленде мы повстречали знакомых мне купцов и взяли у них напрокат повозку. Белого быка и ослов, еле ноги волочивших от усталости, мы подарили другому знакомцу — вождю племени. Брат Джон с женой и дочерью отправились в Дурбан на повозке, сопровождал их Стивен верхом на купленной лошади, а мы с Хансом поехали с купцами. В Дурбане нас ждал сюрприз. При въезде в город мы встретили сэра Александра Сомерса, который, узнав о прибытии купцов из страны зулусов, вышел к ним навстречу в надежде услышать что-нибудь о нас. Очевидно, этот старый раздражительный джентльмен так беспокоился о судьбе своего сына, что в конце концов решил отправиться за ним в Африку. Их встреча получилась трогательной, но своеобразной. — Отец! — вскричал Стивен. — Кто мог подумать, что я встречу тебя здесь? — Стивен! — воскликнул старик. — Кто мог ожидать, что я найду тебя живым и здоровым? Это больше, чем ты заслуживаешь, молодой осел, но, надеюсь, глупостей ты больше не наделаешь. С этими словами сэр Александр схватил Стивена за волосы и торжественно поцеловал его в лоб. — Больше никаких глупостей, отец, — заверил Стивен. — Только благодаря Аллану все окончилось благополучно. А теперь позволь представить тебе леди, на которой я собираюсь жениться, и ее родителей. Остальное легко себе представить. Через две недели молодые обвенчались в Дурбане. Сэр Александр — кстати сказать, в деловом отношении поступивший со мной весьма благородно — пригласил на свадьбу буквально весь город. Вскоре после этого новобрачные уехали в Англию вместе с родителями. Стивену хотелось «обучить» новую супругу, вот только в чем заключался этот процесс, я так и не выяснил. Мы с Хансом с грустью расстались с ними на Кейп-Пойнте. Ханс получил пятьсот фунтов, обещанных ему Стивеном. На эти деньги он купил ферму и благодаря своим подвигам стал кем-то вроде местного вождя. Как пишут в генеалогических справочниках, подробности о нем читайте ниже, точнее, в следующих книгах. Сэму достался во владение маленький отель. В его баре он проводит немало времени. Сложными, витиеватыми фразами в стиле «Опыта о человеке»[326], который я пробовал читать, да бросил, повествует он посетителям о своих «военных подвигах» среди диких мазиту и людоедов-понго. Два года спустя я получил письмо, часть которого хотел бы процитировать:
Как я писал ранее, отец мой подарил мистеру Эверсли приход, очаровательное место, где священник не знает забот. Подозреваю, моим уважаемым тестю и теще там скучновато. По крайней мере, Догита частенько бродит по окрестному лесу с сачком, представляя себе, что вернулся в Африку. У Матери Цветка (после многолетнего общения с подобострастными немыми альбиносками английских служанок она не приемлет) другое развлечение. На территории прихода есть озерцо, а на нем — островок. Там она обнесла плетеной изгородью куст вечнозеленой калины, которая цветет в то же время, что Священный цветок. Когда позволяет погода, моя дражайшая теща сидит за той изгородью и, сдается мне, справляет обряды Священного цветка. Однажды я подплыл к островку на лодке и увидел ее в белом одеянии. Она пела что-то таинственное на языке туземцев.
Прошло много лет. Брат Джон и его жена умерли, и их странная история почти забылась. Ушел в мир иной и отец Стивена. Сам же Стивен ныне преуспевающий баронет, член городского магистрата и парламента, глава большого семейства. Мисс Хоуп оказалась очень плодовитой, как и надлежит дочери богини плодородия, которую воплощала Мать Цветка. Однажды, оглядывая своих многочисленных и шумных чад, Хоуп, чья манера выражаться осталась неизменной, сказала: «О Аллан, порой мне так хочется вернуться на безмятежный Остров Цветка! Никогда не забыть мне синеву священного озера и зарю, встающую над ним, — добавила она, волнуясь. — О Аллан, увижу ли я все это на смертном одре?» Тогда слова Хоуп показались мне неблагодарными, но человеческая натура причудлива. Родные края с их волшебным воздухом манят каждого. Недавно я навещал сэра Стивена, и его славный садовник Вудден, теперь глубокий старик, провел меня в роскошную оранжерею и показал три благородных растения с продолговатыми листьями, выросшие из семян Священного цветка, которые я сберег и при расставании передал Стивену. Эти растения еще не цвели. Очень хотелось бы знать, что произойдет, когда они зацветут. Мне кажется, что в тот момент, когда золотистый цветок снова предстанет перед глазами людей, вокруг него будут незримо реять духи ужасного лесного бога, жуткого таинственного Мотомбо, а то и самой Матери Цветка. Случись такое, какие дары они принесут укравшим и взрастившим священное семя?
P.S. Это я скоро выясню, ибо не успел я отложить перо, как мне вручили восторженное послание Стивена, в котором он сообщает, что два или три растения наконец зацветают.Аллан Квотермейн
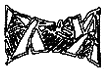
Книга XII. ДИТЯ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ
Роман повествует о приключениях в дебрях Африки Аллана Квотермейна. Аллан и его спутники отправляются в страну Кенда — страну потомков древних египтян, почитающих как божество статую Небесного «Дитя из слоновой кости».
Глава 1
АЛЛАН ДАЕТ УРОК СТРЕЛЬБЫ
Я хочу рассказать об одном из самых необыкновенных приключений в своей жизни, которую вряд ли можно назвать бесцветной. Начало его относится к тому времени, когда я приехал в Англию с молодым джентльменом по имени Скруп, отчасти для того, чтобы проводить его домой после одного случая на охоте, отчасти по другим делам. Там я прожил некоторое время у Скрупа, или, вернее, у родных его невесты в их красивом доме в Эссексе. Во время своего пребывания в этих краях я имел случай видеть великолепный старинный замок с башенными воротами, искусно отреставрированный и превращенный в современный жилой дом. Будем называть этот замок «Регнолл-Кастлом», по имени его владельца. Я многое слышал о лорде Регнолле. Говорили, что он удивительно красив, обладает большими научными познаниями, хороший спортсмен — был капитаном в оксфордских лодочных гонках, — блестящий оратор, уже отмеченный в Палате Лордов, смелый охотник, застреливший много тигров и других крупных зверей в Индии, поэт, издавший под псевдонимом том своих стихотворений, имевших значительный успех, хороший офицер в бытность на военной службе и, наконец, обладатель колоссального состояния: сверх огромных поместий он владел несколькими каменноугольными копями и целым городом на севере Англии. — Господи! — воскликнул я, когда этот длинный перечень был наконец окончен. — Должно быть, этот человек родился в рубашке. Но, по всей вероятности, он несчастлив в любви? — В этом-то именно он счастливее всего, — ответила мисс Маннерс, невеста Скрупа, с которой я разговаривал, — мне говорили, что он помолвлен с самой милой, красивой и умной девушкой во всей Англии и что они обожают друг друга. — Господи! — повторил я. — Удивительно, почему судьба так щедра по отношению к лорду Регноллу и его возлюбленной? Впоследствии мне суждено было узнать это… Когда на следующее утро мне предложили отправиться посмотреть редкости Регнолл-Кастла, я охотно согласился. Однако мне интереснее всего было взглянуть, если представится случай, на самого лорда Регнолла, так как все перечисленные достоинства его произвели на меня, бедного колониста, весьма сильное впечатление. Часто сталкиваясь в жизни с демонами в человеческом образе, я никогда не встречал ангелов, по крайней мере мужского пола. Кроме того, мог представиться случай увидеть невесту лорда, которую, как я узнал, звали мисс Холмс. Итак, ничто не могло доставить мне большего удовольствия, чем посещение этого замка. Был уже декабрь; стояла тихая морозная погода. По приезду в Регнолл-Кастл Скрупу сообщили, что лорд Регнолл (с которым он был хорошо знаком) занимается стрельбой где-то в парке, но что мистер Скруп может показать своему другу замок. Мы вошли втроем, так как с нами была мисс Маннерс, которая привезла нас в своей коляске, запряженной пони. Привратник передал нас у главного входа мужчине, которого он назвал мистером Сэвиджем, шепнув мне, что это личный слуга Его Светлости. Это имя совершенно не соответствовало внешности его владельца[327]. Он показался мне переодетым герцогом, насколько я представлял себе герцогов, никогда не видев ни одного. Его платье — на нем был черный утренний костюм — было безукоризненно; манеры изысканны, учтивость — граничила с иронией с оттенком скрытой надменности. Он был красив со своим тонким носом и смелыми ястребиными глазами. Лет ему было, вероятно, тридцать пять — сорок, и манера, с которой он отобрал у меня палку и шляпу, обнаруживала решительный характер. По всей вероятности, он считал меня способным повредить палкой картины и другие произведения искусства, находившиеся в замке. Впоследствии мистер Сэмюэль Сэвидж признался мне, что я не ошибся в своем предположении. Судя обо мне по наружности, он принял меня за анархиста, о которых он читал в газетах. Этот человек, столь безукоризненный в других отношениях, удивительно коверкал некоторые слова. Показывая нам картины, он говорил о них языком хорошего художественного критика, но вдруг так коверкал какое-нибудь слово, что получалось впечатление, как от ушата холодной воды, опрокину того на голову. Он водил нас по парадным комнатам замка, показывая нам множество редких дорогих вещей и по крайней мере сотни две картин лучших старых мастеров. При этом ему представился случай обнаружить свое особенное, вернее, превратное понимание истории. Сказать правду, мне скоро надоело выслушивать бесконечные подробности, тем более, что в парадных комнатах было очень холодно. По пути из большой галереи в меньшую мы проходили через небольшую комнату, довольно уютную и хорошо натопленную. То была студия лорда Регнолла. Задержавшись на минуту у огня, я заметил на стене картину, покрытую полотном, и спросил Сэвиджа, что она изображает. — Это, сэр, — ответил он с гордой скромностью, — портрет будущей супруги Его Светлости; портрет, так сказать, только для глаз Его Светлости. Мисс Маннерс сдержала улыбку, а у меня мелькнула мысль, что скрывать портрет таким образом — совсем дурная примета. Потом, увидев в открытую дверь переднюю, где осталась моя шляпа и палка, я замедлил шаги и, когда мои спутники скрылись в галерее, забрал свои пожитки и вышел в парк, рассчитывая согреться ходьбой взад и вперед по террасе до возвращения Скрупа и его невесты. Я слышал несколько выстрелов, доносившихся из небольшой дубовой рощи, ярдах в пятистах от меня. Стреляли, очевидно, из маленького не дробового ружья. Стрельба — моя профессия; я не мог сдержать своего любопытства и направился к роще окружным путем через кустарник. Скоро я очутился у одного конца полянки и из-за прикрытия огромного старого вяза увидел недалеко от себя двух мужчин. Одним из них был молодой егерь, державший и заряжавший запасное ружье, в другом я сразу признал лорда Регнолла. Это был действительно очень красивый, широкоплечий мужчина высокого роста, с острой бородкой, приветливым лицом и большими темными глазами. На его плечи был накинут плащ, и во всем, за исключением Ружья в руках, он походил на своих предков времен Карла I, портрет которого, писанный Ван-Дейком, я видел в большой галерее замка. Стоя за дубом, я видел, как он тщетно пытался подстрелить одного из лесных голубей, спускавшихся покормиться желудями. Когда перед спуском на землю они как бы задерживались в воздухе, охотник стрелял, и они улетали. Бах! Бах! — снова раздались два выстрела из двуствольного ружья. Голубь улетел цел и невредим. — Черт возьми! — весело воскликнул охотник. — Ведь это двенадцатый промах, Чарльз! — Ваша Светлость попали в хвост. Я видел, как полетело перо. Но разве может кто-нибудь, да еще при ветре, попасть в голубя пулей, даже когда тот собирается сесть на землю? — Я слышал об одном таком человеке, Чарльз. У мистера Скрупа гостит его друг из Африки, который из шести раз попадает четыре. — В таком случае, друг мистера Скрупа — лжец, — возразил Чарльз, подавая новое ружье. Это было слишком. Я выступил вперед, вежливо приподнял шляпу и сказал: — Извините, сэр, что я прерываю вас, но вы совершенно неправильно стреляете по голубям. То, что они как бы задерживаются в воздухе, — только кажется нам. В действительности они очень быстро опускаются на землю. Ваш егерь ошибается, утверждая, что вы попали в хвост последней птице, в которую вы стреляли из обоих стволов. В том и другом случае ваша пуля пролетела по крайней мере на фут выше цели, и упал дубовый лист, а не перо голубя. На минуту воцарилось молчание. Лорд Регнолл, вначале сердито посмотревший на меня, улыбнулся и сказал: — Сэр, благодарю вас за совет, который мне весьма полезен, так как я все время делал промахи, стреляя по голубям из этих маленьких ружей. Но, быть может, вы сами на практике покажете, как это делается, что, без сомнения, еще более увеличит цену вашего совета. Это было сказано не без легкой иронии. — Дайте мне ружье, — сказал я, снимая пальто. Лорд Регнолл с поклоном передал мне свою двустволку. Чарльз презрительно фыркнул. Я смерил его глазами, но он продолжал дерзко смотреть на меня. Никогда в жизни меня так не раздражала лакейская наглость. Вдруг сомнение охватило меня. А вдруг я промахнусь? Ведь это легко может случиться, так как я плохо знаю полет английских лесных голубей. Как тогда снести лакейское презрение Чарльза и учтивую насмешливость его знатного хозяина? Я молил Бога, чтобы голуби больше не прилетали, но напрасно: вскоре они снова начали слетаться на поиски лакомых желудей. Я слышал, как Чарльз пробормотал: — Ну вот, теперь этому учителю представляется случай показать свое искусство. Его Светлость — лучший стрелок в наших краях! Пока он говорил, появились два голубя, летевшие один за другим. Первый из них начал снижаться ярдах в пятидесяти от меня, второй — приблизительно в семидесяти. Я выбрал первого, тщательно прицелился и выстрелил. Пуля попала ему в зоб, откуда дождем посыпались съеденные им желуди. Птица камнем упала на землю. Второй голубь, почуяв опасность, начал быстро подниматься вверх почти по вертикальной линии. Я выстрелил: пуля отбила ему голову. Потом я взял из рук Чарльза заряженное им второе ружье и снова увидел двух приближающихся голубей. Я рискнул сделать трудный выстрел и на лету попал одному из них в хвост. Однако он быстро спустился и забился на земле. Прицелившись вторично, я нажал гашетку; курок щелкнул, но выстрела не последовало. Тут мне представился случай проучить Чарльза. — Молодой человек, — сказал я, в то время как он, разинув рот, смотрел на меня, — вам следует научиться внимательней обращаться с оружием. Если вы подали стрелку незаряженное ружье, вы способны сделать и более опасную оплошность. Потом, повернувшись к лорду Регноллу, я прибавил: — Я должен просить извинения за свой третий выстрел, который осрамил меня, так как взявши слишком мало вперед, я сделал ошибку, от которой предостерегал вас. Однако этот выстрел может показать вашему слуге разницу между голубиным хвостом и листом дуба. Перья бедной птицы все еще кружились в воздухе. — Это сам черт! — пробормотал Чарльз. Но его хозяин строго взглянул на него и, приподняв шляпу, обратился ко мне. — Сэр! Ваша практика далеко превосходит теорию. Я поздравляю вас с таким удивительным искусством, почти граничащим с чудом, если только не случайность… Тут он запнулся. — Вполне естественно, что вы так думаете, — ответил я, — но, если мы подождем еще голубей и мистер Чарльз будет аккуратно заряжать ружья, я надеюсь переубедить вас. Однако последовавший в этот момент громкий возглас Скрупа, искавшего меня, разогнал всех голубей по крайней мере на полмили. Впрочем, об этом я не очень сожалел. — Я должен пожелать вам доброго утра, — сказал я, — меня зовут мои друзья. — Одну минуту, — воскликнул охотник, — могу я просить вас назвать свое имя? Меня зовут Регнолл — лорд Регнолл. — А меня Аллан Квотермейн, — сказал я. — О! — воскликнул лорд Регнолл. — Это объясняет дело. Чарльз! Этот джентльмен друг мистера Скрупа. Вы позволили себе сказать, что он… преувеличивает. Вам следует извиниться. Но Чарльза уже и след простыл. В это время показались Скруп и его невеста, слышавшие наши голоса. Последовало объяснение. — Мистер Квотермейн показывал мне, как надо стрелять по лесным голубям из малокалиберных ружей, — сказал лорд Регнолл. — О, он весьма компетентен в этом, — заметил Скруп. — Это единственное, что я умею делать, — скромно возразил я, — но, без сомнения, Его Светлость гораздо искуснее меня в стрельбе из дробовых ружей, в которой я имел очень мало практики. — Да, — сказал Скруп, — я не советую вам состязаться с ним, так как лорд один из лучших стрелков Англии. — Вы преувеличиваете, — смеясь, заметил лорд Регнолл, — но знаете, у меня появилась идея. Завтра мы собираемся устроить большую охоту в роще, где до сих пор никто не охотился. Быть может, мистер Квотермейн не откажется присоединиться к нам? — К сожалению, это невозможно, — ответил я, — так как у меня нет с собой ружья. — Это ничего не значит; у меня есть пара лишних централок, и прошу вас располагать ими. Делать было нечего — оставалось принять приглашение. — Очень жаль, мистер Скруп, — продолжал лорд Регнолл, — что я не могу пригласить вас, так как в охоте может участвовать только семь стрелков. Но, быть может, вы и мисс Маннерс не откажетесь завтра пообедать и провести день в Регнолле. Я познакомлю вас с моей будущей женой, — прибавил он, слегка краснея. Мисс Маннерс, снедаемая любопытством, сразу приняла приглашение, прежде чем ее жених успел открыть рот. Скруп предложил заряжать для меня во время охоты ружья, что весьма обрадовало меня, так как я боялся какого-нибудь подвоха со стороны Чарльза. На обратном пути из замка мы заехали в оружейную лавку заказать патронов. Хозяин спросил, сколько мне их надо, и получив ответ «сто», посмотрел на меня с удивлением. — Насколько я мог заключить, сэр, — сказал он, — вы принимаете участие в завтрашней охоте в Регнолле. По-моему, вам надо по крайней мере триста пятьдесят патронов. — Хорошо, — ответил я, опасаясь обнаружить свое незнание местных условий охоты, — приготовьте мне их пораньше и снарядите их тремя драхмами пороху. — Да, сэр; и унций[328] с восемь дроби номер пять? — Нет, — возразил я, — возьмите номер третий. До свиданья. Оружейник снова с удивлением посмотрел на меня, и, уходя, я услышал, как он сказал своему помощнику: — Этот африканец, вероятно, собирается стрелять страусов!Глава 2
АЛЛАН ДЕРЖИТ ПАРИ
На следующее утро мы со Скрупом в десятом часу прибыли в Регнолл, захватив по пути заказанные накануне патроны, за которые мне пришлось заплатить изрядную сумму. — Однако, — подумал я, — урок стрельбы фазанов обойдется мне не даром… Когда мы вышли из коляски, к нам подошла какая-то величественная особа в бархатной куртке и красном жилете в сопровождении Чарльза, несшего два ружья. — Это главный егерь, — шепнул мне Скруп. — Если не ошибаюсь — мистер Квотермейн? — спросил важный егерь, холодно и неодобрительно оглядывая меня. — Да, это я. — Его Светлость поручил мне передать вам эти ружья. Чарльз будет сопутствовать вам во время охоты и носить за вами оружие и патроны. Я взял одну из централок и осмотрел ее. Это было великолепное дорогое оружие. В это время из-за угла здания показался сам лорд Регнолл. После взаимных приветствий он проводил нас в обширную залу, где собрались остальные участники охоты. То были известные стрелки, большинство из которых я знал по охотничьим журналам. К моему изумлению, среди них оказался мой, можно сказать, старый знакомый. Это низменное лицо, маленькие бегающие глаза и острый красноватый нос не могли принадлежать никому иному, кроме Ван-Капа, некогда прославившегося в Южной Африке крупными, неподвластными закону аферами, из-за которых и я стал жертвой на двести пятьдесят фунтов стерлингов — сумму довольно значительную для меня. Ван-Кап обернулся и, увидев меня, воскликнул: — Кого я вижу! Аллан Квотермейн! Тон его восклицания привлек внимание лорда Регнолла, стоявшего вблизи. — Да, мистер Ван-Кап, — ответил я, — вы не ошиблись, это я. Столько же рад видеть вас, как и вы меня. — Я думаю, здесь недоразумение, — сказал лорд Регнолл, удивленно глядя на нас. — Это сэр Юниус Фортескью. — Я, право, не могу вспомнить, — возразил я, — чтобы он назывался этим именем. Но, во всяком случае, мы старые знакомые. Лорд Регнолл отошел в сторону, как бы не желая продолжать этот разговор. Ван-Кап вплотную подошел ко мне. — Мистер Квотермейн, — тихо сказал он, — обстоятельства сильно изменились с тех пор, как мы встретились с вами в последний раз. — Ваши, вероятно, да, — возразил я, — но у меня все осталось по-старому, и я буду вам очень обязан, если вы уплатите мне двести пятьдесят фунтов, которые вы мне должны. На минуту он задумался. — Вот что я вам предложу, — сказал он немного спустя, — вы всегда были спортсменом. Если я сегодня убью больше вас птицы, вы должны держать язык за зубами относительно моих африканских дел. Если же вы убьете больше меня, вы также должны будете молчать, но я уплачу вам ваши двести пятьдесят фунтов с процентами за двенадцать лет. Конечно, я мог отказаться от этого предложения и вывести Ван-Капа на чистую воду. Но вышел бы скандал, а это не входило в мои расчеты и все равно не приблизило бы меня к получению двухсот пятидесяти фунтов. — Я согласен, — сказал я. — Что это за пари, сэр Юниус? — спросил лорд Регнолл, подходя к нам. — Это длинная история, — поспешно ответил Ван-Кап. — Мистер Квотермейн полагает, что я остался ему должен пять фунтов, и мы согласились предоставить разрешение этого вопроса результату сегодняшней охоты. — Хорошо, — сказал лорд Регнолл, очевидно не совсем веря сказанному. — Раз дело касается денег, я поставлю кого-нибудь считать убитых птиц и сообщать мне об их числе. — Согласен, — сказал Ван-Кап, или сэр Юниус. Я молчал: признаться, я стыдился всей этой истории. На пути в рощу, отстоявшую всего на милю от замка, мы с лордом Регноллом случайно остались вдвоем. — Вы раньше встречали сэра Юниуса? — пытливо спросил он меня. — Да, — ответил я, — около двенадцати лет тому назад, перед тем как он исчез из Южной Африки, где был известен как удачливый… спекулянт. — Десять лет тому назад он купил имение по соседству со мной, а через три года сделался баронетом. — Как же человек, подобный Ван-Капу, мог получить такой титул? — изумился я. — Покупкой. — Покупкой? Разве в Англии титулы продаются? — Вы удивительно наивный человек, мистер Квотермейн. Ваш друг… — Извините меня, Ваша Светлость, — перебил я его, — я очень незначительный человек и потому не могу назвать сэра Юниуса, бывшего Ван-Капа, своим другом. — Мне самому несимпатичен этот человек, — улыбаясь, сказал мой собеседник, — но он великолепный стрелок, хотя я уверен, что вы вернете свои пять фунтов. — На это мало шансов, так как мне никогда не приходилось стрелять фазанов, — возразил я. — Теперь, мистер Квотермейн, мой черед дать вам маленький совет. Заметьте, что фазаны летают гораздо медленнее, чем это нам кажется… Но мы уже пришли на место. Чарльз покажет вам, где надо встать. Желаю вам успеха. Через десять минут охотники стояли по местам на виду друг у друга. Я был так поглощен новым для меня зрелищем предварительных приготовлений к охоте, что пропустил зайца и фазанью курочку, доставшихся Ван-Капу, стоявшему через два ружья справа от меня. Тем временем раздался возглас егеря, предупреждающего о летящей птице. — Стреляйте, — сказал Скруп, — это кулик. В эту минуту я увидел очень близко от себя коричневую птицу. Я прицелился и выстрелил. От птицы осталось только облако перьев. При громком хохоте окружающих Чарльз подобрал только голову и клюв моей добычи. — Вам следует давать птице отлететь подальше от вас с вашей дробью номер три, — заметил Скруп. Этот случай так повлиял на меня, что я сделал подряд три промаха, в то время как Ван-Капу удалось застрелить еще пару фазанов. Скруп качал головой, а Чарльз даже тяжело вздохнул. Теперь, видя, что я не состязаюсь с его господином, он был всецело на моей стороне. История моего пари каким-то образом получила широкую огласку, а мой противник, очевидно, не пользовался симпатией среди егерей. — Внимание, — сказал Скруп, указывая на приближающегося фазана. Птица летела слишком высоко. Раздалось три выстрела, в том числе и Ван-Капа, но ни один не задел фазана. Я выстрелил, припомнив совет лорда Регнолла. Птица изменила свой полет и вдруг камнем упала на землю ярдах в пятидесяти от меня. — Это будет получше! — воскликнул Скруп. Удачный выстрел вернул мне уверенность, и я снова подстрелил пару фазанов. Но Ван-Кап, который был великолепным стрелком, не отставал от меня. Лорд Регнолл, стоявший по соседству со мной, предложил мне встать с ним несколько позади остальных охотников. — Я вижу, что вы лучше стреляете по высоко летящим птицам, — сказал он. Мы поместились между двумя рощицами ярдах в трехстах от прежнего места. Здесь дело пошло значительно лучше. Однако, когда мы спустя час с небольшим собрались завтракать в лесной сторожке, оказалось, что я убил тридцатью фазанами меньше своего противника. Пока мы завтракали, погода резко изменилась. Небо заволокло тучами, подул сильный, резкий ветер. Охота должна была продолжаться на новом месте, в рощице около озера. Лорд Регнолл решил отказаться от дальнейшего участия в ней и встал во время стрельбы за мной и Ван-Капом, считая, что и шести стрелков будет много при изменившихся благодаря погоде условиях — Выпейте немного черри-бренди[329], — посоветовал он мне, — это укрепит ваши нервы. Я последовал его совету, и мы вышли. Роща, где мы собирались стрелять и куда перелетели разогнанные нами утром фазаны, находилась приблизительно в миле от сторожки. Она имела вид подковы, окаймлявшей один конец небольшого озера ярдов в пятьдесят шириной. Четыре стрелка были расставлены вдоль ближайшей стороны озера, а нам с Ван-Капом были назначены места на противоположной возвышенной стороне, где мы были на виду у всех. К своему ужасу, неподалеку я увидел целую толпу зрителей, в числе которых я узнал оружейника, набивавшего мне патроны. По пути к лодке, которая должна была перевезти нас через озеро, произошел случай, который привел меня в хорошее настроение и вызвал шумные аплодисменты остальных. — Куропатки! — вдруг провозгласил «красный жилет», шедший на некотором расстоянии впереди нас. Чарльз быстро подал мне заряженное ружье. Через мгновение над деревьями показались птицы, с трудом летевшие против сильного ветра. Я выстрелил в первую — она упала к моим ногам. Со вторым выстрелом вторая последовала за ней. Я схватил запасное ружье и убил третью, пролетевшую почти над самой моей головой. Четвертый выстрел догнал последнюю. Четыре куропатки были подобраны среди всеобщих поздравлений. Входя в лодку, я заметил у Чарльза под мышкой кроме сумки еще ящик с патронами. На мой вопрос, откуда это, Чарльз ответил, что мистер Пофем, оружейник, принес их про запас. Я ничего не возразил, так как из моих трехсот пятидесяти патронов за утро была уже расстреляна добрая половина. Пока мы занимали свои места, ветер еще более усилился. Со стоном качались огромные дубы; недалеко от меня сломанная сосна с плеском упала в воду. Несмотря на это, охота началась. Сперва ветер дул нам в спину, массами гоня фазанов, диких уток и другую дичь над самыми нашими головами. Но вскоре он изменил направление и задул к северу с яростью, увеличивавшейся с каждым моментом. Однако фазаны продолжали свой перелет. В продолжение последующего часа с небольшим происходила самая частая стрельба. Егеря едва успевали заряжать ружья. Потом птицы стали появляться вблизи все реже и реже. Приходилось по большей части стрелять по далеким. Но чем дальше, тем я стрелял все лучше и лучше. Один за другим падали фазаны то в озеро, то в отдаленные кусты. Стволы ружей так нагрелись, что к ним нельзя было притронуться. Дела Ван-Капа также шли хорошо, но на долю остальных ружей приходилось очень мало, и бедные охотники вынуждены были довольствоваться ролью зрителей. К концу охоты я так пристрелялся, что последними тридцатью пятью выстрелами убил тридцать фазанов. Заключительный выстрел затмил все предыдущие. Высоко и несколько в стороне пролетал фазан, казавшийся черной точкой на темном небе. — Не стоит, слишком высоко, — сказал лорд Регнолл, видя, что я подымаю ружье. Но я все-таки выстрелил; фазан перекувырнулся, полетел вниз и упал в озеро далеко от нас. Выстрел был так удачен, что все присутствующие издали одобрительный крик. Даже величественный «красный жилет» что-то одобрительно проворчал. Лорд Регнолл приказал тщательно собрать убитую дичь и положить добычу Ван-Капа отдельно от моей. — За вторую стоянку вы убили сто сорок три штуки, — сказал он, — мое число совпадает с подсчетами Чарльза. Когда я переехал на другую сторону озера, остальные охотники встретили меня самыми горячими поздравлениями. Из-за погоды было невозможно дальше охотиться, и мы отправились в замок пить чай. Едва я опорожнил чашку, как лорд Регнолл пригласил меня посмотреть на убитую дичь. Мы вышли. На чуть покрытой снегом траве правильными рядами лежали убитые птицы. — Дженкинс, — обратился лорд Регнолл к «красному жилету», — сколько дичи числится у сэра Юниуса Фортескью? — Двести семьдесят семь фазанов, Ваша Светлость, двенадцать зайцев, две курочки и три голубя. — А у мистера Квотермейна? — Двести семьдесят семь фазанов, столько же, сколько и у сэра Юниуса, Ваша Светлость, пятнадцать зайцев, три голубя, четыре куропатки, одна утка и один клюв, должно быть кулика. — Тогда вас можно поздравить с выигрышем, мистер Квотермейн, — сказал лорд Регнолл. — Позвольте, — вмешался Ван-Кап, — пари заключалось только на фазанов. Другая дичь не в счет! — Вы говорили «птиц», — заметил я, — впрочем, если… В этот момент все обернулись. Во двор, запыхавшись, вбежал Чарльз в сопровождении другого мужчины с собакой. В руках Чарльза был мертвый фазан без хвоста. — Мы еле нашли его, Ваша Светлость, — начал Чарльз, тяжело дыша, — он упал в тину… Это тот, которого мистер Квотермейн убил последним. Мы с Томом вытащили его палкой. — Тогда вопрос ясно решается в пользу мистера Квотермейна, — сказал лорд Регнолл. — Сэр Юниус, вам следует уплатить свой долг. — Я протестую, — злобно воскликнул Ван-Кап. — Дело идет о сумме большей пяти фунтов. Откуда я знаю, что этот фазан убит мистером Квотермейном? — Мои люди удостоверяют это, сэр Юниус. Впрочем, какой номер дроби употребляли вы сегодня? — Четвертый. — Мистер Квотермейн пользовался номером третьим. Кто еще, господа, употреблял сегодня номер третий? — Все отрицательно покачали головами. — Дженкинс, вскройте голову птице, — приказал лорд Регнолл. Дженкинс ловко выковырнул перочинным ножиком из головы фазана дробинку. — Номер третий, Ваша Светлость, — сказал он. — Сэр Юниус, — твердо произнес лорд Регнолл, — вы должны уплатить свой долг. — У меня нет с собой денег, — мрачно возразил Ван-Кап. — У нас с вами один и тот же банкир, — сказал лорд Регнолл — и вы можете подписать чек на требуемую сумму из моей книжки. Но здесь холодно. Пойдемте, господа, в дом. Мы направились в курительную комнату, куда лорд Регнолл принес чистый бланк и подал его Ван-Капу. — Сколько же я вам должен с процентами? — спросил тот меня — Прошло уже двенадцать лет, — сказал я, — но мне не надо процентов. Я удовлетворюсь первоначальной суммой долга. Ван-Кап подписал чек на двести пятьдесят фунтов и бросил его на стол передо мной. Я взял чек в руки… Вдруг у меня явилась мысль что я не должен воспользоваться этими деньгами. — Лорд Регнолл, — сказал я, — этот долг я давно считал потерянным. Я не хочу оставлять у себя эти деньги. Позвольте передать вам этот чек на дела благотворительности. — Что вы скажете, сэр Юниус, о такой щедрости мистера Квотермейна! — воскликнул Регнолл, увидев, что чек был не на пять, а на целых двести пятьдесят фунтов. Ответа не последовало, так как Ван-Кап поспешил уйти. С тех пор мы никогда не встречались. Приблизительно через год я получил извещение, что на мое пожертвование при одном из соответствующих учреждений устроена койка имени Аллана Квотермейна для больных детей. Заметив исчезновение Ван-Капа, лорд Регнолл ничего не сказал, но подошел ко мне и крепко пожал мою руку. С этого момента началась наша долголетняя дружба. Мне остается прибавить, что, хотя я и получил много удовольствия от стрельбы, однако рад был, что в последующие дни охота не возобновлялась, так как нашел, что это развлечение было мне не по карману. Вот выписка из моей записной книжки:Патроны, включая переданные Чарльзу 4 фун. — шил. Разрешение на охоту 3 фун. — шил. «Красному жилету» «на водку» 2 фун. — шил. Чарльзу «на водку» — фун. 10 шил. Человеку, который помог найти Чарльзу последнего фазана — фун. 5 шил. Егерю, собиравшему дичь — фун. 10 шил. Итого: 10 фун. 5 шил.
Да, охота на фазанов в Англии — развлечение, доступное только богатым!
Глава 3
МИСС ХОЛМС
Последующие два с половиной часа я провел в отдыхе, лежа в отведенной мне комнате, так как частая пальба и беспрерывный шум ветра вызвали у меня небольшую головную боль. Потом явился Скруп и предложил мне присоединиться к остальному обществу. Мы спустились вниз и вошли в роскошно обставленную гостиную, где собралось около тридцати человек соседей лорда Регнолла, приглашенных к обеду. Мисс Маннерс таинственно сообщила Скрупу, что «она уже здесь». В это время безукоризненный Сэвидж провозгласил, широко распахнув двери: — Леди Лонгден! Мисс Холмс! Все обернулись к дверям, в которых показалась пожилая леди в сопровождении молодой девушки лет двадцати двух. Последняя была не очень высока ростом, весьма изящна и грациозна, как лань. Темно-каштановые волосы, тонкие черты лица, ярко-красные губы и большие темные глаза указывали скорее на испанское или итальянское, нежели англо-саксонское происхождение. Одета она была и светлое открытое платье, и, кроме нитки жемчуга и красной камеи, на ней не было никаких украшений. Мне бросилось в глаза странное белое пятно на ее груди, имевшее вид полумесяца. Но самое большое впечатление произвело на меня ее лицо. Выражение его было мягко, приветливо, даже счастливо; но чем больше вглядывался я в него, тем таинственнее оно казалось. По временам по нему проскальзывала какая-то особенная тень. Что это было — я не знал… Лорд Регнолл, казавшийся еще более красивым в своем вечернем костюме, поспешил навстречу своей невесте и ее матери. Мое внимание на некоторое время было отвлечено соседями, как вдруг я услышал вблизи себя голос, который говорил: — Покажите мне его. Впрочем, я уже узнала его по вашему описанию. — Да, вы правы, — ответил лорд Регнолл своей невесте (это была она), — я сейчас познакомлю вас. Однако скажите, кого вы хотите иметь своим кавалером за обедом? Я не могу, я должен быть около вашей матери. Возьмите доктора Джеффриса. — Нет, — ответила мисс Холмс, — я предпочитаю сэра Квотермейна. Мне хочется услышать от него что-нибудь об Африке. — Хорошо, — сказал лорд Регнолл, — он, пожалуй, интереснее всех остальных гостей, взятых вместе. Но почему, Луна, вы постоянно думаете и говорите об Африке? Можно подумать, что вы собираетесь там жить. — Это может когда-нибудь случиться, — задумчиво сказала она, — кто знает, где он жил и где будет жить! И снова что-то таинственное мелькнуло в ее лице. Конца их разговора я не слышал. Сказать правду, я хотел избежать соседства с мисс Холмс за обедом, так как я не люблю быть на видном месте; поэтому янаправился в противоположный конец гостиной. Но это было бесполезно: лорд Регнолл догнал меня и подвел ко мне свою невесту. — Позвольте вас познакомить с мисс Холмс, — сказал он мне, — она желает быть вашей соседкой во время обеда. Она очень интересуется… — Африкой, — подсказал я. — Мистером Квотермейном, о котором мне говорили как о величайшем охотнике в Африке, — поправила меня мисс Холмс с очаровательной улыбкой. Я поклонился, не зная, что сказать. Лорд Регнолл улыбнулся и удалился, оставив нас вдвоем. В это время лакей объявил, что обед подан. Мы направились в середине длинной процессии в роскошную столовую, еще сохранившую свой средневековый стиль. Мистер Сэвидж проводил нас на наши места по левую руку от лорда Регнолла, сидевшего у главного конца длинного стола с леди Лонгден с правой стороны. Старый священник доктор Джеффрис прочел короткую молитву, и обед начался. — Я слышала, — обратилась ко мне мисс Холмс, — что вы сегодня победили сэра Юниуса Фортескью в стрельбе и пожертвовали кучу денег на благотворительность. Я не люблю пари и тех, кто их держит. Странно, что вы держали пари: вы совсем не похожи на таких людей. Но я не выношу сэра Юниуса, и в этом мы сходимся с вами. — Я ничего не говорил о своей антипатии к сэру Юниусу, — возразил я. — Да, но ваше лицо изменилось, когда вы упомянули его имя. — Тогда мне приходится сознаться, что вы правы. Но я должен прибавить, что я тоже не любитель пари. Тут я рассказал всю историю с Ван-Капом и его долгом. — Я всегда считала его ужасным человеком, — заметила мисс Холмс, когда я окончил свой рассказ. Потом наш разговор перешел на предстоящую свадьбу, и я не преминул выразить мисс Холмс свои лучшие пожелания и уверенность, что ее счастье всегда будет так же безоблачно, как и теперь. — Благодарю вас, — сказала она, — но не кажется ли вам, что эта безоблачность — дурное предзнаменование. Ведь будущее так же скрыто от нас, как и мой портрет в рабочей комнате лорда Регнолла, в чем вы тоже видите дурное предзнаменование. — Откуда вы это знаете? — спросил я, пораженный этим замечанием. — Не знаю, мистер Квотермейн, но мне это известно. Ведь вы так думали, не правда ли? — Если даже так, — сказал я, уклоняясь от прямого ответа, — то что из этого следует? Хотя портрет и скрыт от посторонних глаз, но всегда можно отдернуть занавеску… — А вдруг однажды за этой занавеской окажется пустота? — Я не похожа на других… — снова начала мисс Холмс. — Что-то побуждает меня говорить с вами. Я никогда ни с кем не говорила так. Меня бы все равно не поняли. Моя мать, вероятно, нашла бы нужным показать меня доктору. С самых ранних лет мне казалось, что я — какая-то тайна среди других тайн. С девяти лет эта мысль внезапно охватывала меня по ночам. У меня были какие-то видения, но они быстро изглаживались из моей памяти. Только две вещи я чувствую более или менее ясно. Одна — это какая-то странная, безотчетная тревога… Другая — то, что я, или часть меня, имеет какое-то отношение к Африке, о которой я знаю только по книгам. Вот откуда у меня интерес к вам и к Африке. — Я думаю, что ваша матушка была бы права относительно доктора, — заметил я. — Вы так говорите, но не верите в это, мистер Квотермейн. Тогда я, чтобы придать другое направление этому по меньшей мере странному разговору, начал рассказывать об Африке и между прочим упомянул об одном легендарном племени арабов или полуарабов, якобы живущем в восточной части Центральной Африки и поклоняющемся вечно юному дитяти. — Кстати, об арабах, — прервала меня мисс Холмс. — Я расскажу вам очень странную историю. Когда мне было восемь или девять лет, я как-то играла в Кенсинггонском саду (мы тогда жили в Лондоне) под присмотром бонны. Она беседовала с каким-то молодым человеком, которого называла кузеном, а я катала обруч по траве. И вдруг из-за дерева вышли двое одетых в белые одеяния мужчин с тюрбанами на голове. У старшего были блестящие черные глаза, крючковатый нос и длинная седая борода. Лицо младшего я помню плохо. Их кожа была коричневого цвета, но, во всяком случае, это были не негры. Вдруг мой обруч упал к ногам старшего мужчины; я остановилась, не зная, что делать. Старик наклонился, поднял обруч, но не вернул его мне. Он что-то сказал другому, указывая на родинку в виде полумесяца на моей шее (из-за этой родинки отец назвал меня Луной). «Как твое имя, маленькая девочка?» — спросил меня старик на ломаном английском языке. — Луна Холмс, — ответила я. Тогда он достал из кармана ящичек и дал мне из него нечто вроде конфеты. Я очень любила сладости и положила полученное в рот. Потом старик покатил обруч и сказал мне: «Лови его». Я побежала за обручем, но вдруг все исчезло из моих глаз, точно скрывшись в тумане. Я очнулась на руках бонны. Люди в белых одеяниях исчезли. Всю дорогу домой бонна бранила меня за то, что я взяла лакомство от незнакомых людей и грозила пожаловаться на меня родителям. Я еле упросила ее молчать о случившемся. Вскоре она покинула нас и вышла замуж, по всей вероятности за «кузена». Но со времени этого приключения я начала думать об Африке. — Вы больше никогда не встречали этих людей? — Никогда. В это время я услышал сердитый голос леди Лонгден: — Мне очень жаль, Луна, прерывать ваш интересный разговор, но мы все ожидаем тебя. К своему великому ужасу, я увидел, что все кроме нас уже встали из-за стола. Я был очень смущен. Вспомнив, что ничего не ел, я потихоньку сел поближе к портвейну и, подкрепившись финиками, прошел за другими в гостиную, где уселся как можно дальше от мисс Холмс и занялся рассматриванием альбома с видами Иерусалима. Вскоре ко мне подсел лорд Регнолл, который завел разговор об охоте на крупного зверя и между прочим спросил мой постоянный африканский адрес. Я указал Дурбан и, в свою очередь, поинтересовался узнать, зачем ему мой адрес. — Потому что мисс Холмс постоянно бредит Африкой, и я жду, что мне в один прекрасный день придется попасть туда, — печально ответил лорд Регнолл. Это были пророческие слова. Наш разговор был прерван леди Лонгден, подошедшей пожелать спокойной ночи своему будущему зятю, так как она чувствовала себя не совсем здоровой. Большинство гостей, несмотря на то, что было всего десять часов, собрались ехать домой.Глава 4
ХАРУТ И МАРУТ
Проводив гостей, лорд Регнолл вернулся ко мне и спросил, что я предпочитаю: играть в карты или слушать музыку. Едва я ответил, что не выношу даже вида карт, как к нам подошел мистер Сэвидж и почтительно осведомился у Его Светлости, кто из гостей носит имя «Хикомазани». Лорд Регнолл удивленно посмотрел на него и выразил подозрение, не пьян ли он. — Два каких-то иностранца в белых одеждах, — сказал обиженным тоном Сэвидж, — стоят у замка и желают говорить с мистером «Хикомазани». Я им сказал, чтобы они уходили прочь, но они уселись на снег и объявили, что будут ждать «Хикомазани». — Позвольте, — вмешался я, — мое африканское туземное прозвище Макумазан. Быть может, мистер Сэвидж неправильно передает это имя. Могу я взглянуть на этих людей? — На дворе очень холодно, мистер Квотермейн, — ответил лорд Регнолл, — но подождите. Не говорили ли вам, Сэвидж, эти люди, кто они такие? — Должно быть, колдуны, Ваша Светлость. Когда я сказал, чтобы они уходили, я услышал в своем кармане шипение и, положив туда руку, нашел там большую змею, которая исчезла, когда я бросил ее на землю. Потом у кухарки из волос выскочила живая мышь. Девушка перед этим смеялась над их платьем, а теперь она в истерике. В это время к нам подошла мисс Холмс и спросила, о чем мы так оживленно говорим. Узнав, в чем дело, она стала просить лорда Регнолла позвать этих людей в гостиную. — Хорошо, — согласился лорд Регнолл, — позовите сюда ваших колдунов, Сэвидж. Скажите им, что Макумазан ждет их и что все общество желает посмотреть их фокусы. Сэвидж вышел с видом осужденного на тяжкое наказание. По его бледности можно было заключить, что бедняга сильно перепуган. Мы очистили место посреди комнаты и поставили кресла для зрителей. — Без сомнения, это индийские фокусники, — заметил лорд Регнолл, — они вырастят манговое дерево на наших глазах. Я, помню, видел это в Кашмире. В это время дверь широко распахнулась и через нее с необыкновенной поспешностью прошел Сэвидж, боязливо держась за свои карманы. — Мистер Хирут, мистер Мирут, — объявил он. — Вероятно, Харут и Марут[330], — заметил я, — я где-то читал, что это были величайшие маги. Очевидно, эти фокусники присвоили себе их имена. Вслед за Сэвиджем в гостиную вошли два человека. Первый был высокого роста, с важным лицом восточного характера, длинной белой бородой, крючковатым носом и блестящими ястребиными глазами. Второй был ростом пониже и значительно моложе первого. Он обладал веселым, живым лицом, маленькими черными глазами и был гладко выбрит. Кожа у обоих была не очень темна; мне приходилось встречать более смуглых итальянцев. Во всем их облике чувствовалась какая-то особенная сила. Я вспомнил историю, рассказанную мне мисс Холмс, и украдкой взглянул на нее. Она была необыкновенно бледна и немного дрожала. Но никто не заметил этого: внимание всех было поглощено пришельцами. Через некоторое время мисс Холмс овладела собой и, встретившись со мной взглядом, приложила палец к губам в знак молчания. Незнакомцы сняли свои меховые плащи, положили их на пол и остались в ослепительно белых одеяниях и с белыми тюрбанами на головах. «Сомалийские арабы высшего класса», — подумал я. Один из них запер двери. После этого, к величайшему моему изумлению, оба направились прямо ко мне, поставили свои корзины на пол и, подняв руки кверху, низко поклонились мне. Потом заговорили не по-арабски, как я ожидал, а на наречии банту, которым я владел в совершенстве. — Я, Харут, первый жрец и учитель белых людей кенда, приветствую тебя, о Макумазан! — сказал старший. — Я, Марут, жрец и учитель белых кенда приветствую тебя, о Бодрствующий В Ночи! — сказал младший. — Мы оба приветствуем тебя, который кажется малым, но велик, о господин с великим будущим! — вместе сказали они. — О убивающий злых людей и зверей! — монотонно продолжали они. — Ты, кому назначено судьбой освободить нашу землю от страшного бича, мы клянемся тебе и обещаем тебе безопасность среди нас и в пустыне. Мы обещаем тебе великую награду. Они снова трижды поклонились мне и встали, скрестив руки. Я спросил их на банту, чего им, собственно, нужно от меня. — О Макумазан! — ответил старший. — Я пришел просить тебя оказать услугу нашему народу, — услугу, за которую ты получишь великую награду. Мы, белые кенда, народ Дитяти, воюем с черными кенда, нашими рабами, которые превосходят нас числом. Черные кенда чтут бога зла, дух которого живет в самом большом слоне в мире. Никто не может убить его, а он убивает многих и околдовывает еще больше. Пока жив этот слон, — имя его Джана, — ужас царит среди нас, народа Дитяти, ибо день за днем Джана истребляет нас. Если ты убьешь его, мы покажем тебе место, куда слоны уходят умирать; ты возьмешь себе сколько хочешь слоновой кости и будешь богат. Когда у тебя будет нужда в золоте или в слоновой кости, — которая то же, что и золото, — иди на север от того озера, где живут понго, остановись на краю пустыни и назови имена Харута и Марута. — И назови имена Харута и Марута, — эхом повторил младший. Прежде чем я успел собраться с мыслями, чтобы ответить что-нибудь, загадочный Харут заговорил на ломаном английском языке, как заурядный фокусник. — Богатые леди и джентльмены ждут представления от бедного фокусника из Центральной Африки. Хорошо, я покажу им что умею. Вы хотите, чтобы выросло дерево? Можно. Только помните, что здесь нет никакой магии; это простые фокусы. Дайте мне блюдо. Представление началось. На покрытом покрывалом блюде чудесным образом выросло дерево, палки плясали сами собой. Марут свистнул, и из кармана Сэвиджа, стоявшего на почтительном расстоянии от фокусников, снова выползла змея, которая потом обратилась в огонь. Зрелище было интересное, но, сказать правду, оно мало занимало меня: я раньше видел много подобных фокусов. Я думал о словах Харута… Наконец фокусники окончили представление и среди аплодисментов присутствующих стали собирать свои пожитки. — Наш господин Макумазан прав, считая все это пустяками, — заметил Харут, — простые фокусы и только. Но что с этим джентльменом? — прибавил он, указывая на корчившегося в стороне Сэвиджа. — Брат Марут, посмотри, в чем дело. «Брат Марут» подошел к Сэвиджу и освободил его от двух змей. Затем среди всеобщего хохота вытащил из его напомаженных волос большую дохлую крысу. — А! — воскликнул Харут. — Змеи любят этого джентльмена. Но все это пустяки. Быть может, Макумазан желает посмотреть что-нибудь интересное? Слона Джану, которого он убьет? — Охотно, — ответил я, — но как ты мне покажешь его? — Это очень легко, Макумазан. Надо вдохнуть немного курения кенда, и ты увидишь многое, если у тебя есть дар. Я уверен, что ты его имеешь, как и эта леди, — прибавил он, указывая на мисс Холмс. — Дакка, — презрительно сказал я, вспомнив об одном сорте индийской конопли, которой одурманивают себя туземцы во многих частях Африки. — О нет, это не дакка. Это табак, растущий только в земле кенда. Ты думаешь, это вздор. Погоди, ты увидишь, что это не так. Дайте мне спички. Он взял щепотку табаку, положил в небольшой деревянный кубок, который вместе с табаком достал из корзины, и сказал что-то своему товарищу Маруту. Тот вынул из своего платья тростниковую флейту и заиграл на ней какую-то заунывную мелодию. Харут, в свою очередь, запел тихим голосом песню, из которой я не понял ни слова, и зажег табак. Бледно-синеватый дымок поднялся из кубка, распространяя кругом довольно приятный запах. — Вдохни и расскажи нам, что увидишь, — сказал Харут. — Не бойся, это не опасно. Смотри! Он сильно вдохнул в себя дым, после чего его лицо приняло особенное выражение. Я стоял в нерешительности. Наконец любопытство и страх быть осмеянным за свою трусость одержали верх. Я взял кубок и поднес его к своему носу, в то время как Харут накинул мне на голову покрывало, на котором он выращивал манговое дерево. Внезапно передо мной появилась пелена тумана. Потом туман рассеялся, и перед моими глазами открылся африканский пейзаж: озеро, окруженное густым лесом. По небу, еще красному от солнечного заката, плыла полная луна. На восточном берегу озера было открытое, лишенное всякой растительности пространство, сплошь покрытое скелетами многих сотен слонов. Кругом торчали желтые клыки, из которых многие покрылись уже мхом, пролежав здесь, вероятно, целые столетия. Это было кладбище слонов, о существовании которого я слыхал в продолжение всей своей охотничьей жизни, — место, куда слоны приходят умирать, как это делала вымершая птица моа в Новой Зеландии[331]. Вот появляется умирающий слон. Он останавливается, размахивая хоботом во все стороны. Потом медленно опускается на колени и замирает без движения. Вдруг на отдаленной скале обрисовываются очертания огромного слона. Во всей своей жизни я не видел такого гиганта. Он держит хоботом безжизненное тело женщины, волосы которой развеваются по ветру. В ее руках зажат ребенок, кажущийся живым: Чудовище бросает тело на землю, выхватывает хоботом ребенка и, раскачав его в воздухе, швыряет в высоту. Покончив с ребенком, оно направляется к умирающему слону и топчет его ногами. Затем поднимает свой хобот, как бы торжествующе трубя, и исчезает в лесу. Снова пелена тумана скрыла все перед моими глазами, и я очнулся. — Что вы видели? — спросил меня целый хор голосов. Я рассказал обо всем, выпустив последнюю часть. Оказалось, что все видение длилось не более десяти секунд. — Видел Джану? — спросил Харут. — Он убил женщину и ребенка, да? Это он делает каждую ночь. Вот почему белый народ кенда хочет убить его. Так Джана жив! Это нам надо было узнать. Благодарю тебя, Макумазан! Теперь, быть может, прекрасная леди тоже желает посмотреть… — обратился он к мисс Холмс. — Да, — ответила она. — Я предпочел бы, Луна, чтобы вы не делали этого, — с беспокойством сказал лорд Регнолл. — Вот спички, — сказала мисс Холмс Харуту, который взял их с поклоном. Затем, подложив в кубок табаку, Харут зажег его, осторожно покрыл голову мисс Холмс покрывалом и вручил дымящийся кубок. Через несколько секунд кубок и покрывало упали на пол и мисс Холмс, широко раскрыв глаза, начала говорить тихим голосом: — Я прошла долгий путь и нахожусь в другом мире. Кругом камень. Темно. Мне светит огонь кубка. Здесь нет ничего кроме статуи нагого ребенка, вырезанной из желтой слоновой кости, и кресла из черного дерева. Я стою перед дитятей из слоновой кости. Оно оживает и улыбается мне. На его шее ожерелье из красных камней. Дитя снимает ожерелье и надевает его мне на шею. Потом указывает на кресло. Я сажусь. Все исчезло. Я слышал, как Харут, напряженно слушавший эти слова, тихо прошептал Маруту: — Священное Дитя получает Хранителя. Дух белых кенда снова нашел голос. Затем оба благоговейно склонились перед мисс Холмс. — Что за странное видение, — сказал лорд Регнолл, — дитя из слоновой кости… ожерелье… Что за вздор! Но теперь, я полагаю, представление окончено. Сколько я вам должен за него? — Ничего, о великий лорд, ничего. Это мы вам многим обязаны. Здесь мы узнали то, что хотели знать уже давно, ибо табак кенда говорит только новому духу. Прощай, великий лорд! Прощай, прекрасная леди! Прощай, о Макумазан, до новой встречи, когда ты придешь убить Джану. Благословение Небесного Дитяти, посылающего дождь, защищающего нас от опасности, дающего здоровье и пищу! Благословение его на вас всех! С этими словами Харут и Марут надели свои плащи и направились к двери. Я пошел проводить их, так как Сэвидж был сильно напуган змеями. — Скажите, о люди из Африки, что все это значит? — спросил я, когда мы очутились во дворе. — Ты сам себе ответишь на этот вопрос, когда будешь стоять перед Джаной, — ответил Харут. — А теперь не пытайся узнать больше, ты, который в надлежащий час узнаешь все. — Не пытайся узнать больше, чтобы не было несчастья, — эхом повторил Марут, — ты, о Макумазан, который знаешь уже слишком много. — Теперь вернись в дом, — продолжал Харут, — здесь страшный холод. Передай прекрасной леди этот свадебный подарок Дитяти. С этими словами он вручил мне сверток и исчез в темноте вместе со своим товарищем. Я вернулся в гостиную. — Они ушли, — сказал я лорду Регноллу, — и, уходя, передали свадебный подарок для мисс Холмс. Кто-то подал ножницы, сверток был вскрыт, и в нем оказалось ожерелье из красных камней. Это было рубиновое ожерелье, и, судя по работе, весьма древнее. Быть может, оно украшало шею какой-нибудь знатной египтянки или статую Гора[332], сына Изиды[333]. — Это то самое ожерелье, которое дитя из слоновой кости дало мне в видении, — спокойно сказала мисс Холмс, надевая подарок на шею.Глава 5
НЕУДАВШЕЕСЯ ПОХИЩЕНИЕ
В эту ночь я не мог сомкнуть глаз. Это могло происходить от возбуждения, вызванного стрельбой, в которой я состязался с неприятным мне человеком, либо от впечатления, оставшегося от странной пары, Харута и Марута, искавших меня за семь тысяч верст от своего дома, либо от образов, вызванных табаком кенда. Или, может быть, все это в совокупности повлияло на меня. Во всяком случае, я никак не мог уснуть. Время шло; я лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к бою башенных часов Регнолл-Кастла (я ночевал в замке). Разные мысли приходили мне в голову. То мне казалось, что Харут и Марут — просто пара заурядных плутов-арабов, каких я часто видел в африканских портах. То я думал о кладбище слонов и об огромной стоимости слоновой кости, находящейся на нем. Потом мои мысли перешли на древних египтян (я всегда интересовался их историей), поклонявшихся Гору, мать которого, Изида, «владычица тайн», символизировалась луной на ущербе. И, по странному совпадению, у мисс Холмс на груди был знак, похожий на такую луну. Вдруг меня охватил какой-то безотчетный страх. У меня явилось предчувствие, что с мисс Холмс непременно должно что-то случиться. Это чувство так овладело мной, что я встал, зажег свечу и поспешно оделся. У меня было обыкновение всегда иметь при себе заряженный двуствольный пистолет. Я осмотрел это оружие, вышел в коридор и встал за большими часами, глядя на освещенную луной дверь комнаты, где помещалась мисс Холмс. Прошло некоторое время. Я уже начал думать, в каком глупом положении рискую очутиться, если кто-нибудь случайно увидит меня. Вдруг дверь комнаты открылась и на пороге показалась мисс Холмс, закутанная в пеньюар. Свет луны упал на ее лицо, и я увидел, что она идет во сне. На ее шее было рубиновое ожерелье — подарок таинственной пары. Мисс Холмс, как тень, пересекла коридор и скрылась из виду. Я последовал за ней, стараясь производить как можно меньше шума. Мы спустились по витой лестнице и вышли в сад, где мисс Холмс, как бы влекомая вперед какой-то таинственной силой, ускорила шаги и направилась к рощице, в которой я за день до этого стрелял голубей. Я следовал за ней, пользуясь прикрытием кустарников. На миг я потерял ее из виду. Потом я снова увидел ее стоящей под дубом, протянув руки по направлению к медленно приближавшимся к ней двум фигурам, закутанным в плащи. В этих фигурах легко можно было узнать Харута и Марута. В стороне обрисовывались очертания кареты; слышалось нетерпеливое топтание лошадиных копыт о мерзлую землю. Я бросился вперед и встал между мисс Холмс и Харутом с Марутом. Мы не обменялись ни словом, так как все трое боялись разбудить спящую девушку, зная, что ее пробуждение могло повлечь за собой опасные для нее последствия. В руках моих противников блестели кривые ножи. Я направил пистолет в сердце Харута. Перевес был на моей стороне: я мог застрелить обоих прежде, чем их ножи достанут до меня. — Ты победил на этот раз, о Бодрствующий В Ночи! — тихо сказал Харут. — В другой раз ты проиграешь. Эта прекрасная леди принадлежит нам, белому народу кенда, ибо она отмечена знаком молодой луны. Ее сердце услышало призыв Небесного Дитяти. Она вернется к нему. Теперь, пока она спит, уведи ее отсюда, о храбрый и разумный, так хорошо прозванный Бодрствующим В Ночи! Они ушли и вскоре послышался стук колес удалявшейся кареты. В первый момент у меня явилась мысль бежать за ними и подстрелить одну из лошадей. Но после этого у меня остался бы только один заряд против двух людей и, убив одного из них, я был бы беззащитен от ножа другого. Кроме того, выстрелы могли разбудить мисс Холмс. Пришлось отказаться от преследования. Я подошел к спящей, осторожно взял ее за руку и повел обратно в замок. Проводив ее до комнаты, я запер за ней дверь и, прислушавшись, убедился, что она улеглась в постель. Теперь, уверенный, что мисс Холмс в безопасности, я сел на стул, стоявший в коридоре, и стал обдумывать, что делать дальше. Мой долг был немедленно уведомить о случившемся лорда Регнолла. Но как это сделать, не всполошив весь дом и не вызвав излишних разговоров? Сперва надо разбудить мистера Сэвиджа. Я не знал, где его комната, но вспомнил, что, проводив меня спать и поговорив со мной о змеях, он на всякий случай указал мне звонок, проведенный к нему. Двигаясь вдоль провода и пройдя целый ряд лестниц и различных переходов, я наконец добрался до двери его комнаты и слегка постучал в нее. — Кто там? — спросил мистер Сэвидж с легкой дрожью в голосе. — Я. — Кто это «я»? «Я» может быть Харум и Скарум или того хуже! — Я Аллан Квотермейн, идиот вы этакий, — прошептал я в замочную скважину. — Анна? Что за Анна? Уходите. Поговорим завтра. Я постучал в дверь поэнергичнее. Наконец Сэвидж осторожно приоткрыл ее. — Господи! — воскликнул он. — Что вы делаете здесь, сэр, в такое врем, с пистолетом в руках? Или, может быть, это голова змеи? — вскричал он, испуганно отпрыгивая назад. — У меня важное неотложное дело к Его Светлости, — нетерпеливо сказал я, — поскорее проводите меня к нему. Мы направились в спальню лорда Регнолла. — В чем дело, мистер Квотермейн, — спросил тот, зевая и приподнимаясь в постели, — у вас был кошмар? — Да, — ответил я и, когда Сэвидж вышел, рассказал лорду Регнолл у обо всем. — Господи! — воскликнул он, когда я окончил свой рассказ. — Если бы не ваше предчувствие и не ваша храбрость… — Дело не в этом, — прервал я его, — вопрос в том, что нам делать теперь. Попытаться ли задержать этих людей или молчать обо всем и быть настороже? — Не знаю, что решить, — ответил лорд Регнолл, — если мы их поймаем, вся эта история будет как-то странно звучать на суде. — Конечно, — согласился я, — но, по-моему, следует сейчас же осмотреть место происшествия, пока дождь или снег не уничтожил следы. — Хорошо, — сказал лорд Регнолл, — мы возьмем с собой Сэвиджа. Это верный человек; он сумеет молчать. Пока лорд Регнолл поспешно одевался, я рассказал Сэвиджу о случившемся. Он слушал меня, затаив дыхание. Убедившись, что мисс Холмс в своей комнате, мы спустились по витой лестнице и вышли в сад, тщательно запирая за собой все двери. Уже рассветало. Мы без особого труда рассмотрели следы туфель мисс Холмс, моих ног, лошадиных копыт и колес кареты. Кроме того, мы нашли полотняный мешок, в котором оказался полный костюм арабской женщины, предназначавшийся, очевидно, для мисс Холмс. Когда Сэвидж открывал мешок, к его великому ужасу, оттуда выползла змея, вероятно участница вчерашнего представления. Описание всего этого, занесенное со всеми подробностями в блокнот лорда Регнолла, было подписано всеми нами. В дальнейшем дело было поручено опытным сыщикам, которым удалось только установить, что Харут и Марут с двумя соплеменными им женщинами (вероятно предназначавшимися для надзора за мисс Холмс) отплыли на пароходе «Антилопа» в Египет, где их следы прерывались. Но вернемся к мисс Холмс. На следующее утро она вышла к завтраку как ни в чем не бывало, но была несколько бледнее обыкновенного. За столом я сидел недалеко от нее и при удобном случае осведомился у нее, как она провела прошлую ночь. Она ответила, что спала как никогда крепко и что у нее были какие-то странные сновидения. — Удивительно то, — прибавила она, — что утром мои туфли оказались в грязи, как будто я выходила из дому во сне, чего со мной никогда не бывало. С помощью лорда Регнолла я поспешно переменил тему этого разговора. Вскоре после завтрака мне передали, что коляска мисс Маннерс ждет меня, и я собрался уезжать. При прощании лорд Регнолл записал мой английский и африканский адреса в свою записную книжку. — Несмотря на всего три дня нашего знакомства, мистер Квотермейн, — сказал он, — мне кажется, что я вас знаю уже много-много лет. Когда вы в следующий раз приедет в Англию, я надеюсь, что вы остановитесь у меня. — А если вам случится быть в Южной Африке, — сказал я, — прошу вас располагать моим скромным домом в Дурбане, как своим. — Мне было бы это очень приятно, — ответил он, — но, признаться, мне надоели путешествия. Кроме того, обстоятельства поставили меня в особое положение по отношению к Африке. Скажите, что вы думаете обо всем случившемся вчера? — Право, не знаю, что вам ответить, — сказал я, — могу посоветовать одно: оберегайте вашу будущую жену. По всей вероятности, эти люди снова сделают попытку похитить ее. Это терпеливые решительные люди. — Вы меня немного пугаете, — сказал лорд Регнолл, — конечно, я приму к сведению ваш совет. После этого мы расстались. — Прощайте, мистер Квотермейн, — говорил Сэвидж, подавая мне пальто, — я никогда не забуду вас. Но не забуду и этих бездельников Харума и Скарума с их проклятыми змеями!Глава 6
«ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ДОБРОГО ДОВЕРИЯ»
Прошло целых два года с тех пор, как я расстался с лордом Регнолл ом и мисс Холмс. В этот промежуток времени я дважды имел о них известия. Один раз я получил от Скрупа письмо, в котором тот сообщал мне об их бракосочетании. Это была самая фешенебельная свадьба всего лондонского сезона. К письму была приложена вырезка из газеты с описанием всех подробностей до платья невесты включительно. Все это было чуждо мне, однако одно замечание вызвало у меня сильный интерес. Привожу его целиком: «…Большие толки вызвало то обстоятельство, что на невесте не было никаких драгоценностей кроме рубинового ожерелья с маленьким, тоже рубиновым изображением египетского бога, хотя фамильные бриллианты Регноллов, уже давно не видевшие света, известны как одни из самых изящных и ценных во всей стране. Следует заметить, что это украшение было удивительно к лицу невесте. На вопрос одного из друзей о причине такого выбора, леди Регнолл ответила, что это ожерелье должно принести ей счастье…» Второе известие я получил год спустя при посредстве старого номера газеты «Тайме», где была заметка о рождении у лорда и леди Регнолл сына и наследника. Что касается меня — я много испытал за эти два года. Участвуя в экспедиции в Страну Понго, я не раз испытывал искушение пройти на север от этой области в место, указанное Харутом и Марутом, обещавшими проводить меня туда, где живет гигантский слон, которого, по их словам, мне суждено убить. Однако я удержался от этого и, вернувшись в Дурбан, пришел к решению больше никогда не участвовать в рискованных экспедициях. Благодаря удачно сложившимся обстоятельствам я сделался обладателем небольшого капитала, который доставил мне возможность бросить охотничьи скитания в диких областях Африки. Вскоре мне представился случай поместить свой капитал в торговое предприятие. Один еврей по имени Джейкоб предложил мне половину прав на владение золотой копью, открытой им на границе Земли Зулу, если я внесу капитал, необходимый для разработки предприятия. Вместе с Джейкобом и его приятелем я отправился осмотреть это место. Взятый для испытания кварц обнаружил богатое содержание золота, и в конце концов образовалась акционерная компания для разработки золотого «Рудника Доброго Доверия» с Алланом Квотермейном, эсквайром, во главе. Ох, эта компания! До сих пор я помню о ней. Наши основной капитал был невелик — десять тысяч фунтов, из которых Джейкоб и его приятели взяли себе половину как покупную стоимость их прав. Впоследствии выяснилось, что эти права были приобретены всего за три дюжины джина, сломанную повозку, четыре старых коровы и пять фунтов деньгами. Лично я, прежде чем принять председательство в правлении с жалованием сто фунтов в год (которого я никогда не получал), купил на тысячу фунтов акций за наличные деньги. Был установлен баланс в четыре тысячи фунтов, и работа началась. Мы начали промывать один песчаный участок. Сразу после этого обнаружился такой блестящий результат, что наши акции поднялись сразу на целых десять шиллингов, причем Джейкоб и его приятели воспользовались случаем продать половину своих, уверив меня, что это необходимо для расширения дела. Через весьма короткое время песчаный участок оказался никуда не годным; было решено приобрести машину для дробления кварца, в котором предполагалось богатое содержание золота. Мы сговорились с одной машиностроительной фирмой. Тем временем наши акции упали сперва до своей номинальной стоимости (до одного фунта), потом до пятнадцати шиллингов, потом до десяти. Джейкоб, бывший одним из директоров правления, указал, что на мне, как на председателе, лежит обязанность поддерживать престиж нашей компании. Я снова накупил акций на свои последние пятьсот фунтов. Но как была потрясена моя вера в людей, когда я узнал, что тысяча акций, купленных мною на последние пятьсот фунтов, была собственностью Джейкоба, продавшего их мне при посредстве подставных лиц. Наконец наступил кризис. Прежде чем дробильная машина была нам доставлена, все наши фонды были исчерпаны и поднялся вопрос о ликвидации компании. Было созвано общее собрание акционеров, и после нескольких бессонных ночей я занял в нем свое председательское место. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что из пяти директоров кроме меня явился только один честный старик, отставной морской капитан, купивший триста акций. Джейкоб и его два приятеля рано утром уплыли на пароходе в Кейптаун. Собрание вначале было довольно бурным. Я как мог обрисовал положение, и, когда кончил, со всех сторон посыпались вопросы, на которые ни я, ни кто-либо другой не мог дать удовлетворительного ответа. Тогда один явно нетрезвый джентльмен, владелец десяти акций, напрямик объявил, что я обманул акционеров. «Я в ярости вскочил и, хотя он был вдвое больше меня, предложил ему поговорить со мной об этом вне стен этого дома. Он поспешно удалился. После этого инцидента, закончившегося общим смехом, вся правда всплыла наружу. Один «цветной» человек рассказал, что Джейкоб нанял его «посолить» почву, подсыпав золота в песок, который мы промывали вначале. Все стало ясно. Я в бессилии опустился в свое кресло. Тогда один добрый человек, сам потерявший деньги в этом деле, поднялся и произнес короткую речь, которой было достаточно, чтобы восстановить утерянную мной веру в людей. Он говорил, что Аллан Квотермейн, работавший, как лошадь, для пользы акционеров, сам наравне с другими разорен этим вором Джейкобом, и в заключение предложил прокричать троекратное «ура» «в честь нашего честного друга и товарища по несчастью Аллана Квотермейна». К моему удивлению, все собрание исполнило это весьма охотно. Я поднялся и со слезами на глазах благодарил всех, говоря, что рад оставить эту комнату таким же бедным, каким был всегда, но с незапятнанной репутацией честного человека. Пожав рука джентльмену, выручившему меня из неприятного положения, я с легким сердцем отправился домой. Правда, я потерял все свои деньги, но честь моя была спасена, а что такое деньги в сравнении с честью! Я перебрался на другую сторону грязной улицы и шел, держась молодой заросли, идущей вдоль нее. Улица была почти пуста. Единственная кроме меня пара людей привлекла мое внимание. В одном из них я узнал полупьяного субъекта, обвинявшего меня в обмане; другим был морщинистый готтентот, напомнивший мне некоего Ханса. Этот Ханс, я должен сказать, был сначала слугой моего отца, миссионера в Капской колонии, а потом моим компаньоном во многих приключениях. Это был храбрый, испытанный человек, единственной слабостью которого было пристрастие к алкоголю. Он питал ко мне самую горячую привязанность. Сколотив немного денег, он приобрел небольшую ферму недалеко от Дурбана, где проживал, пользуясь большим уважением за свои былые подвиги. Белый и готтентот переругивались между собой по-голландски. — Грязный готтентот, — кричал белый, — что ты пристал ко мне, как шакал? — Сын белой жирной свиньи, — отвечал Ханс (то был он), — ты осмелился назвать бааса вором? Ты, не стоящий ногтя бааса, чья честь светлее солнца, чье сердце чище белого песка в море! — Он присвоил себе мои деньги. — А зачем, свинья, ты убежал от него, когда он хотел говорить с тобой? — Я тебе покажу «убежал», желтая собака! — закричал белый замахиваясь палкой. — Ты хочешь драться? — спросил Ханс, с необыкновенным проворством отпрыгивая назад. — Так получай. Он низко нагнул голову и, как буйвол бросившись вперед, ударил белого головой в живот, так что тот опрокинулся назад и полетел в канаву, наполненную грязной водой. После этого Ханс спокойно повернулся и исчез за углом. К моему облегчению, через минуту белый вылез из канавы, весь покрытый грязью, и, держась за место, называемое на медицинском языке диафрагмой, медленно пошел вдоль улицы. «Какими преданными могут быть готтентоты, которых считают самыми низшими существами человеческого рода», — подумал я. Придя домой, я уселся в расшатанное тростниковое кресло на веранде, закурил трубку и задумался, что мне предпринять, имея всего на триста фунтов имущества и хороший запас оружия. Коммерцию во всех ее видах я навсегда отверг. Оставалась только моя старая профессия охотника. Слоны — вот единственно выгодная в смысле заработка дичь. Но ближайшие места охоты уже давно опустошены. Кроме того, пришлось бы соперничать с молодыми профессионалами из буров. Если уж решиться заняться охотой на слонов, придется идти в отдаленные места. Размышляя о преимуществах и недостатках различных мест для охоты, я услышал из-за большого куста гардении козлиное покашливание. Однако я знал, что эти звуки производит человеческое горло, так как не раз они служили мне сигналом в опасную минуту. — Ханс, иди сюда, — позвал я, и вслед за этим из кустов алоэ показалась фигура старого готтентота. Я не понимал, почему он выбрал такой путь для своего визита, но это вполне согласовалось с его скрытностью, унаследованной от предков. Он уселся на корточки передо мной, как коршун, поглядывая на спускавшееся к западу солнце. — Ты так выглядишь, Ханс, — сказал я, — будто только что дрался. Шляпа у тебя измята, весь ты обрызган грязью. — Да, баас. Баас прав, как всегда. Я поссорился с одним человеком из-за шести шиллингов, которые он мне должен, и ударил его головой, позабыв снять сперва шляпу. Мне жаль, это хорошая шляпа. Она почти новая. Два года назад баас подарил мне ее, когда мы вернулись из Страны Понго. — Зачем ты лжешь? — спросил я. — Ты дрался с белым человеком вовсе не из-за шести шиллингов. Ты столкнул его в канаву и забрызгался грязью. — Да, баас. Это так. Я дрался с белым не из-за шести шиллингов. Я дрался с ним за преданность, которая стоит меньше или ничего не стоит. Я пришел к баасу одолжить фунт. Белый человек пожалуется в суд. Меня заставят заплатить фунт или сидеть в сундуке[334] четырнадцать дней. Белый ударил меня первым, но судья не поверит бедному готтентоту, а у меня нет свидетелей. Скажут: Ханс был пьян, Ханс лжет. Плати, Ханс, плати фунт и десять шиллингов или иди в сундук на четырнадцать дней плести корзины для великой королевы. Баас! У меня есть деньги заплатить за правосудие, которое стоит десять шиллингов, а мне нужен еще фунт. — Я думаю, Ханс, что скорее ты мне мог бы одолжить фунт, чем я тебе. Мой кошелек пуст. — Это ничего, баас. Если необходимо, я могу четырнадцать дней делать корзины и циновки для великой белой королевы. Пусть она вытирает о мои циновки ноги. Сундук вовсе не плохое место, баас. — Зачем же тебе идти в тюрьму, когда ты богат и можешь заплатить штраф хоть в сотню фунтов? — Месяц или два назад я был богат, баас, а теперь я беден. У меня ничего нет кроме десяти шиллингов. — Ханс, — строго сказал я, — ты опять пьянствовал и играл на деньги. Ты продал ферму и скот, чтобы заплатить проигрыш и купить джину? — Да, баас. Только я не пил и не играл. Я продал землю и скот за шестьсот пятьдесят фунтов и купил другое. — Что же ты купил? — поинтересовался я. Ханс полез сначала в один карман, потом в другой и наконец извлек оттуда грязный измятый листок бумаги, похожий на банковский билет. Я взял его в руки, взглянул и едва не лишился чувств. Этот листок удостоверял, что Ханс являлся владельцем акций «Компании Доброго Доверия» на сумму в шестьсот пятьдесят фунтов, той самой компании, в которой я был злополучным председателем! — Ханс, — слабым голосом сказал я, — у кого ты купил это? — У бааса, у которого нос крючком, баас. Его зовут Джейкоб, так же, как и того великого человека из Библии, который дал своему брату похлебку, когда тот вернулся с охоты, и получил за это ферму и скот, а потом пошел на небо по лестнице[335]. Так рассказывал нам ваш отец, баас. — А кто тебе сказал купить их, Ханс? — Самми, баас, тот Самми, который был вашим поваром, когда мы ходили в Землю Понго. Джейкоб жил в отеле Самми и сказал ему, что если он не купит этих бумаг, бааса посадят в сундук. Самми купил их несколько, но у него было мало денег. Джейкоб платил Самми за все, что ел и пил, этими бумагами. Самми пришел ко мне и напомнил что покойный отец бааса оставил его на наше попечение. Я продал ферму и скот другу Джейкоба, очень дешево продал. Вот и вся история, баас. Я слушал это и, сказать правду, почти плакал, думая, какую жертву принес для меня этот старый готтентот по наущению мошенника. — Ханс! — сказал я. — Когда ты поймал работорговцев в ими же расставленную ловушку, умирающий вождь зулусов назвал тебя «Светом Во Мраке». Он верно назвал тебя, ибо ты, как свет во мраке, засиял в темноте моего сердца. Я считал себя мудрым, но оказался глупцом и был, как и ты и Самми, обманут обыкновенным мошенником. Но этот мошенник, показав, насколько низким может быть человек, заставил тебя показать, насколько может быть человек благородным. Свет Во Мраке! Ты дал мне больше, чем все золото в мире. Я постараюсь заплатить тебе за это своей вечной любовью! Ханс взял мою протянутую руку и приложил ее к своему лбу. — Не надо говорить так, баас. Это делает меня печальным, когда я так счастлив. Сколько раз баас не наказывал меня, когда я поступал нехорошо, когда я пил и за другое? Баас не наказывал меня даже тогда, когда я украл порох, чтобы продать его и купить себе джину. Правда, порох никуда не годился. — Но почему ты теперь счастлив? — спросил я. — О, баас! — ответил Ханс, и глаза его заблестели. — Разве баас не догадывается, почему? Теперь у бааса нет денег и у меня нет. Ясно, что мы пойдем искать заработка. Я так рад, баас. Мне надоело сидеть на ферме и доить коров. Великий Небесный Отец знал, что делал, послав Джейкоба на наш путь! — Ты прав, Ханс, — сказал я, — но куда мы пойдем? Нам нужны слоны. Ханс назвал целый ряд различных мест и, окончив их перечень, сел на корточки передо мной и, пожевывая табак, вопросительно поглядывал на меня, склонив голову набок, как старая пытливая птица. — Ханс, — спросил я, — ты помнишь историю, которую я рассказывал тебе год илиболее тому назад, историю о народе кенда, в стране которых, говорят, находится кладбище слонов, которые из всех стран идут туда умирать? Эта страна лежит где-то на северо-востоке от того озера, у которого живут понго. Ты говорил, что ничего не слышал о народе кенда? — Нет, баас, я много слышал о них. — Почему же ты раньше ничего не говорил мне? — Зачем было говорить? Баас тогда искал золото, а не слоновую кость. Когда мы были в городе Безу, я разговаривал со всеми, с кем стоило поговорить. Там жила одна старая женщина. Муж и дети у нее умерли, и она была всегда одна; все боялись ее, потому что она была мудрая, умела гадать и знала лечебные травы. Я рассказывал ей о понго и об их боге-горилле. Она говорила, что это ничто по сравнению с другим богом, которого она видела, когда была очень молодой. Она говорила так: далеко на северо-востоке живет народ кенда, которым правит султан. Это великий народ, населяющий плодородную землю. Вокруг их страны лежит пустыня, где никто не может жить. Никто ничего не знает о кенда. Кто перейдет через пустыню в их землю, тот никогда не возвратится, потому что его убьют. Она говорила мне, что происходит из этого народа, но убежала от них, когда султан хотел поместить ее в свой гарем. Она счастливо перешла через пустыню и попала к мазиту, искавшим страусовые перья. Она ничего не говорила им о своей стране, потому что боялась наказания своего бога. — А что она тебе говорила о народе кенда и их боге? — Она говорила, что у кенда не один бог, а два; не один правитель, а два. Они имеют доброго бога-дитя, которое говорит устами женщины-оракула. Если женщина умирает, бог не говорит до тех пор, пока не найдут другую женщину, отмеченную знаком бога. Перед смертью женщина-оракул говорит, в какой стране живет та, которая заменит ее. Священники отправляются в ту страну на поиски. Иногда они долго не могут найти новую женщину; тогда дитя теряет язык и народ становится добычей другого бога, который никогда не умирает. Тот бог — большой злой слон, которому приносят в жертву людей. Султан и большая часть народа, все черные кенда поклоняются тому слону. Имя его Джана. Много лет назад, когда мир был еще молодым, с севера туда пришел другой, светлый народ, поклонявшийся дитяти, которого принес с собой. Этот народ поселился рядом с черным народом. Дитя — добрый бог, слон — злой. Дитя посылает дождь и хорошую погоду и исцеляет болезни. Джана посылает злые дары: войну и жестокость. Вот что рассказывала мне старуха, баас. — Почему же ты тогда ничего не сказал мне об этом? — Потому что я боялся, что баас пойдет искать этот народ, а мне тогда надоело путешествовать и хотелось вернуться в Наталь на отдых. Кроме того, все мазиту говорили, что эта женщина большая лгунья. — Она не лгала, — сказал я и поведал Хансу о Харуте и Маруте и об их просьбе, о виденном мною кладбище слонов и о Джане. Ханс невозмутимо выслушал это: его трудно было чем-нибудь удивить. — Да, баас, старуха не была лгуньей. Когда же мы отправимся забирать эту слоновую кость и каким путем пойдем? Через Килву или через Землю Зулу? Надо торопиться, пока не наступили дожди. После этого мы долго беседовали. Карманы наши были пусты, и разрешить задачу, как пуститься в путешествие, было весьма трудно, если не вовсе невозможно.Глава 7
РАССКАЗ ЛОРДА РЕГНОЛЛА
Эту ночь Ханс провел у меня, вернее, в моем саду, не решаясь идти в город. Он опасался ареста за драку с белым человеком. Однако тот не возбуждал дела, будучи, по всей вероятности, накануне слишком пьяным, чтобы вспомнить, кто его столкнул в канаву. На следующее утро мы возобновили обсуждение всех возможных способов, как нам при помощи имевшихся в нашем распоряжении средств добраться до страны, где живет народ кенда. Такая долгая и полная непредвиденных случайностей экспедиция требовала больших затрат. Но где взять деньги? Наконец я пришел к решению ехать вдвоем с Хансом в сопровождении только двух зулусских охотников, взяв с собой всего один запряженный быками фургон для необходимых вещей и припасов. С таким легким снаряжением мы рассчитывали пробраться через Землю Зулу в город Безу, столицу мазиту, где мы были уверены в самом радушном приеме. После этого, если мы даже не попадем в Страну Кенда, нам представится возможность убить некоторое количество слонов в диких местах, лежащих за Землей Зулу. Во время нашего разговора я услышал пушечный выстрел, возвещавший о прибытии в гавань английского почтового парохода. Я сел написать несколько деловых писем, касавшихся злосчастной «Компании Доброго Доверия». Через некоторое время в окне появилась физиономия Ханса, который объявил, что на дороге стоят два «очень красивых незнакомых бааса», которые ищут меня. «Акционеры нашей компании», — подумал я, приготовившись уйти через заднюю дверь. — Если они придут сюда, скажи им, Ханс, что меня нет дома. Скажи, что я уехал сегодня утром. Я вышел из дому задним ходом. Мне было грустно, что я, Аллан Квотермейн, дошел до того, что принужден прятаться от людей. Вдруг во мне заговорила гордость. Чего мне стыдиться? Я имею полное право смотреть всем прямо в глаза. Я решил вернуться и, обойдя кругом свой маленький домик, остановился у живой изгороди из гранатовых деревьев, отделявшей мои владения от дороги. — Икона[336], — услышал я протяжный голос кафра. — Нам нужно знать, где живет великий белый охотник, — говорил голос, показавшийся мне знакомым. — Икона, — повторил кафр. — Не вспомните ли вы, как его местное имя? — спросил другой, тоже знакомый мне голос. — Великий охотник Хикомазани, — с трудом сказал первый голос, и мгновенно в моей памяти возникли великолепный Регнолл-Кастл и его обитатели. — Мистер Сэвидж! — прошептал я. — Как он попал сюда? — Ну вот, — сказал второй голос, — ваш черный приятель теперь окончательно сбит с толку. Я говорил вам нанять белого проводника. Это избавило бы нас от массы затруднений. — Я считал это излишним, Ваша Светлость, раз мы путешествуем инкогнито. — Нам недолго удастся сохранить инкогнито, если вы будете постоянно называть меня «Вашей Светлостью». Тут, за этими деревьями есть дом; идите и спросите, где… — Здравствуйте, лорд Регнолл! Как поживаете, мистер Сэвидж! Вы ищете меня? Я очень рад вас видеть, — сказал я, выходя из-за деревьев. — Да, Квотермейн, — радостно ответил лорд Регнолл, — чтобы посетить вас, я проехал семь тысяч верст, и, благодарение Богу, мне посчастливилось найти вас. Я боялся, что вы где-нибудь в центре Африки, где нам трудно было бы отыскать вас. Пока он говорил, я оглядел их обоих. Со времени нашей встречи Сэвидж почти совсем не изменился, но с лордом Регноллом произошла большая перемена. В его глазах появилась какая-то тень. У рта образовалась особенная складка. На всем его красивом лице лежал отпечаток страдания. — Через неделю вы уже не застали бы меня, — заметил я, пожимая им руки. Мы вошли в дом. — Как раз время завтрака, — продолжал я, — и, к счастью, у меня есть хорошая треска и нога дикой козы. Еще два прибора, бой![337] — Пожалуйста один, сэр. Я позавтракаю потом, — смущенно сказал Сэвидж. — Ну, эти церемонии в Африке придется оставить, — пробормотал я, однако дальше не настаивал. Для Ханса и нескольких других туземцев, глядевших на нас в открытое окно, вид важного мажордома, почтительно стоявшего за нашими креслами и разливавшего простой джин с таким видом, как будто это было тонкое, дорогое вино, был интересным зрелищем. Покончив с завтраком, мы вышли на веранду курить, оставив Сэвиджа завтракать в одиночестве. После завтрака Сэвидж был послан на таможню за вещами, и мы с лордом Регноллом остались вдвоем. — Скажите, что привело вас в Африку? — спросил я. — Несчастье, — ответил лорд Регнолл. — Неужели ваша жена умерла? — Не знаю. Во всяком случае, она потеряна для меня. — Один раз она уже была близка к этому. — Да, когда вы спасли ее. О, если бы вы были с нами, Квотермейн! Тогда, может быть, ничего не случилось бы. Восемнадцать месяцев мы были счастливы, как могут быть счастливы смертные. У нас был прелестный ребенок. Часто жена говорила, что наше большое счастье даже пугает ее. Однажды, когда я был на охоте, она собралась навестить недавно обвенчавшихся Скрупов. Отправилась она без кучера, в маленькой коляске, запряженной пони, взяв с собой кормилицу с ребенком. Лошадь была смирная, как овца. Проезжая местечко, лежащее вблизи Регнолл-Кастла, они встретили бродячий зверинец, переезжавший на новое место. Впереди зверинца шел огромный слон, который, как я узнал впоследствии, был дурного нрава и не терпел, когда ему ехали навстречу. Вид коляски или, может быть, красной мантильи, которая была на моей жене, привел животное в ярость; оно подняло хобот и громко затрубило. Испуганная лошадь шарахнулась в сторону, но коляску не опрокинула и не причинила никому вреда. Тогда, — тут лорд Регнолл сделал паузу, — дьявол в образе этого слона протянул свой хобот, выхватил ребенка из рук кормилицы и бросил его высоко в воздух. Потом торжествующе затрубил в хобот и продолжал свой путь, не причинив ни моей жене, ни кормилице никакого вреда. За городом он взбесился и был застрелен. — Какой ужас, — прошептал я. — Дальше — еще хуже. Утрата ребенка так потрясла мою жену, что она потеряла рассудок. Целыми часами она сидела, улыбаясь и перебирая красные камни, подаренные ей Харутом и Марутом. По временам она обращалась к ребенку, как будто он был около нее. Ах, Квотермейн! Как тяжело было на нее смотреть! Я делал все что мог. Ее осматривали лучшие врачи Англии, но бесполезно. Осталась только надежда, что болезнь пройдет также внезапно, как и появилась. Врачи говорили, что перемена места может оказать на нее хорошее влияние и, в частности, указывали на Египет. Однажды утром жена спросила меня, как совершенно здоровый человек: — Джордж! Когда же мы поедем в Египет? Едем поскорей! Эти слова пробудили надежду у врачей; они объявили, что это указывает на возвращение у моей жены интереса к жизни и убеждали меня не перечить ее желанию. Мы отправились в Египет в сопровождении леди Лонгден. В Каире я нанял большой пароход с отборным экипажем, и под охраной четырех солдат мы отправились вверх по Нилу. Приблизительно через месяц, к своей великой радости, я заметил, что у жены постепенно стали появляться признаки возвращения рассудка. Она проявляла большой интерес к древней скульптуре и храмам, о которых много читала, когда была здорова. Однажды, за несколько дней до катастрофы, она указала мне на изображение Изиды и Гора и сказала: — Посмотри, Джордж, вот святая мать и святое дитя, — и поклонилась им. В день, предшествующий катастрофе, моя жена была необыкновенно спокойна. Она все время сидела на палубе, любуясь стоявшим на берегу храмом, высеченным в скале, со статуями, как бы охраняющими его. Потом она смотрела на расстилавшуюся перед ее глазами пустыню, по которой на своих верблюдах проезжали арабы. Послушав пение суданских певцов, мы спустились спать раньше обыкновенного, так как в этот вечер не было луны. Жена помещалась со своей матерью в большой каюте, находившейся на корме. Моя каюта была рядом с ними по одну сторону, а по другую находилась каюта сиделки. Экипаж и стража помещались на носу. С парохода на берег была перекинута сходня, на которой стоял часовой. Ночью задул шамсин[338], но я не слышал его, заснув весьма крепко, как и все остальные, включая, вероятно, и часового. На рассвете меня разбудил испуганный голос леди Лонгден, стоявшей у двери моей каюты и спрашивавшей, не знаю ли я, где Луна. Оказалось, что моя жена уже давно ушла из каюты. Мы обыскали весь пароход, но она исчезла бесследно. Я передал дело в руки египетской полиции, начались энергичные розыски, но и они не дали никаких результатов. Тогда явилось предположение, что моя жена упала в воду и утонула, а тело ее унесло быстрым течением Нила. В этом была убеждена и египетская полиция, которая, несмотря на обещанную мною награду в тысячу фунтов за отыскание хотя бы тела моей жены, отказалась от дальнейших поисков. — Вы говорите, что в эту ночь дул ветер? Я полагаю, что он легко мог уничтожить всякие следы на песчаном берегу, — заметил я. — Что вы хотите этим сказать? — спросил лорд Регнолл. — Хотя я не имею оснований утверждать что-либо положительно, но мне кажется, что ваша жена не утонула и жива в настоящее время. — Но где она? — Об этом надо спросить наших старых знакомых Харута и Марута, — ответил я. — Вы думаете, что она похищена этими негодяями? — Мне кажется, что это так, хотя «негодяи» — слишком сильное для них выражение. По-своему они честные люди. Не забывайте, что они служат своему богу, да еще такому, которому угрожает другой бог. Тут я рассказал лорду Регноллу обо всем, что слышал Ханс от старой женщины в Безу, столице мазиту. Он слушал меня с глубочайшим интересом. — Это удивительная история, — заметил он, когда я окончил свой рассказ. — Но не обратили ли вы внимание на то, что наш ребенок погиб от слона? — Да, это странное совпадение сильно поразило меня, — ответил я; но, не желая дольше говорить об этом ужасном случае, я попросил лорда Регнолла продолжать свой рассказ. — Рассказ мой близится к концу, — сказал лорд Регнолл. Утрата сначала ребенка, потом жены, которая была для меня всем, сильно потрясла меня. Жизнь потеряла для меня смысл и интерес, и я вскоре по возвращении в Англию решил покончить с собой. Я уже написал необходимые письма и приготовил пистолет, как вдруг у меня явилась искра надежды… Я позвал Сэвиджа и приказал ему взять места на первом почтовом пароходе, отходящем в Африку, затем приобрел у оружейников большой запас разнообразного оружия — и вот мы здесь. — Да, — задумчиво повторил я, — вы здесь. И с вами запас снаряжения, которого, пожалуй, хватит на целый полк, — прибавил я, указывая на огромную телегу, доверху наполненную багажом, и целую толпу носильщиков-кафров с отдельными тюками, которые под предводительством Сэвиджа остановились у ворот моего дома.Глава 8
ОТЪЕЗД
Вечером, когда багаж был разобран и заперт в небольшом сарае, мы с лордом Регноллом продолжали наш разговор. Перед этим мы распаковали часть оружия — превосходный набор дорогих охотничьих ружей всех сортов, до годных для охоты на слонов включительно. Вид их, расставленных вдоль стен моей гостиной, привел старого Ханса в большой восторг. Он долго рассматривал их, поглаживая их рукой и давая каждому из них особое название, как будто это были живые существа. — С таким оружием, — говорил он, — баас может убить самого дьявола. Пусть баас поставит к ним Интомби, — прибавил он. «Интомби» было мое любимое ружье, почти игрушечное по размерам, однако не раз в прошлом сослужившее мне хорошую службу. Я перевел эти слова лорду Регноллу. Он расхохотался, чему я был весьма рад, так как давно не видел его даже улыбающимся. Я должен прибавить, что, в дополнение к охотничьему ружью, в багаже было не менее пятидесяти военных крупнокалиберных винтовок системы Снайдерса с большим запасом патронов. Лорду Регноллу едва удалось добиться их пропуска через таможню. В этот вечер я перед сном рассказал лорду Регноллу о своем злосчастном председательстве в «Золотопромышленной Компании Доброго Доверия» и об ее печальном конце. — Вы — величайший в мире стрелок, охотник и исследователь, — заметил лорд Регнолл, — но что касается таких дел, как коммерция… Однако я до известной степени благодарен этому мошеннику Джейкобу. Затем он задал мне ряд вопросов, касавшихся этого дела, и сделал несколько пометок в своей записной книжке. Последнее мне показалось несколько странным, но я ничего не сказал. Спустя несколько дней я понял причину этих вопросов и пометок. Однажды утром я нашел на своем столе целый ворох писем, вид которых привел меня в ужас, напомнив мне о проклятой компании. Однако делать было нечего, я взял одно из них и распечатал его. Оно было от того самого акционера, который на общем собрании предложил всем выразить мне доверие. Читая его, я чуть не упал в обморок. Вот его содержание:Милостивый Государь! Когда я помещал свои деньги в «Золотопромышленную Компанию Доброго Доверия», я знал, что кладу их в надежное место. Теперь, получив от Вашего поверенного чек, по которому мне до фартинга уплачивается все, что я вложил в дело, я могу сказать одно: да благословит Вас Бог, мистер Квотермейн!
Я вскрыл другое письмо, третье, четвертое. Везде было приблизительно одно и то же. Ничего не понимая, я вышел на крыльцо, где навстречу мне попался Ханс, державший в руках письмо, которое он попросил меня прочесть ему. Письмо было от известного местного нотариуса. «Посылая Вам, — писал он, — от имени Аллана Квотермейна, эсквайра, чек на шестьсот пятьдесят фунтов, каковая сумма числится на Вашем счету в книгах «Золотопромышленной Компании Доброго доверия», мы имеем честь просить Вас подписать и переслать нам обратно прилагаемую расписку». И к письму был приложен чек на шестьсот пятьдесят фунтов! Я объяснил Хансу, в чем дело, и прибавил: — Ты получил свои деньги обратно, но я не посылал их и не знаю, откуда они. — Это деньги, баас? — спросил Ханс, с подозрением разглядывая чек. — Это очень похоже на ту бумагу, за которую я заплатил деньги. Я снова объяснил Хансу значение чека. — Хорошо, — сказал он, — пусть баас спрячет эту бумагу у себя, иначе мне захочется купить джину. — Нет, — возразил я, — ты должен выкупить свою ферму или купить себе новую. Теперь тебе незачем идти со мной в Страну Кенда. Ханс на минуту задумался, потом решительно взял чек и хотел разорвать его. Я едва успел удержать его. — Если баас хочет прогнать меня из-за этой бумаги, я сделаю ее мятой и проглочу ее. — Ты старый глупец, — сказал я, отбирая у него чек. Наш разговор был прерван появлением Самми, моего бывшего повара, торжественно начавшего благодарственную речь. Я обратился в поспешное бегство, но у ворот столкнулся с новым акционером, за которым шли еще двое. Я спасся от них в своей комнате, где среди кучи полученных писем увидел еще одно не вскрытое. Машинально я распечатал и пробежал его. Он слово в слово было тождественно с письмом, полученным Хансом, только вместо «Мистер Ханс Готтентот» стояло мое имя и приложенный к нему чек был на тысячу пятьсот фунтов, — сумму, которую я вложил в дело. Мне стало все ясно. Очевидно, феей, обратившей наши ничего не стоящие акции в банковские билеты, был не кто иной, как лорд Регнолл. Тогда я поспешно разыскал его и торжественно объявил, что мне очень нужно с ним поговорить. — Мой друг, если вы позволите называть вас так, — весело ответил мне лорд Регнолл, — мне было нетрудно сделать это, так как вся затраченная на это сумма меньше моего ежемесячного дохода. Мне очень хотелось, чтобы вы, отправляясь в наше опасное путешествие, были свободны от всяких денежных забот. Я прошу вас больше не вспоминать о таких пустяках. Смотрите на это как на прихоть богатого человека. — Мне трудно согласиться с вами, лорд Регнолл. — А вспомните, Квотермейн, как вы поступили с выигранными на пари двумястами пятьюдесятью фунтами, которые имели для вас в сто раз большее значение. Но, чтобы не поднимать больше об этом вопроса, я прошу вас считать эти деньги жалованием, уплаченным вам вперед за участие в рискованной экспедиции. После этого мы приступили к обсуждению деталей нашего путешествия. Затраты теперь не имели значения, и нам можно было выбирать любой путь. Не остановившись ни на одном, я открыл окно и свистнул. Через минуту в комнату вошел Ханс. Он уселся на корточках на полу в стороне от нас. Я предложил ему табаку, он набил им свою трубку и закурил ее. Затем я рассказал Хансу о нашем затруднении в выборе пути в Землю Кенда. Он выслушал меня внимательно, потом попросил маленький стаканчик джину и, опорожнив его одним глотком, сказал: — Я думаю, баас, что не стоит идти через Килву, где нам могут встретиться работорговцы, которые захотят отомстить нам за урок, полученный ими в последний раз. Путь через Землю Зулу долог, но свободнее, ибо имя Макумазан хорошо известно там. Не надо брать с собой много людей. Нужно взять только два фургона и нескольких погонщиков, которых можно всегда отправить назад, когда они станут ненужны. Из Земли Зулу можно послать послов к мазиту, которые любят бааса. Их король вышлет нам навстречу носильщиков. Со многими людьми путь будет труднее, чем с немногими. Кроме того, если с нами будет много вооруженных людей, народ кенда подумает, что мы хотим воевать с ним. Если нас будет мало, то они скорее позволят нам уйти с миром. Пусть баас и лорд Игеза простят мне, если мои слова глупы. Тут я должен заметить, что туземцы дали лорду Регноллу прозвище «Игеза», что по-зулусски означает «красивый». Сэвиджа они почему-то окрестили «Бена», что значит «выпяченная губа». По всей вероятности, это прозвище было дано ему за горделивую осанку. Обсудив план, предложенный Хансом, мы нашли, что он наилучший, и приняли его. Спустя около двух недель, закончив необходимые приготовления, мы покинули Дурбан и направились по песчаной дороге в Землю Зулу. Наш багаж и припасы были уложены в двух прочных, фургонах которые по ночам служили нам великолепными спальнями. Ханс помещался на месте кучера одного из этих фургонов. Лорд Регнолл, Сэвидж и я ехали верхом на выносливых лошадках, хорошо приученных к стрельбе. При отъезде произошло маленькое приключение. Сэвидж, который не захотел сменить свой черный сюртук на более удобное платье, попытался сесть на лошадь не с той стороны, с какой следовало. Лошадь, удивленная таким обращением, шарахнулась в сторону, и бедный Сэвидж кувырком полетел на землю. Мы уже думали, что этим закончится его путешествие, как вдруг он вскочил на ноги с необыкновенным проворством и начал прыгать и кричать: — Снимите ее! Убейте ее! Скоро выяснилось, в чем дело. Лошадь испугалась спящей ехидны[339], которая, свернувшись, лежала на песке. Сэвидж упал на последнюю и раздавил ее тяжестью своего тела. — Я ненавижу змей! — восклицал он, убедившись, что ехидна мертва и была единственной. — А они постоянно попадаются мне. Это дурная примета, — печально прибавил он. — Напротив, хорошая, — возразил я, — так как вы раздавили змею, а не она ужалила вас. После этого кафры дали Сэвиджу новое, очень длинное имя, которое означало: «Тот-который-садится-на-змей-и-делает-их-плоскими». Мы снова сели на лошадей. Я обернулся и бросил последний взгляд на свой домик, где у ворот стоял мой старый садовник Джек, который хныча прощался со мной. Я помахал ему на прощание рукой и присоединился к лорду Регноллу, ожидавшему меня. — Я боюсь, — сказал он, — что вам очень грустно покидать свой дом и идти навстречу неведомым опасностям. — Не более грустно, чем бывало и прежде, — ответил я, — так как опасности — мой насущный хлеб. Но ведь и вас ожидают те же опасности. — Для меня, Квотермейн, это часть надежды. Поэтому я теперь гораздо счастливее, чем был в последнее время. И все благодаря вам, — прибавил он, протягивая мне руку, которую я крепко пожал.
Глава 9
ВСТРЕЧА В ПУСТЫНЕ
Я не стану долго останавливаться на подробностях нашего путешествия в Землю Кенда, по крайней мере первой части его. Правда, на этом пути у нас было несколько охотничьих и других интересных приключений, но мне впереди предстоит рассказать много еще более интересного. Скажу только, что, несмотря на внутренние раздоры в Земле Зулу, мы пересекли ее без особенных затруднений. Здесь мое имя пользовалось большим уважением, и все племена объединились, чтобы помочь нам. Отсюда я отправил посланцев к королю мазиту сообщить, что его собираются посетить старые друзья Макумазан и Свет Во Мраке. Зная, что, дойдя до реки Лубы, мы будем не в состоянии переправить через нее наши фургоны, я просил короля мазиту выслать нам навстречу к условленному месту сотню носильщиков с соответствующей охраной. Гонцы взялись исполнить это поручение за плату по пяти штук мелкого скота каждому. В случае, если они погибнут в пути, плата должна была быть передана их семьям. Этот скот был куплен и оставлен на попечение у одного вождя, приходившегося им родственником. Случилось, что двое из гонцов погибли в пути. Один из них — от болезни, полученной при переходе через болото, другой — от зубов голодного льва. Однако третьему удалось преодолеть трудный путь и исполнить наше поручение. Чтобы дать отдых измученным быкам, мы сделали остановку на две недели в северной части Земли Зулу. Потом снова двинулись вперед, идя путем, знакомым мне и Хансу. С нами было небольшое число зулусов-носильщиков. Кормить их было довольно трудно, так как большая часть нашего скота пала жертвой мухи цеце, из-за чего нам пришлось бросить один из фургонов. Наконец мы достигли берега реки Лубы и разбили лагерь у трех высоких скал, где нас должны были найти мазиту. Из-за дождей река сильно разлилась, и переправа через нее была немыслима. Прошло четыре дня. Каждое утро я влезал на самую высокую скалу и через реку осматривал в бинокль обширное пространство, поросшее кустарником, в надежде увидеть приближающихся к нам мазиту. Но нигде не было видно ни души, и на четвертый вечер, заметив убыль воды в реке, мы пришли к решению переправиться на следующее утро на противоположный берег. Последний фургон, за невозможностью переправить его через реку, было решено отправить с носильщиками обратно в Наталь. Но тут возникло новое затруднение. Никакие обещания награды не могли заставить зулусов омочить ноги в воде реки Лубы, которую они объявили «тагати» (околдованной) для народа их крови. Я указал им, что трое посланных мазиту перешли уже через эту реку. Носильщики возразили мне, что то были полукровные зулусы, и, кроме того, они наверняка погибли. Случилось, как я уже упоминал, что двое из троих гонцов погибли, конечно случайно, а не из-за магических свойств реки Лубы. Однако их гибель, вероятно, сильно укрепила наших носильщиков в их убеждении. Так сохраняются суеверия в Африке. Сами мы были не в состоянии переправить наш багаж, и я очень обрадовался, когда на пятую ночь в фургон, где спали мы с лордом Регноллом, явился Ханс и сообщил, что он слышал голоса людей по ту сторону реки. Как он мог что-либо услышать сквозь рев бегущей воды — превосходило мое понимание. На рассвете мы взобрались на скалу, и когда туман рассеялся, я увидел на другой стороне реки около сотни людей, в которых по одеянию и копьям узнал мазиту. Увидев меня, они издали веселый крик и бросились в воду, держась друг за дружку, чтобы не дать быстрому течению унести себя. Глупые зулусы схватились за копья и выстроились на берегу. Мне едва удалось отогнать их на приличное расстояние. — Жаль, — угрюмо сказал их предводитель, — пройти столько пути и не сразиться с этими собаками мазиту. Когда мазиту подошли ближе, я, к своему удовольствию, увидел во главе их своего старого друга Бабембу, одноглазого вождя, с которым Ханс и я пережили в прошлом много разнообразных приключений. Выйдя на берег, Бабемба радостно приветствовал меня. — О Макумазан, — говорил он, — мало у меня было надежды снова увидеть твое лицо. Тысяча приветов тебе и Свету Во Мраке. Я представил Бабембе лорда Регнолла и Сэвиджа под их местными именами «Игеза» и «Бена». Он некоторое время внимательно рассматривал их. — Это, — сказал он, указывая на лорда Регнолла, — великий господин… А этот, — прибавил он, указывая на Сэвиджа, который был одет лучше нас всех, — петух в перьях орла. Ханс украдкой рассмеялся на последнее замечание, но я счел нужным не переводить его Сэвиджу. За завтраком, приготовленным «Петухом в перьях орла», который был, между прочим, превосходным поваром, я услышал все новости. Бауси, король мазиту, умер, и ему наследовал один из его сыновей, которого я знал, тоже носивший имя Бауси. Город Безу был восстановлен после пожара и сильно укреплен. Работорговцы больше не появлялись. Между прочим, я узнал о гибели двоих наших гонцов. Третий вернулся вместе с Бабембой. После завтрака я отправил обратно зулусов, дав каждому по подарку и поручив им отвезти в Наталь наш фургон. Они пропели прощальную песню и удалились, бросая на мазиту свирепые взгляды. Я рад был, что их встреча обошлась без кровопролития. Потом мы принялись за переправу. Дело было быстро налажено, так как мазиту работали как друзья, а не как наемники. Переправившись через Лубу, мы двинулись в дальнейший путь и приблизительно через месяц достигли города Безу, где нас ждал торжественный прием. Бауси II во главе большой процессии вышел нам навстречу к южным воротам города, памятным мне по одной битве. Вечер мы провели в большом доме для гостей, где король, молодой человек с симпатичным лицом, и старый Бабемба устроили пиршество в нашу честь. Король осведомился, как долго мы намерены пробыть в Безу, и выразил надежду, что наше посещение продлится подольше. Я ответил, что мы скоро двинемся в дальнейший путь на север в Страну Кенда, и просил его дать нам носильщиков до крайних границ его владений. При упоминании имени кенда он удивленно посмотрел на меня, а Бабемба воскликнул: — О Макумазан! Разве безумие охватило тебя? Поистине ты стал безумным! — Ты то же самое говорил, Бабемба, когда мы через озеро ездили в город Рику; однако мы счастливо вернулись оттуда. — Верно, Макумазан, но разве можно сравнивать народ кенда с понго, которые перед ними — что маленькая звезда перед лицом солнца. — Что ты знаешь о них? — спросил я, рассказав ему, что слышал от Харута с Марутом, выпустив, однако, все, касающееся леди Регнолл. — Это все правда, — сказал Бабемба, когда я окончил свой рассказ, — кенда — сильный, многочисленный и жестокий народ. Их король носит имя Симба, что значит «лев». У них все короли носили это имя. Симба правит черными кенда, у которых бог Джана. Белыми кенда, которые похожи на арабов, правят жрецы. Всякого, кто попадет в их страну, они убивают с мучениями или, ослепив, пускают в пустыню, которая окружает их страну, где он и погибает. Я слышал, что белые кенда разводят животных, называемых верблюдами, и продают их арабам, живущим на севере от их страны. Не ходи к ним, Макумазан. Если тебе удастся пройти через пустыню, — черные кенда убьют тебя. Если ты избегнешь их, — тебя убьет Симба. Избегнешь Симбу, — убьет Джана. Избегнешь Джану, — тебя убьют жрецы белых кенда своим колдовством. — А все-таки надо попытаться, — ответил я на это. — Спросите у него, есть ли там змеи? — сказал Сэвидж. — Да, Бена! Да, Петух В Перьях Орла! — ответил Бабемба. — Я слышал, что у белых кенда есть храм, который охраняет такая змея, какой нет нигде во всем мире. — Тогда, — заметил Сэвидж, — этот храм не принадлежит к числу тех, где я буду молиться. Увы! Он не подозревал, что его ожидало в будущем. Потом поднялся вопрос о носильщиках. После некоторого колебания Бауси II, только из большого расположения к нам, согласился дать нам своих людей, взяв с нас торжественное обещание отпустить их, дойдя до пустыми, «чтобы они избегли нашей участи». Через четыре для мы тронулись в путь в сопровождении ста двадцати носильщиков под предводительством самого Бабембы, который заявил, что хочет «последним видеть нас живыми на этом свете». Накануне выступления Ханс оставил на попечение Бабембы свое завещание, «как делают белые люди», касавшееся шестисот пятидесяти фунтов, оставленных на хранение в дурбанском банке. За час до того как мы оставили город Безу, я услышал плач и стенания, доносившиеся с городской площади. Выйдя узнать, в чем дело, я встретил около сотни женщин, осыпанных золой, которые приветствовали меня заунывным пением. За ними стояло почти все остальное население. Ханс объяснил мне, что они поют песню смерти, чтобы предупредить небо о наше скором прибытии туда. Признаться, все это довольно скверно действовало мне на нервы. Итак, мы снова двинулись в путь, и месяц спустя проходили мимо большого озера, где находился остров (если то был остров), на котором жили понго. Потом мы шли все на север путем, известным Бабембе, потом малонаселенной страной, обитатели которой не знали земледелия даже в самой первобытной его форме. Пройдя еще миль сто, мы встречали только кочевников, низкорослых бушменов, живущих исключительно охотой с помощью отравленных стрел. Один раз они напали на нас и убили двух мазиту своими стрелами, против яда которых нет никаких средств. При этом Сэвидж проявил удивительную храбрость. Он выскочил из-за прикрытия и, дав промах из обоих стволов на расстоянии пяти ярдов по бушмену, схватил его и притащил к нам. Пленник оказался чем-то вроде вождя. Ханс, знавший немного по-бушменски, сказал ему, что если нас не перестанут тревожить, мы повесим его. Бушмен что-то закричал своим товарищам, после чего нас оставили в покое. Пройдя земли бушменов, мы дали свободу нашему пленнику. Постепенно местность становилась все более и более бесплодной, лишенной всякого населения, и наконец мы дошли до настоящей пустыни. Недалеко от края этой необъятной пустыни находился оазис с источником воды. Дальше идти было невозможно, так как мазиту наотрез отказались сопровождать нас в пустыне. Не зная, что делать, мы расположились лагерем в оазисе и стали ждать. Окрестные места оказались просто раем для охотников. Они изобиловали крупной и мелкой дичью, днем пасущейся у богатой сочной травой окраины пустыни, а по вечерам приходившей к источнику на водопой. В числе других животных попадались слоны в таком большом количестве, что я надеялся, в случае, если невозможно будет продолжать наше путешествие, добыть в короткое время много слоновой кости. Слоны совершенно не пугались людей и подпускали к себе на очень близкое расстояние. Я убил несколько штук с тем, чтобы отослать их клыки в подарок королю мазиту. Даже Сэвидж застрелил одного слона (прицелившись в другого) на расстоянии пяти шагов. Так прошло четырнадцать дней. Нам надоело неопределенное положение, да и мазиту, питаясь исключительно мясом, соскучились по растительной пище. Мы устроили совещание. Старый Бабемба заявил, что не может дольше удерживать своих людей, настаивающих на возвращении домой, и спросил нас, зачем мы сидим здесь, «как камни». Я ответил, что ожидаем проводников, обещанных нам знакомыми кенда. На это Бабемба возразил, что кенда, насколько ему известно, живут за сотни миль отсюда и что они никак не могут знать о нашем пребывании здесь при отсутствии сообщения через пустыню. Я попросил лорда Регнолла высказать свое мнение, указав, что идти одним через пустыню значит идти на верную смерть, а обратный путь немыслим без помощи мазиту. Лорд Регнолл пришел в сильное волнение и, отозвав меня в сторону, заявил, что, желая по известным мне причинам попасть в Страну Кенда, он, несмотря ни на что, останется здесь. — Это означает, что мы все останемся, — сказал я, — Сэвидж и я не покинем вас. Ханс не покинет меня, хотя и считает нас безумными. — Я останусь один… — начал было лорд Регнолл, но я так посмотрел на него, что он не окончил своих слов. Наконец мы пришли к такому соглашению: Бабемба, поговорив со своими людьми, согласился подождать еще три дня. Если за это время ничего не случится, мы уйдем назад миль на пятьдесят, остановимся в местах, изобилующих слонами, и, добыв сколько можем унести с собой слоновой кости, вернемся в Землю Мазиту. Три дня прошли. Я уже был уверен, что избегнул весьма нелепого и опасного приключения, между тем как лорд Регнолл с каждым часом становился все мрачнее и мрачнее. Третий день был посвящен завязыванию тюков, так как на рассвете следующего дня мы, согласно условию, должны были двинуться в обратный путь. Однако судьба рассудила иначе. Часа в два ночи меня разбудил Ханс, спавший за моей хижиной. — Пусть баас откроет глаза и поглядит, — говорил он испуганным голосом, — там снаружи два призрака ожидают бааса. Я поднялся и осторожно выглянул из шалаша. В пяти шагах от него при свете луны я увидел две фигуры в белых одеяниях, неподвижно сидевшие на земле. Страх охватил меня. Я уже схватил пистолет, который лежал под ковром, служившим мне подушкой, как вдруг услышал знакомый спокойный голос: — Разве такой обычай, Макумазан, о Бодрствующий В Ночи, встречать гостей пулями? — Да, Харут, — ответил я, — если гости украдкой приходят среди ночи. Но вы наконец здесь. Скажи мне, почему вы так долго заставили нас ждать? — О Макумазан, — смущенно ответил Харут, — прими наши смиренные оправдания. Когда мы узнали о твоем приходе в город Безу, мы сразу двинулись в путь. Но мы смертные, Макумазан, и разные препятствия мешали нам. Зная, что у вас много клади, мы должны были собрать много верблюдов. Потом нужно было послать вперед вырыть колодцы в пустыне по нашей дороге. Вот причина промедления. Но мы пришли как раз вовремя, ибо через несколько часов вы были бы уже на пути домой. — Это верно, — сказал я, — но войдите в шалаш, здесь очень холодно в этой сырости. Они вошли и, не будучи магометанами, не отказались от предложенного мною джина. — За ваше здоровье, Харут и Марут, — сказал я, отпив немного из стакана и отдав остальное Хансу, который в один прием проглотил жгучую жидкость. — За твое здоровье, Макумазан! — ответили гости и, опорожнив свои стаканы, поставили их перед собой с таким благоговением, как будто это были священные сосуды. — Теперь, — сказал я, — будем говорить. Как вам удалось уехать из, Англии после того, как вы пытались похитить леди, которой вы подарили ожерелье? Куда вы увезли ее после похищения на Ниле? Во имя вашего священного Дитяти или Шайтана, или египетского Сета[340], отвечайте мне, иначе вам пришел конец, — добавил я, хватая пистолет. — Извини нас, Макумазан, — с улыбкой сказал Харут, — но если ты так поступишь с нами, тебе самому придется ответить на много вопросов, на которые трудно найти ответ. Мы уехали из Англии на пароходе и после долгого путешествия вернулись в свою страну. Твой намек на похищение на Ниле непонятен нам. Мы никогда не собирались похищать ту леди, которой подарили ожерелье. Мы только хотели задать ей несколько вопросов, ибо она обладает даром ясновидения. Но появился ты и прервал нас. Зачем нужна нам белая леди? — Не знаю, зачем, — ответил я, — но знаю, что вы величайшие лжецы, каких я когда-либо встречал. При этих словах, которые всякому могли показаться оскорбительными, Харут и Марут низко поклонились мне, как будто я им сказал большой комплимент. — Оставим вопрос о леди, — сказал Харут, — поговорим о нашем деле. Ты здесь, Макумазан, и мы пришли встретить тебя. Готов ли ты отправиться с нами, чтобы принести смерть злому слону Джане, опустошающему нашу землю, и получить великую награду. Если готов, твой верблюд ждет тебя. — Один верблюд не может нести на себе четверых, — уклончиво ответил я. — Храбростью и ловкостью ты превосходишь многих людей, о Макумазан, но телом ты один. — Вы ошибаетесь, Харут и Марут, если думаете, что я поеду с вами один, — воскликнул я, — вот мой слуга, — указал я на Ханса, — без которого я не двинусь ни на шаг. Кроме того, меня должны сопровождать лорд Регнолл, известный здесь под именем «Игеза», и его слуга Бена, из которого вы в Англии извлекали змей. При моих словах на бесстрастных лицах Харута и Марута появились признаки беспокойства и они обменялись словами на непонятном мне языке. — Наша страна, — сказал Харут, — открыта только для тебя, Макумазан, чтобы убить Джану, за что мы обещаем тебе великую награду. Других мы не хотим видеть там. — Тогда сами убивайте своего Джану, а я шагу не ступлю с вами. — А если мы насильно возьмем тебя с собой, Макумазан? — А если я убью вас, Харут и Марут? Глупцы! Со мною много храбрых людей. Ханс! Прикажи мазиту взяться за оружие и позови сюда Игезу и Бену. — Остановись, о господин, и положи оружие на свое место, — сказал Харут, увидя, что я снова схватил пистолет. — Незачем проливать кровь. Мы в большей безопасности от тебя, чем ты думаешь. Пусть твои товарищи сопутствуют тебе, но пусть они знают, что подвергаются большой опасности. — Ты хочешь этим сказать, что вы их потом убьете? — Нет. Но, кроме нас, там живут другие, более сильные люди, которые захотят принести их в жертву. Твоя жизнь в безопасности, Макумазан, но нам открыто, что двоих из остальных ждет гибель. — Но как мы можем быть уверены, что вы, заманив нас в вашу страну, не убьете нас предательски, чтобы завладеть нашим имуществом? — Мы клянемся тебе нерушимой клятвой. Мы клянемся тебе Небесным Дитятей, — в один голос воскликнули оба, поклонившись до земли. Я пожал плечами. — Ты не веришь нам, — продолжал Харут, — ибо не знаешь, что бывает с тем, кто нарушит эту клятву. Но слушай. В пяти шагах от твоей хижины есть высокий муравейник. Взберись на него и посмотри в пустыню. Любопытство заставило меня принять это предложение. Я вышел в сопровождении Ханса с заряженным двуствольным ружьем и вскарабкался на муравейник футов в двадцать высотой, откуда открывался вид на пустыню. — Смотри на север, — снизу сказал Харут. Я посмотрел в указанном направлении и при ярком свете луны ярдах в пятистах или шестистах от себя увидел сотни две сидевших на земле верблюдов и около каждого из них — белую фигуру, державшую в руках длинное копье, к древку которого недалеко от острия был прикреплен маленький флажок. Я смотрел на них до тех пор, пока не убедился, что не являюсь жертвой иллюзии или миража, после чего спустился с муравейника. — Ты видишь, Макумазан, — сказал Харут, — если бы мы захотели причинить тебе вред, мы легко могли бы напасть ночью на ваш спящий лагерь. Но эти люди пришли охранять, а не убивать тебя или твоих друзей. В этом мы поклялись тебе клятвой, которая не может быть нарушена. Теперь мы пойдем к своим, а завтра снова вернемсяодни и без оружия. С этими словами они исчезли, как тени.Глава 10
ВПЕРЕД!
Через десять минут весь наш лагерь был на ногах. Все схватились за оружие. Сперва поднялось нечто вроде паники, но с помощью Бабембы порядок был скоро восстановлен, и все было готово к защите. О бегстве нечего было и думать, так как верблюды быстро настигли бы нас. Оставив Бабембу при воинах, мы, трое белых и Ханс, собрались на совет, на котором я рассказал обо всем происшедшем между мной и Харутом и Марутом. — Что вы решите? — спросил я. — Эти люди хотят, чтобы я ехал в их страну. Но они против других. Ничто не мешает вам, Регнолл и Сэвидж, и тебе, Ханс, вернуться обратно с мазиту. — Ох! — воскликнул Ханс. — Я не покину бааса. Если надо умереть, я умру. А теперь, баас, я очень хочу спать. Я не спал всю ночь и задолго до прихода этих призраков слышал верблюдов, но не знал, что это такое, потому что я их никогда раньше не видел. Когда все будет решено, пусть баас разбудит меня. С этими словами он улегся и тотчас же заснул, как верная собака у ног своего хозяина. Я вопросительно посмотрел на лорда Регнолла. — Я последую за вами, — коротко ответил он. — Несмотря на то, что эти люди отрицают свое участие в похищении вашей жены? — Подобно Хансу, мне безразлично, что меня ждет в будущем. Кроме того, я не верю этим людям. Что-то подсказывает мне, что они знают правду о моей жене. Они слишком озабочены, чтобы я не сопровождал вас. — Ну, а вы, Сэвидж, к какому пришли решению? Помните, эти люди говорят, что двое из нас никогда не вернутся. Но кто — неизвестно. Конечно, нельзя видеть будущее, но они слишком необыкновенные люди. — Сэр, — сказал Сэвидж, — перед оставлением Англии Его Светлость обеспечил мою старую мать и вдовую сестру с детьми. Теперь от меня никто не зависит. Поэтому я пойду с вами и в остальном полагаюсь на Бога. — Итак, все решено, — сказал я, — теперь надо позвать Бабембу. Старик принял известие о нашем решении более спокойно, чем я предполагал. — Макумазан, — сказал он, — я ждал от тебя таких слов. Если бы это сказал другой, я счел бы его безумным. Но я считал тебя таким, когда ты отправлялся в Землю Понго, а ты вернулся невредимым. Я надеюсь, что так будет и на этот раз. А теперь прощай. Я должен увести своих людей, прежде чем придут сюда эти арабы. Может произойти битва, нас мало, и нам придется умереть. Если они скажут, что твои лошади не могут пересечь пустыню, отпусти их. Мы поймаем и сохраним их до тех пор, пока ты не пришлешь за ними. Не надо больше подарков. Ты уже оставил мне ружье, пороху, пуль и — что дороже того, память о тебе и твоей мудрости и храбрости. С того дальнего холма я буду смотреть, пока ты не скроешься из виду. Прощай. И не став ждать моего ответа, Бабемба ушел, проливая слезы из своего единственного глаза. Через десять минут остальные мазиту простились с нами и ушли, оставив нас одинокими в опустевшем лагере среди нашего уложенного багажа. Вскоре Ханс, полоскавший недалеко от нас котелок, поднял голову и сказал: — Идут, баас. Целый полк идет. Мы оглянулись. По направлению к нам ровными рядами медленно двигались всадники на покачивающихся верблюдах. Не доезжая ярдов пятидесяти до нас, они остановились и начали поить в ручье своих верблюдов, по двадцать за раз. От них отделилось двое людей, в которых я узнал Харута и Марута, с поклоном остановившихся перед нами. — Доброе утро, господин, — сказал Харут лорду Регноллу на ломаном английском языке. Итак, ты решил посетить с Макумазаном наш бедный дом, как посетили мы твой богатый замок в Англии. Ты думаешь, что мы похитили твою леди. Это не так. В Стране Кенда нет белой леди. Она наверняка утонула в Ниле, потому что ходила во сне. Мы очень жалеем тебя, но боги знают, что делают. Они дают и берут, когда хотят. Но к тебе снова вернется твоя жена еще более прекрасной, и к ней вернется ее душа. Я удивленно смотрел на Харута. Я ничего не говорил ему о потере леди Регнолл рассудка. Откуда он мог узнать об этом? — Мы рады, господин, — продолжал Харут, — принять тебя, но, правду сказать, это очень опасное путешествие, ибо Джана не любит чужестранцев. Смотри, на твоем лице уже лежит печать страдания, причиненного слоном. Потом Харут обратил свое благосклонное внимание на Сэвиджа. — И ты идешь, Бена? Что же, в Земле Кенда ты узнаешь многое о змеях и о другом. Тут Марут, улыбаясь во все лицо и обнаруживая ряд ослепительно белых зубов, что-то шепнул на ухо своему товарищу. — Ох, — продолжал Харут, — мой брат говорит, что ты встретился с одной змеей в Натале и сел на нее так тяжело, что сделал ее плоской. В Земле Кенда мы покажем тебе лучшую змею, но ты не будешь сидеть на ней, Бена! Мне, не знаю почему, все эти шутки казались страшными, — чем-то вроде игры в кошки с мышью. Откуда могли эти люди знать подробности разных случаев, свидетелями которых они не были и о которых им никто ничего не говорил? Я посмотрел на Сэвиджа. Он был весьма бледен и, очевидно, чувствовал то же, что и я. Даже Ханс шепнул мне по-голландски. — Это не люди, это дьяволы, баас! Мы едем прямо в ад! Только лорд Регнолл сидел молча и совершенно бесстрастно. Его красивое лицо приняло выражение сфинкса. Я видел, что Харут и Марут чувствовали силу этого человека и это вызывало в них некоторое беспокойство. Часа три спустя мы ехали по пустыне на превосходных верховых верблюдах, оглядываясь на брошенный нами лагерь в оазисе, видневшемся на горизонте. На милю впереди нас ехал пикет из восьми — десяти всадников на самых быстрых животных, чтобы предупредить караван в случае какой-либо опасности. Ярдах в трехстах за нами следовал отряд из пятидесяти кенда, выстроенных в два ряда. За отрядом следовали погонщики, ведя за собой вереницы верблюдов, нагруженных провизией, водой, палатками и нашим багажом, включая пятьдесят винтовок лорда Регнолла. Потом ехали мы вчетвером на самых лучших верблюдах. По правую и левую сторону и позади нас на расстоянии полумили ехали такие же, как и впереди, отряды. Таким образом, мы находились в центре, окруженные со всех сторон охраной. Харут и Марут следовали за нами на небольшом расстоянии, и при надобности их легко можно было позвать. Сперва путешествие на верблюде с непривычки сильно утомляло меня. Постоянная качка так действовала на меня, что к остановке на ночь я чувствовал себя совсем разбитым. Бедный Сэвидж страдал еще больше моего. Только лорд Регнолл, вероятно раньше ездивший на верблюдах, не испытывал большого неудобства. Что касается Ханса — тот чувствовал себя превосходно. Он все время менял свое положение и ехал то по-дамски, то сидя в седле на коленях, как обезьяна на шарманке. Постепенно я привык к такой езде и вскоре наши пятьдесят миль в день не особенно утомляли меня. Мне начинала нравиться жизнь в этой спокойной пустыне. Днем мы ехали по бесконечной песчаной равнине, по вечерам ели с аппетитом простую пищу и спали под мерцающими звездами до новой зари. Говорили мы мало. Вероятно, тишина пустыни накладывала печать на наши уста. Каждый был погружен в свои мысли. Лично мне казалось, что я живу в каком-то сне. С нашей охраной мы не имели никакого общения. Я думаю, что им было запрещено разговаривать с нами. Это были стройные молчаливые люди арабского типа, которые общались между собой знаками или отрывистыми словами. К Харуту и Маруту они относились с огромным уважением и повиновались им беспрекословно. Случилось, что я потерял свой карманный нож. Тогда троим из них было приказано вернуться назад и отыскать его. Только на восьмой день они догнали нас, почти выбившись из сил и потеряв одного верблюда, но с моим ножом, который был передан мне с поклоном. Сознаюсь, мне было очень стыдно этой истории. С Харутом и Марутом вплоть до самых границ Земли Кенда мы почти не разговаривали. Так мы прошли около пятисот миль, останавливаясь в маленьких оазисах напоить верблюдов и отдохнуть. Наконец характер местности начал изменяться. Стала попадаться трава, потом кусты и отдельные деревья и среди них даже дикие козы. Отъехав в сторону, я убил двух коз, чем вызвал большое удивление у нашей стражи, очевидно никогда не видавшей стрельбы из ружья. В этот вечер мы с удовольствием поели дичи, так как давно уже не ели свежего мяса. В последние дни мы заметили, что устройство наших стоянок начало изменять свой прежний характер. Верблюдов уже не отпускали пастись далеко от лагеря, наш багаж складывали около самых палаток, и к нему приставлялась стража. Я спросил у Харута о причине этих предосторожностей. — Потому что мы на границе Земли Кенда, — ответил он, — через четыре дня мы будем на месте. — Зачем же предосторожности против своего народа? Они встретят вас… — Копьями, Макумазан… Заметь, что кенда составляют два народа. Мы, белые кенда, имеем свою отдельную территорию. Но путь к нам лежит через землю черных кенда, которые всегда могут напасть на нас, особенно если увидят, что с нами чужестранцы. Черные кенда значительно превосходят нас числом, но они не нападают на нашу землю, ибо боятся проклятия Небесного Дитяти. Однако, если они встречают нас на своей земле, они убивают нас; точно также мы поступаем с ними, когда они приходят на нашу землю. — Так что, между вами постоянная вражда? — Вражда, которая окончится большой войной, где должны погибнуть черные или белые кенда. Или, быть может, оба народа погибнут вместе. Вот почему мы просили тебя, Макумазан, быть нашим гостем, — с поклоном закончил Харут и удалился, прежде чем я успел что-нибудь ответить. — Похоже на то, — заметил я Регноллу, — что нас везут сражаться за Харута, Марута и К°. Ночь прошла спокойно. На заре следующего дня мы двинулись в дальнейший путь местностью, становившейся все более и более плодородной. Уже стали попадаться целые стада антилоп, но людей не было видно. Во время остановки на отдых Харут провел нас на возвышенное место, откуда открывался вид миль на пятьдесят вперед. Перед нами лежала обширная равнина, бывшая, вероятно, некогда озером. По ней было рассыпано множество деревушек и отдельных домиков. С востока на запад равнину пересекала река, разветвлявшаяся на несколько протоков. Далеко на горизонте обрисовывался высокий холм, покрытый густой растительностью. — Вот Земля Кенда, — сказал Харут, — по эту сторону реки Тавы живут черные кенда, а по ту — белые. — А что это за холм? — спросил я. — Это Священная Гора, Дом Небесного Дитяти, куда не может ступить ничья нога, кроме жрецов Дитяти. — А если кто ступит? — спросил я. — Он умрет, Макумазан. — Значит, ее охраняют? — Она охраняется, но не оружием смертных, Макумазан. Видя, что Харут неохотно говорит об этом, я спросил его о численности народа кенда. Он ответил, что черные кенда имеют около двадцати тысяч воинов, между тем как белые — не более двух тысяч. В это время наш разговор был прерван появлением человека из передового пикета, который сообщил Харуту что-то, весьма встревожившее его. Я осведомился, в чем дело. — Один из разведчиков Симбы, царя черных кенда, — ответил Харут, указывая на скачущего вдали по равнине всадника. — Он едет в город Симбы сообщить о нашем появлении на их земле. Вернемся в лагерь, Макумазан, и поедем дальше, когда взойдет луна. Как только взошла луна, мы снова двинулись вперед, несмотря на то что верблюды были крайне утомлены. Мы ехали всю ночь, остановившись лишь перед рассветом на полчаса, чтобы подкрепиться пищей и подтянуть веревки нашего багажа, который оберегался теперь с особенной тщательностью. Когда мы снова тронулись в путь, к нам подъехал Марут и со своей обычной улыбкой сказал, что хорошо было бы, если бы мы держали наши ружья наготове. Мы вооружились магазинными винтовками, заряжающимися сразу пятью патронами. Только Ханс с моего позволения взял себе мое старое одноствольное шомпольное ружье «Интомби», не раз сослужившее мне хорошую службу во время путешествия в Землю Понго. Ханс почему-то считал его счастливым. Спустя четверть часа, когда уже совсем рассвело, мы въехали в скалистую местность, окаймлявшую равнину. Вдруг наш караван остановился… Вскоре нам стало ясно, в чем дело. На расстоянии не более полумили впереди нас показалось около пятисот людей в белых одеяниях, частью пеших, частью ехавших верхом. Они быстро двигались нам навстречу с явной целью преградить нам путь. Эти люди имели черные лица и не носили никаких головных уборов. От них отделилось два парламентера с белыми флагами в руках. Они галопом подъехали к нашему каравану, остановились у того места, где стояли мы с Харутом и Марутом, и отсалютовали нам копьями. Это были стройные мужчины негритянской расы с длинными волосами, доходившими до самых плеч. На них было легкое одеяние: кожаные панталоны, сандалии и нечто вроде кольчуги из тройной цепи, сделанной из металла, похожего на серебро, которая свешивалась с шеи на спину и на грудь. Вооружены они были длинными копьями, похожими на копья белых кенда, и прямыми мечами с крестообразной рукояткой, висевшими у пояса. Как я узнал впоследствии, таково было снаряжение кавалерии. Пехотинцы были вооружены более коротким копьем, двумя дротиками и кривым ножом с роговой рукояткой. — Здравствуй, пророк Дитяти! — закричал один из них. — Мы вестники бога Джаны, говорящего устами царя Симбы. — Говори, почитатель демона Джаны! Чего хочет от нас Симба? — сказал Харут. — Войны. Зачем вы перешли реку Таву, границу земли черных кенда, установленную договором сто лет назад? Разве вам мало своей земли? Царь Симба позволил вам пройти в пустыню, надеясь, что вы погибнете там. Но вы не вернетесь назад! — Посмотрим, — ответил Харут, — это зависит от того, кто сильнее, Небесное Дитя или Джана. Мы хотим избегнуть кровопролития. Наше путешествие мирное. Эти белые люди хотят принести жертву Дитяти, а путь к Священной Горе лежит только через вашу землю. — О, мы знаем, какая это жертва! — воскликнул парламентер. — Они хотят крови нашего бога Джаны! Они думают убить его своим необыкновенным оружием, хотя против бога Джаны бессильно всякое оружие. Дай нам принести в жертву Джане белых людей. Тогда, быть может, царь Симба позволит вам пройти через свою землю. — Как? — воскликнул Харут. — Нарушить законы гостеприимства? Вернись к Симбе и скажи ему, что если он поднимет против нас копье, тройное проклятие Дитяти падет на его голову! Проклятие бури, проклятие голода и проклятие войны! Я, пророк, сказал это. Ступай! Эти слова, произнесенные Харутом выразительным голосом, произвели необычайное впечатление на парламентеров. Страх появился на их лицах. Не ответив ни слова, они повернули лошадей и так же быстро, как и приехали, вернулись к своим. Харут отдал приказание, после которого караван перестроился в виде клина. Я, Ханс и Марут поместились посредине левой стороны этого треугольника, лорд Регнолл и Сэвидж — на правой. Харут стал в вершине его. Вьючные верблюды занимали центральное место. Прежде чем занять свои места, мы крепко пожали друг другу руки. Бедняга Сэвидж выглядел очень плохо: это должно было быть его первым боевым крещением. Лорд Регнолл казался счастливым, как король. Я, уже видавший немало битв, вспомнил предсказание одного зулусского вождя, который говорил, что я умру не на этом поле сражения. Тем не менее мое настроение было скорее обратным настроению лорда Регнолла. Только Ханс казался совершенно равнодушным. Он даже успел набить табаком и закурить свою трубку. Если бы он не сидел в своей обезьяньей позе на верху высокого верблюда, он получил бы от меня здоровый пинок за эту браваду перед лицом Провидения. Однако своим поведением он вызвал восторг наших кенда. Я слышал, как один из них сказал другому: — Посмотри! Это вовсе не обезьяна, а настоящий мужчина, даже более мужчина, чем его господин! Теперь все было готово. Харут, трижды поклонившись по направлению к Священной Горе, приподнялся в стременах и, подняв копье над головой, коротко скомандовал: — Вперед!Глава 11
АЛЛАН В ПЛЕНУ
Наш отряд бодро бросился вперед. Даже верблюдам, несмотря на их крайнее утомление, казалось, передалось воодушевление всадников. Не нарушая порядка построения, мы быстро катились вниз по склону холма. Целый лес копий блестел на солнце; флажки весело развевались по ветру. Никто не проронил ни слова; слышался только топот мчавшихся верблюдов. Только когда началась битва, белые кенда издали мощный крик: — Дитя! Смерть Джане! Дитя! Дитя! Человек четыреста вражеской пехоты сомкнулись семью — восемью рядами, как бы слившись в одно плотное тело. Первые два ряда стояли на коленях, держа наперевес длинные копья. Этот строй напоминал древнегреческую фалангу. По обе стороны пехоты, на расстоянии около полумили от нее, помещалось по отряду всадников, человек по сто в каждом. Когда мы приблизились к врагу, наш треугольник, следуя за Харутом, немного изогнулся. Минуту спустя я понял, что это был искусный маневр. Мы прорезали строй врага, как нож масло, ударив в него не прямо, а под некоторым углом. Промчавшись по опрокинутой пехоте, белые кенда поражали вражеских воинов копьями и топтали их верблюдами. Я уже думал, что дело решилось в нашу пользу, однако это было преждевременно. Скоро между нами оказалось много пеших врагов, которых я считал мертвыми, старавшихся, за невозможностью достать всадников, поразить их верблюдов в живот. Кроме того, я забыл о вражеской кавалерии, которая громом обрушилась на наши фланги. Мы сделали все что могли, чтобы отразить этот удар. В результате наша правая и левая линии были прорваны ярдах в пятидесяти позади вьючных верблюдов. К счастью для нас, быстрота натиска помешала черным кенда воспользоваться плодами своего удара. Оба неприятельских отряда, не успев сдержать лошадей, столкнулись и пришли в расстройство. Тогда мы направили на них своих верблюдов, и в результате многие враги были переколоты копьями и потоптаны копытами. Я не могу сказать, как случилось, что я, Ханс, Марут и около пятнадцати белых кенда оказались отрезанными от своих и окруженными массой яростной нападавших на нас врагов. Мы сопротивлялись как могли. Постепенно пали все наши верблюды, за исключением того, на котором сидел Ханс. Этот верблюд, по странной случайности, не был даже ранен. Мы продолжали сражаться пешими. До этого времени я не сделал ни одного выстрела, отчасти из-за трудности целиться с качающегося верблюда, отчасти из нежелания убивать этих диких людей до того, пока не появится надобность в самозащите. Однако теперь нам грозила серьезная опасность. Наклонившись над бьющимся головой о землю умирающим верблюдом, я разрядил все пять патронов своего магазинного ружья. В результате пять лошадей без всадников помчались по равнине. Это произвело на атакующих сильное впечатление, так как они никогда не видели ничего подобного. На некоторое время они отхлынули назад, дав мне возможность снова зарядить ружье. Вторично они бросились на нас — и снова тот же результат. Посоветовавшись некоторое время между собой, они произвели третью атаку. Я встретил их по-прежнему, хотя на этот раз упало всего три всадника и одна лошадь. Теперь наше дело было проиграно, так как у меня больше не было патронов и остался только заряженный двуствольный пистолет. И все из-за моей непредусмотрительности! Мои патроны находились в сумке, которую Сэвидж из учтивости вешал на свое седло. Я спохватился, когда уже началась битва, но ничего не мог сделать, так как мы с Сэвиджем находились на разных концах строя. После долгого совещания наши враги снова направились к нам, но на этот раз очень медленно. Тем временем я огляделся и увидел, что наши главные силы уходят на север, счастливо прорвавшись и избегнув погони. Мы были покинуты, так как, по всей вероятности, нас считали убитыми. — Мой господин Макумазан, — сказал все еще улыбавшийся Марут, подходя ко мне, — Дитя спасло большинство наших, но мы покинуты. Что ты будешь делать? Стрелять до тех пор, пока нас не схватят? — Мне нечем стрелять, — ответил я. — А если мы сдадимся, что будет с нами? — Нас отвезут в город Симбы и принесут в жертву Джане. У меня мало времени, чтобы рассказать тебе, как это делается. Поэтому я предлагаю тебе: убьем себя. — Это, пожалуй, будет глупо, Марут. Пока мы живы, нам может представиться случай избегнуть Джаны. Если нам придется плохо, у меня остается пистолет с двумя пулями для тебя и для меня. — Мудрость Дитяти говорит твоими устами, Макумазан, — сказал Марут. — Я поступлю так, как поступишь ты. Затем он обернулся к своим людям. Они некоторое время поговорили между собой, после чего трое из них приняли героическое решение. Подпустив черных кенда на близкое расстояние, они вышли вперед, будто желая сдаться, и вдруг с криком: «Дитя!» бросились на них и, сражаясь как демоны, поразили множество врагов, пока сами не пали, покрытые ранами. Эта хитрая и отчаянная выходка, так дорого стоившая врагам, сильно разъярила их. С криком: «Джана!» они устремились на нас (нас теперь было всего шестеро), предводительствуемые седобородым мужчиной, который, судя по числу цепочек на груди и другим украшениям, был важной особой. Когда они приблизились ярдов на пятьдесят к нам и мы уже готовились к самому худшему, вдруг надо мной прогремел выстрел. В то же мгновение седобородый мужчина широко взмахнул руками, выронил копье и бездыханный пал на землю. Я оглянулся и увидел Ханса с трубкой в зубах и дымящимся «Интомби» в руках. Он выстрелил, кажется, первый раз за весь день и убил этого мужчину, смерть которого повергла черных кенда в горе и отчаяние. Они спешились и столпились вокруг убитого. К ним подъехал свирепого вида мужчина средних лет, у которого было еще больше разных украшений. — Это царь Симба, — сказал Марут, — убитый — его дядя Гору, великий вождь, воспитывавший Симбу с малых лет. — Жаль, что у меня нет патрона для племянника, — заявил я. — До свидания, баас! — сказал Ханс. — Мне надо уходить, потому что я не могу снова зарядить Интомби на спине этого животного. Если баас раньше меня встретит своего отца, пусть баас попросит его приготовить для меня хорошее место у огня. Прежде чем я успел что-либо ответить, Ханс повернул своего верблюда (который, как я уже упоминал, был цел и невредим) и, подгоняя его ударами ружья, умчался галопом, но не по направлению к Дому Дитяти, а вверх по холму, в чащу гигантской травы, смешанной с терновником, которая росла недалеко от нас. Там он вскоре скрылся вместе со своим верблюдом. Если бы черные кенда и видели уход Ханса, — в чем я сильно сомневаюсь, так как их внимание всецело было поглощено мертвым Гору, — они, вероятно, не стали бы преследовать его. Они подумали бы, что Ханс хочет заманить их в какую-нибудь ловушку или засаду. Тем временем враги наши совещались с явным замешательством. Они, вероятно, пришли к заключению, что мы с нашими ружьями — нечто большее, чем простые смертные. Наконец от них отделился один человек, в котором я узнал утреннего парламентера. Тогда я отложил в сторону свое ружье в знак того, что не собираюсь стрелять, хотя, если бы я и хотел, то не мог бы сделать этого. Парламентер подошел к нам и, остановившись в нескольких ярдах от нас, обратился к Маруту: — Слушай, второй жрец Дитяти, — сказал он, — что говорит царь Симба. Он говорит, что ваш бог слишком силен сегодня, хотя в другой раз это может быть иначе. Поэтому Симба предлагает вам сдаться и клянется, что ни одно копье не пронзит ваше сердце и ни один нож не тронет вашего горла. Вас отведут в город и будут держать как пленников до тех пор, пока не наступит мир между черными и белыми кенда. Если же вы откажетесь, мы окружим вас со всех сторон и будем ждать, пока вы не умрете от жажды и зноя. Это слова Симбы, к которым ничего не будет прибавлено и от которых ничего не будет убавлено. Сказав это, парламентер отошел от нас на некоторое расстояние, чтобы не слышать нашего совещания, и стал ждать. — Что ответить ему, Макумазан? — спросил Марут. Я ответил ему вопросом. — Есть ли надежда, что нас освободит твой народ? Марут отрицательно покачал головой. — Никакой. То, что мы видели сегодня, лишь малая часть войска черных кенда. Завтра они могут собрать тысячи. Кроме того, Харут думает, что мы погибли. Если Дитя не спасет нас, нам придется покориться своей судьбе. — Тогда дело наше проиграно. Я уже чувствую жажду, а у нас нет ни капли воды. Но сдержит ли Симба свое слово? — Я думаю, что сдержит, — ответил Марут. — Но надо выбирать. Смотри, они уже начинают окружать нас. — А вы что скажете? — обратился я к остальным белым кенда. — Мы в руках Дитяти, — ответили они, — хотя лучше было бы нам пасть вместе с нашими братьями. Посоветовавшись еще немного со мной, Марут позвал парламентера. — Мы принимаем предложение Симбы, — сказал он, — и сдаемся вам в плен при условии, что нам не будет причинено никакого вреда. Если Симба нарушит условие, месть будет ужасна. Теперь в доказательство своей верности пусть Симба подойдет к нам и выпьет с нами кубок мира, ибо мы чувствуем жажду. — Нет, — ответил парламентер, — если Симба подойдет к вам, белый господин убьет его. Пусть он отдаст сначала свою трубу. — Возьми, — великодушно сказал я, передавая ему ружье, причем подумал, что нет ничего бесполезнее ружья без патронов. Парламентер удалился, держа далеко перед собой мое оружие. После этого к нам подъехал сам Симба в сопровождении нескольких людей, из которых один нес мех с водой, а другой — огромный кубок, сделанный из клыка слона. Симба оказался красивым мужчиной с огромными усами. Он обладал большими черными глазами, которые по временам принимали зловещее выражение, и был значительно светлее своих спутников. На голове у него, как и у других, не было никакого убора, за исключением золотой ленты, представлявшей, по-видимому, корону. На лбу у него был широкий шрам от раны, полученной, вероятно, в каком-нибудь сражении. Он оглядел меня с большим любопытством, и я думаю, что мой внешний вид произвел на него невыгодное впечатление. В пылу сражения я потерял свою шляпу, волосы мои были растрепаны, куртка испачкана пылью и кровью. В общем, я представлял собой весьма непрезентабельную фигуру. Я слышал, как Симба, рассчитывая, что я не понимаю языка кенда (за месяц с небольшим пути я научился этому языку, весьма близкому к знакомому мне банту), сказал одному из своих спутников: — Истинно о силе нельзя судить по виду. Этот маленький белый дикобраз причинил нам очень много вреда. Однако время, дробящее даже скалы, скажет нам все. Затем он подъехал к нам и сказал: — Ты слышал, враг мой, пророк Марут, предложенные мною условия и принял их. Не будем больше говорить об этом. Я исполню то, что обещал, но ни на волос больше. — Пусть будет так, — ответил Марут со своей обыкновенной улыбкой, — но помни, что если ты изменнически убьешь нас, тройное проклятие Дитяти падет на тебя и на твой народ. — Джана победит Дитя и всех, кто чтит его! — раздраженно воскликнул Симба. — Кто в конце концов победит — Джана или Дитя — известно одному Дитяти и, может быть, его пророкам. Но смотри! За каждого поклонника Дитяти пало больше трех поклонников Джаны. Наш караван ушел, увозя белых людей, у которых много труб, наносящих смерть. Джана, должно быть, заснул, допустив это! Я ожидал, что эти слова вызовут взрыв негодования, однако они произвели противоположное действие. — Я пришел выпить чашу мира с тобой, пророк, и с белым господином. Поговорим потом. Дай воды, раб. Один из свиты Симбы наполнил кубок водой. Симба взял кубок, брызнул водой на землю и, отпив из него немного, передал его с поклоном Маруту, который с еще более низким поклоном передал его мне. Почти умирая от жажды, я выпил добрую пинту воды и после этого почувствовал себя другим человеком. Марут выпил остальное. Потом кубок снова был наполнен для троих белых кенда, и Симба снова попробовал воду. Когда наша жажда была утолена, нам привели лошадей, маленьких послушных животных с овечьими шкурами вместо седел и ременными петлями вместо стремян. На них мы в продолжение трех часов ехали по равнине, окруженные сильным эскортом. По обе стороны каждой нашей лошади шло по вооруженному черному кенда, державшему ее на поводу. Это была предосторожность на случай попытки к бегству с нашей стороны. Мы проехали несколько деревень, где женщины и дети сбегались смотреть на нас. По сторонам дороги тянулись тучные нивы с почти созревшими злаками разных сортов. Жатва обещала быть обильной. Из некоторых домов слышался плач. Очевидно, оплакивали павших в утреннем сражении. Потом мы ехали большим лесом, состоявшим из роскошных деревьев, из которых многие были неизвестной мне породы. Выйдя из леса и проехав еще некоторое время хлебными полями, мы наконец въехали в столицу черных кенда, называемую городом Симбы. Это было большое поселение, несколько отличавшееся от других африканских городов, окруженное глубоким рвом, наполненным водой. Через ров было перекинуто несколько мостов, которые легко разбирались в случае опасности. Проехав через восточные ворота, мы очутились на широкой улице, где собралась толпа жителей, уже знавших об утреннем сражении. Они сжимали кулаки и шептали проклятия, относящиеся к Маруту и его товарищам. На меня черные кенда смотрели скорее с удивлением, не без примеси некоторой доли страха. Проехав еще с четверть мили, мы через ворота попали в нечто, похожее на южно-африканские краали для скота, окруженное сухим рвом и деревянным палисадом, наружная часть которого была обсажена зеленью. Пройдя еще одни ворота, мы очутились у большой хижины или дома, построенного по образцу других домов города. Это был дворец короля Симбы. За дворцом находилось еще несколько домов, где жила королева и другие женщины. Справа и слева от дворца стояли два дома. Один служил помещением для стражи, в другой были проведены мы. Это было довольно удобное жилище площадью около тридцати квадратных футов, но состоящее всего из одной комнаты. Позади него находилось несколько хижин, служивших для кухни и для других целей. В одну из них были помешены трое белых кенда. Немедленно после нашего прибытия нам была принесена пища: жареный ягненок и кушанье из вареных колосьев, кроме того, вода для питья и умывания в кувшинах, сделанных из высушенной на солнце глины. Я ел с большим аппетитом, так как почти умирал от голода. Потом, видя бесполезность всяких предосторожностей в случае нападения на нас, я растянулся на матраце, лежавшем в углу комнаты, натянул на себя кожаный ковер и крепко уснул, передав свою защиту в руки Провидения.Глава 12
ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ
На следующее утро меня разбудил солнечный луч, упавший на мое лицо через оконное отверстие, загороженное деревянной решеткой. Я лежал еще некоторое время, припоминая события предыдущего дня. Итак, я был пленником дикого народа, имевшего достаточно оснований ненавидеть меня: я убил многих из их числа, хотя и делал это исключительно с целью самозащиты. Правда, их король обещал нам неприкосновенность, но разве можно было положиться на слово такого человека? Если случай не спасет нас, без сомнения, дни наши сочтены. Рано или поздно мы будем убиты тем или иным способом. Единственным удовлетворительным обстоятельством было то, что лорду Регноллу и Сэвиджу удалось спастись. Я был уверен, что они спаслись, потому что двое людей, сидевших на верблюдах и взятых с нами в плен, говорили Маруту, что они видели их скачущими в толпе всадников целыми и невредимыми. По всей вероятности, они теперь оплакивают мою смерть, так как откуда им знать о нашем плене, столь несовместимом с обыкновением черных кенда? Я не знал, на что они решатся, когда Регнолл увидит, что его смелая попытка оказалась напрасной, как, впрочем, я и думал. Единственное, что им оставалось, это попытаться бежать назад; но это было очень трудно. Оставался еще Ханс. Тот, конечно, попытается вернуться нашим прежним путем, так как он никогда не забывал дороги, по которой однажды ездил. Через несколько недель от него в пустыне останется лишь кучка костей. Может быть, как он и полагал, он ушел уже к моему отцу и рассказывал ему теперь об этих событиях у веселого огня где-то в далеком неведомом краю. Бедный Ханс! Я открыл глаза и огляделся вокруг себя. Первое, что я заметил, было исчезновение моего двуствольного пистолета и большого складного ножа. Я был теперь окончательно обезоружен. Потом я увидел Марута, сидевшего на полу и погруженного в молитву или глубокое раздумье. — Марут, — сказал я, — кто-то был здесь ночью и похитил мой пистолет и нож. — Да, господин, — ответил он, — и мой нож тоже исчез. Я видел, как в полночь двое людей, крадучись как кошки, вошли сюда и обыскали все углы. — Почему же ты не разбудил меня? — Что было пользы, господин? Если бы мы оказали сопротивление, нас убили бы сразу. Лучше было не препятствовать им взять эти вещи, которые все равно бесполезны для нас. — Пистолет бы мог оказать нам хорошую услугу, — многозначительно сказал я. — Да, но и без него мы, когда понадобится, можем найти способ умереть. — Ты думаешь, что Харут не знает о том, что мы в плену? Ведь курение, которое вы мне давали в Англии, могло бы указать ему… — Это курение — пустая вещь, мой господин; оно на мгновение затемнило твой рассудок и помогло тебе видеть то, что было в нашем уме. Мы нарисовали картины, которые ты видел. — А! — воскликнул я. — Значит, здесь было простое внушение. Тогда, безусловно, нас считают мертвыми и нам остается надеяться только на самих себя. — И на Дитя, — мягко вставил Марут. — Ну вот! — раздраженно воскликнул я. — После сказанного о вашем курении ты ожидаешь от меня веры в ваше Дитя? Кто или что это Дитя, и что оно может сделать? Ты можешь сказать мне чистую правду, потому что все равно нам скоро перережут глотки. — Кто и что Дитя, я не могу сказать, ибо я сам не знаю этого. Но уже целые тысячелетия наш народ поклоняется ему, и мы верим, что наши отдаленные предки, изгнанные из Египта, принесли его в нашу страну. У нас есть свитки, на которых все записано, но мы не умеем их читать. Оно имеет своих наследственных жрецов, глава которых — мой дядя, Харут. Я вам еще не говорил, что он мой дядя. Мы верим, что Дитя — бог, или, вернее, символ, в котором живет бог, и что он может спасти нас в этом и в будущем мирах. Мы верим, что через оракула — женщину, которая называется Стражем Дитяти, — оно может предсказывать будущее и посылать благословения и проклятия на нас и наших врагов. Когда оракул умирает, мы становимся беспомощными, так как Дитя теряет язык, и наши враги начинают одолевать нас. Так было недавно, пока мы не нашли нового оракула. — Последний оракул перед смертью объявил, что его преемник живет в Англии. Тогда мы с дядей отправились туда, переодевшись фокусниками, и искали того, кого нам нужно было, в течение многих лет. Мы думали, что нашли нового оракула в лице прекрасной леди, которая вышла замуж за господина Игезу, потому что у нее на шее был знак молодого месяца. После нашего возвращения в Африку, — я могу рассказать вам все, как я уже говорил… Здесь Марут остановился и посмотрел мне прямо в глаза, потом продолжал чистым звонким голосом, который тем не менее не убедил меня. — Мы поняли, — говорил он, — что мы ошиблись, потому что настоящий оракул был обнаружен среди нашего собственного племени и теперь уже два года занимает свое высокое положение. Вне сомнения, последний оракул ошибался, рассказывая нам, что преемник находится в Англии. Эта женщина могла слышать об Англии от арабов. Вот и все. — Хорошо, — сказал я, стараясь скрыть свое подозрение относительно личности этого нового оракула, — а теперь скажи мне, что это за бог Джана, убить которого вы привезли меня сюда? Слон ли есть бог — или бог есть слон, — какое ему дело до дитяти? — Джана среди нас, кенда, является олицетворением мирового Зла, в то время как Дитя олицетворяет Добро. Джана то же, что Шайтан у магометан, Сатана у христиан и Сет у наших праотцов египтян. — Ага, понимаю, — подумал я, — Дитя — это Гор, а Сет — злое чудовище, с которым оно вечно борется. — Между Джаной и Дитятею вечная война, — продолжал Марут, — и мы знаем, что в конце концов один из них победит другого. — Весь мир знал это с самого начала, — прервал я его. — Но кто же или что — этот Джана? — У черных кенда Джана, или его символ, есть слон, огромное злое животное, которое при встрече убивает всех не поклоняющихся ему. Ему приносят жертвы. Живет он в лесу, но во время войны черные кенда пользуются им, так как этот демон повинуется своим жрецам. — Но ведь этот слон, вероятно, меняется? — Не знаю. Он один и тот же в продолжение нескольких последних поколений, так как известен своей величиной и один из клыков его повернут книзу. — Это ничего не доказывает, — заметил я, — слоны живут до двухсот лет и больше. Ты когда-нибудь видел его? — Нет, Макумазан, — с содроганием ответил Марут. — Если бы я встретил его, разве был бы я теперь жив? Но я боюсь, что мне суждено увидеть его, и не мне одному, — прибавил он, снова содрогаясь. В этот момент наш разговор был прерван появлением двух черных кенда, принесших нам еду — похлебку из вареной курицы. Они стояли возле нас, пока мы ели. Что касается меня, я не жаловался, потому что я узнал все, что я хотел знать о богословских воззрениях и обычаях страны, и пришел к заключению, что ужасный бог-дьявол черных кенда был просто слоном необыкновенной величины и необыкновенной свирепости, за которым при других обстоятельствах я с удовольствием поохотился бы. Аппетит был у нас плохой, и мы, наскоро позавтракав, вышли из дома и посетили стоявшую за ним хижину, где помещались наши белые кенда. Они сидели на корточках на земле и имели очень подавленный вид. Когда я спросил их, в чем дело, они ответили: — Ничего, только нам придется умереть, а жизнь так хороша. У них были жены и дети, которых ни один из них не надеялся снова увидеть. Я попробовал как мог ободрить их, но, боюсь, сделал это без воодушевления, так как в глубине своего сердца чувствовал то же, что и они. Мы вернулись в свой дом и поднялись по лестнице на его плоскую крышу. Отсюда мы увидели странную церемонию, происходящую в центре рыночной площади. На большом расстоянии, отделявшем нас от нее, подробности были плохо видны, а мой бинокль был похищен вместе с пистолетом и ножом, будучи, вероятно, также причислен к разряду смертоносных орудий. Посреди площади был воздвигнут жертвенник, на котором горел огонь. Позади него сидел Симба, окруженный различными советниками. Перед жертвенником стоял деревянный стол, на котором лежало нечто похожее на тело козла или овцы. Фантастически одетый мужчина с несколькими другими был занят рассматриванием лежащего на столе. Результат рассматривания получился, очевидно, неудовлетворительным, потому что мужчина поднял руки и издал унылый вопль. Потом внутренности животного были брошены в огонь, а труп куда-то унесен. Я спросил Марута, что, по его мнению, они делали. — Советовались с оракулом, — печально ответил он, — быть может о том, жить ли нам или умереть, Макумазан. В это время жрец в странном уборе из перьев приблизился к Симбе, держа в руке какой-то небольшой предмет. Я раздумывал, что бы это могло быть, как вдруг звук выстрела долетел до моих ушей, и я увидел, что жрец начал скакать на одной ноге, держась за колено другой и громко завывая. — Ага, — сказал я, поняв в чем дело, — он задел курок моего пистолета, и пуля попала ему в ногу. Симба что-то крикнул, после чего пистолет был брошен в огонь, вокруг которого собралась целая толпа посмотреть, как он будет гореть. — Погоди, — сказал я Маруту, и пока говорил, произошло неизбежное. От действия жара выстрелил другой ствол, и одновременно с выстрелом один из жрецов, окружавших жертвенник, повалился на землю, пораженный насмерть тяжелой пулей. Ужас охватил черных кенда. Все бросились бежать, впереди всех Симба, а позади — главный жрец, прыгавший на одной ноге. Это происшествие весьма обрадовало нас. Мы поспешно спустились вниз, опасаясь, что наше присутствие на крыше может раздражать этих дикарей. Минут через десять ворота ограды распахнулись и в них прошли четверо людей, несших труп убитого жреца, который был положен у наших дверей. Потом появился Симба, окруженный сильной стражей, а за ним главный жрец с перевязанной ногой, поддерживаемый двумя своими коллегами. На нем (только теперь я рассмотрел) была отвратительная маска с двумя клыками, похожими на клыки слона. Симба вызвал нас из дому. Делать было нечего, мы вышли. Видно было, что он обезумел от страха или ярости, или от того и другого вместе. — Посмотрите на вашу работу, маги! — сказал он ужасным голосом, указывая на мертвого жреца и на раненного в ногу. — Это не наша, а твоя работа, Симба, — ответил Марут, — ты украл магическое оружие белого господина, и оно отомстило за себя. — Верно, — сказал Симба, — труба убила этого жреца и ранила другого. Но это вы, маги, приказали ей поступить так. Теперь слушайте! Вчера я обещал вам, что ни одно копье не пронзит вашего сердца и ни один нож не коснется вашего горла, и выпил с вами чашу мира. Но вы нарушили договор и его больше нет! Слушайте мое решение! Своим колдовством вы отняли жизнь у одного из моих слуг и ранили другого. Если в три дня вы не вернете жизнь убитому и не исцелите раненого (что вы можете сделать), вы последуете за убитым, но каким путем — я не скажу вам! Когда я услышал это удивительное заявление, я содрогнулся в глубине души, но, находя по-прежнему, что лучше было притворяться непонимающим, я сдержался и предоставил отвечать Маруту. — О царь! — с обычной улыбкой сказал Марут. — Кто может вернуть жизнь мертвому? Даже у самого Дитяти нет средствдля этого. — Тогда, пророк Дитяти, постарайся найти это средство, иначе последуешь за убитым! — закричал Симба, дико вращая глазами. — А что мой брат, великий пророк, обещал тебе вчера, Симба, если ты причинишь нам вред? — спросил Марут. — Не три ли великих проклятия, которые падут на голову твоего народа? Помни, если хоть один из нас будет убит, проклятие скоро осуществится. Я, Марут, пророк Дитяти, повторяю это! Теперь Симба, казалось, окончательно обезумел. Он бешено прыгал перед нами, размахивая своим копьем. Серебряные цепи звенели на его груди. Он изрыгал проклятия на Дитя и его последователей, причинивших столько зла черным кенда. Он взывал о мести к богу Джане и молил его «пронзить Дитя своими клыками, разорвать хоботом, истоптать ногами». Во всем этом через свою ужасную маску вторил ему раненый жрец. Мы стояли перед ними, я — прислонившись к стене дома и стараясь казаться как можно беспечнее, Марут — по обыкновению улыбаясь и внимательно поглядывая на небо. Мы слишком озябли, слишком ослабли и слишком были полны тяжелых подозрений и опасений для того, чтобы действовать более энергично. Вдруг Симба обернулся к своей свите и приказал вырыть яму в углу нашего двора и зарыть в нее мертвого, оставив его голову наверху, «чтобы он мог дышать». Приказание было немедленно исполнено. Потом, отдав распоряжение кормить нас по-прежнему и прибавив, что через три дня мы снова услышим о нем, он удалился со всей своей свитой. Убитый был зарыт по шею в землю в сидячем положении. Около него были поставлены сосуды с пищей и водой и над ним было устроено перекрытие, «чтобы защитить нашего брата от солнца», как сказал один из устраивавших могилу другому. Вид мертвого, а также голов павших в бою белых кенда (я забыл упомянуть о них), выставленных на шестах у дворца Симбы, производил тяжелое впечатление. Но прикрытие, сделанное над мертвым, было излишним, так как солнце вдруг перестало сиять; тяжелые тучи покрыли небо, и наступил сильный холод, необыкновенный, по словам Марута, для этого времени года. С крыши дома, куда мы ушли, чтобы быть подальше от мертвеца, мы видели на площади города толпы черных кенда, смотревших с беспокойством на небо и обсуждавших между собой это необыкновенное изменение погоды. День прошел; нам принесли еду, но у нас не было аппетита. Благодаря низко нависшим тучам ночь наступила ранее обыкновенного. Мы улеглись спать. С наступлением рассвета я увидел, что тучи стали еще темнее и плотнее, а холод еще больше, чем накануне. Дрожа от холода, мы отправились посетить наших белых кенда, которым стража не позволяла заходить в наш дом. Войдя в их хижину, мы к своему ужасу увидели, что вместо трех их было теперь всего двое. Я спросил, где третий. Они ответили, что ничего не знают о его судьбе. В полночь, рассказывали они, в их хижину явились люди, которые связали и куда-то утащили их товарища. Мы вернулись в свой дом. День прошел без особенных событий. В наш дворик приходили жрецы, осмотрели мертвеца, переменили сосуды с пищей и удалились. Тучи становились все темнее, и воздух — все холоднее и холоднее. Можно было ждать снега. С крыши нашего дома мы видели население города Симбы, с увеличивающимся беспокойством обсуждавшее на улицах перемену погоды. У шедших на полевые работы на плечи были накинуты циновки. Эту ночь, несмотря на царивший холод, мы, закутавшись в ковры, проводили на крыше дома. Если бы нас решили схватить, здесь все-таки мы могли бы оказать некоторое сопротивление или, в крайнем случае, броситься вниз и разбиться насмерть. Мы бодрствовали по очереди. Около полуночи я услышал шум, доносившийся из хижины, стоявшей позади нашего дома, потом заглушённый крик, от которого у меня застыла кровь. Через час на рыночной площади был зажжен огонь и вокруг него видны были двигающиеся фигуры. Больше ничего нельзя было рассмотреть. На следующее утро в хижине остался всего один белый кенда, который почти обезумел от страха. Бедняга умолял нас взять его в наш дом, так как он боялся остаться один с «черными демонами». Мы попробовали было исполнить его просьбу, но появившаяся откуда-то вооруженная стража воспрепятствовала нам сделать это. Этот день был точной копией предыдущего. Тот же осмотр жрецами мертвого и перемена у него запаса пищи, тот же холод и покрытое тучами небо, те же толки о перемене погоды на рыночной площади. Ночь мы снова провели на крыше, но на этот раз не смыкали глаз. Над городом как будто нависло грядущее несчастье. Казалось, что небо опускается на землю. Луна была скрыта тучами. На горизонте то с одной, то с другой стороны вспыхивали яркие зарницы. Не было ни малейшего ветра. Казалось, что приближался конец мира, по крайней мере что касалось нашей области. Никогда в жизни я не переживал таких ужасов, как в эту достопамятную ночь. Если бы мне сказали, что с наступлением утра я буду казнен, думаю, я перенес бы это с более легким сердцем. Но хуже всего было то, что я ничего не знал. Я был похож на человека, которому приказывали идти с завязанными глазами в пропасть; он не мог знать, где кончается это путешествие, где та пропасть, которая поглотит его, но он на каждом шагу переживал муки смерти, готовой поглотить его. Около полуночи мы услышали шум борьбы и заглушённый крик в хижине позади нашего дома. — Его увели, — прошептал я Маруту, вытирая холодный пот, выступивший на моем лбу. — Да, — ответил Марут, — скоро настанет и наш черед. Мне очень хотелось видеть его лицо, чтобы знать, улыбается ли он при этих словах. Через час на рыночной площади, как и накануне, появился огонь, вокруг которого двигались смутные фигуры. К счастью, мы находились слишком далеко от площади, чтобы сквозь ночной мрак рассмотреть, что происходит там. Вдруг поднялся сильный ветер, какой обыкновенно предшествует в южных частях Африки буре с грозой. Он дул около получаса, потом затих. Молнии со всех сторон прорезывали небо, и при свете их мы видели почти все население города Симбы, толпившееся на площади и указывавшее на небо. Через несколько минут загремел сильный гром, что-то тяжелое ударилось о крышу около меня. Потом я почувствовал сильный удар в плечо, едва не сваливший меня с ног. — Скорей вниз! — воскликнул я. — Они бросают в нас камнями. Через десять секунд мы были в своей комнате. Я зажег спичку, коробка которых была оставлена у меня вместе с табаком и трубкой, и увидел кровь, струившуюся по лицу Марута. Но то, что было принято нами за камни, оказалось кусками льда в несколько унций весом. — Град! — сказал Марут со своей обычной улыбкой. — Это какая-то адская буря, — сказал я, — ибо кто когда видел подобный град? Спичка потухла. Дальше разговаривать было невозможно, так как из-за рева внезапно разразившейся бури с необыкновенным градом ничего не было слышно. К шуму бури и ударам града примешивались вопли и стоны людей. Я начал опасаться разрушения нашего дома, но он был прочно выстроен и стойко выдерживал бешеные натиски бури. Я уверен, что будь он крыт черепицей или железом, он ни за что бы не выдержал ее. Громадные градины разбили бы вдребезги черепицу и пробили бы железо, как бумагу. Со мной был подобный случай в Натале, когда убило градом мою лучшую лошадь. Но все-таки тот град был похож на снежинки по сравнению с этим. Град продолжался не более двадцати минут, из которых десять были наиболее яростными. Потом все утихло, небо совершенно прояснилось и взошла полная луна. Мы снова вышли на крышу. Она на несколько дюймов была покрыта осколками льда, все кругом, насколько мог охватить глаз, было скрыто под пеленой глубокого снега. Вскоре наступила нормальная температура, и снег с градом начал быстро таять, образуя потоки бегущей воды. Мы видели мечущихся лошадей, вырвавшихся из своих разрушенных бурей конюшен, находившихся в конце рыночной площади. Повсюду валялись тела убитых и раненных необыкновенным градом и сорванными бурей крышами домов. В момент начала бури на площади было около двух тысяч человек, собравшихся смотреть на жертвоприношение. — Дитя мало, но сила его велика! — торжественно сказал Марут. — Взгляни, вот его первое проклятие! Я посмотрел на него, но не стал спорить, так как он был глубоко убежден, что этот необыкновенный град и буря были посланы его Дитятей. Я не понимал только, как он мог верить во все это. Потом я припомнил, что подобное наказание постигло древних египтян в период их расцвета за то, что они не дали «народу уйти»[341]. Конечно, эти черные кенда были хуже, чем египтяне; и конечно, они нас не отпустят. Поэтому я перестал удивляться фантазиям Марута. Только на следующее утро мы смогли судить о размерах несчастья, выпавшего на долю черных кенда. От их жатвы, обещавшей быть богатой, не осталось и следа. Леса приняли настоящий зимний вид. На деревьях, протягивавших к небу свои оголенные ветки, не осталось ни одного листка. Огромное бедствие обрушилось на страну черных кенда.Глава 13
ДЖАНА
В это утро нам не принесли завтрак, вероятно потому, что некому было его принести. Но у нас от предыдущего дня осталось много разной пищи. Мы поели сколько могли и отправились посмотреть хижину, где помещались наши белые кенда. Она была совершенно пуста: последний ее обитатель исчез подобно своим товарищам. — Они убили их! — сказал я Маруту. — Нет, — ответил он, — их принесли в жертву Джане. То, что мы видели вчера на рыночной площади, было обрядом жертвоприношения. Теперь настал наш черед, Макумазан! В бессильной ярости вернулся я с Марутом в дом. В это время остатки тростниковых ворот распахнулись и в них показался король Симба в сопровождении жреца с простреленной ногой, на костылях, и остальной свитой, большинство которой было ранено вчерашним ураганом. В порыве охватившего меня гнева я забыл, что скрывал от черных кенда знание их языка. — Где наши слуги, убийцы? — закричал я, потрясая кулаками, прежде чем посетители собрались что-нибудь сказать. — Вы принесли их в жертву вашему дьявольскому богу? Если так, смотрите на плоды вашей жертвы! Куда делась ваша жатва? Чем вы будете жить в эту зиму? При этих словах уныние охватило их; перед их глазами уже стоял признак наступающего голода. — Зачем вы держите нас здесь? — продолжал я. — Или вы хотите еще худшего? Зачем вы теперь пришли сюда? — Мы пришли посмотреть, вернул ли ты, белый человек, жизнь нашему жрецу, которого убил своим колдовством, — мрачно ответил Симба. — Смотри, — сказал я, сбрасывая с мертвеца наброшенную мною накануне циновку, — смотри и будь уверен, что если ты не выпустишь нас, то прежде чем родится новая луна, все вы будете такими. Вот какую жизнь мы возвращаем злым людям, подобным тебе! Ужас охватил наших посетителей. — Господин, — сказал Симба, обращаясь ко мне с необыкновенным уважением, — твои чары слишком сильны для нас. Великое несчастье обрушилось на нашу землю. Сотни людей убиты ледяными камнями, вызванными тобой. Наша жатва истреблена. Со всех концов нашей земли приходят вести, что почти все овцы и козы погибли. Скоро мы должны будем умереть от голода. — Вы заслужили голодной смерти, — ответил я, — теперь дадите вы нам уйти? Симба нерешительно посмотрел на меня и начал шептаться с хромоногим жрецом. Из их совещания я не уловил ни слова. Хромоногий жрец был теперь без своей уродливой маски, но его типичное негритянское лицо стало еще отвратительнее. Видно было, что это хитрый, жестокий, способный на все человек. Я чувствовал, что по отношению к нам он внушает зло своему повелителю. Наконец Симба снова обратился ко мне. — Мы хотели, господин, удержать тебя и жреца Дитяти заложниками белых кенда, которые всегда были нашими злыми врагами и причинили нам много незаслуженного зла, хотя мы свято хранили договоры, заключенные нашими дедами. Однако твои чары слишком сильны для нас. Поэтому я решил отпустить вас. Сегодня на закате солнца мы отведем вас на дорогу, ведущую к броду реки Тавы, которая отделяет нашу землю от земли белых кенда. Вы можете идти куда хотите. Мы не желаем больше видеть ваши зловещие лица. При этих словах мое сердце чуть не выпрыгнуло от радости, которая, однако, была преждевременной. — Вечером! Почему не сейчас? — воскликнул я. — В темноте будет трудно переходить через незнакомую реку. — Она неглубокая, господин, и брод найти не трудно. Кроме того, отправившись сейчас, вы придете к реке, когда будет уже темно, а выйдя на закате солнца, вы к утру достигнете брода. Наконец, мы не можем проводить вас туда, пока не похороним мертвых. После этого Симба повернулся и, прежде чем я успел что-либо возразить, ушел в сопровождении остальных. В воротах хромоногий жрец обернулся на костылях и что-то прошептал своими толстыми, отвислыми губами; по всей вероятности, это было проклятие. — Теперь мы будем свободны! — весело сказал я Маруту, когда все черные кенда ушли. — Да, господин, — ответил он, — но где они намереваются дать нам свободу! Демон Джана живет в лесу на болотистых берегах реки Тавы и, говорят, неистовствует как раз по ночам. Я ничего не возразил, но подумал, что таинственный слон может оказаться далеко, а алтарь для жертвоприношений находится слишком близко. Час за часом я следил за солнцем, пока оно не начало скрываться за западным лесом. Как раз в это время у ворот показался Симба в сопровождении двадцати вооруженных всадников, один из которых вел двух лошадей для нас. Закончив сборы, заключавшиеся в припрятывании Марутом пищи в складки своего платья, мы вышли из проклятого дома, сели на лошадей и, окруженные конвоем, выехали на рыночную площадь, где стоял каменный жертвенник с торчащими из пепла обуглившимися костями. Потом мы ехали северной улицей города. У дверей домов стояли их обитатели, вышедшие посмотреть на наш отъезд. Ненависть была написана на их лицах; они сжимали кулаки и тихо шептали нам вслед проклятия. И неудивительно! Все они были вконец разорены; впереди их ждал голод. Они были убеждены, что мы — белый маг и пророк враждебного им Дитяти — навлекли на них все эти бедствия. Я думаю, если бы не стража, они разорвали бы нас на куски. При виде побитых градом полей и садов у меня сердце сжалось от жалости к их владельцам. Проехав несколько миль через опустошенные поля, мы въехали в лес. Здесь было так темно, что удивительно, как наши проводники находили друг друга. В этой темноте ужас охватил меня. У меня явилась мысль, что нас привели сюда для того, чтобы предательски убить. Каждую минуту я ожидал удара ножом в спину. Я уже собрался было дать шпоры лошади и попробовать бежать, но оставил эту идею, так как меня со всех сторон окружал конвой, и, кроме того, нехорошо было покидать Марута. Делать было нечего; оставалось ждать, чем все это кончится. Наконец мы выехали из леса. Уже взошла луна, и при свете ее мы увидели, что находимся в болотистой местности с растущими кое-где отдельными деревьями. Здесь наш конвой остановился. — Слезайте с лошадей и идите свои путем, злые люди, — угрюмо сказал Симба, — дальше мы не пойдем с вами. Идите по тропинке, она приведет вас к озеру. Перейдя через озеро, вы к утру достигнете реки, за которой живут ваши друзья. Но помните, эту дорогу охраняет некто, с кем опасно встречаться. Едва он кончил, его люди стащили нас с лошадей, и через минуту все они исчезли во мраке, оставив нас одних. — Теперь, господин, мы должны идти дальше, — сказал Марут, — ибо если мы останемся здесь, то днем Симба и его люди вернутся сюда и убьют нас. — Тогда вперед! — сказал я. — Но на что намекал Симба, говоря, что «некто охраняет этот путь». — Я думаю, что он подразумевал Джану, — со стоном ответил Марут. — Будем надеяться, что Джана далеко. Будь бодрее, Марут! Мы, наверно, не встретим ни одного слона в этих местах. — Нет, господин, здесь бывает много слонов, — ответил Марут, указывая на следы на земле, — говорят, что они ходят умирать к озеру и это — один из путей, по которому они идут на смерть. Это — место, по которому не смеет ходить ни одно живое существо. — Ох, — воскликнул я, — значит то, что я видел в видении в Англии, было правдой? — Да, господин. Мой дядя Харут однажды, когда был молодым, заблудился на охоте и видел то, что его ум показывал тебе в видении и что мы увидим теперь, если доживем до того. Марут был прав; много слонов проходило этой тропой, а один из них совсем недавно. Я, опытный охотник на этих животных, не мог ошибиться в этом. Мы шли часа два, в продолжение которых встретили всего одно живое существо, большую сову, пролетевшую над самыми нашими головами. Эта сова, по словам Марута, была «шпионом Джаны». Мы достигли вершины подъема, откуда нашим глазам открылся печальный пейзаж, уже знакомый мне по видению в Регнолл-Кастле. Он был еще пустыннее, чем представлялся мне тогда. Впереди лежало темное, спокойное озеро, поросшее по краям тростником. Вокруг него на значительном протяжении тянулся тропический лес. На востоке от озера лежала каменистая равнина. Вид этой местности наполнил мою душу необъяснимым страхом. Вспоминая подробности своего видения, я содрогался от одной мысли о необходимости пройти по берегу этого озера. Я осмотрелся кругом. Если идти налево, мы либо упремся в озеро, либо должны будем идти вдоль него, пока не достигнем леса, где наверняка заблудимся. Направо вся земля была покрыта терновником и густой травой, непроходимой для пешеходов, особенно в ночное время. Я оглянулся назад. Там, в нескольких сотнях ярдов от нас, за низкими мимозами, смешанными с растениями, похожими на алоэ, появилось и исчезло что-то, похожее на хобот слона. Тогда, отчаявшись сделать наилучший выбор и желая поскорей прийти к определенном решению, мы начали спускаться к озеру слоновой тропой. Минут через десять мы пришли к его восточному концу, где шепот тростника, колеблемого ночным ветром, придавал некоторую жизнь этому месту. Кругом была бесплодная земля, на которой, казалось, ничто не могло произрастать. Повсюду лежали останки многих сотен слонов, из которых некоторые пали уже много лет назад, некоторые совсем недавно. Судя по клыкам, это были все старые животные. Их кости покрывали около четверти акра, и если бы удалось унести отсюда только хорошо сохранившиеся клыки, то можно было бы сделаться очень богатым человеком. Не будь я старый охотник, Аллан Квотермейн, если, избегнув теперь опасности, я не попытаюсь сделать это! Потом мое внимание было привлечено тем, что я видел в видении — умирающим недалеко от нас от старости слоном. Это престарелое, исхудавшее животное оглядывалось кругом, ища удобного места, и, найдя его, остановилось на минуту. Потом умирающий слон поднял свой хобот, трижды протрубил и, опустившись на колени, затих. По-видимому, он был мертв. Я отвел от него глаза и вдруг ярдах в пятидесяти за ним увидел на скале очертания того самого дьявольского слона, которого видел в видении! Ох, что это было за животное! Объемом и высотой оно вдвое превосходило самых больших слонов, виденных мною доселе. Это был огромный до сверхъестественного представитель особенной породы, переживший, вероятно, Всемирный Потоп. Его черно-серые бока были испещрены шрамами. Один из его чудовищных клыков ярко блестел при свете луны; другой, сломанный наполовину, был неправильной формы, будучи отогнут не вверх, а книзу и немного вправо. Перед нами стоял настоящий библейский Левиафан![342] Я присел на корточки за покрытым мхом скелетом слона и, глядя на это необыкновенное животное, мечтал о крупнокалиберном ружье. Что сделалось с Марутом — я не видел; кажется, он лежал простершись на земле. В продолжение минуты, или более того, разные мысли приходили мне в голову. Я думал, что трубный звук, произведенный умирающим, привлек сюда этого гиганта, который, вероятно, был царем среди слонов, призывавших его в час своей кончины. Постояв с минуту и потягивая воздух, Джана (я буду так называть его) направился к тому месту, где лежал слон, которого я считал уже мертвым. На самом деле он был еще жив и при приближении Джаны поднял хобот, как бы приветствуя его. Но Джана, так же, как было в моем видении, бросился на умирающего и ударом в бок прикончил его. Сделав это, не знаю, от злобы ли, или из желания прекратить страдания умирающего, он остановился и как будто задумался. В это время я, к своему удовольствию, заметил, что ветер, тихо колебавший тростник у озера, дул по направлению от Джаны к нам. Но точно по злобе судьбы, ярдах в ста справа от нас, среди камней промелькнула какая-то тень, похожая на слона. Джана насторожил свои широкие уши, задрожал всем своим огромным телом и начал тщательно обнюхивать воздух. — Господи! — подумал я. — Он почуял нас… Чтобы утешить себя, я надеялся, что наше присутствие еще не открыто. Но напрасно! Джана был стреляный воробей. Он захрюкал и двинулся, как товарный поезд, по направлению к нам, тщательно обнюхивая со всех сторон землю и воздух. Десять раз я прицеливался в него из воображаемого ружья, делая это совершенно автоматически. — Что будет со мною? — думал я в это время. — Пронзит ли он меня своими клыками, подбросит ли высоко в воздух или раздавит тяжелыми ногами? — Жрецы Джаны велели ему убить нас, — дрожащим шепотом сказал Марут, — но прежде чем умереть, я хочу сказать, что леди, жена лорда… — Тише, — прервал я его, — Джана услышит нас. Я посмотрел на Марута и только теперь заметил, какая перемена произошла в его лице. На нем уже не было обычной улыбки. Оно побледнело и осунулось, как у покойника, умершего по крайней мере три дня тому назад. Я был прав. Джана почуял нас. Он шел прямо к нам, вытянув вперед свой чудовищный хобот. Марут не мог вынести этого зрелища. Он вскочил и бросился бежать к озеру, надеясь найти спасение в воде. Ох, как он бежал! За ним со скоростью паровоза помчался Джана, трубя в свой хобот. Достигнув озера, Марут бросился в воду и поплыл от берега. — Теперь, — думал я, — ему удалось спастись, если он не попадется крокодилам. Но Джана был тоже хорошим пловцом. С сильным всплеском он бросился в воду и поплыл за Марутом. Увидев это, Марут быстро повернул к берегу, выиграв немного времени этим маневром. Выбравшись на берег и лавируя между скалами, Марут, к великому моему ужасу, побежал прямо ко мне. Не знаю, сделал ли он это случайно или в безумной надежде найти около меня защиту… Вдруг он остановился и, повернувшись лицом к настигающему его Джане, крикнул ему что-то вроде проклятия, в котором я разобрал лишь одно слово: Дитя! Странно, но это произвело известный эффект. Джана остановился в нескольких шагах от Марута и, казалось, понял эти слова, которые привели его в необыкновенную ярость. Издавая ужасные крики, он бешено хлестал себя хоботом по бокам, злобно вращая своими красными глазами. Пена била из его открытого рта. Потом он бросился вперед… На мгновение я закрыл глаза, и, когда я их снова открыл, Марут был уже высоко в воздухе; в следующий момент он упал вниз, с ужасным звуком ударившись о землю. Джана подошел к нему и, убедившись, что он мертв, осторожно поднял его своим хоботом. Я молил Бога, чтобы он поскорей удалился со своей жертвой. Но тщетно! Медленно шагая и покачивая тело бедного Марута, как нежная кормилица ребенка, чудовище направилось прямо ко мне, вероятно все время чуя мое присутствие. В продолжение некоторого времени, показавшегося мне целым столетием, слон стоял надо мной, как бы изучая меня. Озерная вода освежающей струей лилась из его хобота прямо мне на спину. Если бы не она, я наверняка лишился бы чувств. Я счел наилучшим притвориться мертвым, надеясь, что, может быть, тогда Джана не тронет меня. Чуть-чуть приоткрыв один глаз, я видел, как он поднял надо мной свою огромную лапу, и мысленно простился с жизнью. Однако, слегка коснувшись моей спины, он поставил свою ногу обратно на землю. Потом, бережно положив рядом со мной останки Марута, Джана начал ощупывать меня с головы до ног концом своего хобота. Дойдя до ног, он, точно железными щипцами, ущипнул меня, вероятно чтобы убедиться, не притворяюсь ли я. Я не пошевелился, хотя вместе с куском материи он оторвал изрядную порцию моей собственной кожи. Это, казалось, озадачило Джану; он поднял конец своего хобота, как бы желая рассмотреть оторванный лоскуток при свете луны. Результат осмотра получился неудовлетворительный (на материи, вероятно, была кровь); Джана поднял уши и уже приготовился покончить со мной… Вдруг в нескольких ярдах от меня прогремел выстрел. Я посмотрел вверх и увидел кровь, струившуюся из левого глаза чудовища, куда, очевидно, попала пуля. Страшно завыв от боли, Джана повернулся и бросился бежать…Глава 14
ПОГОНЯ
Кажется, на минуту или две я потерял сознание. По крайней мере, я припоминаю странный, длительный сон. Мне грезилось, что все лежавшие вокруг меня бесчисленные скелеты слонов поднялись, выстроились в ряд и преклонили передо мной колена, так как я был единственным человеком, избегнувшим смерти от Джаны. Потом сквозь обрывки этого сновидения я услышал голос Ханса, которого напрасно считал погибшим. — Если баас жив, — говорил он, — пусть он проснется, прежде чем я окончу заряжать Интомби, так как надо торопиться уходить отсюда. Кажется, я попал Джане в глаз; но это очень большое животное, а пуля из Интомби слишком мала, чтобы убить его. Кроме того, трудно ждать, что кто-либо из нас снова попадет ему в другой глаз. Я поднялся и увидел перед собой Ханса, выглядевшего по-старому, только немного грязнее обыкновенного. Он только что окончил заряжать «Интомби». — Зачем ты здесь, Ханс? — спросил я его глухим голосом. — Конечно, затем, чтобы спасти бааса от дьявола Джаны, — ответил старый готтентот и, прислонив ружье к скале, опустился рядом со мной на колени, обхватил меня руками и начал плакать, приговаривая: — Как раз вовремя, баас! Слава Богу, я подоспел как раз вовремя. Теперь надо поскорей уходить отсюда. У меня вон там, за большим камнем, стоит привязанный верблюд. Он может нести на себе двоих, потому что отдохнул за четыре дня и вдоволь поел травы. Этот демон Джана наверняка скоро вернется сюда. Я ничего не возразил, но только посмотрел на бедного Марута, лежавшего как будто во сне. — Ох, баас, — сказал Ханс, — о нем нечего беспокоиться: у него сломана шея и он совершенно мертв. Но это хорошо, — весело прибавил он, — потому что верблюд не смог бы нести троих. Кроме того, если Марут останется здесь, быть может, Джана, вернувшись сюда, начнет играть им вместо того, чтобы преследовать нас. Бедный Марут! Какой реквием пел над ним Ханс! Бросив последний взгляд на останки этого несчастного человека, к которому я успел привязаться за время нашего плена, я оперся на плечо старого Ханса, так как чувствовал себя слишком слабым, чтобы идти самостоятельно, и пошел с ним через плато по направлению к востоку от озера, лавируя между камнями и бесчисленными скелетами слонов. В двухстах ярдах от места трагедии находилась группа скал, похожая на ту, откуда появился Джана, только немного поменьше ее. За ней мы нашли стоящего на коленях верблюда, привязанного к скале. По дороге Ханс вкратце рассказал мне свою историю. Застрелив одного из вождей черных кенда, он счел за лучшее остаться на свободе, нежели разделять с нами плен, и решил, что в случае, если я буду убит, он отомстит моим убийцам. Таким образом, он, как было уже описано, бежал незамеченным и до наступления ночи укрывался на склоне холма. Потом, при свете луны, он следовал за нами, обходя деревни, и наконец нашел убежище в пещере недалеко от города Симбы, в лесу, где никто не жил. Здесь по ночам он пас своего верблюда, пряча его в пещере при наступлении зари. Дни он проводил, сидя на высоком дереве, откуда мог наблюдать за всем происходившим в городе. Питался он хлебными зернами, которые собирал на соседнем поле. Кроме того, у седла его верблюда оказался мешок с некоторым количеством провизии. Ханс видел все, что происходило в городе, включая опустошения, произведенные бурей с градом, от которой он со своим верблюдом укрылся в пещере. Видя, что нас с Марутом увозят из города, он оседлал верблюда и отправился следом за нами, скрываясь в лесу. Оставивший нас конвой на обратном пути проехал вблизи него. Ханс подслушал, что мы с Марутом обречены погибнуть от Джаны, которому уже принесены в жертву пленные белые кенда. Потом он последовал за нами. По всей вероятности, оглядываясь назад, я ошибочно принимал мелькавшую за деревьями голову верблюда за хобот слона. Ханс видел, как мы спустились к берегу озера и все последовавшее за этим. Когда Джана направился к нам, он незаметно пробрался вперед в безумной надежде тяжело ранить чудовище пулей из своего маленького ружья. Он уже собрался выстрелить в тот момент, когда Марут бросился в воду, но тогда было трудно прицелиться в наиболее уязвимое место. Такой случай представился лишь тогда, когда Джана уже занес надо мной свою ногу и подставил под выстрел левый глаз. Только пуля, вопреки надежде Ханса, не достала до мозга. Но все-таки, выбив Джане левый глаз, она причинила ему такую сильную боль, что он забыл обо мне и поспешил поскорее убраться. Таков был рассказ старого готтентота, который он передал мне на своем лаконичном голландском наречии. Я не знаю, что было бы со мною, если бы Ханс не подоспел вовремя. Подойдя к верблюду, мы на минуту замешкались около него. Я выпил для подкрепления глоток спирта из фляги, которая нашлась в мешке, привязанном к седлу верблюда. Несмотря на свое сильное пристрастие к крепким напиткам, Ханс сохранил ее, рассчитывая, что со временем она может пригодиться мне, ею господину. Мы сели на верблюда; Ханс впереди, чтобы править им, я позади на овечьих шкурах, оказавшихся, к счастью, довольно мягкими, так как щипок Джаны причинял мне сильную боль. Мы поехали слоновой тропой, надеясь, что она приведет нас к реке Таве. Скоро кладбище слонов осталось далеко позади нас; за ним и озеро скрылось из виду. Тропинка шла вверх к подобию хребта, лежавшего в двух или трех милях впереди нас. Мы достигли хребта без особенных приключений. По пути нам встретилась престарелая слониха, направлявшаяся, вероятно, к месту своего последнего успокоения. Не знаю, кто больше испугался: старая слониха или наш верблюд. Оба бросились друг от друга в разные стороны, и мы едва не очутились на земле. Но вскоре наш верблюд оправился от своего испуга. С вершины подъема перед нами открылась песчаная равнина, кое-где поросшая травой. Милях в десяти впереди при свете луны блестели воды широкой реки. Мы снова двинулись вперед. Проехав около четверти мили, я случайно оглянулся назад. Господи, что я увидел! На самой вершине подъема, отчетливо обрисовываясь на небе, стоял Джана с поднятым кверху хоботом. В следующий момент он яростно затрубил. — Allemagte![343] — воскликнул Ханс. — Старый дьявол заметил нас своим последним глазом. Он следовал за нами по пятам. — Вперед! — ответил я, пришпоривая верблюда. Скачка началась. У нас был хороших беговой верблюд. Он действительно был, как говорил Ханс, сравнительно свежим и, кроме того, чувствовал близость родных равнин. Он мчался как ветер, неся на себе ношу, фунтов на двести превосходящую привычную для него. Вероятно, кроме упомянутых причин его подгоняла близость преследовавшего нас слона. Милю за милей неслись мы по равнине. Джана следовал за нами, как крейсер за маленькой канонеркой. С каждой новой сотней ярдов он на несколько ярдов приближался к нам. Через полчаса, показавшихся нам целой неделей, когда до реки уже оставалось не более мили, он бежал ярдах в пятидесяти за нами. Я оглянулся назад; при свете луны Джана представился мне величиной с целый дом. — Мы должны уйти от него, — сказал я, глядя на широкую реку, которая была уже совсем близко. — Да, баас, — неуверенно ответил Ханс, — верблюд у нас хороший; бежит он очень быстро, потому что слышит запах своих за рекой, не говоря уже об опасности за собой. Но этот дьявол Джана бежит еще быстрее его. Я вижу на пути камни; это плохо для верблюда. Не знаю, умеет ли он плавать, но мы видели, что Джана хорошо умеет делать это. Не попробовать ли, баас, ранить его в хобот или в колено? — Замолчи, глупец, — раздраженно сказал я, — какой толк стрелять через плечо в огромного слона из ружья, годного только на козла. Лучше погоняй верблюда. Увы! Ханс был прав. Берег и дно реки были усеяны камнями, и верблюд, столь быстрый в беге по песку, оказался беспомощным среди камней. Но для Джаны они не были большим препятствием. Когда мы достигли берега, он был не более чем в десяти ярдах от нас. Я ясно видел кровь, струившуюся из того места, где у него прежде находился левый глаз. При виде пенящегося, хотя и неглубокого потока, наш верблюд, не привыкший к воде, остановился в нерешительности. К счастью, в этот момент Джана снова затрубил в свой хобот. Это побудило нашего верблюда двинуться вперед: слон для него был страшнее воды. Он медленно шел, спотыкаясь о камни, устилавшие дно реки, которая в этом месте была не более четырех футов глубиной. Джана был уже в пяти ярдах от нас. Я обернулся назад и выстрелил в него из нашего маленького ружья. Попал я или нет — не могу сказать, но слон остановился на некоторое время, вероятно вспомнив действие подобного звука на свой глаз. Потом он снова, как паровоз, двинулся за нами. Когда мы были уже на середине реки, случилось неизбежное. Верблюд споткнулся и упал, и мы оба через его голову полетели в бегущий поток. Все еще сжимая ружье в руке, я бросился вброд к противоположному берегу, держась за Ханса свободной рукой. Почти в тот же момент Джана настиг верблюда. Он пронзил его своими клыками, топтал ногами и, обхватив хоботом его шею, почти вытащил его из воды. Тем временем мы выбрались из воды на противоположный берег и взобрались на высокое дерево. Там, футах в тридцати от земли, мы сидели, затаив дыхание, и ждали, что будет дальше. Покончив с верблюдом, Джана последовал за нами и без труда отыскал нас. Некоторое время он ходил вокруг дерева, как бы обдумывая, что предпринять. Потом, обхватив хоботом ствол дерева, он попытался вырвать его из земли. Но это дитя леса, уже сотни лет оказывавшее сопротивление бурям и воде, только сотрясалось. Признав эту попытку бесполезной, Джана попробовал подрыть клыками корни дерева. Но и здесь он потерпел неудачу, так как они росли среди камней. С глухим яростным ворчанием Джана сделал третью попытку. Став на задние ноги, он всею тяжестью своего огромного тела обрушился на ствол дерева передними ногами футах в двенадцати — тринадцати над землей. Удар был очень силен. В первый момент я думал, что дерево будет вырвано с корнем или разломится пополам. Но, слава Богу, оно устояло, хотя сотряслось так сильно, что мы с Хансом едва не полетели на землю, как яблоки осенью. Я думаю, что свалился бы, если бы меня не удержал ловкий как обезьяна Ханс, умевший держаться ногами также хорошо, как и руками. Трижды Джана повторял этот маневр. На третий раз я, к своему ужасу, увидел, что корни дерева начали ослабевать. Уже слышался зловещий треск. К счастью, Джана не заметил этих симптомов. Он оставил свой план и задумчиво стоял, помахивая хоботом. — Ханс, — прошептал я, — заряди поскорей ружье. Я выбью ему другой глаз. — Порох подмочен, баас, — простонал Ханс, — вода попала в него, когда мы упали в реку. Через несколько минут Джана решил сделать последнюю попытку. Подойдя вплотную к дереву, он стал на задние ноги, передними уперся в ствол и, вытянув вверх свой хобот, начал обламывать ветви и сучья, которые росли между ним и нами. — Я думаю, что он не достанет до нас, если не принесет камень и не встанет на него, — заметил я. — Ох, баас, не надо говорить этого громко, — ответил Ханс, — иначе Джана подслушает нас и действительно принесет камень. Хотя это казалось вздором, но кто знает, быть может, это чудовище понимало человеческую речь. Мы взобрались как можно выше и ждали, что будет дальше. Покончив с ветками, Джана начал вытягивать по направлению к нам свой длинный хобот. Фут за футом он приближался к нам и скоро был всего в нескольких дюймах от моих ног и войлочной шляпы Ханса. Мгновение — и шляпа исчезла в красном отверстии рта Джаны. Я полагаю, что он проглотил ее, так как она не возвратилась обратно. Потеря шляпы привела Ханса в ярость. Осыпая Джану проклятиями, он вытащил свой нож и приготовился. Снова длинный коричневый хобот потянулся к нам. Очевидно, Джана теперь приспособился лучше, так как хобот приблизился к нам на несколько дюймов ближе прежнего. Конец его, как змея, обхватил сук, на котором сидел я. Ханс быстро наклонился, нож блеснул на восходящем солнце, и в одно мгновение конец хобота, как бабочка булавкой, был пригвожден к дереву. Джана, издавая жалобные крики, пробовал осторожно освободить свой хобот. Но тщетно! Ханс крепко держал рукоятку ножа. Наконец Джана энергично рванулся назад и вырвал свой хобот, разрезав его конец пополам и оставив нож в дереве. Потом он взял конец хобота в рот, начал сосать его, как сосут обрезанный палец, и, рыча в бессильной ярости, бросился в реку, перешел ее вброд и скоро исчез из вида. Посылая вслед Джане проклятия, Ханс требовал у него возвращения своей шляпы. Вероятно, во всю свою жизнь я не видел зрелища более приятного, чем мелькание хвоста удалявшегося чудовища. — Теперь, баас, — смеясь говорил Ханс, — старый дьявол получил достаточно, чтобы не забыть нас. Я думаю, нам следует поскорей уйти отсюда, прежде чем он одумается и вернется назад с длинной палкой, чтобы сбить нас с дерева. Мы двинулись в путь с поспешностью, какую только допускали мои застывшие члены и общее состояние. К счастью, у нас не было сомнения относительно выбора пути, так как сквозь утренний туман на горизонте ясно обрисовывались очертания холма, который белые кенда называли «Священной Горой» или «Домом Дитяти». Казалось, что до него не более двадцати миль, но в действительности оказалось значительно больше, так как часа через два пути мы мало приблизились к нему. Это был ужасный путь. Силы мои были окончательно исчерпаны всеми пережитыми ужасами. К тому же рана от щипка Джаны, воспалившаяся от верховой езды на верблюде, причиняла мне нестерпимую боль. Первый десяток миль мы шли необитаемыми местами. Потом нам стали попадаться стада мелкого скота и верблюдов; их пастухи, по всей вероятности, скрывались в высокой траве. После этого мы шли полями, засеянными злаками, которые, как я заметил, совершенно не пострадали от града, ограничившегося, очевидно, только землей черных кенда. Дальше мы увидели отдельные хижины. Их обитатели вскоре заметили нас и бежали, как бы охваченные испугом. Наконец мы подошли (я медленно плелся, опираясь на плечо Ханса) на расстояние ружейного выстрела к огороженной деревне. Я полагаю, что жители ее были предупреждены беглецами из хижин о нашем приближении, потому что человек тридцать мужчин, вооруженных копьями и другим оружием, кольцом окружили нас с явно враждебными намерениями. Я закричал им, что мы друзья Харута и всех почитателей Дитяти. Нам ответили, что мы лжецы, ибо из страны черных кенда, поклонников демона Джаны, не могут прийти друзья. Я попробовал убедить их, что мы менее всех в мире являемся почитателями Джаны, который преследовал нас в продолжение нескольких часов, но они слушать нас не хотели. — Вы шпионы Симбы, — кричали они, — запах Джаны на вас (это была, пожалуй, правда). Мы убьем тебя, белый козел, и тебя, маленькая желтая обезьяна! Из земли черных кенда к нам могут прийти только враги! — Если убьете нас, — ответил я, — вы навлечете на себя проклятие Дитяти. Голод, град и войну! Эти слова произвели на нападавших некоторое впечатление. По крайней мере, они на время оставили свое намерение убить нас. Наконец, после некоторого колебания, сторонники убийства одержали верх, и все окружавшие нас воины начали плясать, потрясая копьями и крича, что мы должны умереть как пришельцы от черных кенда. Я сел на землю, так как совсем выбился из сил. В это время мне было совершенно безразлично, жить или умереть. Ханс с ножом в руках стоял около меня, осыпая белых кенда теми же проклятиями, какими осыпал Джану. Постепенно они все ближе и ближе подходили к нам. Я уже закрыл глаза, чтобы не видеть блеска оружия, которое должно было поразить нас; вдруг восклицание Ханса заставило меня снова открыть их. Бросив взгляд в том направлении, куда он указывал мне протянутым ножом, я увидел отряд всадников на верблюдах, поспешно мчавшихся к нам. Впереди их в белой одежде, развевавшейся по ветру, ехал бородатый предводитель, в котором я узнал Харута, кричавшего и размахивавшего копьем. Нападавшие на нас тоже увидели всадников и опустили оружие, повинуясь восклицанию Харута, которого я не разобрал. Последний направил своего верблюда прямо на одного из нападавших, бывшего, по-видимому, предводителем остальных, и в гневе ударом копья нанес ему рану в плечо, заставив свалиться на землю. — Собака! — закричал при этом Харут. — Ты хотел причинить зло гостям Дитяти! Дальше я ничего не слышал, потому что лишился чувств.Глава 15
ОБИТАТЕЛЬ ПЕЩЕРЫ
После этого мне казалось, что я спал долгим, беспокойным сном. Я не могу припомнить тех странных вещей, которые пригрезились мне. Наконец я открыл глаза и увидел, что лежу в большой прохладной комнате восточного характера на низкой кровати, возвышавшейся дюйма на три над полом. В комнате не было окон, заменявшие их отверстия в стенах прикрывались висячими циновками, которые легко можно было открыть. В такое оконное отверстие я увидел покрытый лесом склон лежавшего недалеко холма. Он напомнил мне нечто, связанное с Дитятей. Что именно — я не мог вспомнить. Размышляя об этом, я услышал осторожныешаги и, обернувшись, увидел Ханса, вертевшего в руках новую соломенную шляпу. — Ханс, — сказал я, — где ты взял это новую шляпу? — Мне дали ее здесь, — ответил он. — Баас помнит, что дьявол Джана съел мою старую? Тут память постепенно начала возвращаться ко мне. Ханс продолжал вертеть свою шляпу в руках, что немного раздражало меня. Я велел ему надеть ее на голову и спросил, где мы находимся. — В городе Дитяти, куда бааса перенесли после того, как он едва не умер. Это очень хороший город. Здесь много пищи, хотя баас уже три дня спал и не ел ничего, кроме нескольких ложек молока и супа, которые баасу влили в горло, когда он на минуту очнулся. — Я был сильно утомлен и нуждался в продолжительном покое, Ханс. А теперь я чувствую голод. Скажи мне, здесь ли лорд Регнолл и Бена или они погибли? — Они живы и здоровы, баас, и все наше имущество цело. Они были с Харутом, когда он выручил нас, но баас потерял сознание и потому не видел их. С тех пор они ухаживали за баасом. В это время в комнату вошел Сэвидж, принесший мне на деревянном подносе суп. — Добрый день, сэр! — приветствовал он меня. — Я очень рад снова видеть вас с нами, особенно после того, как мы считали вас и Ханса мертвыми. Я поблагодарил Сэвиджа и, съев суп, попросил его приготовить мне что-нибудь посущественнее, так как почти умирал от голода. Он ушел исполнять мою просьбу. Ханса я услал за лордом Регноллом. После их ухода пришел Харут. Он важно поклонился мне и уселся по-восточному на циновку. — Должно быть, сильный дух живет в тебе, мой господин Макумазан, — сказал он, — ибо ты жив, хотя мы были уверены в твоей смерти. — Да, ты ошибся, мой друг Харут. Твоя магия мало помогла тебе. — Однако магия, как ты это называешь, сделала свое дело, Макумазан. Я был ранен в колено и так утомлен, что в первые два дня после прибытия сюда не мог взойти на гору и обрести свет от глаз Дитяти. Но на третий день я сделал это, и оракул рассказал мне все. Я поспешно сошел с горы, собрал людей и как раз вовремя выехал навстречу тебе. Те глупцы уже поплатились за намерением причинить тебе зло, господин. Да, Джана оказался сильнее моего брата и остальных. Только ты и твой слуга смогли одолеть его. — Это не так, Харут. Скорее он одолел нас. Нам удалось только бежать от него, выбив ему глаз и поранив конец хобота. — И это много по сравнению с тем, что удалось сделать другим в продолжение многих поколений. Но это только начало. Конец Джаны близок, и падет он от твоей руки. — Значит, он появляется на земле белых кенда? — Да, Макумазан. Он или его дух — не знаю кто. Дважды в своей жизни я видел его на Священной Горе, но как он приходит и уходит — никто этого не знает. Но я скажу: пусть причинивший Джане зло остерегается его! — Пусть Джана тоже остерегается меня, если я встречу его с хорошим ружьем в руках. Но вот что, Харут. Перед гибелью твой брат Марут начал говорить мне что-то о жене лорда Регнолла. Тогда мне было не до этого, но из его слов я заключил, что леди Регнолл находится на Священной Горе. — Либо ты не понял Марута, мой господин, либо мой брат бредил от страха, — отвечал Харут, лицо которого при этом приняло каменное, бесстрастное выражение. — Прекрасной леди нет на Священной Горе. Но позволь мне сказать, что никто, кроме жрецов Дитяти, не может ступить на эту гору. Кто попробует сделать это, тот умрет, ибо гору охраняет страж, который страшнее Джаны. Не спрашивай меня о нем: больше я ничего не скажу. Но если ты и твои друзья дорожите жизнью, не пытайтесь даже взглянуть на этого стража! Видя, что продолжать разговор об этом бесполезно, я перевел его на град, побивший поля черных кенда. — Я знаю об этом, — сказал Харут, — это — первое проклятие Дитяти, моими устами обещанное Симбе и его народу. Вторым будет голод, а он уже близок, ибо запасы хлеба у черных кенда приходят к концу и большая часть их скота побита градом. — Не имея запаса, они попытаются напасть на вашу страну, Харут, и отобрать у вас хлеб. — Да, господин, они конечно попытаются сделать это, и тогда исполнится третье проклятие, проклятие войны. Все это предусмотрено, Макумазан, и ты здесь для того, чтобы помочь нам в этой войне. В вашем багаже есть много ружей, пороху и свинца. Вы должны научить наш народ стрелять из ружей, чтобы мы могли уничтожить черных кенда. — Ну нет, — спокойно ответил я, — я пришел к вам, чтобы убить большого слона и получить за это слоновую кость, а не для того, чтобы сражаться с черными кенда. Этого уж довольно с меня. Кроме того, ружья принадлежат не мне, а лорду Регноллу, который, быть может, назначит за них свою цену. — С лорда Регнолла, пришедшего сюда против нашей воли, мы сами можем спросить плату за сохранение его жизни. Пока прощай, мы поговорим потом, так как ты еще болен и слаб. Но прежде чем уйти, я еще раз повторяю: если вы хотите по-прежнему глядеть на солнце, не пытайтесь ступить ногой в лес, растущий на Священной Горе! С этими словами он поднялся, важно поклонился мне и ушел, оставив меня наедине со своими мыслями. Вскоре после этого вернулись Сэвидж и Ханс и принесли мне превосходно приготовленный обед. Я ел с большим аппетитом. Едва остатки еды были унесены, как пришел лорд Регнолл. Мы горячо поздоровались, как люди, уже потерявшие надежду встретиться на этом свете. Я спросил, что они делали все это время. Лорд Регнолл ответил, что ничего достойного упоминания. Город мал, жителей в нем не более двух тысяч. Занимаются они земледелием и разведением верблюдов. Единственным человеком, с которым они могли объясниться, был Харут, говоривший на ломаном английском языке. Он говорил, что гора — священное место, посещаемое только жрецами. В городе не видно этих жрецов. Но на склоне горы бывают видны люди, которые пасут в небольшом количестве овец и коз в лесу, растущем на этом склоне. Кто живет на горе — неизвестно. Лорд Регнолл печально прибавил, что он уже потерял надежду найти здесь какой-либо след своей утраченной жены. Я повторил ему слова Марута, конца которых я, к сожалению, не слышал. Это, казалось, влило в него новую жизнь. Но что предпринять в дальнейшем? Прошла целая неделя. За это время я почти совсем оправился. Только одно обстоятельство оставляло меня по-прежнему беспомощным. Рана, причиненная щипком Джаны, зажила, но воспаление ее задело нерв левой ноги, некогда поврежденной львом. Это вызывало такую боль, что я принужден был оставаться в постели и довольствоваться тем, что мою кровать выносили в небольшой сад, окружавший построенный из глины выбеленный дом, в котором мы жили. Там я лежал целыми часами, глядя на Священную Гору, возвышавшуюся ярдах в пятистах от нас. Начиная от подошвы, на протяжении мили ее склон был покрыт травой с разбросанными кое-где отдельными деревьями. В бинокль было видно, что в одном месте он образует отвесную стену, идущую футов на сто в высоту вокруг всей горы. За стеной начинался густой лес, покрывавший гору до самой вершины. Однажды, когда я был поглощен рассматриванием горы, в сад внезапно вошел Харут. — Не правда ли, дом бога красив? — сказал он. — Очень, — ответил я, — но как взбираются на гору по этой отвесной стене? — По ней невозможно взобраться, но есть дорога, по которой ходят на гору поклонники Дитяти. Но я уже говорил тебе, Макумазан, что все чужестранцы, пытающиеся идти этой дорогой, находят смерть. Пусть попробуют те, кто не верит мне, — многозначительно прибавил он. Потом, осведомившись о моем здоровье, он сообщил, что до него дошли слухи о приближающемся голоде в земле черных кенда. — Скоро они захотят собрать вашу жатву своими копьями, — заметил я. — Да, Макумазан. Поэтому поправляйся скорее, чтобы быть в состоянии прогнать этих воронов ружьями. Через четырнадцать дней в нашей земле должна начаться жатва. Я должен уйти на гору дня на два. Прощай и не бойся. Во время моего отсутствия мой народ будет доставлять вам пищу и оберегать вас. Я вернусь на третий день. После отъезда Харута глубокое уныние охватило нас. Приуныл даже Ханс. Что касается Сэвиджа, он выглядел, точно осужденный на смертную казнь. Я попробовал ободрить его и спросил, что с ним. — Не знаю, мистер Квотермейн, — ответил он, — мне кажется, что я навсегда останусь в этой проклятой дыре. — Но, по крайней мере, здесь нет змей, — пошутил я. — Нет, мистер Квотермейн. Я их еще не встречал, но они постоянно по ночам ползают около меня. Всякий раз, когда я встречаюсь с этим пророком, он говорит мне о них. С этими словами Сэвидж ушел, чтобы скрыть свое сильное волнение. В этот вечер вернулся Ханс, которого я послал обойти гору вокруг и узнать, что она представляет с другой стороны. В этом предприятии он потерпел полную неудачу. Пройдя несколько миль, он встретил людей, приказавших ему вернуться обратно. Они так угрожающе вели себя, что если бы не ружье «Интомби», которое Ханс взял с собой под предлогом охоты на козлов и к которому белые кенда питали больше уважение, они убили бы его. Вскоре после этой неудачной попытки мы, серьезно обсудив положение дел, пришли к определенному решению, о котором я скажу дальше. Если память не изменяет мне, как раз по возвращении Харута со Священной Горы произошел весьма интересный случай. Наш дом был разделен на две комнаты перегородкой, идущей почти до самой крыши. В левой комнате спали Регнолл с Сэвиджем, в правой Ханс и я. На рассвете меня разбудил возбужденный разговор Сэвиджа и его господина. Через минуту они вошли в мою комнату. При слабом освещении я увидел, что лорд Регнолл был сильно взволнован, а Сэвидж крайне перепуган. — В чем дело? — спросил я. — Мы видели мою жену, — отвечал лорд Регнолл. Я удивленно посмотрел на него. — Сэвидж разбудил меня и сказал, что в нашей комнате есть еще кто-то, — продолжал он, — я приподнялся и увидел (это верно, Квотермейн, как то, что я живу) мою жену, освещенную светом, падающим из окна. Она была в белом одеянии, волосы ее были распущены. На ее груди висело ожерелье из красных камней, подарок этих негодяев, который она постоянно носила на себе. В ее руках было что-то похожее на закрытое покрывалом дитя; я думаю, что оно было не живое. Я был так потрясен, что не мог говорить. Она стояла, глядя на меня широко открытыми глазами, и не двигалась. Но я могу поклясться, что губы ее шевелились. Мы оба слышали, как она говорила: «Не покидай меня, Джордж! Ищи меня на горе». Я вскочил, и она исчезла. — А что видел и слышал Сэвидж? — спросил я. — То же самое, что и Его Светлость, мистер Квотермейн. Не больше и не меньше. Я видел, как она прошла через дверь. — Через дверь? Разве она была открыта? — Нет, сэр! Но она прошла, как будто двери вовсе не было. — Это верно была не женщина, а привидение, баас. Я проснулся за полчаса до рассвета и лежал, глядя на эту дверь, которую сам запер вчера вечером. Ее никто не открывал. За ночь паук сплел на ней паутину, и она до сих пор цела. Пусть баас сам посмотрит, если не верит мне. Я поднялся и осмотрел дверь (боль в ноге начала утихать, и я уже мог немного ходить). Ханс говорил правду. Дверь была затянута паутиной, посреди которой сидел большой паук. Только два объяснения можно было дать этому странному случаю: либо все было простой галлюцинацией, либо лорд Регнолл и Сэвидж на самом деле видели нечто сверхъестественное. В последнем случае мне хотелось бы пережить то же, что пережили они, так как увидеть настоящий призрак — было моим всегдашним желанием. Я еще не говорил, что мы пришли к заключению о бесполезности наших поисков и вообще пребывания в этих местах. Мы решили попытаться уйти отсюда, прежде чем будем вовлечены в губительную войну между двумя ветвями загадочного племени, из которых одна была совершенно дикой, а другая — наполовину. Лорд Регнолл предложил такой план: я должен был попробовать в обмен на ружья приобрести верблюдов. Потом, под предлогом охотничьей экспедиции на Джану, мы думали попытаться уехать из этой страны. Но, быть может, видение было послано нам с целью разрушить наш план. Размышляя об этом, я улегся спать и проспал до самого завтрака. — Я долго думал о случившемся вчера ночью, — сказал лорд Регнолл, оставшись в это утро наедине со мной, — я человек не суеверный, но убежден, что мы с Сэвиджем видели и слышали душу или тень моей жены. У меня появилась вера, что она в плену на этой горе и приходила звать меня освободить ее. Поэтому я считаю своим долгом не покидать этой страны и попытаться добиться истины. — А как это сделать? — спросил я. — Я сам пойду на гору. — Это невозможно, Регнолл. Я сильно хромаю и не смогу пройти и полумили. — Я знаю, и это одна из причин, по которой я не хочу, чтобы вы сопровождали меня. Кроме того, я хочу сделать это, будучи один и не подвергая риску других. Но Сэвидж говорит, что пойдет туда, куда пойду я, оставив вас с Хансом здесь продолжать дальнейшие попытки в случае, если мы не вернемся. Мы хотим выйти из города в белых плащах, какие носят кенда. Мне удалось выменять их на табак. Когда наступит заря, мы попытаемся найти дорогу через пропасть, а остальное предоставим Провидению. Я сделал все зависящее от меня, чтобы отговорить лорда Регнолла от этого безумного намерения, но безуспешно. Я никогда не знал человека бесстрашнее и решительнее его. Потом я говорил с Сэвиджем и указывал ему на все опасности, сопряженные с этой попыткой, но и здесь потерпел неудачу. Сэвидж объявил, что куда пойдет его господин, туда пойдет и он и что он предпочитает умереть вместе с ним, нежели один. Итак, со стесненным сердцем я помогал им делать необходимые приготовления к этому безумному предприятию. Они открыто ушли днем под предлогом охоты на куропаток и коз в нижней части горы, где нам была предоставлена в этом полная свобода. Наше прощание вышло очень печальным. Сэвидж передал мне письмо к своей старой матери в Англии и просил меня отправить его, если я когда-либо попаду в цивилизованную страну. Я приложил все старания, чтобы ободрить его, но безуспешно. Он горячо пожал мою руку, говоря, что для него было большим удовольствием знать такого «настоящего джентльмена», как я, и выражая надежду, что я вернусь из этого ада и проведу остаток своей жизни среди христиан. Потом, утерев рукавом слезу, он притронулся к своей шляпе и удалился. Их снаряжение было весьма простым: немного пищи, фляга со спиртом, два двуствольных ружья, из которых можно было стрелять дробью и пулями, потайной фонарь, спички и пистолеты. Ханс проводил их до конца города. — Отчего ты так печален, Ханс? — спросил я, когда он вернулся. — Потому что я очень полюбил Бену, — ответил он, вертя свою шляпу в руках, — он всегда был добр ко мне и так хорошо умел стряпать. Теперь эту работу придется делать мне, а я не люблю этого. — Но ведь он еще жив, Ханс! — Это верно, баас, но он скоро умрет, потому что тень смерти была видна в его глазах. — А лорд Регнолл? — Я думаю, что он останется жив, баас, у него не было этой тени. Всю следующую ночь я не смыкал глаз и лежал полный тягостных опасений. На рассвете я услышал стук в нашу дверь и шепот лорда Регнолла, просившего открыть ее. Я зажег свечу, которых у нас был большой запас. Ханс открыл дверь. В комнату вошел лорд Регнолл. По его лицу я сразу увидел, что произошло что-то ужасное. Он подошел к кувшину с водой и выпил три чашки одну за другой. — Сэвидж погиб, — сказал он и остановился, как бы припоминая что-то страшное. — Слушайте, — продолжал он, — мы поднимались по склону горы и не стреляли, хотя видели много куропаток и козу. К наступлению сумерек мы подошли к отвесной каменной стене, на которую не было никакой возможности взобраться. Здесь мы увидели тропинку, ведущую к отверстию пещеры или туннеля. Пока мы раздумывали, что предпринять, появилось восемь или десять одетых в белое людей, которые схватили нас прежде, чем мы успели оказать какое-либо сопротивление. Потом, после некоторого совещания, их предводитель знаками объяснил нам, что мы свободны. Они ушли, унося с собой наши ружья и пистолеты и, уходя, смеялись так странно, что их смех встревожил меня. Мы стояли в нерешительности. Уже становилось темно. Я спросил Сэвиджа, что теперь делать, ожидая, что он предложит вернуться в город. К моему удивлению, он ответил: «Конечно, идти дальше, Ваша Светлость. Не надо позволять думать этим скотам, что мы, белые люди, ни шага не смеем ступить без наших ружей». С этими словами он зажег потайной фонарь. Я смотрел на него с изумлением. — Меня что-то тянет в эту пещеру, — продолжал он, — вероятно, это смерть. Но что бы там ни было, я должен идти. Я думал, что он потерял рассудок и хотел удержать его. Но он быстро побежал к пещере. Я последовал за ним и когда достиг ее, Сэвидж уже пробежал ярдов восемь по туннелю. В это время я услышал ужасный шипящий звук и восклицание Сэвиджа: «О Боже!» Фонарь выпал из его рук, но не потух. Я бросился вперед и поднял его; между тем Сэвидж побежал дальше в глубь пещеры. Я поднял фонарь над головой и вот что я увидел. Шагах в десяти от меня, протянув руки, плясал — да, именно плясал Сэвидж под звуки ужасной, шипящей музыки. Я поднял фонарь выше и увидел футах в девяти за Сэвиджем, почти у самого потолка туннеля, голову неслыханно огромной змеи. Эта голова, которая едва уместилась бы в тачку, помещалась на шее, имевшей толщину моей талии. В темноте обрисовывалось огромное покачивающееся тело серо-зеленого цвета, отливавшее золотом и серебром. Змея шипела, раскачивая своей огромной головой, и вдруг откинула ее назад и застыла на несколько секунд. Сэвидж остановился, наклонившись немного вперед, как бы кланяясь гадине. В следующее мгновение она бросилась на Сэвиджа… Послышался ужасный треск костей… Я отшатнулся к стене пещеры и на минуту закрыл глаза, так как почувствовал слабость. Открыв их снова, я увидел на полу нечто бесформенное (то были останки Сэвиджа), а над ним огромную змею, смотревшую на меня своими стальными глазами. Я бежал из этой ужасной пещеры. Заблудившись на склоне горы, я бродил в продолжение нескольких часов, пока не вышел к окраине города. После этого мы долгое время сидели молча. Наконец Ханс сказал невозмутимым тоном: — Уже рассвело, баас. Я потушу свечу, зачем ей даром гореть. Теперь мне надо готовить завтрак. Эта дьявольская змея позавтракала Беной, но я надеюсь позавтракать ею. Змеи бывают вкусны, баас, если их умело приготовить по готтентотскому способу.Глава 16
ХАНС ВОРУЕТ КЛЮЧИ
Немного спустя в наш дом пришло несколько белых кенда, вежливо передавших нам ружья и пистолеты Регнолла и бедного Сэвиджа. Они говорили, что нашли эти предметы на склоне горы. Я взял их, не сказав ни слова. В этот вечер нас посетил Харут. Поздоровавшись с нами, он осведомился, где Бена. — Ах ты, седобородый отец лжецов, — с негодованием сказал я, — ты великолепно знаешь, что Бена уже в желудке змеи, живущей в пещере на горе. — Как, господин! — воскликнул Харут. — Разве вы пытались подняться на гору? Впрочем, Бена всегда любил змей, и они любили его. — Это ты, негодяй, его убийца! — закричал лорд Регнолл. — Я сейчас же убью тебя за это. — Ты хочешь убить меня за то, что змея задушила вашего человека? Если пойдешь туда, где живет лев, лев умертвит тебя; если пойдешь туда, где живет змея, змея умертвит тебя. Я вас предупреждал, но вы не послушались меня. Теперь я вам скажу: можете идти туда, если хотите; никто не остановит вас. Но помните: в Дом Дитяти ведет совсем другая дорога, которой вы никогда не найдете. — Слушай, — сказал лорд Регнолл, — что толку во всей этой болтовне? Ты хорошо знаешь, зачем мы в вашей дьявольской стране. Я убежден, что вы похитили мою жену, чтобы сделать ее своей жрицей. Я хочу получить ее обратно. — Это большое заблуждение, — кротко ответил Харут, — мы не похищали прекрасной леди. И Макумазан здесь не для того, чтобы искать ее, а для того, чтобы убить слона Джану и получить за это слоновую кость. Ты, господин, пришел с ним как друг, хотя мы и не звали тебя. Ты пытался найти храм нашего бога, и змея, охраняющая двери его, умертвила твоего слугу. Но почему мы не убили тебя? — Потому что вы боитесь сделать это, — смело ответил Регнолл, — убейте меня, я готов, но вы увидите последствия этого. — Ты очень храбрый человек, — сказал Харут, не без восхищения глядя на лорда Регнолла, — мы не хотим убивать тебя; может быть, все окончится хорошо. Одно Дитя знает об этом. Ты поможешь нам победить черных кенда. Только не ходи к змее, потому что она скоро снова будет голодной. Слушай и ты, Свет Во Мраке, — прибавил он, обращаясь к сидящему на корточках Хансу, — это очень голодная змея, а ты лакомое для нее блюдо! Ханс, не поворачивая головы, скосил свои глаза на Харута и ответил на наречии банту: — Я слышу, белобородый лжец, но что мне до этого? Мой враг Джана, хотевший убить моего господина Макумазана, не то, что твоя грязная змея. Если она такая страшная, почему она не убьет Джану, которого вы ненавидите? Вот что для меня ваша змея, — прибавил он, энергично плюнув на землю, — если хочешь, я убью ее, только заплати мне за это. — Ты хочешь убить змею, — сказал Харут, — что же, убей, если тебе это нравится. Тогда мы дадим тебе новое имя. Мы назовем тебя «Господином змей». Как твоя нога, Макумазан? — продолжал он, обращаясь ко мне. — Я принес тебе мазь, которая излечит ее. Это священная мазь от Дитяти. Мой господин, — переменил он вдруг свой ломаный английский язык на банту, — война близка. Черные кенда собирают силы, чтобы напасть на нас. Нам нужна твоя помощь. Мне надо сейчас ехать к реке Таве. Через неделю я вернусь; тогда снова поговорим об этом. За это время мазь излечит тебя. Натри ею больную ногу и, смешав кусочек ее, величиной с хлебное зерно, с водой, прими это на ночь. Это не яд, — прибавил он, положив немного мази на язык и проглотив ее. Потом он поднялся и удалился с обычными поклонами. Надо сказать, что лекарство Харута произвело на меня превосходное действие. На следующее утро боль исчезла и, за исключением небольшой слабости, я чувствовал себя вполне хорошо. Остаток мази сохранялся у меня в продолжение многих лет и хорошо помогал при ломоте в бедрах и при ревматизме. Последующие дни прошли без приключений. Оправившись после болезни, я начал посещать город, походивший на разбросанные деревни, какие можно видеть на восточном берегу Африки. Почти все мужчины отсутствовали, будучи, вероятно, заняты приготовлениями к жатве. Женщины запирались в домах по восточному обычаю. Сказать правду, это был крайне неинтересный небольшой городок, населенный необщительными людьми, живущими, как мне казалось, под сенью страха, препятствовавшего всякому веселью. Даже дети ходили как-то уныло и разговаривали пониженным голосом. Я никогда не видел их играющими или смеющимися подобно детям почти всего света. Жили мы довольно комфортабельно. Пища доставлялась нам в изобилии. Для меня (я все еще хромал) был предоставлен выносливый, спокойный пони. На этом пони я раза два ездил по южному склону горы под старым предлогом охоты. В таких случаях меня сопровождал Ханс. Я заметил, что он был теперь молчалив и задумчив. Однажды мы совсем близко подъехали к входу в пещеру или туннель, где бедный Сэвидж нашел такой ужасный конец. В то время как мы рассматривали это место, появился одетый в белое человек с бритой головой (должно быть, жрец) и насмешливо спросил, почему мы не войдем в туннель и не посмотрим, что находится по ту сторону его. Я только улыбнулся в ответ и спросил его о назначении прекрасных коз с длинной шелковистой шерстью, которых он, по-видимому, пас. Жрец ответил мне, что эти козы предназначены в пищу «тому, кто живет на горе и ест только тогда, когда меняется луна». На мой вопрос, кто эта особа, он с неприятной улыбкой предложил мне пройти через туннель и самому взглянуть на нее. Я, конечно, не принял этого приглашения. В этот вечер неожиданно появился Харут, имевший весьма встревоженный вид. — Господин, — сказал он, — я иду на Гору, чтобы присутствовать на празднестве Первых Плодов, которое будет на восходе солнца в день новой луны. После жертвоприношения будет говорить оракул, и мы узнаем, когда будет война с Джаной и, быть может, другие вещи. — Можем ли мы присутствовать на этом празднестве, Харут? Мы уже соскучились здесь. — Конечно, — с поклоном ответил он, — вы можете прийти, но только без оружия. Ибо тот умрет, кто появится перед Дитятей вооруженным. Вы знаете дорогу, идущую через пещеру и лес, лежащий за ней. — А если мы пройдем через пещеру, нас хорошо примут на празднестве? — Да, вы встретите самый радушный прием. Клянусь вам в этом Дитятей. О Макумазан, — прибавил он, улыбаясь, — почему ты говоришь так безрассудно, зная, кто живет в той пещере? Или вы думаете пройти, убив ее обитателя своим оружием? Бросьте эту мечту. Те, кто охраняет вас, получили приказание следить, чтобы никто из вас не выходил из дому, имея при себе какое бы то ни было оружие. Если вы не дадите мне обещания поступать согласно этому, никто из вас не будет выпущен даже в сад до тех пор, пока я не вернусь. Регнолл вначале хотел отказаться дать такое обещание, но Ханс сказал: — Лучше, баас, остаться на свободе без ружей и ножей, чем сделаться настоящими пленниками. Часто от тюрьмы бывает недалеко до могилы. Мы признали силу этого аргумента и в конце концов дали требуемое обещание. — Хорошо, — сказал Харут, — но знайте, что у нас, белых кенда, тот, кто нарушит клятву, без оружия остается по ту сторону реки Тавы, чтобы дать отчет в своему поступке Джане, отцу всех лжецов. Теперь прощайте. Если мы не встретимся на празднестве Первых Плодов, куда я вас еще раз приглашаю, мы поговорим здесь, после того как я выслушаю голос оракула. Потом он сел на верблюда, ожидавшего его снаружи, и уехал в сопровождении эскорта из двадцати человек, тоже сидевших верхом на верблюдах. — Существует другая дорога, ведущая на гору, Квотермейн, — сказал Регнолл, — верблюд скорей пройдет через ушко иголки, нежели через ту пещеру, даже если бы она была пуста. — Это верно, — согласился я, — но мы не знаем, где она, и я думаю, что она проходит за много миль отсюда. Для нас существует только один путь через пещеру, что равносильно отсутствию всякого пути. В этот вечер за ужином мы заметили исчезновение Ханса. Он похитил мои ключи и забрался в ящик, где хранились спиртные напитки. — Он ушел, чтобы напиться, — сказал я Регноллу, — и неудивительно, потому что и я способен последовать его примеру. Мы улеглись спать. На следующее утро, когда я уже собрался идти в хижину, где помещалась кухня, варить к завтраку яйца, к нашему удивлению, появился Ханс с котелком кофе. — Ты вор, Ханс, — сказал я. — Да, баас, — ответил Ханс. — Ты забрался в ящик с джином и взял яд? — Да, баас, я взял яд. Но теперь все обстоит хорошо. Баас не должен сердиться на меня за это, здесь так скучно без дела. Баасы будут есть похлебку? Бранить Ханса было бесполезно. Кроме того, у меня явилось некоторое сомнение, так как он не было похож на пьяного человека. Когда мы покончили с завтраком, Ханс уселся передо мной на корточки и, закурив свою трубку, вдруг спросил: — Не хотят ли баасы сегодня вечером пройти через ту пещеру? Теперь это очень легко сделать. — Что ты этим хочешь сказать? — спросил я, думая, что Ханс пьян. — Я хочу сказать, баас, что житель пещеры спит очень крепким сном и никогда уже не проснется. Не угодно ли баасам пройти через пещеру? — Прежде всего я должен убедиться, трезв ли ты, — ответил я. — Если ты сейчас же не расскажешь нам всего, я поколочу тебя, Ханс! — Тут не много рассказывать, баас, — ответил Ханс, посасывая трубку, — дело вышло очень легкое. Баас помнит, что говорил человек в ночной рубахе с бритой головой? Он говорил, что козы предназначены в пищу для кого-то, живущего на горе. Но кто другой живет на горе, кроме Отца Змей в пещере? Тот человек, если баас помнит, прибавил, что на горе едят только при новой луне, а сегодня как раз день новой луны. Следовательно, за день до новой луны, т. е. вчера, змея была голодна. — Все это так, Ханс, но как ты мог убить змею, накормив ее? — Ох, баас, люди иногда едят вещи, от которых им бывает худо; точно так же и змеи. В одном из ящиков бааса есть несколько фунтов чего-то, похожего на сахар, которое, смешав с водой, употребляют для сохранения кож и черепов. — Ты говоришь о кристаллах мышьяка? — Я не знаю, как это называется, баас. Я раньше думал, что это сахар и хотел положить его в кофе… — Господи! — воскликнул я. — Почему же мы живы до сих пор? — Потому что в последний момент, баас, у меня появилось сомнение. Я положил немного этого сахара в молоко и дал его собаке, укусившей меня за ногу. Это была очень жадная собака. Она сразу выпила молоко. Потом она завыла, повертелась с пеной у рта и издохла. После этого я решил лучше не класть в кофе этого сахара. Потом Бена сказал мне, что это смертельный яд. Тогда мне пришло в голову, что если заставить змею проглотить этого яда, она наверное издохнет. Я украл ключи, как делал это часто, потому что баас бросает их где попало, и нарочно оставил открытым ящик с виски, чтобы баас подумал, что я напился пьяным. Я взял полфунта ядовитого сахара, убившего собаку, распустил его в воде вместе с настоящим сахаром и вылил смесь в бутылку. Остальные полтора фунта я разложил в двенадцать маленьких бумажных мешочков и спрятал все это в карман. Потом я пошел на гору в то место, где паслись козы. Их никто не стерег. Я вошел в крааль, выбрал молодого козленка, связал ему ноги и облил его смесью из бутылки. Потом привязал в разных местах его тела все двенадцать мешочков с ядовитым сахаром. После этого я развязал козленка и подвел его ко входу в пещеру. Я не знал, как заставить его войти в нее, а идти вместе с ним мне не хотелось. Но он сам побежал в пещеру, как будто его влекла туда какая-то сила. Перед тем как войти в нее, он обернулся и посмотрел на меня. При свете звезд я видел, что его глаза полны ужаса. Скоро я услышал шипение, как будто кипели четыре больших котла за раз; козленок заблеял. Потом послышался шум возни с треском костей и сосущий звук, как от насоса, который не может поднять воду. После этого все затихло. Я отошел от входа в пещеру, сел в стороне и стал ждать, что будет дальше. Приблизительно через час из пещеры послышался шум, как будто по ее стенам били мешком, наполненным мякиной. «Ага, — подумал я, — у пожравшего Бену заболел живот». Ядовитый сахар начал таять в желудке змеи, и она так шумела, как будто в пещере под звуки шипящей музыки целая компания девушек танцевала танец войны. Вдруг Отец Змей начал выползать из пещеры. Когда я увидел его при свете звезд, у меня волосы дыбом поднялись на голове. Вероятно, во всем свете нет такой другой змеи! Змеи, которые живут в Земле Зулу и едят коз, — маленькие дети по сравнению с этой змеей. Ярд за ярдом она выползала из пещеры, потом стала на хвост, подняла голову на высоту целого дерева и наконец быстрее лошади бросилась вниз с горы. Я молил Бога, чтобы она не заметила меня… Через полчаса она вернулась обратно. Теперь она уже не могла прыгать, а ползла. Никогда в жизни я не видел такой большой змеи. Она вползла в пещеру и, шипя, улеглась в ней. Потом шипение становилось все слабее и слабее и наконец совсем затихло. Я подождал еще полчаса и после этого решился войти в пещеру с палкой в одной руке и с зажженным фонарем в другой. Не успел я пройти десяти шагов, как увидел змею, неподвижно лежавшую на спине. Она была совершенно мертва: я прикладывал горящие восковые спички к ее хвосту, но она не шевелилась. Тогда я вернулся домой, чувствуя себя гордым, что перехитрил Прадеда Всех Змей, убившего моего друга Бену, и что очистил путь через пещеру. Вот и вся история, баас. Теперь я пойду мыть посуду, — закончил Ханс и, не дожидаясь, что скажем мы, удалился, оставив нас пораженными его находчивостью и смелостью. — Что делать дальше? — спросил я. — Подождем наступления ночи, — ответил Регнолл, — тогда я пойду осмотреть змею, убитую благородным Хансом, и узнать, что находится за пещерой. Вы помните приглашение Харута? — Вы думаете, что Харут сдержит свое слово? — Пожалуй, да. А если не сдержит — мне все равно. Всякий исход лучше, чем сидение здесь в нерешительности. — Я согласен с этим. По-моему, Харуту теперь не выгодно убивать нас. Поэтому мы с Хансом, конечно, пойдем с вами. Нам не следует разделяться. Быть может, вместе мы будем счастливее.Глава 17
СВЯТИЛИЩЕ И КЛЯТВА
Вечером, вскоре после заката солнца, мы все трое смело вышли из дому, надев поверх своего платья одежды кенда, купленные Регноллом. При нас не было ничего кроме палок, небольшого количества пищи и фонаря. На окраине города мы встретили нескольких кенда, одного из которых я знал, так как мне часто случалось ехать рядом с ним во время нашего перехода через пустыню. — Есть ли при вас оружие, Макумазан, — спросил он, с любопытством глядя на нас и на наши белые платья. — Нет, — ответил я, — обыщи нас, если хочешь. — Достаточно твоего слова, — сказал он, — если при вас нет оружия, нам приказано не препятствовать вам идти куда угодно. Но, господин, — прошептал он, — прошу тебя, не ходи в пещеру, где живет некто, чей поцелуй приносит смерть. — Мы не разбудим того, кто спит в пещере, — загадочно ответил я, и мы пошли дальше, радуясь, что кенда еще ничего не знают о смерти змеи. Через час Ханс привел нас ко входу в пещеру. Сказать правду, когда мы подходили к ней, разные сомнения овладели мной. Что, если Ханс был в самом деле пьян и придумал всю эту историю, чтобы оправдать свое отсутствие? Что, если змея теперь оправилась от своего временного недомогания? Что, если в этой пещере живет целая семья их? Мы подошли к самому входу в пещеру и прислушались. Там было тихо как в могиле. Ханс зажег фонарь и сказал: — Подождите здесь, баасы. Я пойду вперед. Если вы услышите, что со мной что-либо приключилось, у вас будет время уйти. Эти слова пристыдили меня. Черед минуты две Ханс вернулся обратно. — Все в порядке, баасы, — сказал он. — Отец Змей сам отправился в ту страну, куда послал Бену. Без сомнения, его теперь поджаривают на адском огне. В пещеру можно войти, там нет других змей. Мы вошли в пещеру. На земле лежало огромное мертвое пресмыкающееся, уже сильно раздувшееся. Я не знаю, какова была его длина, так как его тело было свернуто кольцами. Но одно могу сказать: это была самая огромная змея, какую я когда-либо видел. Я слышал о таких пресмыкающихся в различных частях Африки, но до сих пор считал эти рассказы чистым вымыслом. Никогда не забуду ужасного зловония, стоявшего в пещере. По всей вероятности, эта тварь жила здесь целые столетия. Говорят, что большие змеи живут столько же, сколько черепахи и, считаясь священными, никогда не имеют недостатка в пище. Повсюду лежали кучи костей, среди которых я заметил обломки человеческого черепа, быть может принадлежащего бедному Сэвиджу. Выступы скал были покрыты большими кусками кожи, которую змеи меняют каждый год. Некоторое время мы рассматривали труп этого отвратительного создания. Потом пошли дальше. Пещера оказалась не более ста пятидесяти ярдов в длину. Она была естественного происхождения и, вероятно, образовалась от прорыва через лаву дыма и испарений. К дальнему концу она значительно сужалась, и я начал сомневаться в существовании второго выхода. Однако я ошибся: в самом конце ее мы нашли отверстие, достаточно большое для одного человека. Но пробираться через него было довольно трудно; нам стало ясно, что белые кенда ходили к своему святилищу совершенно другой дорогой. Через это отверстие мы выбрались на склон огромного, образовавшегося из лавы рва, который вел сперва вниз, потом вверх, к основанию конусообразной вершины горы, покрытой густым лесом. Я полагаю, что образование этой горы было результатом вулканического действия в ранние периоды существования земли. Лес состоял из огромных кедров, растущих не очень тесно. Нижняя часть деревьев была обнажена, вероятно, потому, что густые вершины не пропускали вниз света. Стволы и сучья деревьев были покрыты серым мхом, придававшим этому месту еще более жуткий характер. Под деревьями царил такой мрак, что мы могли различать предметы на расстоянии не более дюйма перед собой. Однако мы двигались дальше. Ханс, умевший при помощи инстинкта ориентироваться лучше нас, шел впереди. По временам я при свете спички поглядывал на карманный компас, зная по предыдущим наблюдениям, что вершина Священной Горы лежит в северном направлении. Так час за часом мы поднимались вверх, случайно наталкиваясь на стволы деревьев или спотыкаясь о сухие ветки, попадавшиеся под ногами. Этот лес имел характер дома, посещаемого привидениями. Я никогда в жизни не испытывал такого особенного страха, как в эту ночь. Впоследствии Регнолл признался мне, что переживал приблизительно то же самое. — Пусть баас посмотрит, — шепотом сказал Ханс, так как никто из нас не решался говорить громко, — не глаза ли Джаны горят вон там, как раскаленное железо? — Не будь глупцом, — ответил я, — как Джана может попасть сюда? Но сказав это, я вспомнил слова Харута о том, что он дважды видел Джану на Священной Горе. Так проходила долгая ночь. Поднимались мы очень медленно, но останавливались всего два раза: один раз — когда нам показалось, что мы со всех сторон окружены деревьями, другой раз — когда попали в топкое место. Тогда мы рискнули зажечь фонарь и при помощи его выбрались оттуда. Постепенно лес становился все реже и реже; мы уже видели звезды, мерцавшие сквозь вершины деревьев. Не более чем за полчаса до зари Ханс, шедший впереди (мы пробирались через густой кустарник), вдруг резко остановился. — Стоп, баас, мы на краю скалы, — сказал он, — когда я хотел поставить палку впереди себя, она ни во что не уперлась. Регнолл захотел осмотреть почву при свете фонаря. Вдруг мы услышали тихие голоса и увидели футов на сорок ниже себя движущиеся огоньки. Мы, как мыши, притаились в кустах в ожидании рассвета. Наконец он наступил. На востоке появился алый свет, постепенно распространявшийся по небу. Из глубины обрызганного росой леса его приветствовало пение птиц и лай обезьян. Вдруг небо прорезал луч восходящего солнца и из мрака, все еще царившего внизу, послышалось тихое, нежное пение. Постепенно оно замерло, и в продолжение некоторого времени тишина нарушалась только шумом, похожим на шум, производимый публикой, усаживающейся в темном театре. Потом послышалось пение женского голоса, красивого контральто. Я не мог разобрать слов, если только это были слова, а не просто музыкальные ноты. Я почувствовал, как рядом со мной задрожал Регнолл, и спросил, что с ним. — Мне кажется, что я слышу голос моей жены, — шепотом ответил он. — Возьмите себя в руки, — прошептал я. Теперь небо начало пламенеть, и потоки света, как многоцветные драгоценные камни, разлились в тумане и разогнали его. Тени исчезли. Постепенно внизу открылся амфитеатр, на южной стороне которого сидели мы. Собственно, это была не стена, а застывшая глыба лавы футов в сорок — пятьдесят высотой. Амфитеатр походил на те древние сооружения, какие я видел на картинках, а Регнолл посещал в Италии, Греции и Южной Франции. Он был не очень велик и имел овальную форму. Без сомнения, это был кратер потухшего вулкана. На арене стоял храм, в главных чертах походивший на храмы, сохранившиеся в Египте, но размером меньше их. Вокруг наружного двора храма шла колоннада, поддерживавшая крышу строения, служившего, вероятно, помещением для жрецов. Короткий проход вел в другой, меньший двор, где находилось святилище, построенное, как и весь храм, из лавы. Храм, как я уже сказал, был не велик, но весьма красив. На нем не было скульптурных и живописных украшений, но каждая его деталь была сделана с большим вкусом. Перед входом в святилище стояла большая глыба лавы, служившая, вероятно, алтарем, и каменная чаша на треножнике. За святилищем находился прямоугольный дом. В первое время оба двора были пусты, но на скамьях амфитеатра сидело около трехсот человек. Мужчины на севере, женщины — на юге. Все они были одеты в ярко-белые одежды. У мужчин головы были выбриты, у женщин закрыты покрывалами; но их лица оставались открытыми. В амфитеатр вело две дороги: одна на восток, другая на запад. Они шли через туннели, выдолбленные в скалах, окружавших кратер. Обе они запирались двойными массивными деревянными дверями футов в семнадцать — восемнадцать высотой. Очевидно, на этом тайном собрании могли присутствовать только лица, принадлежащие к жреческому классу этого странного племени. Когда совсем рассвело, из келий, окружавших наружный двор храма, вышли двенадцать жрецов с Харутом во главе. Каждый из них нес на деревянном блюде хлебные колосья разных сортов. Потом из келий, находившихся в южной части двора, вышли двенадцать молодых девушек, тоже несшие деревянные блюда с цветами. По данному знаку они запели священную песнь и направились из первого двора во второй. Дойдя до алтаря, они остановились (сначала жрецы, потом жрицы) и поочередно ставили на него блюда с жертвой. Потом они выстроились по обе стороны алтаря, и Харут, взяв в руки по блюду с хлебом и цветами, протянул их сначала по направлению к тому месту, где находилась невидимая новая луна, потом по направлению к восходящему солнцу и, наконец, по направлению к дверям святилища, каждый раз преклоняя при этом колени и произнося нараспев молитву, слов которой мы не могли разобрать. Потом последовала пауза, а за ней внезапно раздалось пение, в котором приняли участие все присутствовавшие. Это была красивая, звучная песня, или гимн, на непонятном мне языке, разделенный на четыре стиха. Конец каждого из них отмечался поклоном певцов по направлению к востоку, к западу и к алтарю. Новая пауза, и вдруг двери святилища широко распахнулись и в них показалась Изида, богиня Египта, какой я видел ее на картинках! Она была облачена в легкое одеяние, сделанное из очень тонкой материи. Ее волосы были распущены; на ней был головной убор из блестящих перьев с небольшой змейкой спереди. В ее руках было что-то, издали похожее на обнаженное дитя. По обеим сторонам ее шли двеженщины, поддерживавшие ее под руки. На них тоже были прозрачные одеяния и головные уборы из перьев, но без змеек. — Боже! — прошептал Регнолл. — Это моя жена. — Молчите и благодарите Бога, что она жива, — шепотом ответил я. Богиня Изида (или английская леди) спокойно стояла, в то время как жрецы, жрицы и все собравшиеся на скамьях амфитеатра поднялись и приветствовали ее троекратным криком. Харут и первая жрица благоговейно поднесли хлебный колос и цветок сперва к губам дитяти, лежавшего на руках Изиды, потом к ее губам. После этой церемонии женщины, сопровождавшие богиню, обвели ее вокруг алтаря и усадили в стоявшее перед ним каменное кресло. В чаше, стоявшей на треножнике, был зажжен огонь, куда Харут и главная жрица что-то бросили, отчего поднялся дым. Изида наклонила голову вперед и вдохнула дым курения точно так же, как мы с ней вдыхали его в гостиной Регнолл-Кастла несколько лет тому назад. Дым перестал струиться; богиня при помощи сопровождавших ее женщин снова выпрямилась в кресле, все еще прижимая к своей груди Дитя и как бы убаюкивая его. Но голова ее была опущена, будто она находилась в обмороке. Харут подошел к ней и что-то сказал; потом снова отступил назад и ждал. Тогда среди всеобщего молчания она поднялась со своего места и заговорила, устремив свои большие глаза в небо. Что она говорила — нам не было слышно. Через некоторое время она смолкла, снова села в кресло и сидела, не шевелясь и по-прежнему глядя вперед. Харут подошел к алтарю, стал на его каменных ступеньках и обратился к жрецам, жрицам и остальному собранию. Он говорил так громко и отчетливо, что мы слышали и понимали каждое сказанное им слово. — Слушайте голос оракула, Хранительницы Небесного Дитяти, тени, рожденной им, отмеченной знаком молодой луны. Слушайте ответы на вопросы, предложенные мною, Харутом, пожизненным жрецом Вечного Дитяти. Вот что говорит оракул: о белые люди кенда, почитающие Дитя, потомки тех, кто в продолжение тысячи лет чтили его в древней земле, пока варвары не прогнали их оттуда. Приближается война, о белые люди кенда! Злой Джана, чье другое имя Сет, Джана, живущий в образе слона, почитаемый тысячами, некогда покоренными нами, поднялся против нас. Мрак поднялся против света. Зло идет войной на Добро. Ночь хочет пожрать день. Это будет последняя схватка. Как победить вам, о народ Дитяти? Не своей собственной силой, ибо вы малочисленны, а Джана очень силен. Не силой Дитяти, ибо Дитя становится слабым и дряхлым и дни его господства проходят. Только с помощью издалека призванных можете вы победить, — так говорит голосом Дитяти Хранительница его. Их было четверо, но один из них погиб в пасти стража пещеры. Это было злое деяние, о сыновья и дочери Дитяти, ибо страж теперь мертв, и многие из вас, задумавших это злое дело, должны умереть за кровь того человека. Зачем вы сделали это? Чтобы удержать в тайне похищение женщины, чтобы продолжать дело лжи? Так говорит Дитя. Не подымайте руки против трех остальных, дайте им, что они потребуют, ибо они одни могут спасти вас от Джаны и тех, кто служит ему. Вот что сказал оракул на празднестве Первых Плодов. Харут окончил свою речь. Некоторое время царило молчание, потом поднялся всеобщий стон. Когда он затих, спутницы Изиды помогли ей подняться со своего места. Все собрание, жрецы и жрицы поклонились ей. Она подняла изображение Изиды высоко над головой, и все с глубоким благоговением преклонились пред ним. Потом, продолжая держать изображение над головой, она повернулась и ушла с сопровождавшими ее женщинами в святилище, а оттуда, вероятно, крытым ходом в дом, стоявший позади него. После ее ухода все собравшиеся покинули свои места и столпились в наружном дворе храма. Жрецы раздавали им жертву, взятую с алтаря. Каждый мужчина получал хлебное зерно, которое съедал, каждая женщина — цветок, который прятала на груди. Регнолл немного приподнялся, и я увидел, что его глаза блестели и лицо было чрезвычайно бледно. — Что вы хотите сделать? — спросил я. — Потребовать у этих людей возвращения моей похищенной жены, — ответил он, — не останавливайте меня, Квотермейн. Я знаю, что делаю. — Но они не отдадут ее, а нас всего трое невооруженных людей. Прошу вас, не будьте опрометчивы. Это может все испортить. Предоставьте мне попробовать уладить дело. — Хорошо, — согласился Регнолл после некоторого колебания. — Теперь, — сказал я, — мы пойдем вниз посетить Харута и его друзей. Под прикрытием кустарника мы отползли на некоторое расстояние назад и, пройдя с четверть мили в восточном направлении, повернули на север и (как я и ожидал) вышли на дорогу, которая вела к восточным воротам амфитеатра. Мы прошли через них и не привлекли ничьего внимания, быть может, потому, что все были заняты разговором или молитвой. Пройдя немного, мы остановились, и я сказал громким голосом: — Белые люди и их слуга пришли по приглашению Харута. Проводите нас к нему. Все обернулись и удивленно смотрели на нас, стоявших в тени, так как солнце поднялось еще не особенно высоко. — Смерть им! — вдруг закричал один голос. — Смерть чужестранцам, осквернившим наш храм! — Как! — ответил я. — Вы хотите убить тех, кому ваш главный жрец обещал безопасность, тех, с чьей помощью, как говорил оракул, вы надеетесь убить Джану и отразить врагов? — Как они узнали это? — закричал другой голос. — Это маги! — Да, — сказал я, — если сомневаетесь, пойдите и взгляните на стража пещеры, о смерти которого говорил ваш оракул. Вы увидите, что он не солгал. В то время, когда я говорил это, в ворота вбежал человек в белой одежде, развевавшейся по ветру. — О жрецы и жрицы Дитяти! — кричал он. — Старая змея умерла. На мне лежала обязанность кормить ее в день новой луны, и я нашел ее мертвой! — Вы слышали, — спокойно сказал я, — Отец Змей мертв. Мы взглянули на него, и он умер. Все тихо стояли и смотрели на нас, как стадо испуганных овец. Потом толпа расступилась и появился похожий на библейского патриарха Харут. Он поклонился нам со своей обычной восточной вежливостью. Мы тоже ответили ему поклоном. — Итак, вы здесь? — обратился к нам Харут на своем особенном английском языке, принятом, вероятно, белыми кенда за язык, известный только магам. — Ты приглашал нас, и мы пришли, так как считаем невежливым не принять твоего приглашения. Мы прошли через пещеру, где живет отвратительное пресмыкающееся, безвредное для тех, кто не боится его. Вы не заметили нас, но мы присутствовали при вашем богослужении и все видели и слышали. Например, мы видели жену лорда, похищенную вами в Египте, хотя ты Харут, будучи лжецом, клялся, что не похищал ее. Мы слышали, что она говорила после того, как вдохнула дыма вашего курения. Харут побледнел, поднял глаза к небу и зашатался, словно готовый упасть. — Как вам удалось это? — спросил он слабым голосом. — Это безразлично, мой друг, — надменно ответил я, — нам только надо знать, когда вы вернете эту леди ее мужу. — Никогда, — сказал он, овладевая собой, — сперва мы убьем вас, потом ее. Она должна остаться здесь до самой смерти. — Слушай, — вмешался Регнолл, — я сильнее тебя. Если ты сейчас же не дашь обещания вернуть мне мою жену, я убью тебя этой палкой. — Господин, — с достоинством сказал старик, — я знаю, что ты можешь сделать это, и если ты убьешь меня, я поблагодарю тебя, так как мне очень тяжело жить. Но что хорошего выйдет из этого? Все вы умрете через минуту после меня, а леди останется здесь до тех пор, пока не умрет или пока царь черных кенда не сделает ее своей женой. — Дайте мне говорить, — сказал я, наступая Регноллу на ногу, — мы слышали, что говорил ваш оракул, и знаем, что вы верите в его слова. Он говорит, что только с нашей помощью вы можете победить черных кенда. Если вы не обещаете исполнить то, что мы потребуем, мы не станем помогать вам. Мы сожжем наш порох и расплавим свинец; тогда наши ружья не будут в состоянии говорить с Джаной и Симбой. Но если вы обещаете нам исполнить наши требования, мы научим ваших людей стрелять из тех пятидесяти ружей, которые имеются у нас, и с нашей помощью вы победите врагов. Ты понял меня? Харут утвердительно кивнул головой и спросил, поглаживая свою длинную бороду: — Что же мы должны обещать? — Мы хотим, чтобы после того, как Джана будет убит и черные кенда побеждены, вы вернули нам похищенную леди и дали нам всем возможность уйти из вашей страны. — Вы требуете невозможного, — сказал Харут, — это погубит нас. Но присядьте и поешьте. Тем временем я поговорю с другими жрецами. Не бойтесь, вы в безопасности. — Нам нечего бояться. Это ты, похитивший леди и причинивший смерть Бене, должен бояться. Вспомни слова оракула, Харут. — Я знаю их. Но мне непонятно, откуда они вам известны, — ответил он, после чего отдал несколько приказаний. Мы были окружены стражей и проведены сквозь толпу через второй двор храма, который был теперь пуст. Женщины принесли нам питье и пищу, за которую мы с Хансом принялись с усердием, между тем как Регнолл ел очень мало. Радуясь, что после долгих поисков он наконец нашел свою жену, он в то же время боялся снова потерять ее, и это лишало его аппетита. Пока мы ели, жрецы, числом около двенадцати, собрались между алтарем и святилищем и вступили в горячий спор с Харутом. По их лицам было видно, что мнения сильно разделились. Наконец Харут сделал какое-то предложение, на которое все согласились. Он и двое других жрецов вошли в святилище. Минут через пять они вернулись, и один из них сделал сообщение, которое было выслушано весьма внимательно. Потом один из жрецов подошел к нами с поклоном пригласил нас приблизиться к алтарю. Харут снова открыл двери святилища, стал направо от них и обратился к нам, на этот раз на своем языке. — Господин Макумазан, Игеза и желтый человек, именуемый Светом Во Мраке! — сказал он. — Мы, главные жрецы Дитяти, посоветовавшись между собой и с мудростью Дитяти, от имени белых кенда соглашаемся на ваши требования. Во-первых, после того как вы убьете Джану и прогоните черных кенда, мы отдадим вам белую леди, жену лорда Игеза. Во-вторых, мы проводим вас и ее из нашей земли до места, откуда вы можете вернуться в свою страну. Мы исполним все это, ибо если Джана будет мертв, у нас не будет больше причин бояться черных кенда и не будет надобности в оракуле. Когда у нас явится нужда в оракуле, мы, без сомнения, сумеем найти новый. Но если мы поклянемся в этом, вы, в свою очередь, должны дать клятву, что до конца войны останетесь с нами. Вы должны поклясться, что до тех пор, пока мы сами не вернем вам леди, вы не будете пытаться увидеть ее. Если вы откажетесь, мы окружим вас кольцом и будем сторожить до тех пор, пока вы не умрете от голода и жажды, ибо мы не можем проливать кровь в этом месте. — Мы исполним свое обещание, но кто нам поручится, что вы исполните ваше? — Мы поклянемся Дитятей, и эта клятва не может быть нарушена. — Тогда клянитесь, — сказал я. Жрецы положили свои правые руки на алтарь и «во имя Дитяти и всего народа белых кенда» дали торжественную клятву, после чего потребовали того же и от нас. Сперва вышло некоторое затруднение с Регноллом, отказавшимся связывать себя какими бы то ни было обещаниями. В конце концов, к великому облегчению, мне удалось уговорить его. Ханс объявил мне, что готов поклясться чем угодно, прибавив, что слова ничего не значат, так как всегда можно будет поступить так, как будет выгодно. Я прочел ему короткое внушение относительно гнусности вероломства, которое, кажется, не произвело на него большого впечатления. Первым давал клятву я, закончив ее словами «да поможет мне Бог», как несколько раз делал это, когда мне приходилось выступать свидетелем на суде. Потом Регнолл повторил мою клятву по-английски. Харут внимательно выслушал каждое слово и раза два попросил меня точно объяснить значение некоторых выражений. Наконец Ханс, которому, очевидно, все это весьма наскучило, повторил за мной слова клятвы, прибавив от себя: «Да поможет мне покойный отец бааса». Это выражение вызвало длинные объяснения. Ханс указывал жрецам, что мой покойный отец находился в таком же отношении к Высшей Силе, как их оракул к Дитяти. Кроме того, он щедро предложил в виде прибавки поклясться душами своего деда и бабки и некоторыми божествами, почитавшимися им, в числе которых, кажется, был заяц. Это предложение было принято жрецами. — Эти глупцы не понимают, — на ухо прошептал мне по-голландски Ханс, — что покойному отцу бааса будет приятно, если я сыграю с ними такую же штуку, как они сыграли с белой леди и лордом Игезой. В глубине своей темной и таинственной души Ханс чтил только одного бога, именно любовь, но не к женщине и не к дитяти, а к моей скромной особе.Глава 18
ПОСОЛЬСТВО
После этой церемонии все жрецы, за исключением Харута и двух других, удалились, вероятно затем, чтобы сообщить о своем решении остальному собранию, а через него — всему народу белых кенда. — Что вы хотите теперь делать? — по-английски спросил Харут, всегда говоривший на этом языке в присутствии Регнолла, — быть может, вы полетите обратно в город Дитяти? В таком случае, пожалуйста, возьмите и меня с собой, так как это избавит меня от долгой езды. — О нет! — ответил я. — Мы прошли сюда через пещеру, где живет Отец Змей, который при виде нас умер от страха. — Хорошая ложь, — восхищенно сказал Харут, — первоклассная ложь! Но удивительно, как вам удалось убить змею, которую мы считали бессмертной, так как она прожила несколько сот лет. Наш народ нашел ее, когда впервые пришел в эту страну. Это было мерзкое животное. Быть может, вы хотите посмотреть Дитя? Это можно, так как вы теперь наши братья. Только снимите шляпы и не разговаривайте. Мы, конечно, выразили желание посмотреть Дитя. Харут ввел нас в небольшое святилище, достаточно просторное, чтобы вместить всех нас. В нише, устроенной в стене в дальнем конце его, стояло священное изображение, которое мы с Регноллом рассматривали с глубоким, благоговейным интересом. Это была статуя ребенка около двух футов высотой, вырезанная из цельного клыка слона. Она была настолько ветхой, что желтая слоновая кость покрылась множеством мелких трещинок. По ее виду можно было заключить, что она была сделана несколько тысяч лет тому назад и всегда сохранялась под покрывалом. Египетское происхождение статуи не вызывало сомнения. Возможно, что моделью для нее послужило дитя какого-нибудь фараона. Тонкая работа обнаруживала превосходного художника. В святилище не было ничего другого, кроме кресла черного дерева с инкрустацией из слоновой кости, изображения змеи и двух свитков папируса, лежавших в нише вместе со статуей. К моему великому разочарованию, Харут не разрешил даже прикоснуться к ним. — Теперь вы и народ белых кенда — одно, — сказал он, когда мы вышли из святилища, — ваш конец — его конец; ваша судьба — его судьба; его тайна — ваша тайна. Ты, лорд Игеза, в награду за помощь нам получишь леди, которую мы похитили у тебя на Ниле. — Как вам удалось сделать это? — прервал Харута Регнолл. — Мы следили за тобой, господин. Мы следовали за тобой по Египту, пока не представился удобный случай. Когда наступила ночь, мы позвали леди, и она пришла на наш зов. Ты помнишь арабов, разъезжавших по берегу большой реки за день до похищения? Мы были в числе их, и нам удалось на верблюдах увезти леди через пустыню в нашу страну, точно так же, как я убежден, мы перевезем тебя и ее обратно. — Я тоже верю в это, — ответил Регнолл, — вы причинили мне много зла. Но как могло случиться, что мой мальчик был убит слоном? — Спроси об этом Джану, а не меня, — сумрачно ответил Харут. — Ты, Макумазан, получишь в награду много слоновой кости, которую ты видел на кладбище слонов по ту сторону реки Тавы. Когда ты убьешь Джану, стерегущего это место, и нанесешь поражение служащим ему черным кенда, мы дадим тебе верблюдов, чтобы довезти слоновую кость до кораблей. Что касается тебя, желтый человек, я думаю, что ты, который скоро унаследуешь все вещи, не ищешь награды. — Старый маг хочет сказать, что я скоро умру, — задумчиво сплевывая, заметил Ханс, — что же, баас, я готов, если сперва умрет Джана и некоторые другие. Право, я становлюсь слишком старым для путешествий и сражений и потому буду рад перейти в другую страну, где снова сделаюсь молодым. — Вздор! — воскликнул я. — Западная и восточная дороги, — продолжал Харут, — единственные пути, ведущие к храму на вершине горы. Западный путь, который идет через пустыню, легко защитить. Относительно него нам нечего беспокоиться, так как оттуда трудно ждать нападения. Другое дело восточный. Я вам покажу его, если вы поедете со мной. Он отдал несколько приказаний жрецам; те ушли почти бегом и через некоторое время вернулись, ведя нескольких верблюдов. Мы сели на них и, проехав полмили, достигли ряда отвесных скал, образовавших наружный кратер. В этих скалах был проход шириной в две — три сотни ярдов, в середине которого проходила дорога с окопами по сторонам, устроенными, очевидно, с целью обороны. Видя, что эти укрепления представляют надежную защиту, я спросил, когда они выстроены. Харут ответил, что во время последней войны, около ста лет тому назад, когда черные кенда были изгнаны из этого места, так как белые кенда в то время были многочисленнее, чем черные. — Значит, Симба знает эту дорогу? — спросил я. — Да, господин. И Джана знает ее, ибо по временам он посещает эти места и убивает всех, кого встретит. Только к храму он никогда не осмеливается приблизиться. Я сказал Харуту, что нужно без промедления укрепить это место. — Да, господин, — согласился он, — мы недостаточно сильны, чтобы напасть на черных кенда в их стране или встретить их в открытом поле. Только здесь может произойти решительное сражение между Джаной и Дитятей. Вы должны руководить нами в постройке на этом месте различных искусных укреплений, которые помогут нам победить Джану и черных кенда. — Ты думаешь, Харут, что этот слон будет сопровождать Симбу и его воинов? — Без сомнения, господин. Так бывало всегда. Джана повинуется Симбе и некоторым жрецам черных кенда, предки которых вскормили его. Кроме того, он сам умеет думать за себя. Это неуязвимый злой дух. — Его левый глаз и конец хобота оказались уязвимыми, — заметил я, — хотя я не сомневаюсь в его способности соображать. Мы произвели несколько измерений. Регнолл, хорошо знакомый с подобными вещами, вчерне сделал в своей записной книжке набросок местности для составления плана новых укреплений. Мы возвратились в город, где нам теперь предстояло много дел. Утомленные долгой ездой, без сна проведенной ночью и всеми предыдущими треволнениями, мы, немного поев, улеглись спать. Около пяти часов нас разбудил гонец Харута, просившего нас прийти по важному делу в Дом Собраний, который находился недалеко от нашего дома, на площади, где производилась меновая торговля. Там мы нашли Харута и около двадцати других предводителей, за которыми на почтительном расстоянии стояло человек сто белых кенда, преимущественно женщин и детей, так как мужское население было занято уже начавшейся жатвой. Нас проводили на почетные места. Когда мы уселись (Ханс стал за нами), поднялся Харут и сообщил, что от черных кенда прибыло посольство, которое сейчас предстанет перед собранием. Вошли пятеро довольно свирепых на вид черных кенда, без оружия, но со своими обычными серебряными цепочками на груди, обозначавшими их звание. В их предводителе я узнал одного из парламентеров, говоривших с нами перед битвой, в которой я попал в плен. Он выступил вперед и сказал, обращаясь к Харуту: — Не особенно давно, о пророк Дитяти, я, вестник бога Джаны, говорившего устами царя Симбы, предостерегал тебя и твоего брата Марута, но вы не послушались меня. Теперь Джана взял Марута, и я снова пришел предостеречь тебя. — Я помню, — кратко прервал посла Харут, — что вас, передававших мне слова Симбы, было двое. Но Дитя наложило свою печать на лоб одного из вас. Если Джана взял моего брата, то где же твой? — Мы предостерегали Вас, — продолжал посол, — но вы прокляли нас именем Дитяти. — Да, — снова прервал его Харут, — мы прокляли вас тремя проклятиями. Проклятиями бури, голода и войны. Два первых уже сбылись, остается третье, которое скоро падет на вас. — Я пришел говорить с тобой о войне, — сказал посол, дипломатически избегая говорить на другие темы. — Это неразумно, — возразил Харут, — вы уже пробовали сразиться с нами, но добились немногого. С вашей стороны убито много, с нашей мало. Белый господин избегнул ваших рук и клыков Джаны, у которого теперь не хватает глаза. Если он бог, почему он не мог убить лишенного оружия белого человека? — Джана ответит сам за себя, Харут. Вот слова, которые он говорит устами царя Симбы: «Дитя уничтожило мою жатву, поэтому я требую, чтобы его народ отдал три четверти своей. Пусть он соберет ее и сам сложит на южном берегу реки Тавы. Пусть народ Дитяти выдаст белых людей, чтобы они были принесены мне в жертву. Пусть белая госпожа, Хранительница Дитяти, станет женою Симбы, и с нею сто девушек вашего народа. Пусть изображение Дитяти будет принесено к реке Таве и явит покорность богу Джане в присутствии его жрецов и царя Симбы». Вот чего требует Джана устами царя Симбы! Я видел, как содрогнулся Харут и с ним все собравшиеся, когда услышали эти нечестивые требования. — А если мы откажемся исполнить это? — все еще спокойно спросил Харут. — Тогда Джана объявляет вам последнюю войну, — дерзко закричал посол, — войну до тех пор, пока не будет убит последний ваш мужчина, пока Дитя, которое вы чтите, не будет обращено в пепел, пока ваши женщины не сделаются нашими рабынями, пока ваша земля не будет опустошена и имя ваше забыто! Уже рать Джаны собралась, и он трубным звуком зовет ее в бой. Завтра или в ближайшие дни мы обрушимся на вас, и все вы будете истреблены прежде, чем взойдет полная луна! Харут поднялся и, выйдя из-под навеса, стал спиной к послам и пристально посмотрел на отдаленные высокие горы. Я из любопытства последовал за ним и увидел, что эти горы теперь были окутаны темными, тяжелыми тучами. — Последуйте моему совету, друзья, и поскорей поезжайте к реке Таве, — сказал послам Харут, возвращаясь под навес, — в горах сейчас идет такой дождь, какого я никогда не видал. Ваше счастье, если вы успеете перейти через реку, прежде чем она разольется. Это известие, казалось, встревожило послов. Они вышли из-под навеса и смотрели на горы, перешептываясь друг с другом. Потом вернулись и с безразличным видом потребовали ответа на свои требования. — Разве вы не догадались о нем? — спросил Харут. Потом, выпрямившись во весь рост, он загремел на них: — Вернитесь к своему злому богу, скрытому в образе лесного зверя, и его рабу, именующему себя царем, и скажите им: «Так говорит Дитя своим возмутившимся рабам, собакам черным кенда: перейдите, если можете, мою реку. Ты уже мертв, Джана! Ты уже мертв, раб Симба! Вы уже рассеяны, собаки черные кенда! Вы будете жить на бесплодной земле, где вам придется рыть глубокие колодцы, чтобы добыть воды, и питаться дичью, так как у вас будет мало хлеба». Теперь ступайте, да поскорее, чтобы не остаться здесь навсегда! Послы повернулись и удалились. Я был в восхищении от артистических способностей Харута. Надо прибавить, что, будучи весьма наблюдательным человеком, он был совершенно прав относительно дождя в горах. Как мы узнали впоследствии, как раз когда послы достигли реки, она сильно разлилась. Один из них утонул при переправе, и в продолжение четырнадцати дней река оставалась непроходимой для войска. В тот же вечер мы начали приготовления к встрече неизбежного нападения. Положение белых кенда было весьма серьезным. У них было всего около двух тысяч семисот мужчин (включая мальчиков и стариков), годных для военных действий всякого рода. К ним можно было прибавить до двух тысяч женщин. Странно, что у этого народа мужчины превосходили числом женщин. Против столь незначительных сил черные кенда могли выставить двадцать тысяч мужчин, оставив мальчиков и стариков с женщинами для защиты своей земли. Таким образом, на одного белого кенда приходилось почти десять врагов. Кроме того, надо было ожидать, что все черные кенда будут сражаться с большой храбростью и отчаянием, так как три четверти их жатвы и множество скота было уничтожено ужасным градом, о котором я уже упоминал. Им оставалось или отнять хлеб у народа Дитяти, или переносить голод в продолжение года, до новой жатвы. Только одно обстоятельство, я видел, было в пользу белых кенда. Они могли сражаться под защитой укреплений, построенных с помощью искусства и знаний Регнолла и моих. Наконец, враги должны были встретиться с нашими ружьями, которых до сих пор не знали ни черные, ни белые кенда. Не знаю причины этого, тем более, что по временам белые кенда торговали верблюдами с арабами и другими кочующими племенами, которым было известно огнестрельное оружие. Быть может, какой-нибудь старый закон или предрассудок запрещал ввозить оружие в их страну. Как я уже говорил, Регнолл в придачу к своим охотничьим ружьям привез с собой в Африку пятьдесят винтовок системы Снайдерса с большим запасом патронов. С этими винтовками вышло некоторое затруднение на дурбанской таможне. Прежде всего нужно было позаботиться о наилучшем применении этого ценного запаса. Харут отобрал семьдесят пять самых смелых и понятливых молодых людей, которые были переданы мне с Хансом для обучения стрельбе. У нас было всего пятьдесят ружей, но мы обучили семьдесят пять человек, т. е. на пятьдесят процентов больше, чтобы иметь запас для замены павших в бою. От зари до поздней ночи мы с Хансом старались сделать из них метких стрелков. Это была нелегкая задача, тем более, что при практической стрельбе нужно было экономить патроны. Мы учили их по команде открывать и прекращать огонь и не тратить даром ни одного выстрела. За исключением этих семидесяти пяти человек, все мужское население день и ночь было занято сбором жатвы. Все зерно свозилось во второй двор храма на горе, — единственное место, где оно было в безопасности. Стада скота и верблюдов были уведены в безопасные места, в лес на склоне горы, где для них были заготовлены большие запасы корма. Разведчики зорко следили за берегами реки Тавы. Укрепление горного прохода тоже потребовало немалого труда. Это взял на себя Регнолл, к счастью в юности служивший в продолжение нескольких лет в Королевских саперах и потому хорошо знакомый с этим делом. С помощью жрецов и всех женщин и детей, не занятых перевозкой на гору хлеба, было построено множество разнородных укреплений. Повсюду, где только было возможно, были вырыты глубокие ямы с острыми кольями на дне. Я был буквально поражен, когда спустя десять дней увидел эту работу в почти законченном виде. В это время возникли споры, следует ли сделать попытку воспрепятствовать черным кенда переправиться через реку. Этот план находил сторонников среди некоторых стариков. Наконец решение его было предоставлено мне, как главному начальнику, и я отклонил этот план, так как считал наши силы слишком слабыми для его выполнения. На четырнадцатый день наши верховые разведчики донесли, что черные кенда накапливаются в большом числе на противоположном берегу реки Тавы. На пятнадцатую ночь мы получили известие, что они перешли реку в количестве пяти тысяч всадников и пятнадцати тысяч пехотинцев и что во главе их идет огромный слон Джана, на котором едет царь Симба и хромой жрец (вероятно, мой приятель, раненый в ногу пистолетной пулей) в качестве магута[344]. Последнее мне казалось невероятным, так как я не мог себе представить, чтобы можно было ездить на таком бешеном слоне, как Джана. Однако это оказалось правдой. Я полагал, что либо в руках известных лиц это животное становилось ручным, либо ему давали какое-нибудь снадобье. В продолжение двух дней (черные кенда продвигались вперед довольно медленно) мы видели пламя и дым, поднимавшиеся из города Дитяти. Теперь мы знали, что час испытания близок, и все мужчины, женщины и дети с лихорадочной поспешностью заканчивали постройку укреплений и делали все посильные приготовления к их защите. Мы занимали довольно сильную позицию. Все подходы к храму были заграждены. Произвести нападение можно было только с восточной стороны. В проходе было три линии укреплений, построенных одна за другой с промежутками в несколько сот ярдов. Нашим последним убежищем являлись стены самого храма, в задней части которого собрались почти все белые кенда, за исключением охранявших скот в неприступных местах северного склона горы. Тут собралось около пяти тысяч человек обоего пола и всех возрастов, настолько хорошо снабженных пищей, что осаду можно было выдержать в продолжение нескольких месяцев. Всякое отступление было отрезано, так как от лазутчиков мы узнали, что черные кенда, хорошо знакомые с местностью, поставили несколько тысяч человек охранять западную дорогу и склоны горы. Единственный оставшийся путь через пещеру был нами самими загражден большими камнями. В общем, мы находились в положении крыс, попавших в западню, и нам только оставалось либо победить, либо умереть, так как сдача в плен принесла бы нам участь горше смерти.Глава 19
АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН ДЕЛАЕТ ПРОМАХИ
Я сделал последний обход небольшого отряда, который в шутку прозвал «Отрядом метких стрелков», хотя, сказать правду, их стрельбу можно было назвать какой угодно, только не меткой. Стрелки стояли по своим местам, укрываясь за стеной, причем позади каждой пары сидел на корточках запасной, готовый сменить павшего. Я убедился, что в кожаной сумке каждого из них было по двадцать патронов. Опасаясь беспорядочной стрельбы, как это бывает даже в хорошо дисциплинированных войсках белых, я не снабдил их большим количеством. Остальной запас (приблизительно по шестьдесят патронов на каждое ружье) находился у нескольких стариков, помещавшихся в сравнительно безопасном месте за линией. Им было отдано приказание передавать патроны в боевую линию в небольших количествах, но не раньше, чем в этом представится действительная надобность. Это было необходимо для того, чтобы ни один выстрел не пропал даром. Сделав несколько указаний и предостережений исполнявшим обязанности сержантов отряда, я вернулся в беседку, устроенную для нас за скалой, и решил, если удастся, вздремнуть до начала сражения несколько часов. Здесь я нашел Регнолла, только что вернувшегося с обхода укреплений, устроенных им с большой тщательностью, и осмотревшего, все ли отряды белых кенда готовы к выполнению своего назначения в обороне. Он был утомлен и слишком возбужден, чтобы сразу уснуть. Мы поговорили немного о предстоящем сражении. Потом я спросил его, не слышал ли он что-нибудь о своей жене. — Ничего, — ответил он, — эти жрецы не говорят о ней. Да если бы и говорили, я бы все равно ничего не понял, так как Харут единственный из них человек, с которым я могу объясняться. Кроме того, я строго держал свое слово и даже, когда мне представился случай увидеть ее при укреплении западной дороги, сделал крюк, чтобы не проходить мимо дома, где она живет. Ах, Квотермейн, мой друг! Хуже всего то, что к ней, как я узнал от Харута, до сих пор не вернулся рассудок. — Напротив, это хорошо, — возразил я, — так как она, по крайней мере, не страдает. Но каким образом вы и бедняга Сэвидж могли видеть ее в городе Дитяти? Ведь это не фантазия, так как, по вашему описанию, на ней был такой же наряд, какой мы видели на празднестве Первых Плодов. — Я тоже не понимаю этого, Квотермейн. На свете бывает много странных вещей, над которыми мы иногда смеемся, потому что они непонятны нашему ограниченному разумению. Но слушайте, Квотермейн. Если я погибну, что легко может случиться, а вы переживете меня, вы должны сделать все зависящее от вас, чтобы доставить ее в Англию. Вот приписка к моему духовному завещанию, надлежащим образом засвидетельствованная Сэвиджем и Хансом. По ней вам предоставляется необходимая сумма для покрытия всех расходов и кое-что для вас самих. Возьмите ее. — Я сделаю все, что будет в моих силах, — ответил я, пряча документ в карман, — а теперь не будем больше думать о смерти. Это может помешать нашему сну, в котором мы весьма нуждаемся. Я надеюсь остаться в живых, дав хороший урок этим негодным кенда, и проводить вас и леди Регнолл до берега моря. Спокойной ночи! После этого мы крепко уснули и проспали несколько часов. Проснувшись, я увидел Ханса, сидевшего у входа в беседку, покуривая свою роговую трубку, и державшего на коленях «Интомби». Я спросил его, который час, и получил ответ, что до зари остается два часа. На вопрос, почему он не спит, он ответил, что уже спал и во сне видел моего покойного отца. Немного спустя, когда я допивал свой кофе, ко мне пришли по делу от Регнолла, вставшего раньше меня. Я обернулся, чтобы передать чашку Хансу, но он уже исчез. Поставив ее на землю, я погрузился в рассмотрение дела, по которому пришли посланные. Тем временем вошли наши лазутчики, всю ночь следившие за лагерем черных кенда. Враги расположились не более чем в полумиле от нас на открытом склоне холма, со всех сторон окружив себя пикетами. По словам двух захваченных нашими пленных, принужденных под угрозой смерти говорить правду, они собирались напасть на нас при восходе солнца, так как ночью боялись засады. У нас поднялся вопрос, не атаковать ли нам самим их лагерь ночью, но по обсуждению этот план был оставлен, так как враги значительно превосходили нас числом и благодаря хорошо выбранной ими позиции к ним невозможно было подойти, не будучи сперва замеченными их аванпостами. В глубине души я надеялся, что, вопреки словам пленных, они попытаются напасть на нас до зари и в темноте попадут в наши ямы и рвы, которые могут истребить большое число их. Накануне сметливый Ханс указывал мне, какие выгоды мог представить для нас такой случай. Я был вполне согласен с ним. За час до наступления зари ко мне зашел старый Харут и уведомил меня, что все наши люди поднялись и стоят по местам, делая последние приготовления к защите укреплений и стен первого двора храма, если нам придется отступить. Лишь только он это сказал, как внезапно сквозь тишину, обыкновенно, предшествующую рассвету, до наших ушей долетел звук, несомненно ружейного выстрела. Выстрел раздался приблизительно в полумиле от нас, и за ним послышался шум большого лагеря, неожиданного всполошившегося ночью. — Кто мог сделать это, — спросил я, — ведь у черных кенда нет ружей. Харут высказал предположение, что, быть может, кто-нибудь из наших стрелков покинул свой пост. Пока мы строили различные догадки, прибежали наши лазутчики с известием, что черные кенда, очевидно решившие, что на них нападают, вышли из лагеря и приближаются к нам. Мы обошли наши передовые линии и взялись за оружие. Минут через пять, стоя на своем месте за стеной и прислушиваясь к приближающемуся шуму, я увидел сквозь густой мрак (луна уже зашла) что-то бегущее по направлению ко мне, похожее на пригнувшегося к земле человека. Я поднял было ружье, но, подумав, что это может быть просто гиена, не стал стрелять, так как опасался вызвать этим напрасную пальбу своего отряда. В следующий момент из-за стены, за которой я стоял, послышался хорошо знакомый мне голос: — Не надо стрелять, баас, это я. — Что ты делал, Ханс? — спросил я, когда он перелез через стену. — Я нанес визит черным кенда, баас, — запыхавшись отвечал Ханс, — пробравшись через их дурацкие аванпосты, которые также слепы ночью, как летучие мыши днем. Я надеялся отыскать Джану и всадить ему пулю в ногу или хобот. Но я не нашел его. Один из их начальников стоял у сторожевого костра, представляя хорошую мишень для выстрела. Моя пуля достала его, баас, потому что он свалился в огонь, разбрасывая во все стороны искры. Потом я пустился наутек и, как видит баас, счастливо добежать сюда. — Зачем ты делаешь глупости? — сказал я. — Ведь это могло тебе стоить жизни! — Я умру не раньше, чем мне это назначено, баас, — отвечал он, заряжая своей маленькое ружье, — и это не глупость, а умный поступок, баас. Потому что черные кенда, думая, что мы на них напали, сами поспешили атаковать нас в темноте. Вот они уже идут. Это действительно подтверждалось приближавшимся шумом. Трубили рога, слышались окрики вождей, и вся гора сотрясалась от топота тысяч человеческих и лошадиных ног. Вой и крики: «Джана! Джана!» эхом отдавались в скалах и лесах. С нашей стороны царило молчание. — Теперь они подходят к ямам, — захихикал Ханс, нервно переминаясь с ноги на ногу. — Вот! Они уже полетели в них. Это была правда. Крики ужаса и боли говорили, что первые ряды конных и пеших врагов попадали в искусно вырытые в большом количестве ямы, замаскированные сверху ветками. Падая в ямы, враги пронзались острыми кольями, вколоченными в их дно. Тщетно передние ряды пытались криками предупредить задние о грозящей им опасности. Людской поток катился вперед, доверху наполняя ямы смертельно раненными и задушенными. Не знаю, сколько их погибло, но после битвы почти не было ни одной ямы, не наполненной до краев мертвыми. Изобретение Регнолла, до сих пор неизвестное людям кенда, сослужило нам хорошую службу. Однако враги, наполнив трупами ямы, прошли по ним и, уже различаемые мною во мраке, подходили к нам. Теперь настал мой черед. Когда они были не более чем в пятидесяти ярдах от первой стены, я скомандовал своим стрелкам открыть огонь и для примера разрядил оба ствола одного из слоновых ружей в самую гущу толпы. На таком расстоянии не могли промахнуться даже самые неопытные стрелки. Ни один выстрел не пропал даром. Часто одна пуля убивала или ранила несколько человек. Результат последовал мгновенно. Черные кенда, совершенно непривычные к ружейной стрельбе и воображавшие, что у нас всего два — три ружья, остановились, как парализованные. На несколько мгновений воцарилась тишина, вскоре нарушенная новым залпом из снова заряженных нами ружей. За ним последовали крики и стоны падавших повсюду врагов и паническое их бегство. — Они бегут! Это для них слишком горячо, баас! — ликующе воскликнул Ханс. — Да, — ответил я, когда мне наконец удалось остановить стрельбу, — но я думаю, что с наступлением рассвета они снова вернутся. Однако твоя вылазка дорого обошлась им, Ханс. Постепенно рассветало. Тишина не нарушалась ни малейшим дуновением ветерка. Но что за сцена открылась перед нами с первыми лучами солнца! Все ямы и рвы были до краев наполнены еще шевелившимися людьми и лошадьми. Недалеко от нас лежали кучи убитых и раненых — кровавая жатва нашего ружейного огня. Эта ужасная картина была сильным контрастом по сравнению с мирным покоем, царившим наверху. Мы не потеряли ни одного человека, если не считать одного легко раненного брошенным копьем. Этот факт вызвал необыкновенное ликование у полудиких кенда. Полагая, что каково начало, таков должен быть и конец, они издавали веселые крики, пожимая друг другу руки. Потом они с аппетитом принялись за еду, принесенную женщинами, причем не переставали болтать, несмотря на то что вообще были весьма молчаливым народом. Даже степенный Харут, подошедший ко мне с поздравлениями, казался возбужденным, как мальчик, пока я не напомнил ему, что настоящее сражение еще впереди. Черные кенда попали в ловушку и понесли большие потери, но это не могло иметь особенного влияния на исход борьбы, так как число врагов было слишком велико. Регнолл, пришедший со своей оборонительной линии, согласился со мной. Черные кенда, сражавшиеся за жизнь, равно как и за честь, будут наступать до тех пор, пока не победят или не будут истреблены. Но как мы могли надеяться с небольшими силами истребить такое воинство? Четверть часа спустя двое наших часовых, помещавшихся на вершинах высоких скал, донесли, что черные кенда выстраивают свои полчища и что их кавалерия спешилась и лошади уведены в тыл, будучи, очевидно, признаны бесполезными в этом месте. Немного спустя из-за поворота показалось несколько отдельных человек, державших в руках по связке длинных палок с кусками белой материи, прикрепленными к концу каждой. Меня чрезвычайно заинтересовало назначение этих палок. Скоро все стало ясно. Эти люди (их было тридцать — сорок) быстро бегали в разных направлениях, пробуя почву копьями в поисках новых ям. Нетронутых они нашли очень мало и перед каждой из них, равно как и перед уже наполненными, они в виде предостережения втыкали палку с флажком. Ими же было унесено много раненых. Мы с большим трудом сдерживали белых кенда, желавших напасть на них, что, несомненно, могло завлечь наших в засаду. Я также не позволил своим людям стрелять по ним, так как в результате было бы много промахов и, следовательно, напрасной траты патронов. Сам я, однако, сделал два — три выстрела. Исследовав основательно почву, разведчики удалились, и немного спустя начали показываться шедшие в полном порядке войска черных кенда. Их было около десяти тысяч человек. Ярдах в четырехстах они остановились. Последовала пауза, вскоре нарушенная звуками рогов и ликующими криками. Тут моим глазам представилось необыкновенное зрелище. Из-за поворота показался шедший медленным, тяжелым шагом огромный слон Джана. На его спине и голове сидели двое людей, в которых я с помощью бинокля узнал уже знакомого мне хромого жреца и Симбу, царя черных кенда, пышно разряженного. Он сидел на деревянном стуле, размахивая длинным копьем. Вокруг шеи животного было обвязано двенадцать цепей, концы которых держали воины, бежавшие по шести с каждой стороны. К концу хобота Джаны были прикреплены три другие цепи, заканчивавшиеся железными шарами. Он шел, как послушный индийский слон, на котором возят бревна, проходя широким коридором, оставленным среди войска, иосторожно обходя ямы, наполненные мертвыми. Я думал, что он остановится, дойдя до первых рядов. Но я ошибся. Джана продолжал идти прямо на наши укрепления. Для меня представлялся исключительный случай. Я приготовил тяжелое двуствольное слоновое ружье. Второе точно такое же ружье со взведенными курками держал Ханс, готовый в нужный момент подать его мне. — Я убью этого слона, — сказал я, — пусть никто не стреляет. Вы сейчас увидите, как умрет бог Джана. Огромное животное продолжало идти вперед. Теперь оно представлялось мне еще большим, чем при свете луны, когда оно стояло надо мною, готовясь раздавить меня ногой. Я уверен, что во всей Африке не было равного Джане слона. — Пора стрелять, баас, — прошептал Ханс, — он уже близко. Но я решил подождать, пока он не остановится, намереваясь для поддержания всего престижа покончить с ним одной пулей. Наконец он остановился и, открыв свою красную пасть, поднял хобот вверх и затрубил. Симба, поднявшись со своего кресла, начал кричать, чтобы мы сдались «непобедимому» и «неуязвимому» богу Джане. «Я покажу тебе, какой он неуязвимый», — подумал я. Оглянувшись назад, я увидел Регнолла, Харута и всех белых кенда, ожидавших, затаив дыхание, развязки. Трудно было представить себе более удобный и верный случай для выстрела. Голова животного была поднята, рот открыт. Мне только оставалось послать ему пулю через небо в мозг. Это было очень легко. Я готов был держать пари, что могу покончить с ним, имея одну руку привязанной к спине. Я поднял свое тяжелое ружье и, прицелившись в определенное место в задней части его красного рта, спустил курок. Раздался выстрел, но ничего не произошло. Джана даже не потрудился закрыть свой рот. — Ого! — послышались восклицания зрителей. Прежде чем они стихли, последовал второй выстрел, но с тем же результатом, вернее без всякого результата. Тогда Джана закрыл свой рот, перестал трубить и, как будто желая сделать из себя еще лучшую мишень, повернулся боком и встал совершенно спокойно. Я схватил второе ружье и, прицелившись за ухо — место, за которым (я знал по долгому опыту) находится сердце, — выстрелил сначала из одного ствола, потом из другого. Джана не пошевелился. На его шкуре не появилось ни одного кровавого пятна. Меня охватило ужасное сознание, что я, Аллан Квотермейн, знаменитый стрелок, знаменитый охотник на слонов, четыре раза подряд промахнулся, стреляя в огромное животное на расстоянии сорока ярдов. Мой стыд был так велик, что я едва не упал в обморок. Точно сквозь туман я слышал различные восклицания. — Господи! — воскликнул Регнолл. — Allemagte! — вторил ему Ханс. — Дитя, помоги нам, — бормотал Харут. Все смотрели на меня, как будто я был сумасшедшим. Кто-то нервно засмеялся, и тотчас же все начали смеяться. Даже стоявшие вдалеке черные кенда корчились от смеха, и я, Аллан Квотермейн был центром их насмешек! Мне казалось, что я схожу с ума. Внезапно смех прекратился. Снова царь Симба начал что-то кричать о Джане, «неуязвимом» и «непобедимом», на что белые кенда кричали: «Колдовство! Околдованный!» — Да! — вопил Симба. — Никто не может ранить бога Джану. Даже белый господин, которого вы привезли издалека, чтобы убить его. Ханс вскочил на стену и, прыгая, как ужаленная обезьяна, закричал: — А где левый глаз Джаны? Не моя ли пуля вышибла его? Если Джана бог, почему он допустил это? Потом он перестал прыгать и, подняв «Интомби», крикнул: — Посмотрим, бог ли это или простой слон. Грянул выстрел, и одновременно с ним я увидел кровь, показавшуюся на шкуре Джаны в том самом месте, куда я безрезультатно целился. Конечно, пуля из небольшого, малокалиберного ружья была не в состоянии достать до сердца. Вероятно, она, пробив шкуру, застряла на глубине не более двух дюймов. Однако она оказала надлежащее действие на «неуязвимого» бога. Он поднял хобот и закричал от боли и ярости, потом повернул к своему народу и побежал таким шагом, что люди, державшие цепи, выпустили их и отлетели в сторону, а Симба и жрец едва удержались на его спине. Результат выстрела Ханса был настолько удовлетворителен, что общее убеждение в заколдованности Джаны исчезло, но это оставило меня в еще худшем положении, чем прежде, так как, очевидно, Джана был защищен от моих пуль исключительно недостатком у меня ловкости. Ох, никогда в жизни я не испытывал такого унижения, как в этот несчастный час. Однако как могло случиться, что я, при всем моем искусстве, мог дать четыре промаха подряд по такой горе? На этот вопрос я никогда не мог найти ответа. К счастью, скоро общее внимание было отвлечено от меня, так как масса черных кенда с громкими криками пришла в движение. Приступ начался.Глава 20
АЛЛАН ПЛАЧЕТ
Медленно продвигавшимся вперед главным силам черных кенда предшествовало около тысячи застрельщиков, из которых каждый был снабжен пучком метательный копий. Когда они были ярдах в пятидесяти от нас, мы открыли огонь и уложили многих из них и из шедших за ними главных сил. Но это не остановило их, да и что могли поделать пятьдесят ружей против целой орды храбрых дикарей, у которых, казалось, не было страха смерти. Вскоре их метательные копья начали падать среди нас, ранив нескольких. Большого ущерба они не могли нам нанести, так как мы стояли под прикрытием стен. Мы стреляли, заряжали и снова стреляли, сметая первые ряды, но на их месте появлялись все новые и новые. Наконец по данной команде застрельщики, исключая убитых и раненых, укрылись за подходившими все ближе и ближе главными силами, которые теперь находились ярдах в пятидесяти от нас. После минутной паузы снова раздалась команда, и три первых плотных ряда бросились на нас. Мы дали залп и, как было раньше условлено, отошли назад, за следующую линию укрытий, откуда продолжали поддерживать огонь. Теперь вступил в дело главный отряд белых кенда под командой Регнолла и Харута. Враги, перебравшиеся через первую стену, только что оставленную нами, встретились с нашими копейщиками в тесном месте между двумя стенами, где численное превосходство не давало большого преимущества. Здесь произошел ужасный бой. Потери нападающих были чрезвычайно велики, так как, завладев одним рядом укреплений, они через несколько ярдов наталкивались на новый отряд защитников, которых можно было принудить к отступлению только весьма дорогой ценой. Так продолжался бой часа два или более. Чтобы сломить оказываемое нами отчаянное сопротивление, черные кенда (я должен сказать, что сражались они превосходно) масса за массой обрушивались на нас, устилая свой путь сотнями убитых и раненых. Между тем я со своими стрелками осыпал их градом пуль до тех пор, пока запас патронов не начал истощаться. В половине восьмого утра нам пришлось отступить за последнее наружное укрепление, находившееся как раз у восточных ворот храма, в туннеле, проходившем через скалу из застывшей лавы. Трижды бросались на нас черные кенда и трижды мы отбивали их, пока ров перед стеной почти доверху не наполнился павшими. Едва врагам удавалось взобраться на стену, как наши копейщики пронзали их своими длинными копьями или стрелки поражали их пулями. Характер местности допускал только прямую фронтальную атаку. Наконец враги были вынуждены прекратить на некоторое время нападение и отступить. Но вскоре, отдохнув и получив подкрепление, они с криками и пением военных песен снова бросились на нас. Две тысячи врагов, как поток, устремились на нас. Но мы отбили их атаку. Они бросились во второй раз, но мы снова отбили их. Тогда они изменили свой план нападения. Остановившись среди мертвых и умирающих у основания стены, построенной из камней и земли, они начали подкапывать ее. Нам трудно было помешать им в этом, так как всех, кто показывался из-за стены, они осыпали тучами метательных копий. Через пять минут они устремились в пробитую брешь. Тщетно было пытаться задержать этот натиск, так велико было число врагов. Несмотря на отчаянное сопротивление, мы были отброшены к воротам храма и укрылись в его первом дворе. Нам едва удалось запереть ворота, которые тотчас же были забаррикадированы камнями и землей. Но это помогло нам ненадолго. Враги натаскали хвороста и сухой травы к сделанным из кедрового дерева воротам и подожгли их. Пока они горели, мы совещались. Дальше отступать было некуда, так как во втором дворе, где находились женщины и дети и лежали запасы хлеба, было очень мало места для боя. Только здесь, на первом дворе, мы должны были удержаться и либо победить, либо умереть. До этого времени наши потери, по сравнению с черными кенда, потерявшими свыше двух тысяч человек, были незначительны. У нас было около двухсот человек убито и приблизительно столько же ранено. Следовательно, в нашем распоряжении оставалось около тысячи шестисот бойцов, что было значительно больше, чем могло сражаться в этом тесном месте. Поэтому мы пришли к такому решению: триста пятьдесят лучших воинов должны были защищать храм, пока не падут. Остальные (больше тысячи) были уведены во второй двор, где находились женщины и дети. Они должны были проводить последних тропинками к месту, где были спрятаны верблюды, и бежать с ними куда могут. Мы надеялись, что, победив, черные кенда будут слишком утомлены, чтобы преследовать их по равнине до отдаленных гор. Это было отчаянное решение, но у нас не было другого выбора. — А моя жена? — хрипло спросил Регнолл. — Пока храм стоит, она должна оставаться в нем, — отвечал Харут, — но когда все будет потеряно и я паду, ты, белый господин, войди в святилище, возьми ее и Дитя и беги за другими. Только я возлагаю на тебя обязанность: под страхом проклятия неба, не допусти, чтобы Дитя попало в руки черных кенда. Сперва сожги его огнем или преврати в прах камнями. Кроме того, я отдал приказание в последнюю минуту поджечь навесы, устроенные над запасами хлеба, чтобы враги, избегнувшие наших копий, умерли от голода. Тотчас же все приказания Харута, который был не только главным жрецом, но и чем-то вроде президента этой республики, были беспрекословно исполнены. Я никогда не видел более совершенной дисциплины, чем у этого бедного народа. Отряд за отрядом воинов, назначенных сопровождать женщин и детей, исчезал за воротами второго двора. Каждый уходивший оборачивался и салютовал оставшимся копьями. Оставшиеся триста пятьдесят человек встали по местам, как греки, защищавшие Фермопилы. Впереди поместился я со своими стрелками, которым были розданы все остальные патроны (по восемь на человека). За нами встали в четыре ряда воины, вооруженные саблями и копьями, под начальством Харута. Позади них, вблизи ворот, ведущих во второй двор храма, находились пятьдесят отборных людей под командованием Регнолла, которые должны были в критический момент сделать попытку спасти Хранительницу Дитяти. Я забыл упомянуть, что Регнолл был дважды ранен при отчаянной защите укреплений: в плечо и бедро. Когда все было готово и все утолили жажду из больших кувшинов, стоявших вдоль стен двора, пламя начало пробиваться сквозь массивные деревянные ворота. Это случилось не ранее, чем через добрых полчаса после того, как они были подожжены. Наконец они рухнули под ударами извне. Но проход оставался загроможденным грудой камней, набросанных нами после закрытия ворот. Черные кенда разгребали их руками, палками и копьями. Это было нелегко, так как наши поражали их копьями и избивали камнями. Но мертвые и раненые оттаскивались в сторону, а на их место становились другие. В конце концов проход был очищен. Тогда я отослал копейщиков назад на свои места и приготовился выполнить свою роль. Ждать пришлось недолго. С громкими криками толпа черных кенда бросилась в проход. Едва они появились во дворе, я скомандовал стрелять, и пятьдесят пуль полетело им навстречу с расстояния всего в несколько ярдов. Они повалились кучами, как скошенный хлеб. Мы быстро зарядили ружья и ждали новой атаки. Снова появились враги и снова повторилась ужасная сцена. Ворота и туннель были загромождены павшими. Чтобы возобновить атаку, врагам пришлось убирать их под нашим огнем (стреляли я, Ханс и несколько лучших стрелков). Так продолжалось до тех пор, пока мы не истратили последние патроны. Тогда мои люди отошли назад, предоставив Харуту и его отряду занять наши места, и сменили бесполезные ныне ружья на сабли. В продолжение получаса и более продолжалась ужасная борьба. Бой происходил в весьма узком месте, и черные кенда были не в состоянии пробиться сквозь копья наших бойцов, защищавших свою жизнь и святилище своего бога. Наконец враги отступили, дав нашим возможность убрать в сторону убитых и раненых и утолить жажду водой, так как стояла невыносимая жара. Вдруг в воротах показался огромный слон Джана, подгоняемый сзади уколами копий. Он быстро шел вперед, сметая на своем пути защитников храма, как будто это была сухая трава, и сокрушая все хоботом, на котором висели железные шары. Удары копий действовали на него не более, чем укусы комаров. Он трубя шел вперед, а за ним потоком катились черные кенда, на которых наши копейщики обрушились с двух сторон. В это время я в сопровождении Ханса возвращался со второго двора, куда ходил посетить раненого в третий раз Регнолла. Найдя, к своей великой радости, его рану не опасной, я спешил вернуться к сражающимся и вдруг увидел дьявола Джану, несущегося прямо на меня, разрезая на две части толпу вооруженных людей, как нос гонимого бурей корабля разрезает воду. Сказать правду, я, несмотря на нелюбовь к излишнему риску, обрадовался при виде его. Даже возбуждение от продолжительного сражения не могло уничтожить во мне чувства стыда, который я испытал, промахнувшись по этому животному четыре раза подряд на расстоянии сорока ярдов. — Теперь, Джана, — думал я, испытывая нечто вроде радостной дрожи, — теперь я смою свой позор. На этот раз я не промахнусь, иначе это будет моим последним промахом. Джана несся вперед, вертя железными шарами, среди воинов, которые бежали направо и налево, очищая между ним и мною пространство. Для большей верности (я немного дрожал от усталости) я встал на правое колено, опершись на левое локтем, и прицелился в шею животного. Когда оно было шагах в двадцати от меня, я выстрелил, но попал не в Джану, а в хромого жреца, исполнявшего обязанности магута, сидя на его шее несколькими футами выше места, куда я метил. Да! Я попал ему в голову, которую разбил, как яичную скорлупку, и он бездыханным свалился на землю. В отчаянии я снова прицелился и выстрелил. На это раз пуля попала в конец левого клыка Джаны, от которого отлетел осколок. Последняя надежда погибла. У меня даже не оставалось времени подняться и бежать. Я так и остался на коленях, ожидая конца. В одно мгновение огромное животное очутилось почти надо мною и, открыв рот, подняло хобот. Вдруг я услышал голландское проклятие и увидел Ханса, почти всунувшего в рот Джаны конец моего второго слонового ружья. Грянул выстрел, за ним другой. Через миг огромный хобот обвился вокруг Ханса и, завертев его в воздухе, бросил футов на тридцать — сорок в сторону. Джана зашатался, как бы готовый упасть, но удержался, покачнулся вправо, прошел, спотыкаясь, несколько шагов, минуя меня, и остановился. Я повернулся, сел на землю и смотрел, что будет дальше. Сперва я увидел Регнолла, бежавшего с ружьем. Он дважды выстрелил в голову животного, но оно не обратило на это никакого внимания. Потом я увидел его жену, Хранительницу Дитяти, вышедшую из портала второго двора в сопровождении двух жриц, со статуей Дитяти из слоновой кости в руках. Все они были одеты так же, как и в утро жертвоприношения. Она совершенно спокойно шла вперед, устремив свои большие глаза на Джану. По мере ее приближения животное начало проявлять беспокойство. Повернув голову, оно подняло хобот и, вытянув его вдоль спины, схватило за лодыжку царя Симбу, неподвижно сидевшего на своем кресле. Медленно оно стащило Симбу с кресла. Он упал около левой передней ноги животного. Потом оно обвило хобот вокруг тела беспомощного человека (я до сих пор не могу забыть выражение его полных ужаса глаз) и завертело его в воздухе, сперва медленно, потом все скорее и скорее, пока блестящие цепи на груди жертвы не превратились под лучами солнца в одно сплошное серебряное колесо. Потом оно швырнуло его на землю, где бедный царь лежал безжизненной массой, потерявшей человеческий вид. Хранительница Дитяти бесстрашно остановилась перед животным-богом. Ее спутницы остались позади. Регнолл прыгнул вперед, желая увлечь ее в сторону, но целая дюжина людей удержала его, — не знаю, с целью ли спасти его жизнь или по какой-нибудь другой причине. Джана смотрел на Хранительницу Дитяти, она смотрела на Джану. Потом он яростно закричал и, выхватив Дитя из слоновой кости из ее рук, завертел его в воздухе и разбил о камни, как Симбу. Древняя статуя, пережившая много веков, разлетелась на тысячу мелких кусочков. При виде этого белые кенда издали великий стон, женщины, сопровождавшие Хранительницу, разорвали на себе одежды, стоявший вблизи Харут в беспамятстве упал на землю. Еще раз закричал Джана, потом медленно опустился на колени и, трижды ударив о землю хоботом, как бы являя этим покорность прекрасной Хранительнице, стоявшей перед ним, задрожал всем своим могучим телом и пал мертвым! Битва прекратилась. Черные кенда стояли в оцепенении. — Бог умер! — крикнул голос. — Царь умер! Джана убил Симбу и сам убит! Дитя разбито! Бегите, черные кенда! Бегите, ибо боги умерли и земля ваша стала землей призраков. Со всех сторон эхом раздавался стон: «Бегите черные кенда, ибо боги умерли!» Они повернулись и бежали, как тени, унося с собой раненых. Никто не пытался остановить их. Через полчаса ни одного из них, за исключением тяжело раненных и умирающих, не оказалось во дворе храма. Все они бежали. Сражение окончилось. Сражение, которое казалось потерянным, было выиграно! Я поднялся и, стоя на нетвердых ногах, увидел Регнолла, только что отпущенного державшими его людьми. Он прыгнул по направлению к своей жене и встал перед ней. — Луна! — воскликнул он. Облокотившись на плечо одного из белых кенда, я подошел к ним ближе, так как любопытство превозмогло мою слабость. Некоторое время она пристально смотрела на него, потом ее глаза начали изменяться, как будто к ней возвращалась душа, сообщая им свет и жизнь. Наконец она заговорила медленным, нерешительным голосом. — Ох, Джордж, это ужасное животное убило нашего ребенка! — говорила она, указывая на мертвого слона. — Посмотри на него! Теперь мы будем друг для друга всем, как и прежде, пока Бог не пошлет нам другого ребенка. С этими словами она разразилась потоком слез и упала в объятия мужа. Я отошел в сторону (к своей чести, то же сделали кенда), оставив их вдвоем около мертвого Джаны. Тут я должен сказать, что с этого момента к леди Регнолл совершенно вернулся рассудок, как будто гибель Дитяти из слоновой кости сняла с ее чары. В чем заключались эти чары — я не могу сказать, но думаю, что каким-то необъяснимым путем она связывала это изображение со своим потерянным ребенком. Первая смерть отняла у нее рассудок, вторая, кажущаяся смерть вернула его. С момента гибели своего ребенка на улице английского местечка до гибели Дитяти из слоновой кости в Центральной Африке она ничего не помнила, за исключением сна, о котором спустя несколько дней рассказала Регнолл у в моем присутствии. Она говорила, что однажды ночью видела Регнолла и Сэвиджа, спавших в туземном доме в городе Дитяти. Я представляю читателю самому сделать вывод об это сне в связи с видением Регнолла и Сэвиджа, о котором рассказано выше. Сам я не могу предложить ни одного объяснения. Оставив Регнолла и его жену, я, пошатываясь, отправился искать Ханса и нашел его лежавшим без чувств вблизи северной стены храма. Очевидно, всякая человеческая помощь уже была для него бесполезна — так сильно он был искалечен Джаной. Мы отнесли его в комнату одного из жрецов, где я сидел над ним до конца, наступившего при закате солнца. Перед смертью он пришел в полное сознание. — Не надо горевать о промахе по Джане, баас, — говорил он, — это какой-то демон отвращал от него пули бааса. Джана был заколдован от белых людей. Лорд Игеза тоже промахнулся по нему. Но колдуны черных кенда забыли заколдовать Джану от маленького желтого человека. Потому я всякий раз, когда стрелял, попадал в него. Он знал, кто пустил в него последние пули. Вот почему он оставил бааса и схватил меня. Ох, баас! Я умираю счастливым, что убил Джану и что он схватил меня, а не бааса. Я все равно умер бы через день или два, так как был ранен брошенным копьем в пах. Я ничего не говорил об этом. Рана была не очень большая и крови из нее вытекло мало, но, пока продолжалась битва, мне становилось худо. — (Осмотр этой раны показал, что Ханс был прав. Долго он все равно не прожил бы.) — Если баас хочет передать через меня что-нибудь своему покойному отцу, пусть баас говорит скорее, пока моя голова может удержать слова. Потом он попросил перенести его к порогу, чтобы в последний раз взглянуть на солнце, «потому что, баас», — прибавил он, — «я уйду далеко за солнце». Некоторое время он смотрел на заходящее светило, говоря, что, судя по небу, будет хорошая погода «для путешествия к Черной Воде, чтобы увезти всю ту слоновую кость». Я ответил, что мне, быть может, никогда не удастся забрать с кладбища слоновую кость, так как черные кенда могут помешать мне в этом. — Нет, баас, — ответил он, — теперь, когда Джана убит, черные кенда оттуда уйдут. Я знаю это, я знаю это. Потом он начал бредить о наших прежних приключениях до тех пор, пока перед самым концом рассудок снова не вернулся к нему. — Баас, — сказал он, — вождь Мавово назвал меня Светом Во Мраке. Когда баас тоже вступит во Мрак, пусть он поищет этот свет. Он будет сиять около бааса. Теперь я понял, что хотел сказать покойный отец бааса, когда говорил о любви. Это то, что я чувствую к баасу. После этого Ханс умер с улыбкой на своем морщинистом лице. Я плакал.Глава 21
ДОМОЙ
Мне не много остается рассказать об этой экспедиции, хотя я не сомневаюсь, что Регнолл при желании мог бы написать целый интересный том относительно многого, чего я едва коснулся, так как ограничивался только историей наших приключений. Например, о сходстве центральноафриканского культа Дитяти и Хранительницы с египетским культом Гора и Изиды, от которого, несомненно, произошел первый. Дальнейшее наше путешествие через пустыню до Красного моря было весьма интересным. Но мне надоело описывать путешествия, так же, как и совершать их. После смерти Ханса бодрость покинула меня. Мы похоронили его в почетном месте, перед воротами второго двора храма, где он убил Джану. Когда земля начала засыпать его маленькое желтое лицо, я почувствовал, будто половина моего прошлого осталась с ним в этой могиле. Бедный старый Ханс! Где я найду другого такого человека, как ты? Где я найду столько любви, которой было переполнено твое странное сердце? Ханс был совершенно прав относительно черных кенда. Они покинули свою землю, вероятно в поисках пищи, но куда ушли — не знаю, да и не интересовался. Они были порядочными головорезами, но в то же время превосходными бойцами. Что с ними сталось — для меня было безразлично. Одно могу сказать: огромная их доля никуда не переселилась, так как свыше трех тысяч их было предано земле белыми кенда, для чего весьма пригодились вырытых нами для обороны ямы и рвы. Наши потери составляли пятьсот три человека, включая умерших от ран. Джана был зарыт в том месте, где пал, в нескольких футах от убившего его Ханса. Мы были не в силах перенести его труп в другое место. Я всегда сожалел, что не произвел точного измерения этого животного, бывшего, я полагаю, самым большим слоном в мире. Я видел его мельком на следующее утро, когда он был столкнут в огромную яму вместе с останками царя Симбы. Я обнаружил, что все раны, за исключением уколов копьями, были причинены ему пулями Ханса. Я просил белых кенда подарить мне оба огромных клыка, которым, я думаю, по объему и весу не было равных во всей Африке, хотя один из них был надломлен. Но в этом мне было отказано. Белые кенда хотели сохранить их вместе с цепями и хоботом как память о победе над богом своих врагов. Прежде чем зарыть Джану в землю, они топорами отрубили ему хобот и клыки. По сильной истёртости его зубов я сделал вывод, что это животное было очень старым, но насколько — трудно сказать. Это все, что я могу сказать о Джане. Белые кенда во всех отношениях строго сдержали свои обещания. В странной, полурелигиозной церемонии, при которой я не присутствовал, леди Регнолл была освобождена от высокой должности Хранительницы, хотя я думаю, что жрецы, насколько могли, собрали все обломки слоновой кости и сохранили в кувшине в святилище. После этого прислужницы сняли с нее одеяние, о весьма древнем происхождении которого, кроме Харута, я думаю, никто из белых кенда не имел представления. Потом, одетая в туземное платье, она была передана Регноллу. С этого времени с нею, как и с нами, обращались, как с чужестранной гостьей. Однако ей было позволено поселиться со своим мужем в том же самом доме, который она занимала в продолжение своего необыкновенного плена. После битвы в течение нескольких дней я был совершенно без сил. Остальные три недели я был занят различными делами и, между прочим, поездкой с Харутом в город Симбы. Мы отправились туда лишь после того, как удостоверились через наших лазутчиков, что черные кенда действительно ушли куда-то на юго-запад, где, приблизительно в трехстах милях от их прежнего города, по слухам, находились плодородные незанятые земли. С особенным чувством я снова проезжал по знакомой местности и еще раз увидел согнувшееся от ветра дерево со следами клыков Джаны, на ветвях которого мы с Хансом нашли себе убежище от ярости этого чудовища. Перейдя реку, теперь совсем обмелевшую, я ехал по наклонной равнине, через которую мы мчались, спасая свою жизнь, и достиг печального озера и кладбища слонов. Здесь ничто не изменилось. Та же горка, истоптанная ногами Джаны, на которой он имел обыкновение стоять. Те же скалы, за которыми я пытался укрыться, и недалеко от них куча человеческих костей, принадлежавших несчастному Маруту. Мы похоронили их на том же месте, где они лежали. Со всех лежавших кругом скелетов слонов мы забрали сколько могли слоновой кости, нагрузив ею около пятидесяти верблюдов. Конечно, здесь ее было значительно больше, но много клыков, пролежав на этом месте долгое время, было попорчено солнцем и непогодой и потому не имело почти никакой ценности. Отправив слоновую кость в город Дитяти, который был снова восстановлен, мы лесом поехали в город Симбы, для безопасности выслав вперед разведчиков. Он действительно был полностью оставлен. Никогда я не видел места, имевшего более пустынный вид. Черные кенда оставили его таким же, как он был. Только на алтаре, находившемся на рыночной площади, где были принесены в жертву трое несчастных белых кенда, лежала куча трупов тех воинов, которые умерли от ран во время отступления. Двери домов были открыты. В них было оставлено большое количество домашней утвари, которую черные кенда не могли забрать с собой. Мы нашли много копий и другого оружия, владельцы которого были убиты и теперь не нуждались в нем. За исключением нескольких умиравших от голода собак и шакалов, в городе не осталось ни одного живого существа. Пустота города производила впечатление даже большее, чем кладбище слонов у уединенного озера. — Проклятие Дитяти сделало свое дело, — мрачно сказал Харут. — Сперва буря и голод, потом война, бегство и разорение. — Это так, — ответил я, — однако, если Джана мертв и его народ бежал, где Дитя и многие из его народа? Что вы будете делать без бога, Харут? — Каяться в своих грехах и ждать, пока небо в свое время не пошлет другого, — печально отвечал Харут. Эту ночь я проводил в том самом доме, где был заключен с Марутом во время нашего плена. Я не мог уснуть, так как в моей памяти воскресло все происходившее в те ужасные дни. Я видел огонь для жертвоприношения, горевший на алтаре, слышал рев бури, предвещавший разорение черным кенда, и был очень рад, когда наконец наступило утро. Бросив последний взгляд на город Симбы, я поехал домой через лес, в котором обнаженные ветви также говорили о смерти. Через десять дней мы покинули Священную Гору с караваном в сотню верблюдов. Из них пятьдесят были навьючены слоновой костью, а на остальных ехали мы и эскорт под командой Харута. С этой слоновой костью, как и со всем связанным с Джаной, меня постигла неудача. В пустыне нас настигла буря, от которой мы едва спаслись. Из пятидесяти верблюдов, навьюченных слоновой костью, уцелело всего десять. Остальные погибли и были занесены песком. Регнолл хотел возместить мне стоимость потери, но я отказался от этого, говоря, что это не входило в наши условия. Белые кенда, вообще бесстрастный народ, а в особенности теперь, когда они оплакивали своего бога, не проявили никаких чувств при нашем отъезде и даже не простились с нами. Только жрицы, прислуживавшие леди Регнолл, когда она играла среди них роль богини, плакали, прощаясь с нею, и молились, чтобы снова встретить ее «в присутствии Дитяти». Переход через горы был очень труден для верблюдов. Но наконец мы перебрались через них, сделав большую часть дороги пешком. Мы задержались на вершине хребта, чтобы бросить последний взгляд на землю, которую покидали, где в тумане все еще виднелась Гора Дитяти. Потом мы спустились вниз по противоположному склону и вступили в северную пустыню. День за днем, неделю за неделей мы ехали по бесконечной пустыне путем, известным Харуту, который знал, где находить воду. Мы ехали без особенных приключений (за исключением бури, во время которой была потеряна слоновая кость), не встретив ни одного живого существа. В течение этого времени я был постоянно один, так как Харут разговаривал мало, а Регнолл и его жена предпочитали быть вдвоем. Наконец, спустя несколько месяцев, мы достигли маленького порта на Красном море, арабское название которого я забыл и в котором было жарко, как в аду. Вскоре туда зашло два торговых судна. На одном из них, шедшем в Аден, уехал я, направившись в Наталь. Другое шло в Суэц, откуда Регнолл и его жена могли проехать в Александрию. Наше прощание вышло столь поспешным, что кроме обоюдных благодарностей и добрых пожеланий мы мало успели сказать друг другу. Пожимая мне при прощании руку, старый Харут сообщил, что едет в Египет. Я спросил его, зачем он едет туда. — Чтобы поискать другого бога, Макумазан, — ответил он, — которого теперь, за смертью Джаны, некому уничтожать. Мы поговорим с тобой об этом, когда снова встретимся. Таковы мои воспоминания об этом путешествии. Но, сказать правду, я тогда мало на что обращал внимание. Потому что мое сердце скорбело о Хансе.
Книга XIII. ДРЕВНИЙ АЛЛАН
Прикосновение к тайнам и святыням древности сильно повлияло на участников путешествия в дикие земли африканского племени кенда. Не всем была дарована долгая судьба, но оставшиеся в живых сильно изменились и, как ни странно, мечтают о повторном визите. Лишь охотник Квотермейн считает, что остался прежним — суровым скептиком, который всегда держит слово и готов прийти на помощь, даже если ему делать это страшно не хочется или когда ему попросту страшно…
Глава 1
ДАВНИЙ ЗНАКОМЫЙ
А теперь я, Аллан Квотермейн, перехожу к своему самому таинственному (за исключением, может, еще одного или двух) приключению, рассказ о котором скрасит мою праздную жизнь в чужом краю — поскольку Англия, по сути, мне чужда. Я старею. И мне кажется, что я уже пережил время бурных свершений и открытий и должен быть доволен теми многочисленными подарками судьбы, которых я вообще-то недостоин. Для начала скажу, что я жив и здоров, хотя по всем правилам мог бы умереть уже по крайней мере несколько раз. Думаю, что должен быть благодарен за это, но, перед тем как излагать точку зрения на сей счет, хотел я прийти к твердому убеждению, что же лучше — быть живым или мертвым? Верующие голосуют за последнее, хотя я никогда не замечал, чтобы они жаждали умереть сильнее, чем остальные простые смертные. Например, если им скажут, что их святые сердца работают с перебоями, они начинают тратить огромное количество времени и денег, поспешая в какое-нибудь местечко вроде Наугейма, что в Германии, дабы испить там целебной водицы, тем самым сокращая часы свои небесной благодати и лишая своих наследников определенных денежных средств. Или же устремляются в Бакстон[345], что неподалеку от меня, особенно если есть проблемы с желудком или там горлом. Даже архиепископы так поступают, не говоря уже о таких мелких сошках, как деканы или более крупные иерархи, занимающие ключевые посты на клерикальной лестнице. Такое поведение можно было бы ожидать от обычных грешников вроде меня, но в случае с теми, кто занимает верхушку этой уходящей в небо пирамиды, я имею в виду небесную лестницу, хотелось бы понять, почему они так сопротивляются всем творящимся с ними изменениям. На самом деле единственные люди, которых я видел лично и которые были готовы умереть (за исключением тех, кто иногда рисковал своей жизнью, чтобы спасти кого-то другого, кого они, чудаки, ставили превыше себя), были не те, «на кого снизошел свет» — я цитирую один серьезный документ, который мне довелось прочесть сегодня утром, — а как раз (снова цитата) те самые «грешные язычники, блуждающие в своей природной темноте». Здесь, как я понимаю, автор имеет ввиду их моральное состояние, а не их темную кожу, которую бедняги вынуждены носить, если им случилось родиться на далеком юге. Справедливости ради надо сказать, что вера, которую каждый сам формирует для себя, частенько вырублена из неподходящего куска дерева, даже для лучших из нас. Например, иву очень удобно и легко рубить, но попробуйте поддержать себя с ее помощью на краю пропасти — и вы увидите, что случится. Вам лучше выбрать эвкалипт или скромный дуб. Я могу продолжать и дальше, гадая, из чего может быть сделан мой собственный шлем для спасения моей бренной головушки, но вовремя остановлюсь. Правда состоит в том, что мы боимся смерти, потому что все религии полны неудобных намеков о том, что может приключиться с нами после смерти в качестве награды за наши уклонения от их законов, и мы верим вполсилы, тогда как дикарь, не испытывая трудностей с религией, боится меньше, потому что он почти ни во что не верит. Лишь ничтожное число жителей Земли может добиться полной веры или полного неверия. Они редко в состоянии приложить руки к сердцу и сказать, что живут ради вечности или умирают для нее же, а их честные останки являются объектом поклонения или сомнения для грядущих поколений. Вот что делает мою историю столь интересной, во всяком случае, для меня, поскольку, рассуждая о том, есть или нет у меня будущее, я могу надеяться в любом случае, что у меня есть прошлое, хотя, насколько я понимаю, лишь на словах. Это факт, исходя из которого, каждый может сделать для себя выводы сообразно собственным вкусам. И в таком случае мое приключение, о котором я честно поведаю здесь, может оказаться лишь продолжительным сном. Как я мог мечтать о землях или событиях, о которых имею весьма смутное представление, или не имею вовсе, если они не являются частью этого мира? Мы прячем глубоко внутри себя встречу с тем, что когда-либо случалось в этом мире. Однако это не значит, что не существует того, что мы не можем доказать. Во всяком случае, вот моя история. В книге воспоминаний, которые я опубликовал вместе с другими рассказами под названием «Дитя из слоновой кости», я поведал историю одной экспедиции, которую я совершил с лордом Регноллом. Целью этой экспедиции было найти его похищенную жену. Она была украдена во время путешествия по Египту, будучи в помраченном сознании. Причиной такого состояния была потеря ребенка при весьма ужасных и трагических обстоятельствах. Похитителями были представители необычного арабского племени, которые из-за родимого пятна у нее на груди решили, что эта женщина является жрицей, или проповедницей их священного культа. Этот культ происходил из самых глубин Древнего Египта, хотя, кажется, никто этого не знал. Жрица его была не кем иным, как воплощением богини Исиды, а дитя из слоновой кости было их идолом. Это была статуя младенца Гора, знаменитого сына богини Исиды и бога Осириса. Египтяне считали его победителем Сета, или дьявола, убившего Осириса, после чего тот воскрес и стал богом смерти. Мне не нужно ворошить в памяти то, что случилось во время этого удивительного путешествия. Главным было то, что в конце концов мы нашли эту женщину в полном здравии. Перед тем как она покинула страну кенда, жрица подарила ей два древних папируса и какую-то траву, отдаленно похожую на табак, которую племя кенда называло «тадуки». Однажды, перед тем как мы пустились в наше великое странствие домой по пустыне, у меня состоялся любопытный разговор с леди Регнолл об этой траве и о том, что она делает человека, ее воскурившего, ясновидящим, давая возможность видеть вещи, независимо от того, правдивы они или нет. Трава использовалась в мистических церемониях племени кенда, когда под ее влиянием жрица или оракул — дитя из слоновой кости — объявляли свои божественные откровения. Во время ее пребывания среди туземцев леди Регнолл часто вдыхала аромат этой тадуки и говорила странные вещи, которые я слышал собственными ушами. Однажды и я испытал на себе эффект этой травы и наблюдал странные видения, многие из которых впоследствии стали былью. Но разговор, о котором я упомянул, был коротким. Суть его состояла в том, что леди Регнолл верила в то, что когда-нибудь она или я, или мы оба вдохнем аромат этой травы и увидим прекрасные картины некоего прошлого или будущего, с которым мы будем связаны. Она объявила, что это знание пришло к ней, пока она находилась в беспамятстве в качестве жрицы бога племени кенда, которого звали «дитя из слоновой кости». Вообще-то я никогда не считал уместным обсуждать свои взаимоотношения с женщинами, да еще с такими, чей рассудок недавно был помрачен. Да и потом, пережив новые приключения, позабыл об этом деле или по крайней мере думал о нем очень редко. Однако однажды я был вынужден вспомнить об этой истории. Вскоре после того, как я вернулся в Англию с твердым намерением провести остатки своих дней подальше от новых искушений и уж тем более дальних путешествий, я был вынужден присутствовать на благотворительном вечере и, что гораздо хуже, участвовать в обеде. И хотя сам обед был богато обставлен, мне пришлось принять на себя самые незавидные функции, которые только можно представить. Там было огромное количество народу, частью — высокопоставленные особы, которые пришли, чтобы поддержать благотворительное общество своими взносами или продемонстрировать свои награды, правда, я не знаю за что. Другие, не столь замечательные личности вроде вашего покорного слуги, в большинстве лишь скромные граждане, у которых не было наград, теснились вокруг этой толпы, словно официанты на побегушках, ожидающие указаний метрдотеля. За обедом, который, кстати, сам по себе был невкусным, я сидел за столом так далеко, что едва мог слышать речи, что было, возможно, и моей удачей. В этих обстоятельствах я погрузился в разговор с соседом — странноватым чернобородым типом, восседавшим с умным видом, и который каким-то образом выяснил, что я знаком с отдаленной частью Африки. Он оказался богатым ученым, чьей страстью было изучение трав, произраставших в дебрях Южной Африки, где он в течение ряда лет имел удовольствие странствовать. Некоторое время спустя он упомянул некий корень яге, известный индейцам, которые толкли его и делали из порошка таблетки. Эти таблетки производили своеобразный эффект — они позволяли видеть события, которые происходили на расстоянии. В самом деле, он утверждал, что видения, которые возникали у него, вынудили его вернуться домой, потому как увидел, что некая его родственница, кажется сестра-близнец, оказалась серьезно больна. Однако он мог никуда и не ездить, так как прибыл в Лондон на следующий день после ее похорон… Поскольку я видел, что он действительно интересуется этим вопросом, и заметил, что он чрезвычайно темпераментный человек, не похожий на романтика, я рассказал ему кое-что о моих экспериментах с тадуки. Он слушал меня, затаив дыхание. Когда я сказал, что не очень-то доверяю своим ощущениям, он грубо прервал меня и спросил, почему я отрицаю этот феномен. Может, я просто недостаточно умен, чтобы понять его? Я ответил, что это происходит лишь потому, что подобный феномен не вписывается в существующие в науке теории. На это ученый возразил мне, что прогресс сам по себе состоит из ниспровержения существующих теорий. Кроме того, он умолял меня, если вдруг представится случай, продолжить эксперименты с дымом тадуки и рассказать ему о результатах. Тут наш разговор внезапно подошел к концу, поскольку оркестр, располагавшийся неподалеку, заиграл «Боже, храни королеву» и мы спешно обменялись визитками и расстались. Я упомянул об этом случае лишь потому, что, если бы не он, то никогда не смог бы взяться за эту историю.Воспоминания об этом знакомстве запечатлелись в моей беспокойной головушке так глубоко, что, когда представился случай, я тут же вспомнил о нем, хотя я все же уверен, что никогда не сделал быэтого по другой причине, а лишь потому, что хотел до конца во всем разобраться. И такой случай вскоре представился. Здесь я хотел бы пояснить, что присутствовал на этом самом обеде вскоре после моего возвращения в Англию, куда я переехал после того, как копи царя Соломона сделали меня богатым человеком. Так случилось, что между моим путешествием в страну племени кенда за несколько лет до этого и моим возвращением в Англию я никогда не видел и мало слышал о лорде и леди Регнолл. Однако до меня дошли слухи от сэра Генри Куртиса или от капитана Гуда о том, что лорд умер в результате несчастного случая. Что это было, мой информатор не знал, а я начинал тогда приготовления к долгому путешествию, поэтому времени на расследование у меня не было. Мой разговор с ученым-ботаником заставил меня вспомнить обо всем. В самом деле, через несколько дней я обнаружил в справочнике, что лорд Регнолл умер, не оставив наследника. Его жена была жива. Я собирался написать ей, когда однажды утром почтальон принес мне сюда, в Грандж, письмо. На конверте, в месте отправителя, было написано: «замок Регнолл». Почерк был мне не знаком, он казался ясным и отчетливым, что, насколько я помню, не было свойственно леди Регнолл. Вот что говорилось в том письме:
«Мой дорогой Квотермейн, это очень странно, но на собрании общества садоводов я видела некоего джентльмена, который рассказал мне, что несколько лет назад он сидел рядом с Вами на обеде. И, видимо, чтобы я поверила ему, он показал мне Вашу визитку с йоркширским адресом. У нас возник спор о том, где была впервые найдена лилия из рода Crinum — в Африке или Южной Америке? Этот джентльмен, большой специалист по южноамериканской флоре, произнес целую речь о том, что никогда не встречал этот цветок в Южной Америке, но его знакомый, мистер Квотермейн, с которым он разговаривал по этому поводу, заявил, что видел нечто подобное в дебрях Африки (это действительно так, я вспомнил об этом случае. — А. К.). За чаем, который был накрыт после собрания, я разговорилась с этим джентльменом, чье имя я не запомнила, и, к моему удивлению, узнала, что говорит он о Вас, в то время как я считала Вас погибшим, как нам сообщили несколько лет назад. Вдобавок к Вашему имени он описал Вашу внешность и рассказал, что Вы вернулись в Англию. Мой дорогой друг, могу заверить Вас, что уже давно не слышала такой радостной вести. Прошлое вернулось ко мне, нахлынув как наводнение, но я думаю, что скоро смогу поговорить с Вами, так что оставим воспоминания на потом. Увы, с тех пор как мы расстались на берегах Красного моря, несчастья следуют за мной по пятам. Насколько Вы знаете, поскольку мой муж и я писали Вам, хотя Вы никогда не отвечали (я никогда не получал этих писем. — А. К.), мы благополучно добрались до Англии и вернулись к нашей прежней жизни. Хотя, по правде говоря, после моих африканских приключений жизнь никогда уже не была для меня прежней, как, впрочем, и для Джорджа. Он полностью сменил род своих занятий, и политические амбиции, которые он так лелеял, практически потеряли для него смысл. Напротив, он погрузился в изучение прошлого, в особенности увлекся египтологией. Возможно, это покажется Вам странным, особенно принимая во внимание некоторые обстоятельства. Однако это меня очень устроило, а потом я и сама присоединилась к нему. Мы стали работать вместе, и теперь я могу читать иероглифы, как настоящий специалист. Однажды муж сказал, что хочет вернуться в Египет, если я, конечно, не боюсь. Я ответила, что это не самое счастливое место для нас, но лично я не возражаю и вернулась бы туда. Вы же знаете про узы, которые связывают меня (или я наивно полагаю, что связывают) с Египтом и Африкой. Мы отправились туда и хорошо провели время, хотя я всегда ожидала, что из-за угла неожиданно выскочит старый Харут. С тех пор у нас вошло в привычку проводить зиму в Египте, поскольку с тех пор, как Джордж перестал охотиться и посещать палату лордов, нас ничего не связывало с Англией. Мы ездили туда подряд целых пять лет, жили в бунгало, которое построили в пустыне недалеко от берегов Нила, на полпути между Луксором (в районе Фив) и Асуаном. Джордж полюбил это место с тех пор, как впервые увидел его, да и я привязалась к нему, потому что, подобно Мемфису, оно заставило меня наконец снова начать улыбаться и поверить, что все изменится к лучшему. Около нашей виллы, которую мы назвали «Регнолл», как и наш дом, находились развалины башни, которая была практически погребена в песке. Джордж получил разрешение на раскопки. Все думали, что формальности будут тянуться долго и нудно, но муж не жалел денег, поэтому никаких препятствий не возникло. Мы работали четыре зимы, наняв несколько сотен людей. Когда работа была закончена, мы обнаружили, что башня, хотя и не самая большая, как можно было судить по тому, что погребено под слоем песка, возведена в эпоху правления римлян или сразу после нее. Останки сохранились даже лучше, чем мы ожидали, потому что ранние христиане никогда не пользовались молотками и стамесками. Так как я надеюсь показать Вам рисунки и фотографии с различных ракурсов, то не буду даже пытаться описать ее. Эта башня посвящена Исиде. Возможно, она была построена на руинах старой башни на месте, которое называется Амада. Назвали ее в честь города в Нубии, думаю, по имени одного из фараонов династии, к которой принадлежал Аменхотеп, завоевавший ее. Стиль постройки восхитителен, это лучший период египетского ренессанса, во времена правления последней династии. В начале пятого зимнего сезона мы достигли святилища. Это была сложная задача, потому что требовалось соорудить стены для защиты от песка, который наползал так же быстро, как его удаляли. Кроме того, требовалось множество людей, которых доставляли по узкоколейке. Проделав всю эту работу, мы добрались до неглубокой могилы, которая была поспешно заполнена в свое время и грубо накрыта булыжниками, как и остальная часть двора, как будто для того, чтобы побыстрее скрыть ее существование. В могиле лежали скелет огромного мужчины, ржавый клинок железного меча и фрагменты доспехов. Очевидно, он не был мумифицирован, поскольку рядом не было бинтов, в которые обычно заворачивали мумию, фигурок ушебти[346] и погребальных предметов. Состояние костей показало нам, почему такое произошло: правое предплечье было отрублено, череп разбит, а железный наконечник стрелы воткнут в ребра. Этого мужчину хоронили спешно, после битвы, в которой он встретил свою смерть. Копаясь в пыли, мы нашли на одном пальце золотое кольцо. На его гнезде было выгравировано «Пероа, возлюбленный Ра». Пероа, возможно, означало «фараон». Может быть, это был Хабаш, который восстал против персов, правил год или два, после чего был схвачен и убит, хотя записей о его смерти и погребении не сохранилось. Были ли это останки самого Хабаша или одного из его министров или военачальников, которые носили картуш фараона, я, конечно, сказать не могу. Когда Джордж прочитал картуш, он отдал мне кольцо, которое я надела на указательный палец левой руки и ношу до сих пор. Мы оставили могилу открытой и позже вернулись к раскопкам, будучи в полном восторге от проделанной работы. Наступал вечер, мы расчистили большую часть святилища, которое было не очень большим, и обнаружили, что гробница сделана не из монолитного камня, а сложена из четырех кусков гранита. Они были так грамотно подогнаны друг к другу, что никто не мог обнаружить стыков. На выгравированном архитраве (по-моему, это так называется) был вырезан символ крылатого диска, а ниже иероглифы, такие свежие, как будто их начертали только вчера. Надпись гласила, что это «Пероа, царский сын Солнца, дающего свет», а рядом статуя священной матери и священного ребенка, «великой богини Исиды» и «великого бога Гора», Амады, которая была верховной жрицей фараонов. Мы только бегло прочитали иероглифы, потому что очень хотели узнать, что находится внутри засыпанной песком гробницы, кедровая дверь которой насквозь прогнила. Корзину за корзиной, мы оттаскивали его, пока наконец перед нашими глазами не возникла самая прекрасная статуя Исиды, которую я когда-либо видела, в натуральную величину. Она была вырезана из алебастра. Богиня сидела на троне, похожем на стул, и была одета в царский плащ, на котором еще сохранились остатки краски. Ее руки были вытянуты вперед, как будто держали ребенка, возможно, она кормила грудью, потому что одна грудь была обнажена. Но если и так, то ребенка не было. Статуя была выполнена прекрасно, нежное лицо женщины поражало необычайной красотой и было таким естественным, как будто позировала и в самом деле живая женщина. Мой друг, когда я взглянула на нее при свете свечей, поскольку солнце уже село и в выкопанной яме собирались тени, я не могу объяснить, что я почувствовала, — Вы, знающий мою историю, поймете меня. Мы долго смотрели на нее, и вдруг я почувствовала, что медленно опускаюсь на колени. Неожиданно, не знаю почему, я почувствовала, что все вокруг начало трястись. В этот момент главный надсмотрщик по имени Ахмет подскочил к нам с криком: «Скорее наверх! Песок! Башня рушится!» Он схватил меня за руку и потащил из гробницы. Джордж обернулся, чтобы последовать за нами. Внезапно я увидела волну песка, на вершине которой плыли камни из стены, они кружились и падали, разрушая гробницу, которая перевернулась и раскололась на четыре части, разбив вдребезги алебастровую статую. Ее голова ударила Джорджа по спине и отбросила его вперед. Он откатился и упал в открытую могилу, которая в тот же миг наполнилась осколками, вынесшими меня на середину этого потока. Я не помню ничего из того, что случилось потом. Лишь несколько часов спустя я очнулась в нашем доме. Ахмет и другие египтяне не пытались ничего сделать. Никто не соглашался вернуться туда, пока не взойдет солнце, поскольку старые боги этой земли, которых местные называли дьяволами, разозлились из-за того, что их потревожили, и могут убить их, как убили Бея, так они называли Джорджа. Я просто не знала, что мне делать, поскольку обнаружила, что вокруг нет ни одного европейца. Место, где была гробница, было полностью погребено под тоннами песка, который, казалось, сыпался отовсюду и заполнял все вокруг. Могли потребоваться недели, чтобы откопать все это, прорыть новую шахту было невозможно и настолько опасно, что местные власти отказались дать разрешение. В конце концов из Каира прибыл английский епископ и освятил землю после специального соглашения с правительством. Было сделано все возможное, чтобы работы были прекращены. После этого он провел погребальную службу над моим дорогим мужем. Таков конец этой ужасной истории, которую я описала здесь, потому что не хочу больше, чем надо, говорить об этом, когда мы с Вами встретимся. А мы обязательно встретимся, мистер Квотермейн, мы встретимся, потому что я всегда знала, что это случится, — даже когда услышала, что Вы умерли. Вы помните, что я говорила Вам об этом на земле племени кенда много лет назад? Это случится после великих изменений, которые произойдут в моей жизни, хотя я не могу сказать, что это будет».
Так оканчивается это письмо. Далее следуют несколько предполагаемых дат, когда я по ее просьбе должен был приехать в Регнолл.
Глава 2
ЗАМОК РЕГНОЛЛ
Закончив читать этот удивительный документ, я закурил трубку и поудобнее расположился в кресле, чтобы все обдумать. Любой исследователь вправе задаться вопросом: почему я назвал этот документ удивительным? Нет ничего странного в том, что англичанин-дилетант, обладающий живым умом и будучи по стечению обстоятельств одним из богатейших людей в королевстве, тратит часть своего богатства на раскопки. Также не было странным и то, что он погиб в результате несчастного случая, занимаясь именно раскопками. И я могу спокойно себе представить, что раскопки — это вполне подходящее занятие для мягкого зимнего египетского климата. Он отнюдь не был первым несчастным, погребенным под тоннами песка. Недавно такая же судьба постигла некую няню-гувернантку и ее подопечного ребенка, которые пытались раскопать гнездо городской ласточки в яме в моем районе. Это занятие привело к обрушению огромной массы песка выступающего берега, где была прорыта траншея. Рабочие оставили яму, когда поняли, что там небезопасно. На следующий день мой садовник и я помогали выкапывать тела погибших, причем их местонахождение не было обнаружено до утра. Невеселая это была работа, скажу я вам. Принимая во внимание загадочные совпадения в истории этой семьи, дело Регнолла выглядело очень странно. Сначала ребенок леди Регнолл, потом мисс Холмс, которую священники далекого африканского племени приняли за жрицу своего анимистического культа. Потом мы поняли, что эта вера происходит из Древнего Египта, то был культ Исиды и Гора. Потом эти люди попытались похитить женщину, и лишь благодаря моему случайному вмешательству этого не произошло. Позднее, после замужества, когда рассудок покинул ее, священники возобновили свои попытки, на этот раз в Египте. Это им удалось. В конце концов мы нашли ее в Центральной Африке, где женщина исполняла роль матери-богини Исиды и даже была одета в ее древнюю одежду. Затем пара вернулась домой, однако пожелала изучить нечто, что привело их обратно в Египет. Здесь они посвятили себя раскапыванию храма и обнаружили, что этот храм был построен в честь Исиды и Гора. А ведь именно с ними они так недавно были связаны… Более того, это был еще не конец. Они добрались до святилища и обнаружили статую женщины и ребенка, который исчез, так же как и их ребенок. Произошла катастрофа, которая разрушила все и погребла лорда Регнолла так основательно, что никто больше его так и не увидел. Просто один мужчина исчез в могиле другого и остался там навеки. Это была обычная катастрофа, хотя люди с предрассудками могут подумать, что богиня или какое-то ее воплощение совершила месть по отношению к человеку, который потревожил ее покой. И хотя я не помню, упоминал ли я об этом в книге «Дитя из слоновой кости», я все же вспомнил, что старый жрец племени кенда, Харут, однажды сказал, что уверен в том, что лорда Регнолла ждет страшная смерть. При наших обстоятельствах это было вполне возможно, но я спросил его почему. Он ответил: «Потому что он дотрагивался своими руками до того, что свято и не предназначено для мужчины», — и посмотрел при этом на леди Регнолл. Я ответил, что все женщины священны, а он возразил, что вовсе так не думает, и сменил тему разговора. Итак, Регнолл, женившийся на женщине, которая когда-то была последней жрицей Исиды на земле, был убит, в то время как сама жрица чудесным образом избежала смерти. Вся эта история была действительно странной. Бедный Регнолл! Он был настоящим английским джентльменом и одним из тех, кого при первой встрече я считал самым удачливым человеком, которого когда-либо встречал. Он был одаренной личностью и при всяком удобном случае использовал любое преимущество своего тела, разума и социального статуса. Однако и это не причина его смерти. При жизни он был хорошим другом и товарищем, и никто не мог бы пожелать лучшей эпитафии в мире, где все очень быстро покрывается тленом забытья. Итак, что я должен был делать? По правде говоря, мне не хотелось бы вновь открывать эту страницу прошлого или выслушивать болезненные воспоминания из уст несчастной женщины, лишившейся мужа и ребенка. Кроме того, она была очаровательной женщиной, без сомнения, такой же и осталась — я никогда не встречал другого столь же милейшего создания, — так вот, что-то было в леди Регнолл, что тревожило меня. Она не была похожа на других женщин. Конечно, вы скажете, что похожих женщин не существует, но в ее случае ее непохожесть, если можно так сказать, была как-то уж очень заметна. Как будто она пришла из другого века или даже из другого мира и искусственно была облачена в наши одежды. Я почувствовал это с первого взгляда на нее; с момента прочтения ее письма эти ощущения вернулись ко мне с удвоенной силой. Для меня она имела определенную привлекательность, причем не ту, что обычно имеется в виду. Любопытно бывает подчас обнаружить, что ничего не знаешь о человеке, к которому сильно привязан, так же как если действительно знаешь о чем-то, сокрытом за тонкой, но непроницаемой дверью. Если так, я не хотел бы открывать эту дверь, потому что, кто знает, что ждет меня за ней? Интимный разговор с женщиной, с которой было пережито немало странных событий, не способствовал открыванию той двери… Кроме того, некоторое время назад я решил не водить дружбу с женщинами, полными загадок, а прожить остаток своих дней среди мужчин, у которых мало тайн, и чьи мысли почти всегда ясны, а поступки часто предсказуемы. Еще была проблема с тадуки. Ну, здесь я был уверен и решителен. Никакая земная сила не заставит меня снова иметь дело с этой травой. Конечно, я помнил слова леди Регнолл, что мне придется это сделать, если она пожелает. Но именно здесь леди ошибалась. Впрочем, было бы невежливо отклонять ее приглашение, особенно теперь, когда ее преследуют несчастья. К тому же я когда-то пообещал, что в случае беды всегда приду ей на помощь, ей стоит только позвать меня. Нет, я должен ехать. Но если слово «тадуки» будет произнесено хотя бы один раз, я снова немедленно покину ее. Без сомнения, этого не должно случиться, думаю, она все забыла. В конце концов я решил не писать ей длинных писем и послал телеграмму о том, что если ей будет удобно, я приеду в следующую субботу вечером. И добавил, что должен вернуться домой во вторник после полудня, потому что ждал в тот день гостей. Это было чистой правдой, поскольку была середина ноября и я планировал поохотиться в своих лесах в среду утром. Однажды заведенный порядок не хотелось менять. Я получил ответ: «Жду с удовольствием и надеюсь, что вы погостите подольше».Около шести вечера в назначенный день я в экипаже, запряженном парой прекрасных лошадей, въехал в ворота замка Регнолл и остановился возле парадного подъезда. Открылись двери, явив взору зал в отблесках каминного огня и света ламп. Кучер спрыгнул с козел, двое лакеев подошли ко мне, чтобы помочь выйти из экипажа и вынести мой багаж. Он состоял, насколько я помню, из сумки с моей одеждой и книги в желтой обложке[347]. Один из них взял сумку, другому пришлось довольствоваться книгой, что заставило меня пожалеть, что я не взял еще и чемодан, хотя бы для вида. И вот с таким грузом парочка сопроводила меня по ступеням наверх и сдала дворецкому, который окинул меня критическим взглядом. Я тоже посмотрел на него и отметил, что это был отличный представитель своей профессии. Его гордое присутствие несколько смутило меня, отчего я нервно заметил, когда он стал помогать мне снимать пальто, что в мой последний приезд здесь проживал другой дворецкий. — Неужели, сэр, — сказал он, — и как же его звали? — Сэвидж, — ответил я. — И где же он проживает теперь, сэр? — Внутри змеи, — ответил я. — Во всяком случае, был там, хотя, надеюсь, что сейчас он служит своему хозяину на Небесах. Мужчина отшатнулся, отчего более резко потянул с меня пальто. Потом кашлянул, почесал свою лысую голову, огляделся и попытался взять себя в руки. — В самом деле, сэр! Я пришел сюда после смерти последнего хозяина, когда хозяйка сменила всю прислугу. Альфред, покажи джентльмену дорогу в покои хозяйки, а ты, Уильям, отнеси его вещи в голубую комнату. Ее милость желает видеть вас прямо сейчас, до приезда остальных. По большой лестнице я поднялся в ту часть замка, которой не знал, гадая при этом, кто же эти «остальные». Я почти могу поклясться, что тень Сэвиджа сопровождала меня, я мог чувствовать его присутствие. Вскоре дверь отворилась, и я вошел в полутемную комнату, наполненную ароматом цветов. Около камина, рядом с чайным столиком, стояла женщина в темном платье с блестящими светлыми волосами. Она обернулась, и я увидел ожерелье из красных камней на ее шее, а на груди красный цветок. Не было сомнений, это была леди Регнолл, впрочем, я был немного изумлен. Я ожидал увидеть строгую постаревшую леди, которую мог бы узнать лишь по цвету глаз и голосу, возможно, и по ее манерам. Но вот беда — я не заметил никаких изменений в свете ламп. Может быть, некоторая полнота фигуры, но это было даже на пользу. Может быть, немного больше важности в облике, может быть, она стала выше и величественней — вот и все. Эти мысли мелькнули в моей голове, как краткая вспышка молнии. Затем, прошептав: «Мистер Квотермейн, ваша милость», лакей закрыл дверь, и она увидела меня. Она быстро подошла ко мне, протягивая руки, и воскликнула своим прежним медоточивым голосом: — Мой дорогой друг! — остановилась и добавила: — Вы ничуть не изменились. — Ископаемые хорошо сохраняются, — улыбнулся я. — Думаю, наши мысли друг о друге схожи. — Жестоко называть меня ископаемым, я лишь приближаюсь к этой стадии. Как я рада видеть вас, как я рада! — и она подала мне обе руки. По правде говоря, я почувствовал желание поцеловать ее и очень удивился бы, если бы она рассердилась. Я не уверен, что она не почувствовала то же самое. В любом случае после небольшой паузы она отпустила мои руки и рассмеялась. Затем произнесла: — Я должна сразу же сказать вам. Случилось нечто ужасное… Внезапно мне показалось, что она забыла, что уже написала мне в письме подробности смерти своего мужа. Такое происходит с людьми, которые однажды теряли память. Я постарался выглядеть естественно, насколько это возможно, вздохнул и стал ждать. — Не все так плохо, — внезапно сказала она, слегка качнув головой, словно прочитала мои мысли. Она умела это делать с нашей первой встречи. — Мы можем поговорить об этом позднее. Я надеюсь, что у нас будет пара дней, а сейчас должны появиться Эттерби-Смиты, да, через полчаса. Их пятеро! — Эттерби-Смиты! — воскликнул я почему-то упавшим голосом. — Кто это такие? — Двоюродные братья и сестры Джорджа, его ближайшие родственники. Они думают, что Джордж должен был оставить все им. Но он не сделал этого, потому что на дух не выносил их. Вы знаете, его состояние неделимо, и он все оставил мне. Теперь вся семья вообразила, что я должна все оставить им, как, возможно, я и поступила бы, не реши они приехать сейчас. — Почему вы не отказали им сразу? — спросил я. — Потому что не смогла, — ответила она, слегка топнув ногой. — А иначе, неужели вы думаете, они приехали бы сюда? Они достаточно умны. Телеграфировали после ланча, что сели на поезд, на котором должны приехать, но никакого адреса, кроме Чаринг-Кросс. Я подумывала уехать в дом на Беркли-сквер, но сейчас это невозможно. Вдобавок я не знаю, как удержать вас. Какая досада! — Может быть, они очень милы, — высказал я робкое предположение. — Милы! Подождите, пока вы не увидите их. Даже если бы они были ангелами, я не хотела бы видеть их здесь. Однако какая я, наверное, эгоистка! Проходите и давайте выпьем чаю. Вы могли бы оставаться здесь подольше, если бы не Эттерби-Смиты, которые хуже, чем все племена кенда, вместе взятые. Как бы я хотела, чтобы вернулся старый Харут! Я согласилась бы увидеть его еще раз, а вы? — Внезапно на ее лице промелькнуло хорошо мне знакомое таинственное выражение. — Возможно, да, — ответил я в сомнении, — но я должен уехать обратно первым поездом во вторник, в восемь утра. Я уже договорился. — В таком случае Эттерби-Смиты уедут в понедельник, даже если мне придется выставить их отсюда. В любом случае у нас будет целый вечер. Одну минуту, — она позвонила в колокольчик. Появился лакей, так внезапно, как будто подслушивал за дверью. — Альфред, — обратилась она к нему, — скажи Моксли (я полагаю, так звали дворецкого), что, когда прибудут мистер и миссис Эттерби-Смит, обе мисс Смит и молодой Эттерби-Смит, им надо показать их комнаты. Скажи повару, что обед должен быть готов к половине восьмого. Если мистер и миссис Скруп прибудут раньше, попроси Моксли передать им мои извинения и скажи, что я опоздаю, поскольку занята церковными делами. Ты все понял? — Да, моя госпожа, — ответил Альфред и исчез. — Он наверняка ничего не понял, — заметила леди Регнолл, — но он никогда не приведет Эттерби-Смитов сюда, иначе ему придется покинуть этот дом вслед за ними в понедельник утром, поэтому мне все равно. Как-то это сработает. А теперь садитесь у огня, и давайте поговорим. У нас есть час и двадцать минут. Вы можете курить, если хотите. Я научилась этому в Египте, — она взяла сигарету с камина и зажгла ее. Час и двадцать минут пролетели как одно мгновение. Нам столько надо было поведать друг другу, что мы так и не дошли до сути. Например, я начал рассказывать ей про копи царя Соломона, а это была длинная история. А она, в свою очередь, стала рассказывать, что случилось после того, как мы расстались на берегах Красного моря. Прошел час и пятнадцать минут, когда внезапно отворилась дверь, и Альфред испуганно произнес: — Мистер и миссис Эттерби-Смит, их дочери, мисс Смит и мистер Эттерби-Смит-младший. Он поймал на себе взгляд хозяйки и поспешно ретировался. Я оглянулся и почувствовал — как было бы хорошо, если бы существовала другая дверь. Однако дверной проем был единственный, и он был занят. Впереди стоял мистер Эттерби-Смит-старший, подобно быку, возглавляющему стадо. В самом деле, он был похож на быка-производителя. У него было красное массивное лицо, обрамленное, словно двумя рожками, пучками рыжих волос. Этот человек бросил на меня тяжелый взгляд. Следом шла миссис Эттерби-Смит — воплощенная мать семейства. Казалось, она измерялась акрами; черный шелк внизу, белая кожа вверху, по ней, словно острова в океане, плыли большие зеленые камни. Ее лицо, хотя и глупое, было очень строгим и напугало меня. Затем двигалось потомство этой дружелюбной парочки. Все отпрыски семейства были высокие, худые и такие же рыжеволосые. Девушки, чей возраст я не смог определить, были похожи друг на друга, что неудивительно, так как они были двойняшками. Их бледно-голубые глаза напомнили мне рыб. Обе они были одеты в зеленые платья и носили на шеях топазовые ожерелья. У молодого человека, которому на вид было около двадцати двух лет, тоже были бледно-голубые глаза, в одном из которых торчал монокль. Однако его волосы были слегка рыжеватые, как будто их обесцветили, расчесали на пробор и распрямили с помощью масла. Некоторое время стояла тишина, которая произвела на меня гнетущее впечатление. Затем громким и напыщенным голосом мистер Эттерби-Смит произнес: — Добрый день, дорогая Луна! Поскольку лакей сказал мне, что ты еще не ушла переодеваться, я настоял на том, чтобы он проводил нас сюда для небольшой приватной беседы, поскольку мы не виделись много лет. Мы хотели бы лично выразить свои соболезнования и скорбь по поводу большой потери. — Спасибо вам, — ответила леди Регнолл, — но, по-моему, в нашей переписке мы уже обсудили, что это болезненная для меня тема. — Я боюсь, что мы прервали приятный вечер с сигаретами, Томас, — холодно сказала миссис Эттерби-Смит, вдохнув воздух, как испуганное животное, в то время как все пятеро уставились на сигарету, которую леди Регнолл держала между пальцев. — Да, — ответила леди Регнолл. — Не хотите ли присоединиться? Мистер Квотермейн, пожалуйста, передайте коробку миссис Смит. Я автоматически подчинился, предложив коробку леди, которая испепелила меня взглядом, а затем каждому, кто стоял сзади. К моему облегчению, молодой человек взял одну. — Арчибальд, — обратилась к нему мать, — ты же не хочешь, чтобы платья твоих сестер пропахли табаком еще до обеда? Арчибальд хихикнул и ответил: — Мам, еще немного дыма не особо повлияет на воздух в этой комнате. — Ты прав, мой дорогой, — сказала мать и немедленно изобразила приступ астмы. Не уверен, что могу вспомнить все, что случилось после этого. Я пробормотал что-то про то, что мне надо идти переодеваться к обеду, и поспешил удалиться из комнаты. Я бродил в поисках того, кто проводил бы меня в мою комнату, где я переждал бы время до звонка к обеду. Но даже и этот побег не прошел без неприятностей, поскольку в спешке я наступил на платье одной из сестер, уж не помню, Долли или Полли (их звали Долли и Полли). Раздался ужасный треск, как будто платье порвалось напополам. Арчибальд снова хихикнул, а Долли и Полли закричали в один голос, потому что они все делали одновременно: — Какой неуклюжий! В довершение моих несчастий я забыл дорогу наверх и блуждал туда-сюда, как потерянный ягненок, пока не остановился перед дверью из зеленого сукна, которая мне кое-что смутно напомнила. Я стоял и глазел на нее, пока четко не представил себе картину, в которой я следую вдоль шнурка колокольчика через эту дверь, когда ищу ныне покойного мистера Сэвиджа по какому-то срочному делу. Да, не было никаких сомнений, это тот самый шнурок, и странно, что мне пришлось снова обратиться к нему. Любопытство заставило меня открыть дверь, чтобы убедиться, что память меня не подводит и та ли это дверь. В следующий момент я пожалел об этом, потому что оказался в объятиях не то Долли, не то Полли. — О! — вскрикнула она. — Я тут как раз привожу в порядок платье. «А я — мысли», — усмехнулся я про себя и робко спросил, не знает ли она дорогу вниз. Она не знала, и никто из нас не знал, пока наконец мы не встретили миссис Эттерби-Смит, которая искала дочь. Если бы я оказался вором, она не отнеслась бы ко мне с большим подозрением. Но, как бы то ни было, она знала дорогу вниз. К моей радости, я нашел там моего старого друга, Скрупа и его супругу, оба они стали крепче и старше, но остались такими же веселыми, как и раньше. После этого семья Смитов была уже мне не страшна. Кроме того, здесь был пастор местного прихода доктор Джеффрис и его невероятно молодая жена, на которой он женился совсем недавно. Это было маленькое создание с пышными волосами, круглыми глазками и веселыми дерзкими манерами. Вместе они выглядели как индюк и цыпленок. Я помнил доктора очень хорошо, и, к моему удивлению, он тоже помнил меня, возможно, потому, что леди Регнолл, в спешке пригласив его встретить семью Смит, упомянула, что я тоже буду. Наконец, тут был помощник приходского священника, темноволосый молодой человек, который, судя по его виду, находился в размышлениях над секретами времени и вечности, хотя, возможно, просто думал о предстоящем обеде или завтрашней службе. Итак, мы стояли в хорошо знакомой нам гостиной, где я впервые познакомился с Харутом и Марутом, там же впервые появилась очаровательная мисс Холмс, которая впоследствии стала леди Регнолл. Скрупы, Джеффрис и я оказались в одной группе, Эттерби-Смиты — в другой, словно армии, готовые атаковать друг друга. Между нами, рефлексирующий и нерешительный, стоял помощник приходского священника, который соблюдал нейтралитет. Вскоре, извинившись за опоздание, появилась леди Регнолл. По какой-то причине, известной только ей самой, она сменила платье, как будто это был важный званый вечер. Я не берусь утверждать, что это было — просто ли озорство и желание показать бриллианты, которые миссис Эттерби-Смит никогда не получит, или что-то большее? Во всяком случае, она стояла, яркая и красивая, и улыбалась, глядя на нас. Подошло время обеда, и я во второй раз прошел в большой зал в компании леди Регнолл. Доктор Джеффрис шел вместе с миссис Смит, папа Смит сопровождал миссис Джеффрис, которая была похожа на греческую девушку, шествующую на обед в сопровождении Минотавра. Скруп шел с одной из мисс Смит, одетой в розовое боа, а Арчибальд вел миссис Скруп, которая строила рожицы через его плечо. — Вы выглядите такой красивой и величественной, — прошептал я леди Регнолл, пока мы следовали за остальными на безопасном расстоянии. — Я рада, — ответила она, — я имею в виду красоту. А насчет величественности, эта ужасная женщина все время пишет мне про бриллианты Регнолла, поэтому я подумала, что надо бы их надеть, чтобы она увидела их в первый и последний раз в жизни. Знаете, я не надевала их с тех пор, как Джордж и я появлялись при дворе. И должна сказать, что никогда не надену их снова. Я пристально взглянул на нее и, засмеявшись, заметил, что она ужасно вредная. — Думаю, вы правы, — ответила она, — но я ненавижу этих людей, которые столь напыщенны и грубы, и к тому же они испортили мне вечер. Я хотела выйти в платье, которое надевала, будучи Исидой на земле кенда. Я отнесла его наверх, и вы увидите меня в нем до вашего отъезда. Однако я подумала, что они сочтут меня сумасшедшей, поэтому не надела. Доктор Джеффрис, вы не прочитаете молитву? Это был один из самых приятных обедов, на которых я когда-либо присутствовал. Я сидел между хозяйкой и миссис Скруп, остальные были далеки от нашего разговора. Арчибальд неожиданно оказался неразговорчивым, Скруп на другой стороне стола развлекал невинную мисс Смит в розовом боа выдуманными историями об Африке. Нас с леди Регнолл никто не тревожил. Однажды так уже случилось за этим столом. — Разве не странно, что мы снова сидим за этим столом спустя столько лет? За одним лишь исключением — вы сидите на месте моей бедной матери. Когда тот ученый джентльмен убедил меня, что вы не просто живы, но находитесь в Англии, в то время как я считала вас погибшим, я была готова обнять его. Я раздумывал над ответом, но ничего не сказал, хотя она, как обычно, прочитала мои мысли, потому что я увидел ее улыбку. — Правда в том, — продолжала она, — что я единственный ребенок в семье, у меня нет настоящих друзей, хотя, конечно, вы знаете, — и посмотрела на украшения на груди, — у меня много знакомых. — И поклонников, — закончил я за нее. — Да, — ответила она, вспыхнув, — как у Пенелопы. Однако ни один из них не даст двух пенсов за меня, равно как и я за них. Правда в том, мистер Квотермейн, что никто и ничто не интересует меня, кроме места на кладбище вон там и египетских древностей. — Да, вы понесли тяжелую утрату, — пробормотал я, глядя в другую сторону. — Очень тяжелую, она опустошила мою жизнь. Хотя я не жалуюсь, потому что видела много добра в этой жизни. И не совсем правда, что ничего не интересует меня. Мне интересен Египет, хотя после того, что там случилось, я не думаю, что могу вернуться туда. Меня интересует вся Африка, — и, понизив голос, она добавила: — Я говорю так потому, что знаю, что вы правильно меня поймете, вы интересны мне, так было всегда с нашей первой встречи. — Я? — воскликнул я, рассматривая свое собственное отражение в серебряном блюде, где выглядел более непривлекательно, чем обычно. — Вы очень добры, говоря это, но я не понимаю, почему именно я удостоился вашего внимания. Вы видели меня очень мало, леди Регнолл, кроме того долгого путешествия через пустыню, когда мы мало говорили. Вы тогда были помолвлены. — Я знаю. И это самое странное, потому что я чувствую, что знаю вас долгие годы и знаю абсолютно все, что только может один человек знать о другом. Конечно, я знаю многое о вашей жизни от Харута и Джорджа. — Харут был великим лгуном! — воскликнул я взволнованно. — В самом деле? Мне казалось, что он всегда был болезненно правдив, хотя я понятия не имею, как он узнавал правду. В любом случае, — продолжала она, чуть подумав, — не думайте, что я знаю худшее о вас, потому что остальные так думали. Женщины, которые кажутся разными, имеют нечто общее. Если одной или двум из них нравится мужчина, остальным он тоже нравится, потому что нечто в нем самом обращено к универсальному женскому инстинкту. Я думаю, что мужчины другие в этом отношении. — Может быть, потому что они более снисходительны и милосердны, — предположил я, — или просто они любят тех, кто любит их. Она снова мило засмеялась и сказала: — Однако все эти реплики не относятся к нам с вами. Мне кажется, что говорила вам об этом, когда под сенью кедра в стране кенда вы боялись, как бы я не схватила простуду, и это очень странно, но вы — другой, рядом с вами что-то во мне меняется. — Вам повезло, — пробормотал я, все еще глядя в серебряное блюдо. Она снова засмеялась. — Вы помните траву тадуки? — спросила она. — У меня достаточно много ее наверху, и не так давно я немного вдохнула, совсем немного, ведь вы знаете, как это опасно. — И что вы видели? — Ничего существенного. Вопрос в том, что мы оба увидим? — Ничего, — ответил я твердо. — Никакая сила не заставит меня попробовать это дьявольское зелье снова. — Кроме меня, — проговорила она еле слышно. — Нет, не думайте, что вы покинете этот дом так скоро. Вы попросту не сможете уехать, в воскресенье нет поездов. Кроме того, вы не сделаете этого, если я вас не попрошу. — В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть[348], — процитировал я, непоколебимый, как скала. — Неужели? Тогда почему я стольких уже поймала? В этот момент бык Башана[349], я имею в виду Смита, начал что-то мычать хозяйке дома с другого конца стола, и наш разговор прекратился. — Мой друг, — зашептал мне в ухо Скруп, пока мы ждали, чтобы женщины вышли, — мне кажется, что вы снова думаете о женитьбе. Что ж, выбор не такой плохой, — и он уставился на прекрасный силуэт леди Регнолл, которая исчезла за дверями вслед за остальными. — Заткнитесь, идиот! — ответил я возмущенно. — Почему? — невинно спросил он. — Женитьба достойна уважения, особенно если она последняя в жизни. Я помню, как говорил вам нечто много лет назад за этим же столом, когда вы только познакомились с ее светлостью. Но тогда рядом был Джордж, а теперь его нет. Я не удостоил его ответом, схватил свой стакан и уселся между каноником и быком Башана.
Глава 3
АЛЛАН ДАЕТ СЛОВО
Мистер Эттерби-Смит при знакомстве оказался даже хуже, чем могла бы нарисовать самая недружелюбная фантазия. Это был джентльмен, в известной степени происходивший из хорошей семьи. Его настоящее имя было Эттерби, а добавка «Смит» сделана для того, чтобы защитить скромное состояние, доставшееся ему именно на этом условии. Его родство с лордом Регноллом было не такое близкое по линии матери. Что же касается прочего, то он жил на каком-то морском курорте на южном побережье и мнил себя спортсменом, потому что как-то воспользовался случаем и взял в аренду участок для охоты в шотландских лесах, где водились олени. Очевидно, всю свою жизнь он ничего не делал и не заработал ни одного шиллинга, и детей своих воспитывал в том же духе. Главной чертой его характера было невыносимое тщеславие, которое часто характеризует мужчин, которые ничего из себя не представляют. Кроме того, он носился с идеей о своих правах, которые включают в себя, как я наконец-то понял, возвращение собственности Регноллов и богатства. Не думаю, что стоит говорить о нем что-то еще, кроме того, что он наскучил мне невероятно, в особенности после того, как он пропустил за накрахмаленный воротник сюртука четвертый стакан портвейна. Однако его сын был еще хуже, потому что задавал бесконечные вопросы, и, когда я наконец был вынужден умолкнуть, прочел мне лекцию об охоте. Да, этот юнец, который жил в Сандхерсте, учил меня, Аллана Квотермейна, как убивать слонов. Он, который никогда не видел слонов, за исключением тех, которых он кормил сдобными булочками с изюмом в зоопарке! Наконец, мистер Смит, который, к великому изумлению Скрупа, оккупировал дальний конец стола и возомнил себя хозяином, подал сигнал, и мы отправились в гостиную. Я не знаю, что случилось, но атмосфера начала сгущаться. Массивная миссис Смит села в кресло, обмахиваясь веером, и тогда варварские украшения, которые она надела, звенели на ее толстой руке. По обеим сторонам своей матери, бледные и нерешительные, стояли Полли и Долли, каждая из которых изображала, что читает книгу. Эта троица напомнила мне герб, который я как-то видел в ночном кошмаре, — этакая британская матрона с сопровождающими ее Честностью и Добродетелью. Напротив них, с другой стороны от камина, стояла, очевидно, очень сердитая леди Регнолл. — Правильно ли я понимаю, Луна, — услышал я звучный голос миссис Эттерби-Смит, едва вошел в комнату, — что ты действительно исполняла роль небесной богини среди этих дикарей и была одета в прозрачный халат? — Да, миссис Эттерби-Смит, — ответила леди Регнолл, — и еще в ночной колпак из перьев. Я надену его для вас, если это вас не смутит. Или, возможно, одна из ваших дочерей… — О! — воскликнули обе молодые леди. — Пожалуйста, тише. Сюда идут джентльмены. После этого установилась тяжелая тишина, нарушаемая только сдержанным хихиканьем миссис Скруп, стоявшей позади всех, и пышноволосой женой каноника, которая находила это смешным. Слава богу, сие продолжалось недолго — до того момента, когда миссис Эттерби-Смит, изучая меня некоторое время своим холодным взглядом, величественно поднялась и поспешно отправилась в свои апартаменты готовиться ко сну, сопровождаемая своими отпрысками. Некоторое время спустя я узнал от миссис Скруп, что леди Регнолл развлекалась, при любой возможности упоминая обо мне, ради ее родственников, которые в результате покинули комнату с убеждением, что я был вождем местного племени где-то в Центральной Африке, где обитал в пышных облачениях и драгоценностях, приличествующих моему статусу. Нет ничего удивительного, что миссис Эттерби-Смит сочла за лучшее увести своих «милых девочек», как она называла их, чтобы избавить от моего дурного влияния. Затем ушли Скрупы, пригласив меня на ланч с ними на следующий день. Я второпях принял это приглашение, хотя слышал, как леди Регнолл прошептала: «Эх вы!» Следом за ними ушли священник и его жена, затем помощник приходского священника, которые были, как сами сказали, «ранними птичками со множеством забот». После этого леди Регнолл отплатила мне тем, что отправилась спать, проинструктировав Моксли проводить нас в курительную комнату, «где, — прошептала она, пожелав доброй ночи, — я надеюсь, вы получите удовольствие». Я скрою, как прошел остаток ночи. Я просидел час и сорок пять минут в компании этой ужасной парочки, меня то поучали, то расспрашивали. В конце концов я не смог больше выдержать и, делая вид, что ищу себе новые запасы виски и содовой, выскользнул за дверь и поднялся наверх. Я намеренно прибыл на завтрак поздно и оценил свою мудрость, потому что леди Регнолл была уже наверху, страдая от «головной боли». Мистер Эттерби-Смит страдал от того же, но внизу, и это былрезультат смешивания портвейна, шампанского и виски, а его семья, казалось, страдала от своего характера. Выяснив, что они собираются пойти в парковую часовню, я удалился на одну-две мили и пришел прямиком к Скрупам, где приятно провел время, оставаясь там до пяти часов вечера. Я вернулся в замок к чаю, где нашел леди Регнолл настолько раздраженной, что снова вернулся в церковь, к шестичасовой службе, и времени хватило только для того, чтобы переодеться к обеду. Мне жестоко отплатили тем, что пришлось провести время с миссис Эттерби-Смит. Что это был за обед! Большую часть времени мы просидели в торжественной тишине, прерываемой лишь просьбой передать соль. Но вот я заметил с удовлетворением, что ситуация немного разрядилась на другом конце стола, где Эттерби-Смит выпил слишком много вина. Я услышал, как он говорит: — Мы надеялись провести несколько дней с тобой, моя дорогая Луна. Но ты говоришь, что твои обязательства делают это невозможным, — он замолчал, чтобы отпить немного портвейна, а леди Регнолл ответила невпопад: — Я убеждена, что нет лучше десятичасового поезда, и я заказала экипаж к половине девятого, ведь это не очень рано. — Если твои обязательства делают это невозможным, — повторил мистер Эттерби-Смит, — мы хотели бы попросить тебя о небольшом семейном совещании сегодня вечером. И все обернулись и уставились на меня. — Конечно, — ответила леди Регнолл, — чем раньше, тем быстрее мы уйдем спать. Мистер Квотермейн, я думаю, извинит нас, не так ли? В музее включен свет для вас, мистер Квотермейн. Вы можете найти там разные египетские штучки, которые несомненно, вас заинтересуют. — О, с удовольствием! — пробормотал я и удалился. Я провел два очень поучительных часа в музее, изучая различные египетские достопримечательности, в том числе пару мумий, которые несколько испугали меня. Они так были похожи на трупы в своих одеяниях! Одна из них была женская, ее звали «Певица Амона», насколько я помню. Я подумал о том, где и какие песни она пела. Затем я подошел к стеклянному ящику, который привлек мое внимание, потому что на нем была наклейка с надписью «Два папируса, подаренные леди Регнолл жрецами племени кенда в Африке». Внутри лежали развернутые папирусы, а под каждым — его перевод. Номер один, который был датирован «первым годом Пероа», оказался официальным представлением царской жрицы Амады в качестве предсказательницы в храме Исиды и Гора, который тоже назывался Амада и находился на восточном берегу Нила выше Фив. Очевидно, это был тот самый храм, о котором мне писала леди Регнолл, где ее муж погиб в результате несчастного случая. Это совпадение заставило меня задуматься, насколько я помню, каким образом сей документ попал в ее руки и какую миссию он сейчас исполняет. Другой документ, или скорее его перевод, содержал наиболее полный курс сведений для человека, который собирался ознакомиться с личной неприкосновенностью той же самой царской дамы Амады, которая, очевидно, благодаря своей службе была обречена на вечный целибат как дева-весталка. Я не помню точно все пункты этого перечня наставлений, но знаю, что он призывал к мести матери Исиды, Матери Луны, и младенца Гора всем, кто надругается над святыней. Там было столько слов о жестокой смерти «далеко от его собственной страны, где впервые он увидел Ра» (то есть солнце) и о дальнейших духовных страданиях. У меня появилась идея, что этот документ был создан в тяжелые времена, чтобы защитить сию чрезвычайно священную особу, предсказательницу Исиды, чей культ, как я узнал впоследствии, начал свою жизнь в Египте, от ужасной опасности, которая, возможно, грозила от рук чужестранца. Мне даже пришло на ум, что эта принцесса, которая, несомненно, была наследницей царей, оказалась помещенной в самое священное место именно по этой причине. Люди, которые страшатся собственных желаний, часто боятся навлечь на себя проклятия наиболее чтимых богов, чтобы достичь своих целей, даже если это не их боги. Такие выводы я сделал, прочитав этот любопытный древний документ. Я очень сожалею, что не могу привести его полностью, поскольку не позаботился о том, чтобы сделать копию. Могу добавить, и это мне показалось очень странным, что тот и другой документы, имеющие отношение к определенному храму в Египте, попали в руки леди Регнолл две тысячи лет спустя на огромном расстоянии от Африки и что впоследствии ее муж был убит в ее присутствии, раскапывая именно тот храм, к которому относились документы. Каким образом они были оттуда взяты? Кроме того, представляется достаточно странным, что леди Регнолл в свое время сама исполняла роль Исиды в усыпальнице, откуда были родом эти два папируса, а один из ее официальных титулов был «Предсказательница и Мать Луны», чей символ она носила на груди. Хотя я давно уже знал о том, что в мире существует много всего, неподвластного нашему пониманию, могу сказать честно и уверенно, что я человек без предрассудков. Но могу признаться, что эти бумаги и обстоятельства, с ними связанные, заставили меня насторожиться и даже пожалеть, что я приехал в замок Регнолл. Итак, Эттерби-Смиты очень эффектно положили конец всяческим разговорам на эту тему, и даже если леди Регнолл удалось выпроводить их на утренний поезд, в чем я сильно сомневался, у нас оставался единственный день, когда было бы нетрудно предотвратить беседы на подобные темы. Я размышлял об этом, стоя лицом к лицу с этими мумиями, пока наконец не увидел, что Певица Амона, на которой была надета яркая золотая маска в форме звезды, смотрит на меня своими продолговатыми нарисованными глазами. К моему удивлению, в них сияла сардоническая улыбка, которая растянулась во весь рот. «Вот о чем ты думаешь, — казалось, говорила эта улыбка, — наверное, о том, что можно избежать судьбы. Подожди и увидишь, мой друг. Подожди и увидишь!» — Во всяком случае, не в этой комнате! — громко ответил я и в спешке выбежал к переходу, который вел к главной лестнице. Не достигнув его конца, я увидел замечательное зрелище, которое заставило меня спрятаться за угол. Семья Эттерби-Смитов отправлялась спать. Они шли вверх друг за другом по главной лестнице, и каждый из них нес свечу. Папа шел впереди, а полный надежд молодой человек замыкал шествие. Их лица источали угрозу, даже близнецы выглядели как сердитые ягнята, но что-то на их лицах сказало мне, что недавно они испытали проигрыш и понесли невосполнимую утрату. Вскоре они исчезли на лестнице и из моей жизни навсегда. Когда они ушли, я возобновил свой путь и пошел прямиком к леди Регнолл. Если ее гостей можно было назвать сердитыми, то о ней следовало сказать: она была в ярости, почти кипела от негодования. Она повернулась ко мне и почти закричала: — Вы негодяй! Вы убежали и оставили меня на весь день с этими ужасными людьми. Да, они никогда сюда не вернутся, потому что я сказала, что прикажу слугам захлопнуть перед ними двери, если они появятся вновь. Не зная, что сказать, я пробормотал, что провел весьма поучительный вечер в музее, и это, казалось, разозлило ее еще больше. Она быстро исчезла, даже не сказав «спокойной ночи», и оставила меня одного. Через некоторое время я узнал, что Эттерби-Смиты невозмутимо информировали леди Регнолл, что она украла их собственность, и потребовали, чтобы она «по справедливости» вернула все, чем владеет, им, а кроме того, предоставила им денежное обеспечение в размере 4000 фунтов в год. Вот чего я не знал, так это того, что она им ответила. На следующий день Альфред пришел ко мне и принес записку от своей госпожи. Я ожидал, что она содержит приказ для меня покинуть ее дом вместе с другими гостями. Однако содержание записки было совершенно иным.«Мой дорогой друг, — было написано в ней, — мне ужасно стыдно за свое поведение, и я прошу у Вас прощения за мою грубость прошлым вечером. Если бы Вы знали, что всему виной эти попрошайки, Вы бы извинили меня… Л. Р. P.S. Я приказала подать завтрак к 10 утра. Не приходите раньше, ради Вас самого».
Я почувствовал явное облегчение, потому что думал, что она разозлилась на меня безо всякой причины, поэтому поднялся, оделся и сел, чтобы написать несколько писем. Занимаясь делами, я услышал шум подъехавшего экипажа под окном и увидел семью Эттерби-Смитов, покидающую замок. Сам Смит, казалось, до сих пор пребывал в ярости, остальные, кажется, были расстроены. Я услышал, как жена сказала мужу: — Успокойся, мой дорогой. Помни, что Провидение знает, что лучше для нас и что выскочки всегда несправедливы и неблагодарны. Ее супруг ответил на это: — Придержи свой проклятый язык! — и начал браниться на слуг из-за багажа. Итак, они наконец-то уехали. Глядя через дверь экипажа, мистер Смит увидел меня, выглядывающего из окна. Я махнул ему рукой на прощание. В ответ на мой вежливый жест он потряс кулаком. Я так и не понял, относилось ли это лично ко мне или ко всем обитателям замка. Убедившись в том, что они уехали окончательно и уже не вернутся, чтобы забрать что-то забытое, я спустился и с удивлением застал бурное совещание между дворецким, Моксли и его подчиненными, усиленное горничной леди Регнолл и двумя девушками-служанками. — Чаевые! — воскликнул Моксли, и это было самое прекрасное слово в потоке его брани. — Ими и не пахло! Вот его чаевые: «Протри глаза, ты, жирная посудомойка» — вот как он назвал дворецкого! Мне протереть глаза, вы представляете, Анна?! Не Альфреду или Уильяму, а мне! И это потому, что он упал, запутавшись в своем пледе. Джентльмен! Где уж!.. Я бы сказал — боров с потомством. — У кабанов не бывает потомства, мистер Моксли, — заметила Анна. — Милая девушка, много вы знаете! Чтобы у боровов не было бы потомства! Однако он не пустит свои грязные корни в этом замке, мне удалось услышать пару слов, которыми обмолвились они с миледи прошлой ночью. Он прямо сказал, что она занимается любовью с этим коротышкой Квотермейном, который хочет только ее денег, делают они это не в первый раз, началось все еще в Африке. Этот джентльмен, запомни это, Анна, хотя и достаточно своеобразный, он мне нравится, кроме того, как говорит сторож Чарльз, он лучший стрелок во всем мире. — И что она ответила на это? — спросила Анна. — Что она ответила? Что она не ответила, вот в чем вопрос. Все выглядело так, словно вся мебель в комнате вылетела вслед за Смитами! Итак, услышав более, чем мне хотелось бы, я вышел с подносом, в следующую минуту они удалились, захватив ночники. Вот и все, вон звенит колокольчик миледи. Альфред не стой, открыв рот, иди и зажги плиту. Итак, они исчезли, и я спустился. Я был возмущен, но рассмеялся. Без сомнения, леди Регнолл сошла с ума! Десять минут спустя она прибыла в гостиную, размахивая яркой лентой, которая распространяла благоухание. — Ради всего святого, что вы делаете? — Очищаю дом, — ответила она, — в этом, конечно, нет необходимости, я думаю, что они незаразные, но эта церемония имеет скорее моральное значение — как ладан. Она засмеялась и бросила смятую ленту в огонь, добавив: — Если вы скажете еще хоть слово об этой семейке, я уйду из комнаты. Думаю, что то был один из самых приятных завтраков, которые я только помню. Начнем с того, что мы были ужасно голодны, ведь события предыдущей ночи не позволили нам как следует поесть. Леди Регнолл вообще поклялась, что не ела ничего с субботы. Кроме того, нам было о чем поговорить. Мы беседовали весь день, в доме и на прогулке, когда гуляли в садах и парке вокруг дома, делая лишь короткие перерывы на отдых. Зайдя на задний двор, я оказался в том самом месте, где однажды спас леди Регнолл от Харута и Марута, мне кажется, что я даже не удержался и вскрикнул. Она спросила, что со мной. И мне пришлось рассказать эту историю, о которой к тому моменту она не ведала, поскольку Регнолл сохранил все в тайне. Она внимательно выслушала меня, а потом сказала: — Значит, я обязана вам еще больше. Хотя я не уверена, что меня хотели похитить. Если бы это случилось, Джордж, возможно, никогда не женился бы на мне и не встретился со мной вновь, и это было бы для него лучше всего. — Почему? — спросил я. — Ведь вы были для него целым миром. — Разве может какая-нибудь женщина быть всем для мужчины, мистер Квотермейн? Я замешкался, ожидая дальнейшей атаки. — Не отвечайте, — продолжала она, — это может занять много времени, и вы не сможете убедить меня, потому что я была на Востоке. Однако Джордж был всем для меня. Все, чего я желала, — это его благополучие, и я думаю, что он получил бы больше, если бы не женился на мне. — Почему? — снова спросил я. — Потому что я не принесла ему удачу, понимаете? Я не хочу снова вспоминать эту историю. Вы знаете ее. В конце концов, именно из-за меня он был убит в Египте. — Или из-за богини Исиды, — бросил я нервно. — Да, богиня Исида, роль, которую я играла в свое время, или что-то вроде этого. И он был убит в храме богини Исиды. И тот папирус, чей перевод вы прочитали в музее, был подарен мне на земле кенда, кажется, он пришел из того же храма. И как насчет Дитя из слоновой кости? Исида в храме, очевидно, держала его на руках, но мы нашли ее уже без ребенка. Предположим, что этот ребенок был тем самым, которому я приходилась стражем! Это могло бы быть, потому что папирус появился именно из того храма. Что вы думаете по этому поводу? — Я ничего не думаю, — ответил я, — кроме того, что все это очень странно. Я даже не понимаю, что изображают Исида и дитя Гора. Это не просто образы, даже в Египте или на земле кенда. Должно быть что-то еще. — О да, Исида же была общей матерью вселенной, самой природой с ее властью, с видимым и невидимым, что скрыто в природе; она также выражала любовь, хотя вряд ли была королевой любви, как Хатор, ее сестра-богиня. Ребенок Гор, которого древние египтяне называли Херу-Хенну, олицетворял собой вечное возрождение, вечную молодость, вечные силу и красоту. Кроме того, он был мстителем, который победил Сета, князя тьмы, и, таким образом, открыл дверь жизни людям. — Мне кажется, что все религии имеют нечто общее, — заметил я. — Да, очень многое. Для древних египтян было просто стать христианами, потому что для многих из них это лишь означало поклонение Исиде и Гору под новыми, более святыми именами. Однако пойдемте в дом, становится холодно. Мы пили чай в будуаре леди Регнолл, после этого наш разговор как-то сам собой иссяк. Она сидела напротив камина с сигаретой в губах, смотрела на меня и вдыхала ароматный дым. Мне стало не по себе, я чувствовал, что назревает катастрофа. Я не ошибся. Некоторое время спустя она произнесла: — Однажды мы предприняли долгое путешествие с вами, не так ли, мистер Квотермейн? — Было дело, — ответил я и завел было разговор об этом, пока она не прервала меня взмахом руки, и продолжала: — Мы можем отправиться в еще более дальнее сегодня вечером после ужина. — Какое? Куда? Каким образом? — воскликнул я встревоженно. — Я не знаю куда, но сейчас посмотрите вон ту коробочку, — и она указала на маленькую табакерку с восточным орнаментом, вырезанную из розового или сандалового дерева, которая стояла на столе между нами. Я поднялся со стоном и открыл ее. Внутри была другая коробочка из серебра. Я открыл ее и увидел, что внутри лежит связка из сухих листов, похожих на табачные. Они испускали слабый, но хорошо знакомый аромат, который на мгновение затуманил мой мозг. Затем я закрыл обе крышки и вернулся на свое место. — Тадуки, — пробормотал я. — Да, тадуки, и я верю, что ее сила сохранена полностью. — Сила! — воскликнул я. — Я не верю, что может быть какая-то сила в этой ненавистной магической траве, которая, мне кажется, произрастает в саду самого дьявола. Кроме того, леди Регнолл, в этом мире есть несколько вещей, в которых я вам откажу, и я должен сказать, что ничто не заставит меня вновь иметь дело с этой травой! Она тихонько засмеялась и спросила, почему я столь категоричен. — Да потому, что моя жизнь и без того настолько полна проблем и грустных воспоминаний, что у меня нет никакого желания возвращаться к ним лишний раз, и к тому же я уверен, что в этих коробочках спрятано много лжи. — Если и так, не думаете ли вы, что они могут объяснить нам кое-что из того, что происходит вокруг нас сегодня? — Нет, этим дело не кончится, и увиденное тоже потребует объяснений — Давайте не будем спорить, — ответила она, — я устала, полагаю, что нам еще понадобятся силы сегодня вечером. Я смотрел на нее и не мог произнести ни слова. Почему она не принимает отказов? Как обычно, она прочитала мои мысли и ответила на них. — Почему Адам не отказался от яблока, которое Ева предложила ему? — спросила она, словно мурлыкая. — Или почему он вкусил плод после стольких отказов и узнал секрет добра и зла, великую игру мира, которая потом стала известна всем, равно как и родовые муки? — Потому что женщина соблазнила его, — огрызнулся я. — Именно так. Это всегда было делом ее жизни, и всегда будет. Итак, я соблазняю вас, и не напрасно. — Вы помните, кто соблазнил женщину? — Конечно. Как и то, что он оказался хорошим учителем, потому что пробудил жажду знаний о том, как преодолеть страх, и, таким образом, заложил краеугольный камень человеческого прогресса. Эта аллегория читается двояко — избавление от невежества вместо потери невинности. — Вы слишком умны для меня вместе с вашими извращенными понятиями. К тому же вы сказали, что мы не будем спорить. Могу повторить только, что я не буду есть ваше яблоко или же не буду вдыхать тадуки. — Снова тот же самый Адам, — повторила она, качая головой. — Начало старо как мир и будет тот же самый конец, потому что в итоге вы сделаете то, что сделал Адам. Она поднялась и встала надо мной, глядя мне прямо в глаза. Любопытно, но при этом моя сила начала куда-то испаряться. Затем она снова села, тихо засмеявшись, и сказала как будто сама себе: — Кто бы мог подумать, что Аллан Квотермейн окажется порядочным трусом! — Трусом! — эхом проговорил я. — Трусом! — Да, это именно то слово. По крайней мере таким вы были минуту назад. Теперь ваше мужество снова вернулось к вам. Что ж, сейчас самое время переодеться к обеду, но перед этим выслушайте меня. Мой друг, я имею некую власть над вами, так же как и вы обладаете некоей властью надо мной. Скажу вам откровенно: если бы вы захотели, чтобы я что-то сделала, я бы это сделала, то же самое относится и к вам. Сегодня ночью мы с вами откроем великие ворота и увидим замечательные вещи, восхитительные вещи, которые будут бередить нашу память всю оставшуюся жизнь. Возможно, мы увидим то, что случится после смерти. Вы же не подведете меня? — молвила она умоляющим голосом. — Если так, я сделаю все сама, без сопровождающих, но тогда, я знаю — не могу сказать откуда, но я знаю, — что мне будет грозить великая опасность. Я думаю, что могу сойти с ума и никогда не стану прежней до самой своей смерти. Вы же не допустите этого, не так ли, хотя бы потому, что хотите избежать воспоминаний о прошлом? — К-конечно, нет, — заикаясь, проговорил я. — Я никогда не прощу себе этого! — Конечно, нет. Тогда нет нужды просить вас. Вы обещаете, что сделаете все, что я скажу? — и она снова посмотрела на меня, добавив: — Не стыдитесь этого, вы же помните, что я имела связь с тайными силами, совсем не так, как другие женщины. Вспомните, я говорила вам, что я никогда не чувствовала того же ни с одной живой душой, кроме вас, с тех пор, как мы впервые встретились. — Я обещаю, — ответил я и хотел было что-то добавить, но забыл что, потому что она прервала меня: — Этого достаточно, я знаю, что ваше слово превыше всего. А теперь идите и переодевайтесь как можно быстрей или обед будет испорчен.
Глава 4
СКВОЗЬ ВРАТА
У меня было немного времени перед тем, как позвонил колокольчик к обеду, чтобы все обдумать. С каждым новым предметом моей одежды, который я снимал, аромат будуара уходил, пока наконец его последние следы не исчезли вместе с моей обувью. Я в самом деле был растерян. Я, который пришел в этот дом полный целомудренной решительности и мыслей о независимости, теперь был лишь жертвой и пленником обстоятельств и жизненных коллизий и еще мог только молиться, чтобы хоть как-то удержать себя от искушения. В самом деле, что же соблазнило меня? Клянусь своей жизнью, я не мог этого сказать. Желание доставить удовольствие самой прекрасной женщине и удержать ее от сомнительных и опасных экспериментов? Может быть, хотя неизвестно, будут ли они менее опасными, если мы станем проводить их вместе. Конечно, это было не только желание вкусить вожделенное яблоко знаний, ведь я уже и так много знал об этих вещах. Правда была в том, что эта женщина — самая могущественная сила в мире, где большинство составляем мы, бедные и слабые мужчины. Она командовала, и я был вынужден подчиниться. Во мне росли отчаяние и желание скрыться. Может быть, я мог бы выскользнуть через заднюю дверь и сбежать без пальто или шляпы, хотя ночь была достаточно холодной и меня просто могли бы принять за лунатика. Но это оказалось невозможно, ведь я был прикован цепью, сломать которую нельзя. Я дал слово чести. Я был связан по рукам и ногам, и в этом было что-то, что заставляло меня бояться, от чего я дрожал и чего избегал даже представить себе — будто готовился сбежать с чужой женой или скрыться от чего-то, чуждого мне. Возможно, трава уже потеряла свою силу, если только ее воздействие не усилилось с годами, как это бывает с некоторыми видами взрывчатых веществ. Если это было не так, худшее, что ждало меня, был глупый сон, сопровождаемый, возможно, головной болью. Самый неприятный вариант — я мог не проснуться. Или я проснулся бы, а она нет! Что я мог тогда сказать? Я оказался в тупике. Были и другие ужасные мысли, настолько реальные, что я покрывался холодным потом и чувствовал такую слабость, что временами садился в изнеможении. Потом я услышал гонг, он звучал для меня как колокол для преступника, приговоренного к смерти. Я медленно спустился и нашел леди Регнолл, ожидающую меня в гостиной. Она была нарядно одета. Я помню, что недавно негодовал по поводу того, что она еще радовалась в таких обстоятельствах. Однако я ничего не сказал. Она оглядела меня сверху донизу и заметила: — Судя по вашему внешнему виду, вы видели привидение замка Регнолл или собрались жениться против своей воли или я не знаю что. И вы забыли завязать галстук. Я посмотрелся в зеркало. Это была правда, концы галстука свисали с моей рубашки. Потом я словно боролся с дьявольской силой, пытаясь справиться с этой штуковиной на шее, пока наконец она не помогла мне, тихо смеясь. Ее прикосновение каким-то образом вернуло мне уверенность и позволило смело сказать, что я лишь хотел пообедать. — Да, — ответила она, — но вам не нужно много есть, вы должны лишь пить воду. Жрицы племени кенда говорили мне, что это обязательно нужно делать перед принятием тадуки в ее сильнейшем виде, что мы и собираемся сделать сегодня ночью. Вы знаете, что жрец Харут лишь дал нам вдохнуть самую малость в этой комнате много лет назад. Я только застонал, и она снова засмеялась. Мы ничего не выпили за обедом на этот раз, хотя, чтобы избежать подозрений, я позволил Моксли наполнить мой стакан один или два раза. Я мало ел, потому что не было аппетита, что было вызвано плохим сном. Я не могу больше ничего вспомнить до того времени, пока леди Регнолл не указала Моксли посмотреть, насколько хорош огонь в камине в музее, куда мы собирались пойти ночью и где нас не должны были беспокоить. Прошла еще минута, и я уже чисто механически открывал для нее дверь. Когда она проходила мимо, то задержалась, чтобы что-то поправить на своем платье, и прошептала: — Приходите через четверть часа. Имейте в виду — никакого портвейна, который может затуманить ваш ум. — Мне нечего затуманивать, — ответил я ей. Затем я вернулся и сел у огня, глядя на графин и чувствуя себя совершенно несчастным, потому что, насколько я помню, мне никогда так не хотелось выпить бутылку вина. Большие часы тикали и тикали и наконец пробили четверть часа, ударяя по моим нервам в этом огромном пустом банкетном зале. Я встал и отправился наверх, как преступник, и мне казалось, что слуги в зале смотрели на меня с подозрением, а может быть, так оно и было. Я добрел до музея и увидел, что он ярко освещен, но совершенно пуст, за исключением веселой компании из двух мумий, которые, кажется, подмигнули мне своими сверкающими, но безжизненными глазами. Я уселся перед огнем, не осмеливаясь даже закурить, чтобы табак не усугубил действие тадуки. Вдруг я услышал глухой смех, посмотрел наверх и едва не упал назад, потому что мое кресло чуть не совершило этакое сальто с обратным поворотом. В этом не было ничего странного, потому что надо мной, как античная невеста, обожаемая своим мужем, появилась богиня Исида — белые одежды, на голове украшение с перьями, античные браслеты, сандалии на босу ногу с золотыми гвоздиками, надушенные волосы, рубиновое ожерелье и все остальное в том же духе. Я смотрел во все глаза, затем из меня вырвались слова, которые я меньше всего хотел сказать: — О, небеса! Как же вы прекрасны! — В самом деле? — спросила она. — Я рада, — и она плавно прошла через всю комнату и закрыла дверь. — Теперь, — сказала она, обернувшись, — нам лучше заняться делами. Надеюсь, тогда вы станете обожать богиню Исиду немного меньше и приведете свой ум в порядок. — Нет, — ответил я, почувствовав, что моя благовоспитанность вернулась ко мне, — я не желаю обожать какую-либо богиню, особенно, если она не богиня. Это не входило в нашу сделку. — Это так, — кивнула она, — но кто знает, что вы будете обожать через час? О, простите меня, я смеюсь над вами, но я не могу иначе. Вы действительно выглядите напуганным. — Кто не был бы напуган на моем месте? — спросил я, уставившись с мрачным предчувствием на коробочку из сандалового дерева, которая появилась из шкафа, полного скарабеев. — Посмотрите сюда, леди Регнолл, — добавил я, — почему вы не оставите это дьявольское занятие и не позволите нам провести приятный вечер за разговорами, тем более когда уехали эти ужасные Смиты? У меня есть множество историй о моих африканских приключениях, они должны заинтересовать вас. — Потому что я хочу увидеть свои собственные африканские приключения и, возможно, ваши тоже. Я уверена, что они заинтересуют меня гораздо больше, — воскликнула она с серьезным видом. — Вы думаете, что все это глупость, но это не так. Эти жрицы племени кенда рассказали мне больше, чем смогло вылететь у меня из головы. Долгое время я не вспоминала то, что они поведали мне, но в последнее время, особенно с тех пор, как мы с Джорджем начали раскапывать тот храм, много всего мало-помалу вернулось ко мне, фрагментами, знаете ли. Я пожелала знать остальное, как не хотела ничего в жизни. И худшее в том, что я знала и знаю, что это может случиться, только если мы будем вдвоем, и я не могу сказать почему, или забыла об этом. Именно поэтому я с такой радостью восприняла весть о том, что вы не только живы, но и находитесь в этой стране. Вы ведь не разочаруете меня, не так ли? Я ничего не могу предложить вам из того, что имеет для вас хоть какую-то ценность, поэтому я всего лишь прошу вас не разочаровывать меня — ведь я ваш друг. Я отвернулся, замешкавшись, а когда снова поднял голову, то увидел, что ее прекрасные глаза полны слез. Естественно, это решило дело, и я лишь произнес: — Давайте займемся нашими делами. Что я должен делать? Погодите. Я хочу предотвратить все случайности — и, подойдя к столу, взял лист бумаги и написал:«Леди Регнолл и я, Аллан Квотермейн, собираемся поставить эксперимент с травой, которую мы нашли в Африке несколько лет назад. Если случайно это приведет к несчастному случаю с кем-то одним из нас или обоими, коронер должен знать, что это не убийство или самоубийство, а всего лишь неудачный научный опыт».
Я поставил дату и время, 21.47, затем подписал, попросив ее сделать то же самое. Она подчинилась, заметив, что достаточно странно, что такой человек, как я, проживший жизнь в постоянной опасности, боится умереть. — Послушайте, юная леди, — ответил я раздраженно, — не кажется ли вам, что я могу бояться, что если с вами что-то случится… я буду повешен за это? — добавил я, чуть запнувшись. — О, я понимаю, — ответила она, — это действительно очень мило с вашей стороны. Но, конечно, вы должны подумать об этом, такова ваша природа. — Да, — ответил я, — природа, но не добродетель. Она подошла к буфету, который являлся нижней частью музейных ящиков, и извлекла из одного античную чашу, сделанную из черного камня с отверстиями для ручек, на которых были вырезаны головы женщин в церемониальных париках. И кроме того, я увидел низкую треногу из эбенового или какого-то другого черного дерева. Я посмотрел на эти предметы и узнал их. Они стояли перед святилищем в храме в землях племени кенда, именно над ними я однажды видел эту самую женщину, одетую так, как леди Регнолл сегодня вечером, со склоненной головой и в магическом дыму. Именно сквозь него она произносила свои предсказания, данные ей богом кенда. — И это вы привезли тоже, — сказал я. — Да, — ответила она торжественно, — они будут готовы в назначенный час, когда понадобятся нам. Она больше ничего не говорила, а занялась какими-то странными приготовлениями. Сначала поставила треногу и чашу на открытое пространство, и я с радостью заметил, что они находятся на некотором расстоянии от огня, ведь если кто-то из нас упадет туда, то должен быть кто-то, кто не допустит этой кремации. Затем она подняла изогнутое сиденье со спинкой и ручками, достаточно удобно выглядевшее приспособление, которое стояло сзади, в точности как те, которые стоят в клубах. Она указала мне сесть на него. Я подчинился, но у меня было такое чувство, которое испытывает человек, который ложится на операционный стол. Далее она взяла ту треклятую коробочку с тадуки, я имею в виду ту, вторую, внутреннюю серебряную, содержимое которой я страстно хотел бы выбросить в огонь. Она поставила ее, открытую, около треноги. Затем она вытащила щипцами несколько поленьев из камина и положила их в каменную чашу. — Я думаю, это все. Настало время для новых приключений, — сказала она голосом, внезапно ставшим звонким и мечтательным. — Что я должен делать? — спросил я еле слышно. — Все очень просто, — ответила она, присев рядом со мной, как раз рядом с коробочкой, где была тадуки. Жаровня стояла между нами, а тренога, как раз ее выгнутая часть, располагалась напротив края дивана, так что мы как раз оказывались по разные стороны от нее. — Когда дым станет слишком густым, вам нужно будет лишь опустить голову немного вперед, а ваши плечи должны находиться напротив кресла до тех пор, пока вы не почувствуете, что сознание покидает вас, хотя я не думаю, что это понадобится, ведь вещество едва уловимо. Затем откиньте голову назад, чтобы заснуть и видеть сны. — Что я увижу во сне? — спросил я просто так, чтобы хоть что-то сказать, потому что рассудок уже покидал меня. — Я думаю, вы увидите прошлое, в котором вы и я играли определенную роль, по крайней мере я на это надеюсь. Я видела такие сны на земле племени кенда, но тогда это была не я и большинство снов забыла. Кроме того, я знала, что мы можем увидеть их только вместе. Но хватит слов. Однако эта команда пробудила во мне жгучее желание продолжить разговор. Моему желанию не суждено было сбыться, потому как в тот момент она снова встала, глядя на треногу и меня, и начала петь звучным и одновременно каким-то жутким голосом. Не ведаю, что то была за песня, языка я не знал, но думаю, что это была какая-то древняя песня, которую она услышала на земле кенда. Она стояла, красивая и вдохновленная жрица, облаченная в свои древние одежды, и пела, покачивая руками и глядя на меня в упор. Внезапно она нагнулась, взяла немного травы и со словами заклинания бросила ее на угольки под чашей. Она сделала это дважды, затем села на диван и стала ждать. Яркое пламя вырвалось примерно через тридцать секунд, я думаю, что оно поглотило летучие масла дерева. Затем пламя как бы умерло, и снова появился дым — белый, густой и клубящийся. Он источал очень приятный аромат, напоминающий запах оранжереи. Он поднимался над нами, как веер, сквозь его завесу я слышал ее голос: — Врата открыты. Входите! Я очень хорошо понимал, что она имеет в виду, и, хотя на мгновение я подумал о надувательстве (другого слова подобрать было нельзя), я также знал, что она читает мысли и будет презирать меня в душе. В любом случае я чувствовал, что должен подчиниться, и погрузил голову в дым, как свежий окорок погружают в коптильню. Теплый пар ударил мне в голову, как туман или, скорее, течение, но я не задыхался и опасался только за свои глаза. Я всасывал аромат глубоко в горло, вдохнул раз, другой, третий, мой мозг плавно скользил, отбрасывая меня назад, что я и должен был делать. Глубокая и счастливая сонливость овладела мной, и последнее, что я помню — это звук часов, которые пробили два удара от десяти часов. Третий удар я тоже слышал, но он уже звучал где-то во мне, как самый прекрасный звон колоколов в мире. Я помню, что был уверен, будто это сигнал для развертывания какой-то огромной авансцены, которая выплывала позади. То был целый мир — не больше и не меньше. Что же я видел? Что видел? Позвольте мне вспомнить и рассказать. Сначала был какой-то хаос. Огромные клубы дыма, раздуваемые мощными ветрами, великие моря, но по большей части спокойные. Затем сотрясения и вулканы, извергавшие огонь. Затем бесконечная роскошь пышных тропических лесов. Огромные рептилии, пасущиеся и поедающие что-то на болотистых берегах. Крупные слоноподобные животные, передвигающиеся между пальмами. Затем на полянах — крытые тростником хижины, а вокруг них бормочущая что-то толпа созданий, которые людьми-то являлись лишь наполовину. Временами они поднимались на ноги, иногда опускались на четвереньки. Они были практически целиком покрыты волосами, которые стали для них своего рода одеждой. В тот момент, когда я встретил их, они были напуганы появлением огромного мамонта, если это, конечно, верное название для него, он вошел на поляну и смотрел на нас. Без сомнения, это было чудовище из слоновьего племени, я примерно оценил его рост — около двадцати футов — и с невероятным образом изогнутыми бивнями. В результате получилось так, что я обнаружил себя среди этих волосатых, бормочущих что-то созданий, но я был не снаружи — видимым, а как бы внутри, и это был не я, а дух. Кроме того, меня подгоняла женская особь племени (я едва ли могу назвать ее женщиной), чтобы я подтвердил свою мужскую сущность, добыв мамонта лично для нее или найдя кого-то, кто может это сделать. В конце концов я ранил мамонта, применив орудие охоты, думаю, это был острый камень, хотя то, как я мог ранить чудовище ростом в двадцать футов подобным орудием, выше моего понимания. Но, возможно, камень был отравлен. Как ни странно, конец был неожиданным. Я бросил камень, и в этот момент огромный хобот взметнулся между таких же гигантских бивней и поймал меня. Я болтался в воздухе туда-сюда, пытаясь сообразить, что случилось, поскольку к тому времени мое нормальное мироощущение еще не окончательно покинуло меня. Это была моя первая встреча со слоном Джаной, к тому же было глупо пытаться угодить женщине, не подумав о личной безопасности… Внезапно свет померк, все было кончено, но вдруг, спустя многие тысячи лет, или мне так показалось, он снова появился. В этот момент я был черным человеком, который жил в чем-то, похожем на крааль туземцев на вершине холма. Внизу шла стрельба, нас атаковали враги, из хижины выбежала женщина и дала мне копье и щит, последний был сделан из дерева с белыми пятнами на нем. Она указала мне на тропинку, которая вела к подножию холма. Я последовал за группой остальных воинов, хотя и без энтузиазма, и внезапно встретился внизу с огромным ревущим человеком. Я метнул в него копье, он бросил свое в меня, ужасная боль в животе пронзила меня. После этого я поднялся на вершину холма, где женщины вытащили из меня копье и отдали его другому человеку. Больше я ничего не помню. Затем было много других видений, но я не могу, по правде говоря, их вспомнить. Не то чтобы они ничего собой не представляли, просто после всего этого то были лишь робкие попытки, беспорядочные происшествия прошлых жизней, реальные или воображаемые, или, как я предполагаю, все это были обычные, элементарные вещи, такие, как голод и раны, женщины и смерть. В конце концов промелькнули фрагменты прошлого, и я не сознавал, что это, затем я обнаружил себя лицом к лицу с чем-то конкретным и реальным, не таким отдаленным или незнакомым для понимания. Это было началом реальной истории. Пожалуйста, не забывайте, что я помнил себя, Аллана Квотермейна, и никого другого, и в то же время что-то или кто-то еще видел меня в колеснице, запряженной двумя лошадьми с изогнутыми шеями, которая управлялась возницей, сидевшем впереди на маленьком сиденье. Это была богато украшенная позолоченная повозка без рессор, сделанная из дерева, нечто похожее на фургон с шестом, или, как мы называли их в Южной Африке, диссельбум, в который были запряжены лошади. Я стоял в этой повозке в развевающихся одеждах, которые были стянуты на поясе ремнем. Мои ноги были обмотаны цветными лентами, на ногах надеты сандалии. Мне так кажется, что своей внешностью я был похож на женщину, и это мне не очень нравилось. Однако все-таки я был рад видеть, что в те дни я являлся кем угодно, только не женщиной. В самом деле, я не мог поверить, что когда-то я выглядел таким красивым, даже две тысячи лет назад. Я был не очень высоким, но невероятно крепким, даже можно сказать, плотным. Мои руки, насколько это можно было разглядеть под рукавами женского наряда, были руками борца, а грудь была, как у быка. Лицо мое мне тоже очень понравилось. Широченный лоб, черные глаза, глубокие и горделивые, черты лица массивные, но точеные и какие-то очень разумные. Рот прямой, хорошей формы, губы, возможно, слишком полные. Волосы — я не помню точно какие, но, согласно современной этому времени моде, завивались так красиво, что можно было предположить, что один из моих предков влюбился в женщину негроидной расы. Однако волос было много, они свисали практически до плеч и завязывались на лбу очень тонкой ленточкой голубого цвета с блестками. Я был рад отметить, что моя кожа хоть и была темной, но оказалась светлее, коричневой, что могло произойти в результате загара. Возраст — между двадцатью пятью и тридцатью пятью годами, возможно, ближе к последнему, то есть самый расцвет жизненных сил. В заключение могу сказать, что я держал в левой руке крепкий лук из черного дерева, который, как мне показалось, уже достаточно поработал. Его тетива была из чего-то похожего на кетгут[350], в нем была размещена широкая стрела. Я держал стрелу пальцами правой руки, на одном пальце я заметил красивое золотое кольцо со странными рисунками, вырезанными в его гнезде. Теперь поговорим о колесничем. Он был сама чернота, черный, как шляпа для воскресных походов в церковь, круглые желтые глаза его вращались на невероятно уродливом лице. Его большой широкий рот с толстыми губами сполз на левую сторону его лица, прямо к уху, которое было тоже очень большое и выступало вперед. Волосы, в которых торчало перо, были действительно негритянские, они покрывали череп, круглый, как пушечное ядро, и, я думаю, были такие же жесткие. Голова сидела на плечах, как будто была вколочена туда свайным молотом. Невероятно широкие плечи предполагали огромную силу, но тело в ярких одеждах, поддерживаемое двумя кривыми ногами и большими плоскими ступнями, было телом эфиопского карлика, которое, судя по пропорциям конечностей, природа сначала предполагала для великана. Глядя на эту необычную внешность, я обнаружил, что внутри нее имелась душа — или живой элемент, кого бы вы думали? Это был не кто иной, как мой обожаемый старый слуга и компаньон готтентот Ханс, чью потерю я оплакивал долгие годы. Сам Ханс, который умер для меня, уничтожив огромного слона Джану на земле кенда, слона, которого я не смог поймать, и тем самым спас мою жизнь. Хоть я и вернулся назад, в те времена, о которых ничего не знал, в античную империю в состоянии транса, я как наяву разрыдался от радости, что нашел его снова, особенно потому, что инстинктивно знал: как он любит Аллана Квотермейна сегодня, так же он любил этого египтянина в повозке на колесах, ибо, насколько я понял, именно такой была моя национальность в этом сне. Теперь я огляделся и увидел, что моя повозка была второй в этой кавалькаде. Непосредственно перед ней двигалась еще одна, более торжественная, в ней стоял человек, которого если я и не знал, то должен был догадаться, что это царь, более того, это был Царь царей, и в то время это был самый главный повелитель большей части известного тогда мира, хотя я понятия не имел, как его зовут. На нем было длинное, развевающееся одеяние из пурпурного шелка, украшенное золотом и вышивкой, на талии — пояс, унизанный драгоценностями, с него свисала личная священная печать, та самая маленькая Белая печать, или Печать Печатей, которая, как я узнал позднее, была известна по всей тогдашней земле. На его голове был плотный капюшон, тоже пурпурный, вокруг него прикреплена лента из ярко-голубой ткани с белыми пятнами. Лучшее сравнение, что мне приходит в голову, — это высокая модная шляпа без полей, слегка сплющенная, так что на верхушке получилась дуга, обмотанная галстуком. Однако, на самом деле, это был головной убор, которые монархи надевали на себя, оставаясь в одиночестве. Если кто-то еще надевал этот убор, например по ошибке в темноте, эту шапку с него снимали вместе с головой, вот и все. Царь держал в руке лук со стрелой, тетива была натянута. Наверное, мы возвращались с охоты, и, как я должен отметить, львы и тогда не жаловали людей. С его стороны, ближе к краю повозки, лежал длинный, остро отточенный жезл из кедрового дерева с набалдашником из какого-то зеленого драгоценного камня, возможно, изумруда, имеющего очертания яблока. Это был царский скипетр. Сразу за повозкой шли несколько знатных людей. Один из них нес золотую скамеечку для ног, другой — зонт, сейчас он был сложен, еще один человек нес запасной лук и колчан сострелами. Еще один нес украшенное драгоценностями опахало, сделанное из пальмового волокна. Я хочу добавить, что царь был молодым и красивым человеком с кудрявой бородкой и чисто выбритым лицом. Однако выражение его лица было плохим, злым, отмеченным печатью усталости или скорее пресыщения. Кроме того, под выразительными темными глазами были отчетливые иссиня-черные круги. Но от него исходила гордость, и было что-то еще в его движениях и взгляде, что вызывало страх. Он был богом, который знает, что он смертен, и его пугало, что в любой момент он может быть призван наверх и тогда разом потеряет всю свою божественность. Сейчас его не пугала опасность преследования, ведь он был настоящим мужчиной. Но как он мог безбоязненно выступать среди всей этой толпы медленно продвигавшегося люда, не думая о том, что рядом есть тот, кто держит под полой кинжал, готовый вонзиться в его спину, или тот, кто может вылить содержимое пузырька с ядом в его бокал с вином? Он, который держал в кулаке весь мир, был полон тайных страхов, которые я смог распознать в нем, как только увидел его, и которые заполняли всю его сущность. Этот человек из плоти и крови должен был умереть в крови, хотя и не в результате убийства. Кавалькада остановилась. Затем вышел толстый евнух в блестящих, отделанных золотом одеждах, похожий в свете солнца на жука-бронзовку. Он медленно, с явным трудом двигался по направлению ко мне. Это был отвратительный человек, и я знал, что мы друг друга ненавидели. — Приветствую тебя, египтянин, — произнес он, вытирая лоб рукавом, потому что солнце уже пригревало. — Слава тебе! Великая слава! Царь царей велел привести тебя. Он лично поговорит с тобой! Пойдем! Пойдем быстро! — Быстро, как стрела, Хуман! — засмеялся я. — Видишь ли, последние три луны я, как стрела, отдыхал в тетиве и находился так близко к его величеству! — Три луны! — завизжал евнух. — Многие ждут три года, а многие уходят в могилы, прежде чем дождутся, а это люди более значительные, чем ты, хотя, я слышал, ты утверждаешь, что в тебе течет царская кровь вон оттуда, с Нила. Но не будем говорить о стрелах, пролетающих навстречу Небесам, потому что они предвещают несчастья, но могут принести тебе и дополнительную славу, пусть они пока и в тетиве, — и он показал рукой, как будто веревка затягивается на горле. — Человек, оставь свой лук! Ты хочешь появиться перед царем вооруженный? Да, и кинжал тоже! — А может лев появиться перед царем без когтей и зубов? — ответил я сухо, снимая с себя оружие. Мы пошли вперед втроем, оставив колесницу под охраной солдата. — Опусти рукава до ладоней, — сказал евнух, — никто не может предстать перед царем, показывая свои голые руки, а ты, карлик, поскольку у тебя нет рукавов, спрячь свои руки под одежду. — Что я должен сделать со своими ногами? — спросил он в нос. — Не обидится ли царь, если он увидит мои ноги, о благородный евнух? — Конечно, обидится, — ответил Хуман, — поскольку они такие уродливые, что могут оскорбить даже меня. Скрой их, насколько это возможно. Мы уже близко, опустите свои головы и ползите медленно на коленях и локтях, как я. На колени, я сказал! Я опустился на четвереньки, хотя в моем сердце бушевал гнев, не забывайте, что я, современный Аллан Квотермейн, знал все мысли и чувства, которые проносились в голове моего прототипа. Я был как бы зрителем пьесы, вот и вся разница. Я мог читать помыслы и мысли этого альтер эго, так же как и видеть все его действия. Я мог радоваться, когда он радовался, мог рыдать, когда он рыдал, — в общем, чувствовал все то, что чувствовал он, хотя в то же самое время я оставлял за собой право изучать его с позиции современного человека, с присущими мне знаниями. Будучи двумя людьми, мы все-таки были единым целым, или, будучи единым целым, мы были двумя разными людьми, это уж как вам понравится. Мне не доставало этой способности, когда дело касалось остальных актеров этой пьесы. О них я знал столько же мало или много, сколько я — прошлый, если он когда-либо все-таки существовал. Не было ничего необычного в моих способностях, в том, что касается этих людей. Я не мог проникать в их души больше, чем в души людей, которые окружают меня сейчас. Я надеюсь, что мне удалось разъяснить мою несколько необычную позицию, ссылаясь на эти страницы из книги прошлого. Итак, возглавляемый евнухом, со следовавшим за мной по пятам карликом я полз по песку, в котором росли какие-то колючие растения, которые впивались в мои колени и пальцы. Мы двигались к человеку, который был правителем всего мира. Он спустился вниз со своей колесницы при помощи скамеечки для ног, затем выпил из золотого кубка, пока его слуги стояли вокруг в различных позах, выражавших обожание и глубокое почтение. Он опустил кубок на колени, внезапно поднял голову и увидел нас. — Кто это? — спросил он высоким и довольно мелодичным голосом. — И почему они находятся здесь? — Прошу прощения, мой господин, — ответил наш сопровождающий, склоняя голову к земле в знак великого уважения, — прошу прощения, мой царь… — Я извиню тебя, собака, если ты ответишь на мой вопрос. Кто это? — Мой господин, это египетский охотник и знатный человек Шабака. — Я слышу, — ответил его величество, и в его усталых глазах промелькнул интерес, — и что делает здесь этот египтянин? — Да простит меня мой господин, вы просили меня привести его к нам, но только сейчас, когда колесницы остановились. — Я забыл, ты прощен. Но кто это с ним? Это человек или обезьяна? И тут я покрутил головой в разные стороны и увидел, что мой раб в попытках следовать инструкциям евнуха спрятал свои ноги, что сделало его похожим на мяч; так сворачивается ежик, за исключением того, что его голова торчала из этого мячика. — О, мой господин, я так понимаю, что это слуга и возница египтянина. Тот снова заинтересованно глянул и воскликнул: — Неужели? Тогда египтянин должен быть из очень странной страны, если там живут такие люди-обезьяны. Встань, египтянин, и попроси свою обезьяну тоже встать, потому что я не могу услышать людей, которые говорят, валяясь в грязи. Итак, я встал и поздоровался, подняв обе руки и поклонившись так, как делали другие, насколько я мог заметить. При этом я попытался освободить руки, которые были прикрыты рукавами. Царь осмотрел меня сверху вниз, затем коротко сказал: — Каково твое имя и что за дело привело тебя в мой город? — Да продлятся дни господина на долгие годы, — ответил я, — как сказал этот господин, — я указал на евнуха. — Это не господин, это пес, — прервал меня монарх, — который носит женскую одежду. Но продолжай. — Как сказал этот пес, который носит женскую одежду, — здесь царь засмеялся, однако евнух, Хуман, позеленел от гнева и в ярости глянул на меня, — мое имя Шабака, я потомок эфиопского царя Египта, который носит такое же имя. — Я слышал, что существует слишком много потомков царя Египта. Когда я в следующий раз отправлюсь в эту страну, что вскоре я собираюсь сделать с оружием в руках, — и он бросил на меня холодный взгляд, — возможно, их станет меньше. Например, не станет некоего Пероа. Он замолчал, но я не ответил, потому что Пероа был двоюродным братом моего отца и членом свергнутого царского дома, кроме того, это был мой покровитель в юности. — Итак, Шабака, — продолжил он, — в Персии царская кровь — обычное дело, хотя некоторые из нас считают, что лучше, если она проливается. Что еще ты можешь сказать? — Я убиваю оленей, о Царь царей, охочусь на львов и слонов (это утверждение очень заинтересовало меня, Аллана Квотермейна, поскольку показало мне, насколько постоянны наши вкусы), а когда я дома, развожу скот и выращиваю зерно. — Все это хорошие занятия, Шабака. Но почему ты приехал сюда? — Идернес, наместник в Египте, слуга Царя царей, искал кого-то, кто может отправиться на Восток, потому что царь царей хочет услышать об охоте на львов в землях, которые лежат к югу от Египта, по направлению к великой реке. Тогда я, человек, желавший увидеть новые страны, сказал: «Вот он я. Отправь меня». Итак, я приехал и в течение трех месяцев задержался в царском городе, но до настоящего времени не видел лица Великого царя, хотя я много раз давал знать о себе, показывая письма Идернеса, который дал мне охранные грамоты. И я думаю сегодня или завтра отправиться обратно в Египет. Царь подал знак, и возник писарь, которому он приказал записать мои слова и разрешить проблему, поскольку кто-то мог пострадать от его небрежности. Краем глаза я видел, как Хуман и некоторые другие знатные люди побледнели и принялись перешептываться. — Теперь я вспоминаю, — воскликнул он, — что просил Идернеса отправить мне египетского охотника. Итак, ты здесь, и мы готовы охотиться на львов, которых так много в тех лесах, это голодные и сильные твари, они в течение трех дней собирались в стаи, потому что не могли найти добычу. Как много львов ты убил, Шабака? — Пятьдесят три, мой царь, не считая детенышей. Он с подозрением уставился на меня, сказав презрительно: — У вас, египтян, длинные языки, я уже слышал об этом. Хорошо, сегодня мы увидим, сможешь ли ты убить пятьдесят четвертого. В час, когда солнце начнет садиться, мы отпустим гончих вон в тех камышах, и, пока вода будет позади них, львы выйдут, и тогда мы все увидим, какой ты охотник. Я понял, что царь считает меня лжецом, и кровь бросилась мне в голову. — Зачем нам ждать заката солнца, о, Царь царей? — сказал я. — Почему не войти в камыши, как приказывает обычай в стране Куш, и выгнать львов из дремы в их собственном логове? Теперь царь громко засмеялся и во всеуслышание заявил своим придворным: — Вы слышали этого хвастливого египтянина, который говорит о том, чтобы войти в заросли и столкнуться лицом к лицу с львами в их логове? Ни один человек не осмелится сделать этого, потому что не видно, куда надо стрелять. Что ему сказать? Должны ли мы попросить его доказать свои слова? Некоторые знатные господа выступили вперед, один из них служил охотником, хотя и не был похож на него, аромат его волос достиг меня за несколько шагов, а лицо его толстым слоем, как штукатурка, покрывала краска. — Да, мой господин, — сказал он вкрадчиво, — давайте позволим ему войти в заросли и убить льва. Но, если он потерпит неудачу, пусть лев убьет его. В дворцовых клетках есть голодные, и негоже царю слышать пустые слова из уст чужеземцев из Египта. — Пусть будет так, — сказал царь. — Египтянин, ты поклялся своей головой. Докажи, что ты можешь сделать то, о чем говоришь, и тебя ждет великая слава. Не сможешь — и тот, кто лгал про львов, отправится к львам. Но, — добавил он, — неправильно отпускать тебя одного. Выбери кого-нибудь из моих людей, чтобы он составил тебе компанию, он проверит тебя, если ты, конечно, пожелаешь. Я бросил взгляд на пахнущего человека, который на моих глазах побледнел, и это было видно даже под слоем краски на лице. Потом я посмотрел на толстого евнуха Хумана, который открыл рот и ловил воздух, как рыба, и, взглянув на него, я покачал головой и сказал, как бы размышляя вслух: — Нет, ни женщина, ни евнух не могут быть моими компаньонами в таком деле. — При этих словах царь и остальные засмеялись. — Карлик и я пойдем одни. — Карлик! — воскликнул царь. — Он что, тоже может охотиться? — Нет, мой господин, но, возможно, он может приманить хищников запахом, как иначе я смогу найти их в этих кустах за один час? — Верно, они точно унюхают его. Как зовут этого человека-обезьяну? — спросил царь. — Бэс, о, мой господин, по имени одного из египетских богов, которого он напоминает. — Бэс, ты будешь сопровождать своего господина в этой охоте? — спросил царь. Бэс поднял голову, начал вращать своими желтыми глазами и ответил своим густым, зычным голосом: — Я раб своего господина и как я могу отказаться сопровождать его? Если я это сделаю, он может убить меня, как царь царей убивает своих рабов. Лучше умереть с честью в зубах льва, чем с позором от кнута хозяина. По крайней мере мы у себя в Эфиопии думаем именно так. — Хорошо сказано, карлик по имени Бэс! — воскликнул царь. — Я прикажу думать так всем по всему Египту. Пусть слова этого эфиопа будут написаны и копии разосланы правителям всех провинций, чтобы их могли прочитать все люди на земле. Я, царь, так сказал.
Глава 5
ПАРИ
Пока писари делали свою работу, я стоял согнувшись перед царем и молился, чтобы он ушел, а мы отправились к своим. — Езжайте, — сказал он, — и возвращайтесь сюда через час. Если ты не вернешься, известие о твоей смерти дойдет до наместника Египта, так, чтобы твои жены узнали об этом. — Благодарю тебя, царь, но в этом нет необходимости, потому что у меня нет жен, они — настоящая обуза для охотника. — Странно, — заметил царь, — я полагаю, многие женщины должны быть счастливы назвать такого человека своим мужем, по крайней мере у жителей восточных земель. Пятясь и кланяясь, мы с Бэсом вернулись к нашей повозке. Потом мы долго освобождались от стеснявшей нас верхней одежды, пока Бэс не разделся до набедренной повязки, а я не остался в одной безрукавке. Затем я взял свой лук, стрелы и нож, Бэс подобрал два копья, одно легкое, для метания, и другое, короткое, широкое и тяжелое, похожее на зулусский ассегай для близкого боя. Вооруженные таким образом, мы прошли буквально сквозь строй жителей востока, которые уставились на нас во все глаза, и отправились к краю зарослей высоких камышей, где водилось множество львов. Затем Бэс поднял с земли щепотку пыли и подбросил ее в воздух, чтобы мы могли узнать, откуда дует ветер. — Мы пойдем против ветра, господин, — сказал он, — чтобы я унюхал запах львов прежде, чем они почуют нас. Я кивнул и добавил: — Послушай меня, Бэс. Может так случиться, что мы не убьем ни одного льва в этом месте, где столь трудно стрелять. Я не собираюсь возвращаться, чтобы меня бросили к диким чудовищам по приказу этого злобного правителя. В общем, если у нас ничего не получится, ты убьешь меня, если сам, конечно, останешься в живых. Он выпучил глаза и усмехнулся: — Нет, мой господин. Тогда мы пробежим через заросли и спрячемся на их границе до наступления темноты, потому что во мраке эти полулюди не осмелятся искать нас. Затем мы переплывем реку, переоденемся фокусниками и попытаемся достичь берега моря, чтобы вернуться назад, в Египет, предварительно узнав о дороге. Никогда не протягивайте руку смерти, пока она не протянет вам свою, что может быть сделано очень скоро, господин. Я снова покачал головой и спросил: — А если лев убьет меня, что тогда, Бэс? — Тогда, господин, я убью этого льва, если смогу, чтобы доложить об этом царю. — А что, если он захочет бросить тебя к чудовищам, Бэс, что тогда? — Тогда сначала я брошу его вниз, к самому страшному чудовищу, тому, кто ждет, чтобы сожрать злодеев в подземном мире, не важно, цари они или рабы, — и он вытянул свои длинные руки и сделал такое движение, как будто сжимал человеку горло. — Но не бойся, господин, я сломаю его, как палку, а потом мы обсудим это дело там, среди мертвых, потому что я проглочу свой язык и тоже умру. Это хорошая шутка, мой господин, я думаю, тебе понравится. Он взял мою руку и поцеловал ее, а потом мы вошли в заросли. Я, будучи охотником, сейчас чувствовал себя более счастливым по сравнению со временем, когда мы прибыли на Восток. Да, эта охота обещала быть очень опасной, потому что заросли были высокие и зачастую я не мог видеть дальше чем на длину лука впереди себя. Однако мы нашли тропинку, которая, возможно, была сделана животными, приходившими на водопой, или крокодилами, которые, наоборот, выходили на сушу поспать. Следуя по ней, я вложил стрелу в лук, Бэс же держал в правой руке копье для броска, а в левой — ассегай для удара. Он шел в полушаге впереди меня. Мы медленно двигались, Бэс втягивал воздух своими огромными ноздрями, как делает гончая, пока внезапно не остановился и не принюхался, повернувшись на север. — Я чувствую, лев где-то рядом, — прошептал он, обшаривая глазами листья камышей. — Я вижу льва, — прошелестел он снова и указал в сторону, но я не увидел ничего, кроме стеблей камыша. — Вспугни его, — прошептал я ему, — и я выстрелю, как только он прыгнет. Бэс медленно поднял копье, встряхнул его и метнул. Послышался рев, и появилась львица с копьем в боку. Я выпустил стрелу, но она воткнулась в густые заросли. — Вперед! — прошептал Бэс. — Это самка, давай поищем самца. Лев должен быть рядом. Мы снова поползли. Бэс остановился, чтобы вытащить стрелу из тростника и вложить обратно в колчан. Это была хорошая стрела, которую он сделал сам. Но сейчас он переложил широкое копье в правую руку, а в левую взял свой нож. Мы слышали рев раненой львицы неподалеку. — Она зовет самца на помощь, — прошептал Бэс, и, когда он произнес эти слова, заросли с подветренной стороны начали колыхаться, потому что нас унюхали. Они закачались, расступились, и, наполовину видимая, наполовину скрытая листвой, появилась голова огромного льва-черногривки. Я натянул тетиву и выстрелил, на этот раз без промаха, потому что услышал характерный звук, с которым стрела входит в шкуру. Но, перед тем как я вставил другую стрелу, зверь уже был рядом с нами, поднимаясь на задние ноги и издавая ужасный рев. Пока я доставал кинжал, он бросился на меня, но я отскочил, и его лапа прошлась над моей головой. Затем он всем весом навалился на меня, и я упал, вонзив кинжал в его живот, скорее на ощупь, чем прицельно. Я увидел его мощные челюсти, уже открытые для того, чтобы прокусить мою голову. Затем они снова сомкнулись, и на сей раз я услышал жалобный вой, как воет раненая собака. Бэс воткнул свое копье в грудь льва так глубоко, что наконечник вышел с другой стороны. Но зверь был все еще живым, и теперь под ним был Бэс. Карлик прыгнул на него, когда лев снова поднялся, и, сжав своими огромными руками его большое мускулистое тело, стал бороться с ним, как человек с человеком. Именно тогда я в первый раз узнал всю силу эфиопа. Этот карлик бросил льва на спину, сжал его огромную голову пониже челюстей и стал жестоко бороться с ним. Я поднялся, мой нож все еще был в моей руке и, о Боже! Я тоже был сильным! Я воткнул нож в львиное горло, провернул его туда-сюда, и лев заревел, а вытекающая из раны кровь залила нас обоих. Бэс сел и засмеялся, я тоже засмеялся, потому что у нас обоих были лишь царапины и мы сделали то, что едва ли мог сделать обычный человек. — Вы помните, господин, — сказал Бэс, прекратив смеяться и вытерев лоб влажным мхом, — как однажды недалеко от места вверх по течению Нила вы напали с копьем на безумного слона и спасли меня, когда я был близок к смерти? Я, Шабака, ответил, что помню (и я, Аллан Квотермейн, видя все это в состоянии транса в музее замка Регнолл, думал о том, что тоже помнил, как некий Ханс спас меня от какого-то сумасшедшего слона, а точнее от Джаны, незадолго до этого, и это показывает, что жизнь движется по кругу). — Да, — продолжал Бэс, — вы спасли меня от того слона, хотя, казалось, это грозило вам смертью. И, господин, я скажу вам еще кое-что. В то утро я пытался отравить вас, но вы не стали дожидаться еды, потому что слоны были рядом. — Правда? — спросил я лениво. — Но зачем? — Потому что за два года до этого вы захватили меня в битве вместе с несколькими моими людьми, и, поскольку я потерпел неудачу, или из жалости вы сохранили мне жизнь и сделали меня своим рабом. Да, я ведь был вождем, великим вождем, мой господин, не хотел оставаться рабом и желал отомстить за кровь моих людей. Поэтому я и пытался отравить вас, а вы в тот день спасли мне жизнь, предложив за нее свою собственную. — Я думаю, это случилось потому, что я очень хотел иметь бивни слона, Бэс. — Может быть, мой господин, только вспомните, что это была молодая самка, и ее бивни ничего не стоили. Хотя, если бы у нее были бивни, они были бы очень дороги, потому что один бивень белого слона стоит дороже многих черных карликов. Итак, сегодня я отплатил вам. Я говорю это, чтобы вы не забыли: если бы не я, лев сожрал бы вас. — Да, Бэс, ты отплатил мне, и я тебе благодарен. — Господин, до сего дня я всегда думал, что вы единственный, кто поклонялся Маат, богине Истины. Теперь я вижу, что вы поклоняетесь богу лжи, кто бы это ни был, этот бог обитает в груди женщин и большинства мужчин, но у него нет имени. Поэтому, господин, именно вы спасли меня от льва, а не я вас, поскольку это вы воткнули копье в его горло. Поэтому мой долг все еще не оплачен, и от имени великой Саранчи, мы поклоняемся ей в моей стране, эта богиня значительно лучше всех египетских богов, вместе взятых, я клянусь, что заплачу его вскоре или, может быть, через десять тысяч лет. В конце концов долг будет выплачен. — Почему вы поклоняетесь Саранче и почему она лучше всех египетских богов? — спросил я устало, потому что в самом деле устал и этот разговор отвлекал меня от дремы, пока мы отдыхали. — Господин, мы поклоняемся Саранче, потому что она летает и прыгает с человеческими душами от одной жизни к другой или из этого мира в другой прямо в голубом небе. И она лучше всех ваших египетских богов, потому что они оставляют вас самих искать свою дорогу, а затем съедают вас живыми, как если бы вы попытались отравить людей, что, конечно, мы уже делали не раз. Но, господин, мы уже отдохнули, поэтому давайте пойдем дальше, потому что мы должны закончить в течение часа. К тому же, когда львица съест рукоятку копья, она может вернуться. — Да, — сказал я, желая наконец остановить бесконечную болтовню моего раба, — давай пойдем и доложим царю, что мы убили льва. — Господин, этого недостаточно. Даже обычные цари мало верят в то, чего не видят, а уж Царь царей-то не верит ни во что, и еще более очевидно, что он не придет сюда, чтобы посмотреть воочию. Так что, если мы не можем принести льва, мы должны взять хоть его кусочек, — и он быстро отрезал хвост животного. Следуя по крокодильей тропе, мы наконец достигли края зарослей напротив лагеря, где царь сидел во всем своем великолепии под пурпурным шатром, который был там для него сооружен. Он ел мясо, а придворные стояли на расстоянии и голодными глазами провожали каждый кусок. Из зарослей появился Бэс, обнаженный и окровавленный, он размахивал хвостом льва и пел какую-то эфиопскую песню, и я, тоже перепачканный в крови и полуголый, потому что когти льва содрали с меня часть одежды, следовал за ним с опущенным луком. Царь поднял глаза и увидел нас. — Как, ты жив, египтянин? — спросил он. — Честно говоря, я думал, что ты будешь убит. — Мой царь, это лев убит, — ответил я, указывая на Бэса, который перестал петь свою песню и прыгал вокруг, держа хвост льва во рту, как собака, которая приносит хозяину кость. — Кажется, этот египтянин убил льва, — сказал царь одному из придворных, тому, с бледным лицом и крашеными волосами. — Разрешите сказать, мой господин, — ответил тот с поклоном, — хвост — это еще не весь зверь, он может быть взят оттуда или отрезан от уже мертвого льва. Царь знает, что египтяне — великие вруны. Он говорил так, потому что завидовал нашей победе. — Эти люди выглядят так, как будто встретили живого льва, а не мертвого, — заметил царь, оглядывая наши окровавленные тела. — Если вы сомневаетесь, вы должны получить доказательства. Итак, мой двоюродный брат, возьми с собой шестерых человек, войди в заросли и поищи там. На такой мягкой земле будет легко пройти по их следам. — Это опасно, мой царь, — начал принц, а это был именно он. — И тем не менее это задание придется тебе по вкусу, брат. Отправляйся и возвращайся быстрее. Итак, были вызваны шесть охотников, которые пошли за принцем. Он шел и из уст его сыпались проклятия, когда он проходил мимо меня. Принц был ужасно испуган, и тому была причина. Внезапно Бэс прекратил свое фиглярство и распростерся на земле с криком: — О царь! Этот человек сомневается в словах моего господина. Я могу отвести его к тому месту, где лежит мертвый лев, хотя гуляние в тех дебрях может повредить брату Великого царя, Великий царь будет горевать. — У меня много двоюродных братьев, — сказал царь. — Итак, иди, если пожелаешь, карлик. И вот Бэс побежал за принцем, быстро схватил его, шлепнул по плечу хвостом льва, чтобы указать дорогу. Потом они исчезли в зарослях, а я пошел к повозке, чтобы смыть кровь с тела и почистить одежду. Застегиваясь, я услышал рев в зарослях, затем одиночный крик, после которого все затихло. Я подошел поближе к зарослям и стоял между ними и лагерем царя. Внезапно на краю зарослей показался Бэс, танцуя и подпевая, как раньше, на этот раз он нес хвост льва в другой руке. Следом за ним шли шестеро охотников, они тащили тело льва, которого мы убили. Они свалили его на землю перед царем, я подошел к ним. — Я вижу карлика, — сказал он, — я вижу мертвого льва и вижу охотников. Но где же мой двоюродный брат? Отвечай, Бэс. — О Царь царей, — ответил Бэс, — могущественный принц, твой брат, лежит вон там, мертвый, под телом львицы, жены убитого льва. Она прыгнула на него и убила его, я прыгнул на них и убил львицу своим копьем. Вот ее хвост, о Царь царей. — Он говорит правду? — спросил царь охотников. — Это правда, о царь, — ответил их предводитель. — Львица была ранена, она прыгнула на принца, выбрав почему-то его, хотя он находился позади всех нас. Затем этот карлик прыгнул на львицу из-за спины принца. Он направил свое копье ей в сердце и убил ее мгновенно. И тогда мы взяли первого льва, как приказал нам царь, потому что мы не могли утащить больше из-за великой тяжести. Царь побагровел от ярости. — Семеро моих людей и черный карлик! — воскликнул он. — И еще эта чертова львица, которая убила моего двоюродного брата, а карлик убил львицу. Вот такая история дойдет до Египта. И касается она охотников царя всего мира. Охрана, схватите этих людей и бросьте их на съедение диким зверям в подвалах моего дворца. Тут же все несчастные были схвачены и уведены. Затем царь подозвал к себе Бэса и, взяв золотую цепь, которую носил на шее, перекинул ее через голову карлика и, хотя я не знал ничего ровным счетом о том времени, думаю, что он наградил его достаточно весомым подарком. Затем он подозвал меня и сказал: — Мне кажется, что ты преуспел в использовании лука и в охоте на львов, египтянин. Я награжу тебя, сегодня днем твоя колесница поедет рядом с моей, и мы поохотимся вместе. Более того, я предлагаю тебе пари насчет того, кто убьет больше львов, потому что знай, Шабака, что я также владею луком, причем гораздо лучше, чем многие из миллионов моих подданных. — Тогда, мой царь, для меня мало проку соревноваться с тобой, тем более что я видел людей, которые стреляют лучше меня, или, говоря правду, поскольку на востоке все говорят только правду и египтяне не лгуны, что отрицал погибший принц, я знаю одного человека. — Кто был этот человек, Шабака? — Властитель Пероа, мой царь. Царь помрачнел, явно ему не понравилось то, что он услышал, и он ответил: — Значит, я не более велик, чем Пероа, и не могу, таким образом, стрелять лучше? — Без сомнения, мой царь, тем более, как могу я, стреляющий хуже, чем Пероа, быть тебе достойным соперником? — По этой причине я предоставлю тебе преимущество, Шабака. Посмотри на эту нитку розового жемчуга, которую я ношу. Он не имеет равных во всем мире, купцы искали его двадцать лет еще во времена моего отца. На половину этих жемчужин можно купить провинцию. Я выставляю их, — здесь слушавшие внимательно и сопровождавшие нас знатные люди открыли рты от удивления, а толстый евнух Хуман в ужасе воздел руки. — Против чего, мой царь? — Против твоего раба, Бэса, на которого я поставил. Я вздрогнул, а Бэс округлил свои желтые глаза. — Прошу прощения, о Царь царей, — возразил я, — но этого недостаточно. Я охотник, поэтому царский жемчуг мне не очень-то и нужен. Но карлик необходим для охоты. — Пусть будет так, Шабака, тогда я кое-что добавлю к пари. Если ты выиграешь, то вместе с жемчугом я дам тебе столько золота, сколько весит карлик. — Царь очень щедр, — отвечал я, — но и этого недостаточно, потому что, если я выиграю в борьбе против того, кто стреляет лучше Пероа, что невозможно, что я буду делать с таким количеством золота? Наверняка меня постараются убить, и вряд ли я увижу берега Египта. — Что тогда я должен еще добавить? — спросил царь. — Самую красивую из царства женщин? Я покачал головой: — Нет, мой царь, потому что в этом случае я вынужден буду жениться на той, кто останется одинокой. — В этом нет необходимости, ты можешь отправить ее своему другу Пероа. Может, тебе нужна провинция? — Нет, царь, тогда я должен буду управлять ею, что отвлечет меня от охоты, до тех пор пока царь не отрубит мне голову. — Тогда ради всего святого, что я должен добавить к жемчугу и чистому золоту? Я попытался заставить себя думать о чем-то, что царь не сможет мне дать, хотя у меня вовсе не было никакого желания иметь это, кроме того, мое сердце предупреждало меня о том, что все это плохо кончится. Поскольку никакая мысль не приходила мне в голову, я посмотрел на Бэса и увидел его глаза, направленные на шестерых несчастных охотников, которых уводили прочь. Притворяясь, будто отгоняет муху, он указал на них одним из львиных хвостов. Тут я вспомнил, что приговор, однажды произнесенный царем Востока, не может быть изменен, и увидел путь к их спасению. — О царь, — сказал я, — вместе с жемчугом и золотом я прошу добавить к условиям пари жизни этих шестерых охотников. Пощади их, если я выиграю. — Зачем они тебе? — спросил царь. — Затем, что они смелые люди, мой царь, и я не хотел бы видеть их кости в клетке для диких животных. — Мой приказ уже записан? — спросил царь. — Еще нет, мой господин, — ответил главный писарь. — В таком случае он не имеет силы и может быть отменен без нарушения закона. Шабака, давай подтвердим наше пари. Если я убью больше львов, чем ты, или если двое будут убиты, я убью первым или никто не будет убит, но я всажу больше стрел в их тела, то я забираю твоего раба, карлика Бэса, чтобы он стал моим рабом. Но если ты окажешься лучше меня тем или иным образом, я отдаю тебе этот шнурок с розовым жемчугом и столько золота, сколько весит карлик, и эти шестеро охотников будут освобождены, и ты сможешь делать с ними все, что захочешь. Давайте запишем все и отправимся на охоту. Вскоре мы с Бэсом уже ехали в своей повозке, которая по команде отправилась вместе с колесницей царя, но на расстоянии в тридцать шагов. Нагнувшись над карликом, который управлял лошадьми, я заговорил с ним: — Нам сегодня не везет, Бэс, думаю, что еще до конца этой авантюры нам придется расстаться. — Нет, мой господин, нам сегодня повезет, потому что к концу охоты вы станете богаче на нитку самого прекрасного жемчуга во всем мире, на столько золота, сколько весит мое тело (а я, мой господин, в два раза тяжелей, чем думает царь, и съем двадцать фунтов мяса перед взвешиванием, если у меня будет такая возможность, или, по крайней мере, выпью много воды, хотя в такой жаре она надолго не задержится). Кроме того, у вас появятся шесть отборных охотников, которые будут служить и сопровождать вас и наши сокровища на морское побережье. — Сначала я должен выиграть, Бэс. — Вы сможете сделать это и окосевшим на один глаз, мой господин, и одним пальцем, оставшимся из всех на двух руках. Цари наивно полагают, что они умеют стрелять, потому что вся чернь, которая толпится вокруг них, да и знатные люди тем более не осмеливаются показать, что они стреляют намного лучше. Я слышал истории вон в том городе. Бывали дни, когда этот господин всего мира упускал шесть львов, используя множество стрел, и эти большие кошки мурлыкали, будучи прирученными зверьми, привезенными издалека в деревянных клетках, да жмурились, как кошки на солнце. Посмотрите, мой господин, он пьет слишком много вина и поздно успокаивается в своем гареме, а ведь там триста женщин, мой господин. Если вы сомневаетесь, посмотрите на его глаза и руки. Жемчуг, золото и люди, можно считать, уже ваши, а этот крашеный принц, который смеялся над нами, где он теперь? Лежит мертвый в грязи. Хотите, мой господин, я расскажу вам, как я сделал это? Вы знаете лучше, чем я, что львы ненавидят тех, кто имеет на себе запах их собственной крови. Таким образом, пока я указывал дорогу, я коснулся крашеного принца окровавленным хвостом льва, которого мы убили, притворившись, что это случайность, за которую он ругал меня последними словами. И когда мы подошли к мертвому льву и, как я ожидал, встретили раненую львицу, она прыгнула на принца через охотников, поскольку он пах, как ее супруг-лев, и откусила ему голову. — Бэс, но на тебе ведь тоже был его запах, даже еще хуже. — Да, мой господин, но этот крашеный брат царя шел первым. Я держался позади него, притворяясь, что испугался, — и он тихо хихикнул, добавив: — Я думаю, что сейчас он клянет меня Осирису на чем свет стоит, а может быть, и кузнечику, который забрал его туда, ведь всякое может быть. — Эти жители Востока не поклоняются ни Осирису, ни твоей Саранче, Бэс, они поклоняются пламени огня. — Тогда он рассказывает историю огню. Я надеюсь, что он ему надоест, и огонь сожжет его. Мы весело болтали, понимая, что сделали огромное дело, и думали, что перехитрили этих жителей Востока и их царя, не подозревая об их коварстве. Потому что никто не рассказал нам, что человек, который охотится с царем, осмелившийся выпустить стрелу в добычу перед тем, как это сделает царь, будет приговорен к смерти, как человек, который нанес обиду его величеству. Эта царственная лиса все это хорошо знала и помнила, поэтому была уверена, что непременно выиграет пари. Колесницы повернули и проехали по тропе, которая вывела нас к открытому пространству, оно было очищено от зарослей. Здесь они остановились, причем колесница царя и моя оказались рядом, в десяти шагах друг от друга, а приближенные царя — чуть позади. Между тем охотники с собаками шли в зарослях далеко справа и слева от нас, а также впереди, таким образом, чтобы можно было гнать львов назад и вперед через открытое пространство. Вскоре мы услышали, как гончие подали голос со всех сторон. Потом Бэс издал всасывающий звук своими огромными губами и указал на край зарослей впереди, в шестидесяти шагах от нас. Взглянув туда, я увидел песочного цвета тень, крадущуюся вперед между темными стеблями, и, хотя для выстрела было далеко, я забыл обо всем, потому что был охотником, и это была моя игра, я поднес стрелу к уху, прицелился и выстрелил, запомнив место ее падения с поправкой на ветер. Это был хороший выстрел. Стрела попала льву в тело и прошла насквозь. Он вскочил с ревом и стал кататься по траве от боли. Но в это время я натянул вторую стрелу, и, хотя царь уже поднял свой лук, я выстрелил первым. И снова попал, на этот раз в горло, лев взвыл и испустил дух. Царь глянул на меня со злостью. Сзади, со стороны окружения, раздался ропот удивления, смешанный с глубоким возмущением, они не удивлялись моей меткости, а возмущались, потому что я осмелился выстрелить раньше царя. — Пока что победа на нашей стороне, — прошептал Бэс, но я умолял его молчать, потому что тут как раз зашевелились другие львы. Теперь один из них выскочил на открытое пространство, оказавшись перед царем, в тридцати шагах от нас. Он выстрелил и промахнулся, отправив свою стрелу на два дюйма выше его спины. Затем выстрелил я и пустил стрелу как раз в то место, где голова соединяется с шеей, пробив шейную артерию, что привело к мгновенной смерти. Снова пронесся ропот, а царь ударил своего возницу по голове кулаком, крича, что тот не удержал лошадей и должен быть выпорот за то, что заставил руку дрогнуть. Этот возница, хотя и был знатным человеком, поскольку на Востоке люди высокого ранга служили царю как рабы и даже стригли ему ногти и бороду, униженно умолял о прощении, признавая свою вину. — Это ложь, — прошептал Бэс, — лошади не двигались. Как они могли это сделать, если конюхи держали их головы? Во всяком случае, мой господин, можете считать, что жемчуг уже на вашей шее. — Молчи, — ответил я. — Как мы слышали, на Востоке все люди говорят правду, лгут только египтяне. И на шеях восточных людей тоже висит тетива, так же как и жемчуг, и у них длинные уши. Гончие продолжали завывать, приближаясь к нам. Львица выпрыгнула из зарослей, подбежала к колеснице царя и, пока все стояли, открыв рты, села, как собака, так близко, что ее можно было достать камнем. Царь быстро выстрелил, попав лишь в переднюю лапу, стрела отскочила и упала в траву, в то время как подданные позади закричали: — Слава царю! Зверь мертв! — Мы сейчас увидим, действительно ли это так, — сказал Бэс, а я кивнул. Еще один лев возник справа от царя. Он снова выстрелил и промахнулся, начав ругаться и выкрикивать свои царские клятвы, а возница затрепетал от ужаса. И тут все закончилось. Одна из гончих подобралась достаточно близко и прыгнула на львицу, которая была ранена. Она обернулась и убила ее одним ударом лапы, затем, озверев, бросилась прямо на колесницу царя. Лошади встали на дыбы, сбив конюхов с ног. Царь испуганно выстрелил и упал назад, за повозку, как могут делать только цари, если ничего другого им не остается. Львица увидела, что он упал, и прыгнула на него, прямиком за повозку. Когда она прыгала, я выстрелил в нее и проткнул стрелой поясницу, парализовав животное. Хоть она и упала около царя, но приблизиться к нему и тем более напасть она уже не могла. Я выскочил из своей повозки, но перед тем, как успел добраться до львицы, подбежали охотники с копьями и закололи ее, что оказалось делом не таким сложным, потому что та была обездвижена. Царь поднялся с земли, он не был ранен, и громко сказал: — Если моя стрела не попала бы в цель, я думаю, что восточный мир сегодня вечером поклонялся бы другому царю. И тогда, забыв, что я говорю с царем всей земли, забыв о пари и обо всем остальном, я воскликнул: — Эй, твоя стрела промазала, это моя попала. А все придворные закричали: — Этот египтянин лжет и называет лгуном царя! — Я лгу? — вскричал я возмущенно. — Посмотрите на стрелу и проверьте, из чьего колчана она выпущена, — и я вытащил одну из своего собственного, сделанного в Египте и отмеченного моим знаком. Началась суматоха, все придворные и евнухи заговорили одновременно, но все кланялись выпачканному в грязи царю, как пшеничные колосья жмутся к стеблю во время грозы. Не желая и далее никого убеждать в своей правоте, я вернулся к повозке, и для меня охота была закончена, как я решил, поэтому я затянул свой лук, который ценил превыше всех призов, и убрал его на место. В это время ко мне приблизился евнух Хуман с гнусной ухмылкой и сказал: — Египтянин, царь требует твоего присутствия, чтобы ты мог получить свою награду. Я кивнул, сказав, что сейчас приду. Евнух удалился. — Бэс, — сказал я, когда убедился, что евнух не слышит меня, — у меня плохое предчувствие, я не доверяю царю. Мне кажется, что мне грозит зло. — Я тоже так думаю, мой господин. Мы были дураками. Когда бог и человек влезают на дерево вместе, человек должен позволить богу взобраться первым и сказать всему миру, что бог — это он. — Да, — ответил я, — но кто из нас видит мудрость, до тех пор пока она не начинает ускользать? Может быть, бог, будучи сильней, свергнет человека. Мы оба отправились к царю, оставив воинов сторожить нашу колесницу. Царь сидел на золотом стуле, служившем ему троном, позади него стояли его воины, евнухи и помощники, хотя и не все, на небольшом расстоянии от них другие наказывали прутьями знатного человека, орущего от боли, который был возницей царя. Мы распростерлись перед царем и ожидали, пока он заговорит. В конце концов он произнес: — Египтянин по имени Шабака, мы заключили с тобой пари, условия которого ты помнишь. Кажется, ты его выиграл, потому что убил двух львов, в то время как я, царь, убил одного, который прыгнул на нас возле повозки. Бэс тихонько, так, чтобы только я слышал, застонал, а я поднял голову. — Ничего не бойся, — продолжал он, — все будет оплачено. Тут царь снял с себя нитку бесценного красно-розового жемчуга и швырнул мне в лицо. — Кроме того, во дворце, — продолжал царь, — карлика взвесят, и ты получишь столько чистого золота, сколько он весит. Помимо этого тебе принадлежат жизни шестерых охотников, а значит, и они сами. — Да продлятся дни царя вечно! — воскликнул я, чувствуя, что должен что-то сказать. — Я надеюсь на это, — ответил тот сурово, — но, египтянин, твои дни сочтены, потому что ты нарушил законы страны. — Какие, о мой царь? — спросил я, чувствуя, что вот оно, начинается… — Выстрелив в льва перед тем, как царь вставил стрелу в лук, и сказав царю, что он лжет, прямо в лицо. Оба эти нарушения заслуживают смерти. Тут мое сердце переполнилось яростью. Но вдруг я преисполнился решимости, встал на ноги и сказал: — О царь, ты объявил, что я должен умереть, пусть будет так, я не буду больше преклонять колени перед тем, как предстать перед взором Осириса, который значительно более велик, чем любой царь, предстающий перед ним с чистыми руками. Не вы ли издали закон, по которому приговоренный к смерти имеет право изложить свое дело для защиты своего имени? — Так и есть, — сказал царь. Я думаю, что ему было просто любопытно услышать, что я могу сказать. — Продолжай же. — О царь, несмотря на то что я столь же высоких кровей, что и вы, о чем я ничего не буду говорить, я прибыл на Восток из Египта по желанию вашего наместника, чтобы показать, как мы, египтяне, умеем убивать львов и других зверей. Три месяца я провел в ожидании позволения увидеть царя — и все напрасно. В конце концов я был приглашен на эту охоту в тот момент, когда собирался возвращаться к себе домой. Я подвергся насмешкам со стороны ваших слуг, вошел в заросли вместе со своим слугой и там убил льва. Затем мне пришлось заключить с вами пари, чего я делать не хотел, — кто из нас убьет больше львов. Теперь я понял, что вы не предполагали, что я могу победить, как бы хорошо я ни стрелял, потому что вы думали, что я не буду стрелять вообще до тех пор, пока вы первый не выстрелите и не убьете зверей или не напугаете их. Итак, я состязался с вами, как охотник против охотника, потому что на этом поле мы с вами равны. Я состязался не как раб против царя, который решилотомстить за поражение смертью. Мы объявили об этом, потом вышли львы. Я выстрелил в того, кто появился с моей стороны, оставив того, кто был с вашей стороны, целым и невредимым, что обычно и происходит во время охоты. Мое мастерство или моя удача помогли мне больше, чем вам, и я попал, а вы промахнулись или только ранили. В конце концов на вас прыгнула львица, и я выстрелил, потому что иначе она убила бы вас, что легко можно проверить по стреле в ее теле. И теперь вы говорите мне, что я должен умереть, потому что нарушил какие-то законы, которые стыдно было бы вообще принимать. Чтобы спасти свою честь, вы платите мне, потому что я победил, прекрасно зная, что и жемчуг, и золото, и рабы не имеют никакой ценности для мертвого человека и будут возвращены вам обратно. Вот моя история. Я должен добавить еще кое-что. Вы, жители восточных земель, учите своих детей двум вещам. Первая — как стрелять из лука. Вторая — говорить правду. Мой царь, это мои последние наставления. Учитесь стрелять из лука — потому что вы не умеете этого делать. И учитесь говорить правду, потому что вы этого тоже не делаете. Я все сказал и готов умереть. Я благодарю вас за то терпение, с которым вы выслушали мои слова. И, поскольку ни один царь не живет вечно, я надеюсь однажды повторить их по ту сторону этого мира. Все знатные люди и помощники царя открыли рот от удивления, выслушав мою смелую речь. Никто никогда не слышал таких слов, обращенных к его величеству. Царь покраснел, как будто от стыда, но ничего не ответил, лишь спросил про этого смельчака: — Чего заслуживает этот человек? — Смерти, о царь! — закричали они в один голос. — Какой смерти? — спросил он снова. Советники посоветовались между собой, и один из них ответил: — Самой медленной по нашим законам, смерти в лодке. Я услышал это и, не зная, что это значит, решил, что меня посадят в лодку, пустят на волю волн и оставят умирать от голода. — Вот награда за хорошую охоту! — засмеялся я. — О мой царь, за это постыдное деяние я проклинаю вас от имени всех богов всех племен и народов. С этого времени ты будешь видеть только страшный сон о своем последнем дне, а в конце концов ты тоже умрешь в крови. Царь открыл рот, словно хотел ответить, но ничего, кроме низкого страшного крика, не вырвалось из его горла. После этого подскочила охрана и схватила меня.Глава 6
ПРИГОВОР
Охранники отвели меня к моей колеснице и затолкали в нее, вместе со мной был и Бэс. Я спросил охранников, приговорен ли Бэс к смерти, как и я. Евнух Хуман ответил, что нет, поскольку он не совершил никакого преступления, но ему необходимо поехать со мной, чтобы взвеситься. Потом солдаты взяли лошадей под уздцы и повели их, в то время как остальные, забрав мой лук и наше оставшееся оружие, окружили повозку плотным кольцом, чтобы мы не сбежали. Мы с Бэсом могли поговорить только на ливийском наречии, который ни один из них не понимал, даже если они и слышали наши слова. — Твоя жизнь спасена, — прошептал я ему, — царь может забрать тебя в качестве раба. — В таком случае он получит не очень хорошего раба, мой господин, потому что, клянусь Саранчой, что в течение ночи я придумаю способ убить его, а после этого присоединюсь к вам в землях, где люди охотятся честно. Я улыбнулся, а Бэс тем временем продолжал: — Теперь мне хотелось бы, чтобы у меня хватило времени научить вас, как держать язык за зубами, потому что, возможно, вам это пригодится в той лодке, о которой они говорят. — Бэс, не говорил ли ты мне час или два назад, что только дураки вручают свою судьбу в руки смерти, если она сама не протягивает к нам руки? Я не умру, по крайней мере умру не сейчас. — Почему, господин? Ведь только сегодня днем вы умоляли меня убить вас, лишь бы только не быть брошенным к диким тварям? — спросил Бэс, глядя на меня с любопытством. — Ты помнишь старого отшельника, святого Танофера, который находился в погребе над могилой быков Аписа на кладбище в пустыне около Мемфиса, Бэс? — Того волшебника и оракула, который был братом вашего деда, мой господин, и сыном царя, того, кто воспитывал вас, пока не стал отшельником? Да, я хорошо знаю его, хотя редко бывал рядом, потому что его глаза пугали меня, как они пугали Камбиза, персидского царя, захватившего Египет, когда Танофер проклял его и предсказал ему несчастную судьбу. Это случилось после того, как Камбиз повредил священного Аписа, и тогда Танофер сказал, что он умрет от раны, которую нанесут ему мечом. Его глаза пугали многих других людей. — Да, Бэс, когда тот царь сказал мне, что я должен умереть, страх переполнил меня, потому что я не хотел умирать, а потом этот же страх заполнил чернотой мой рассудок. Внезапно в этой темноте я увидел Танофера, моего великого дядю, который сидел в могиле, глядя на Восток. Больше того, я слышал, как он говорил, обращаясь ко мне: «Шабака, мой воспитанник, ничего не бойся. Ты в великой опасности, но все пройдет. Поговори с Великим царем обо всем, что тревожит твое сердце, потому что боги мести используют твой язык и какое бы пророчество ты ни произнес, оно будет исполнено». Именно поэтому я сказал те слова, которые ты слышал, и ничего не боялся. — Это действительно так, мой господин? Если да, я думаю, что святой Танофер, должно быть, вошел и в мое сердце. Знай, что я намеревался прыгнуть на царя и сломать ему шею, так что мы трое должны были окончить свою жизнь одинаково. Но внезапно что-то подсказало мне оставить его в покое и позволить судьбе идти так, как предписано. Но как может святой Танофер, который с годами ослеп, видеть так далеко? — Я не знаю, Бэс, может быть, потому, что он не такой, как остальные люди, ведь в нем собрана вся древняя мудрость Египта. Кроме того, он живет с богами, которые все еще обитают на земле, и, как остальные боги, может отправлять свой Ка, как мы, египтяне, называем этого духа, или нечто невидимое, что сопровождает его от колыбели до могилы, и после смерти пребудет с ним, где бы он ни оказался. Несомненно, он отправил его мне, которого он любил больше всех на земле. А еще я помню, что перед тем, как я начал это путешествие, он сказал, что я вернусь в целости и сохранности и в полном здравии. Вот поэтому, Бэс, я ничего не боюсь. — И я не боюсь, мой господин. Если вы увидите, что я делаю странные вещи, или услышите, что я говорю странные слова, не обращайте на это внимания, потому что я буду играть роль мудрейшего. После этого мы заговорили о сегодняшнем приключении со львами и о других, которые мы пережили вместе. Мы весело смеялись все это время, а солдаты смотрели на нас как на сумасшедших. А толстый евнух Хуман, который сидел на осле, подъехал к нам и спросил: — Египтянин, который осмелился дважды провести Великого царя, чему ты смеешься? В лодке ты запоешь по-другому, не так, как в своей колеснице. Подумай о моих словах через восемь дней. — Я подумаю о них, евнух, — ответил я, глядя ему прямо в глаза, — но кто знает, какую песню будешь петь ты через восемь дней? — То, что я делаю, закреплено властью древней и священной Печати Печатей, — ответил тот дрожащим голосом, трогая маленький цилиндр из белой ракушки, который я заметил на самом царе. Теперь он свисал с золотой цепочки, которая блестела на шее евнуха. После этого он сделал знак, который выходцы с востока используют для предотвращения зла, потом снова отъехал, выглядев при этом очень испуганным. Итак, мы приехали в царский город и направились в прекрасный дворец. Здесь нас высадили из повозки и провели в комнату, где был накрыт стол и имелись в огромном количестве еда и питье, и я даже подумал, что меня принимают за какого-то важного гостя, и это меня позабавило и удивило. Бэс уселся на полу на некотором расстоянии от меня, он тоже пил и ел, поскольку у него были свои причины набить живот, как будто это был бурдюк с вином, пока слуги не начали дразнить его обжорой. Когда мы закончили есть, появились рабы, неся что-то вроде деревянной рамы, на которой были подвешены весы. Также пришли служащие царской сокровищницы, они несли кожаные мешки, в которых, когда их открыли, оказались монеты из чистого золота. Они поставили несколько мешков на одну чашу весов, затем приказали Бэсу встать на другую. Поскольку он оказался тяжелее, чем ожидалось, слуги были вынуждены отправиться в сокровищницу, чтобы принести еще золота, потому что Бэс, хоть и был невысоким, теперь сравнялся по весу с крупным человеком. Один из казначеев заворчал, сказав, что надо было взвешивать перед тем, как он ел и пил. Но чиновник, к которому он обратился, усмехнулся и ответил, что это ничего не меняет, потому что царь наследует все имущество преступников и эти мешки скоро вернутся в сокровищницу, только их придется отмыть. Надо заметить, что эта реплика меня несказанно удивила. Наконец, когда весы были наполнены, привели шестерых охотников, чьи жизни я выиграл и которые были отданы мне в качестве рабов, и на плечи им положили мешки с золотом. Я был схвачен, руки мне связали за спиной. Я поступил под охрану евнуха Хумана, который проинформировал меня с плохо скрываемой злобой, что ему поручено проследить, чтобы мне обеспечили все удобства до самого моего конца. Вместе с ним было четверо черных людей, одетых одинаково. Это были, как сказал евнух, палачи. Последним прибыл Бэс под охраной трех царских конвоиров, вооруженных копьями, на случай, если карлик попытается освободить меня или причинить кому-то зло. Мое сердце забилось быстрее, и я спросил Хумана, что же будет со мной. — А вот что, о египтянин, убивающий львов! Тебя водрузят на ложе в маленькой лодке, спустят на воду, а другую расположат над тобой. Мы называем эти лодки «близнецами». Твоя голова и руки будут на одной стороне, а ноги — на другой. Так тебя и оставят. Тебе будет удобно, как младенцу в колыбели. Дважды в день тебе будут приносить лучшую еду и напитки. Если у тебя пропадет аппетит, моей обязанностью будет пробуждать его при помощи уколов ножа. После каждого приема пищи я буду умывать твое лицо, твои руки и ноги молоком и медом, чтобы мухи, кружащие над тобой, не испытывали голода, а также убирать за тобой естественные отправления. Также я буду защищать твою кожу от солнечных ожогов. Таким образом, ты будешь медленно слабеть и однажды уснешь. Последний, кто был в лодке, — этот тот несчастный, который случайно вошел во двор гарема и видел нескольких женщин с непокрытой головой, он продержался двенадцать дней, а ты, значительно более сильный, проживешь дней восемнадцать. Еще что-то тебя интересует? Если так, то спрашивай быстрей, потому что мы уже рядом с рекой. Теперь, когда я услышал это и понял весь ужас того, что меня ожидает, то сразу забыл видение своего великого дяди, святого Танофера, и его благоприятные пророчества. У меня заболело сердце, и я не мог сдвинуться с места. — Ну что, охотник на львов и посланник царей, ты думаешь, что еще рано отправляться в постель? — усмехнулся этот злобный евнух. — Я буду с тобой, — и он начал хлестать меня по лицу ручкой веера. И тут мужество вернулось ко мне. — Когда это царь приказал тебе прикасаться ко мне, жирная свинья? — заревел я, повернулся, потому что иначе не мог дотянуться до него связанными руками, и ударил в живот со всей силы, так что он упал, скорчившись и крича от боли. Если бы не охранники, бросившиеся на меня, я мог бы лишить его жизни, пока он лежал. Однако они тут же схватили меня, и Хуман быстро оправился от ударов и оперся на плечи двух охранников. Только теперь он больше не насмехался надо мной. Мы достигли причала, когда солнце уже садилось. Здесь под охраной одноглазого черного раба в устье реки плавала маленькая квадратная лодка, а на самом причале лежала вверх дном такая же, но более короткая. Теперь охотники, которых я выиграл в пари, смотрели на меня с состраданием, потому что это были смелые люди, и они знали, что именно я спас их жизни. Они разместили мешки с золотом на дне плавающей лодки, на носу которой лежал тюфяк, набитый соломой. Мне на пояс повесили ожерелье из красного жемчуга, руки развязали. Палачи схватили меня и положили на тюфяк. Мои запястья и щиколотки были привязаны к железным кольцам, прикрепленным к банкам на лодке. После этого другая, более короткая лодка была расположена сверху таким образом, что она не касалась меня, оставив мою голову, руки и ноги незащищенными, как и говорил евнух. Пока делалась эта страшная работа, Бэс сидел на причале и смотрел, как меня прикрепляли и закрывали второй лодкой. После этого он начал смеяться, хлопать в ладони и танцевать с радостным видом, пока евнух, который уже оправился от удара, не спросил с любопытством, что это с ним случилось. — О благородный евнух, — отвечал Бэс, — когда-то я был свободен, и этот человек сделал меня рабом, и много лет я должен был трудиться для него вопреки своей воле. Более того, он часто бил меня и морил голодом, именно поэтому я так много ел в последний раз, когда вы это видели. Он угрожал убить меня, и теперь наконец-то я отомстил ему, увидев, что он обречен на ужасную смерть. Вот почему я и смеюсь, и пою, и танцую, и хлопаю в ладоши. О, самый благородный евнух, теперь я стану почитателем и слугой Великого царя всей земли и, возможно, твоим другом тоже, о, евнух из евнухов, чью священную персону мой жестокий хозяин осмелился ударить. — Я понял, — сказал евнух, улыбаясь, хотя на самом деле его лицо искривилось в гримасе, — и доложу царю обо всем, что ты сказал, и попрошу в качестве награды для тебя, чтобы ты смог однажды уколоть этого египтянина в глаз. А теперь плюнь ему в лицо и скажи все, что ты о нем думаешь. Бэс вошел в воду, здесь было достаточно мелко, плюнул мне в лицо или только притворился, что плюнул, произнося при этом стремительный поток слов на отвратительном языке, некоторые из них звучали на ливийском и означали: «О, мой обожаемый отец, моя обожаемая мать и другие родственники, ничего не бойтесь. Хотя все складывается не очень хорошо, помните видение святого Танофера, который, без сомнения, допустил, чтобы все это случилось с вами, чтобы через вас передать приказ богов. Будьте уверены, что я не оставлю вас умирать, а если не будет возможности убежать, я найду способ избавить вас от мук и отомстить за вас. О, да, я увижу, как эта проклятая свинья, Хуман, окажется на вашем месте в этой лодке. А теперь я отправлюсь ко двору, потому что мне кажется, что эта золотая цепь дает мне право войти, как говорит евнух. Но я скоро вернусь». Затем последовал новый поток самых ужасных и еще более грязных ругательств, после чего он вышел на берег и обнял Хумана, называя его своим лучшим другом. Они ушли, оставив меня одного в лодке, которую охраняли воины на причале. Наступила темнота, и воцарилась полнейшая тишина. Мне было очень одиноко лежать, глядя в звездное небо в компании лишь жалящих мошек, и вскоре мои конечности начали неметь. Я думал о тех несчастных, которые страдали в этой же самой лодке, и удивлялся превратности судьбы, по которой их участь стала и моей. Бэс был верным и умным человеком, но что мог сделать один карлик с этими демонами с черными сердцами? А если он не сможет ничего сделать? О, если он не сможет ничего сделать? Секунды слагались в минуты, минуты — в часы, а часы казались годами. Какими же должны были быть дни, которые я должен был провести в муках и страданиях, ожидая такой жалкой смерти? Где боги, которым я поклонялся, или хотя бы один бог? Или человек занимается самообманом, думая, что создает богов, в то время как боги создают его, потому что он не любит думать о вечной тьме, в которой он вскоре исчезнет? Да, по крайней мере все это напоминало сон, а сон лучше, чем страдания тела или души. Я думал именно так, потому что очень устал. Я с трудом приоткрыл глаза, чтобы увидеть, что низкая луна исчезла, а некоторые звезды, которые я знал, будучи охотником, и часто находил по ним дорогу, как бы немного сдвинулись. Я с удивлением думал о том, почему это случилось, как тут же услышал громкие шаги солдат по настилу причала и голос командира, отдающего команду. Потом я почувствовал, что лодку притягивают за веревку, которой она была пришвартована к причалу. Затем верхняя лодка была снята, канаты, которыми она крепилась, убраны, а я поставлен на ноги, потому что был настолько слаб, что едва мог стоять самостоятельно. Голос — а я узнал евнуха Хумана — уважительно обратился ко мне, что заставило меня подумать, что я сплю. — Благородный Шабака, — молвил голос, — Великий царь потребовал твоего присутствия на пиру. — Неужели? — ответил я в своем сне. — Но тогда мое отсутствие на их пиру рассердит мошек этой реки. Хуман и другие угодливо захихикали. Потом я услышал, как мешки с золотом вытаскивают из лодки, после чего мы ушли. Охрана поддерживала меня под локти, пока я снова достаточно не окреп. Хуман следовал позади, возможно, потому, что боялся, что, если будет идти впереди, я пну его ногой. — Что изменилось, евнух — спросил я некоторое время спустя, — раз я был потревожен в моей постели, когда уже крепко спал? — Я не знаю, господин, — отвечал тот. — Я только знаю, что царь царей неожиданно приказал, чтобы тебя привели к нему в качестве гостя, одетого в одежды знатного человека, даже если бы для этого пришлось разбудить тебя, и ты должен будешь присутствовать за его собственным царским столом, потому что этой ночью у него пир. Господин, — продолжал он жалобным голосом, — если фортуна сегодня изменила свое отношение к тебе, я умоляю тебя не держать зла на тех, кто, пока фортуна была не на твоей стороне, под давлением главной печати был вынужден против своего желания выполнять команды царя царей. Будь справедлив, господин Шабака. — Ничего больше не говори. Я постараюсь быть справедливым, — ответил я. — Но много ли справедливости на Востоке? Я слышал только о египетской. Мы достигли дверей дворца, и меня провели в комнату, где ждали рабы. Там меня помыли и умастили ароматными маслами, после чего переодели в прекрасную шелковую одежду и подпоясали ожерельем из красного жемчуга. Когда рабы закончили свою работу, я, сопровождаемый Хуманом, был проведен в огромный зал с колоннами, прикрытый шелковыми портьерами, где собрались пировавшие. Я миновал проход и подошел к возвышению в начале зала, где между наполовину прикрытыми занавесками сидел на золотом троне во всей своей славе царь, окруженный виночерпиями и другими слугами. В руке он держал сверкающий кубок. Взглянув на царя, я понял, что тот пьян, что явно в моде у выходцев с Востока на их великих пирах, потому что он выглядел счастливым и человечным, чего никогда не бывало, если он был трезв. А возможно, как я подумал впоследствии, он лишь притворялся, что пьян. Я увидел кое-кого еще, а именно Бэса с золотой цепочкой на шее и одетого в красный головной убор. Он сидел на ковре перед троном и рассказывал царю что-то, что вызывало его смех, и даже его важные подчиненные позволяли себе улыбаться. Я подошел к возвышению и по едва заметному знаку Бэса, который, казалось, еще не видел меня (такой знак он часто подавал, когда замечал прежде меня, что кто-то ведет игру), распростерся перед царем. Тот посмотрел на меня и сказал: — Кто это? — и тут же сам ответил: — О, я помню, это египтянин, чьи стрелы не промахиваются, прекрасный охотник, которого Идернес прислал ко мне из Мемфиса, куда я давно хотел отправиться. Египтянин, мы ведь поссорились из-за льва, не так ли? — Нет, мой царь, — отвечал я, — царь был сердит и справедлив, потому что я не мог убить льва до того, как он напугал его лошадей. Я сказал так, потому что часы, проведенные мною в лодке, заставили меня смириться, а также потому, что эти слова были у меня на губах. — Да, что-то такое помню, или ты хорошо лжешь. Что бы это ни было, все закончено, просто спор двух охотников, — и, взяв лежавший рядом длинный скипетр, который был украшен огромным изумрудом, он протянул его мне, чтобы я коснулся его в знак прощения. Теперь я знал точно, что нахожусь в безопасности, потому что тому, кому царь протягивает свой скипетр, ниспослано прощение за все злодеяния, даже если он покушался на царскую жизнь. Двор тоже это знал, поэтому каждый человек, которого я видел, кланялся мне, даже слуги позади царя. Один из виночерпиев также подал мне кубок царского вина, которое я выпил с благодарностью, произнеся тост за здоровье царя. — Египтянин, это был прекрасный выстрел, — сказал царь, — когда ты отправил стрелу и пронзил львицу, которая осмелилась напасть на мое величество. Да, царь обязан своей жизнью тебе, и он благодарен, как ты уже понял. Твой раб, — и он указал на Бэса в его ярком облачении, — разъяснил мне все дело, когда рассудок покинул меня, и, Шабака, — тут он икнул, — ты можешь сам увидеть, насколько по-разному видятся вещи невооруженным глазом и сквозь кубок с вином. Он рассказал мне удивительную историю. — Карлик, что это была за история? — Позвольте мне, Великий царь, — отвечал Бэс, сверкая своими большими глазами, — лишь маленький рассказ о другом царе моей собственной страны, которого я считал великим до тех пор, пока не прибыл на восток и не узнал, какими могут быть настоящие цари. У этого царя был слуга, с которым он обычно охотился, на самом деле это был мой собственный отец. Однажды они вместе выслеживали какого-то слона, чьи бивни были больше, чем другие. Когда слон напал на царя, мой отец с риском для собственной жизни свалил его и добыл бивни, как это бывает у эфиопов. Но царь, которому очень хотелось иметь эти бивни, отравил моего отца и присвоил себе бивни в качестве добычи. Однако перед своей смертью мой отец, который умел говорить на языке слонов, рассказал остальным слонам об этом злодеянии, на что они очень рассердились, потому что знали с самого начала времен, что бивни принадлежат тому, кто добыл их по праву. А слоны, как люди, не любят, когда нарушаются древние законы. Слоны объединились между собой, и, когда царь в следующий раз отправился на охоту, не заботясь о себе, бросились на царя и разорвали его на мелкие кусочки размером с палец, а затем убили его сына-принца, который шел позади него. Вот такова история о слонах, которые любили закон, о, мой царь. — Да, да, — сказал его величество, пробуждаясь ото сна, — но что стало с этими огромными бивнями? Мне бы хотелось иметь такие. — Я унаследовал их, мой царь, как сын своего отца, и отдал своему господину, который, без сомнения, пришлет их тебе, как только вернется в Египет. — Странная история, — заметил царь, — очень странная. Она напоминает мне ту, что случилась не так давно. Что это было? Ладно, это не имеет значения. Египтянин, хочешь ли ты какую-то награду за свой выстрел в львицу? Если да, ты получишь ее. Может, ты злишься на кого-то? — О царь, — отвечал я, — я ищу справедливости в отношении одного человека. Этим вечером я был привезен на берег реки под охраной евнуха Хумана, который захотел уложить меня в лодку. По дороге, без всякой на той причины, он стал бить меня по голове рукояткой своего веера. Посмотрите, вот остались следы. Но я не припомню, чтобы царь приказывал бить меня, я прошу, чтобы справедливость восторжествовала в отношении этого человека. Царь пришел в ярость и закричал: — Что? Эта собака осмелилась ударить свободного и благородного египтянина? Хуман в ужасе упал ничком и начал лепетать непонятно что о наказании в лодке, что было явно лишним, потому что царь вдруг встрепенулся и озадачился. — Лодка! — закричал он. — Да, конечно, лодка! Даже ты, такой жирный, поместишься в ней, евнух. В лодку его, а перед этим сто ударов розгами по ногам, — и он указал на него своим скипетром. Охрана схватила Хумана и уволокла прочь. Когда его тащили мимо Бэса, то он схватился за него и зашипел ему что-то в ухо, но Бэс стал бить его по руке, пока тот не отцепился. Итак, Хуман исчез, а его слуги от души смеялись над этим зрелищем, потому что евнух причинил всем много горя. После этой сцены царь посмотрел на меня и спросил: — Но зачем я потревожил твой сон, египтянин? О, я вспомнил. Этот карлик сказал, что видел самую прекрасную женщину на земле, к тому же очень образованную, какую-то даму из Египта, однако он не знает ее имени, но ты один знаешь его. Я разбудил тебя, чтобы ты сказал мне это имя, а если ты его забыл, я могу снова отправить тебя в постельку, чтобы ты отдыхал, пока не вспомнишь его. На реке много лодок, египтянин. — Самую красивую и образованную женщину на земле? — спросил я удивленно. — Кто же это может быть, если только не благородная Амада? — и я замолчал, постаравшись прикусить свой язык перед началом разговора, потому что вовремя почувствовал западню. — Да, господин, — ответил Бэс звонко. — Это именно благородная Амада. — Что это за Амада? — спросил царь, на глазах трезвея. — И что она из себя представляет? — Я могу сказать тебе, царь, — сказал Бэс. — Она похожа на иву, которая качается на ветру благодаря своей гибкости и грации. Ее глаза, как у самки, которая восторженно смотрит на самца, губы похожи на бутоны роз. Ее волосы черны, как ночь, и мягки, как шелк, их запах распространяется вокруг нее, как аромат цветов. Ее голос шепчет, как вечерний ветер, и сладок, как мед. Она красива, как богиня. Когда мужчины видят ее, их сердца тают, как воск на солнце, и долгое время не могут взглянуть на других женщин до следующего дня, если встречают ее вечером, — и Бэс причмокнул своими толстыми губами и посмотрел вверх. — Клянусь священным огнем, — рассмеялся царь, — я чувствую, как мое сердце уже тает. Скажи, Шабака, что ты знаешь об этой Амаде? Она замужем или еще девица? Теперь отвечал я, во-первых, потому, что лодка была не так далеко, а во-вторых, я не хотел лгать. — Она замужем, о Царь царей, за богиней Исидой, единственной, которую она любит. — Женщина замужем за женщиной! Или даже за царицей всех женщин, — засмеялся царь, — что ж, это еще ничего не означает. — Нет, царь, это значит много, потому что она под защитой Исиды и девственна. — Это понятно, Шабака. Я думаю, что я осмелился бы возмутиться существованию любой фальшивой богини на небесах, чтобы только выиграть такой приз. Образованная, ты сказал, Шабака. — О царь, она умна до кончиков ногтей, к тому же еще и провидица, та, в ком горит божественный огонь, как лампа в вазе из алебастра, та, к которой приходят видения и кто может читать прошлое и будущее. — Уже лучше, — сказал царь, — именно она будет подходящей парой для Царя царей, который устал от толстых сладкоголосых дурочек, которых здесь повсюду сотни, — и он указал на гарем. — Кто ее отец? — Он умер, но она племянница принца Пероа, по рождению благородная особа, о царь. — Значит, из знатной семьи, это тоже хорошо. Слушай меня, Шабака. Завтра ты отправишься обратно в Египет, повезешь письма от меня к моему вассалу Пероа и к наместнику Идернесу. Ты попросишь Пероа передать Амаду Идернесу и попросишь Идернеса отправить Амаду на Восток со всеми почестями и без промедления, чтобы она могла войти в мою семью как одна из моих жен. Я был полон гнева и ужаса и уже готов был отказаться от этой миссии, когда Бэс мягко произнес: — Не будет ли любезен Царь царей отдать приказ обеспечить безопасное и почетное путешествие моего господина? — Он уже отдан, потому что все дела, необходимые для египтянина и его слуги-карлика, сделаны, он получил золото, украшения и рабов, которых выиграл в пари, все это принадлежит ему. Пусть так и запишут. Писари подбежали поближе и записали слова царя. Как во сне, я подумал, что они уже не могут быть изменены. Царь посмотрел на нас сонным взглядом, затем, кажется, проснулся окончательно и снова обрел ясный ум. В заключение он сказал мне: — Египтянин, фортуна сегодня улыбалась и хмурилась тебе, но больше улыбалась. Помни, что у нее есть зубы, чтобы перегрызть горло обманщику. Если ты обманешь меня или не выполнишь мое поручение, будь уверен, что умрешь такой жестокой смертью, что вон та лодка покажется тебе ложем удовольствия. Вместе с тобой умрут и Амада, и ее дядя Пероа, и вся ваша родня, — добавил он, подавив вспышку злобы, — и даже этот уродливый карлик, которого я слушал, потому что он смешил меня, но который, наверное, более коварен, чем кажется на первый взгляд. — О Царь царей, — сказал я, — я не обману, — но не сказал, кого именно. — Хорошо. Вскоре я отправлюсь в Египет, как уже говорил тебе, и там оглашу приговор тебе и всем остальным. А теперь прощай. Ничего не бойся, потому что у тебя есть мое высочайшее позволение. Но сначала выпей и возьми кубок, а взамен отдай мне твой лук, который стреляет так далеко и так метко. — Хорошо, царь, — ответил я, поднимая золотой бокал, который слуга подал мне. Затем перед троном упали занавеси, и слуги подошли к нам с Бэсом, чтобы отвести нас к нашему жилищу. Один из них взял кубок и нес его впереди нас. Спустившись в зал, мы прошли мимо пирующих знатных людей, которые кланялись тому, кому Великий царь оказал милость. Мы вышли из дворца и темной ночью вернулись в дом, где я устроился, пока ждал аудиенции царя. Здесь слуги пожелали мне спокойной ночи, отдали кубок Бэсу и сказали, что завтра рано утром мне принесут мое золото и все то, что нужно для путешествия. Кроме того, один из них заберет лук, обещанный царю, который мне уже вернули вместе со всем нашим имуществом. После этого они поклонились и ушли. Мы вошли в дом и поднялись по ступеням в верхние комнаты. Тут Бэс с облегчением запер дверь и ставни, чтобы удостовериться, что никто не увидит и не услышит нас. Он повернулся, простер ко мне руки, поцеловал мою ладонь и залился слезами.Глава 7
БЭС КРАДЕТ ПЕЧАТЬ
— О мой господин! — еле сдерживался Бэс. — Я рыдаю от усталости, не обращай внимания. День был слишком длинным, и за это время ты, по крайней мере два раза, был на волосок от смерти. Моргание века, крохотный волосок, кончик ногтя — вот что отделяло вас от нее. — Да, — сказал я, — и ты был этим веком, ногтем и волосом. — Нет, господин, нет, это было что-то иное, что выше моего понимания. Долото вырубает статую, рука держит инструмент, но рукой управляет дух. Ко времени, когда взошло солнце, моя голова была пустой, как барабан. Потом что-то туда постучало, возможно, святой Танофер, может, кто-то другой, и оно знало, что нужно сказать. Это было, когда я проклинал вас в лодке. Это было, когда я возвращался с евнухом, думая убить его по дороге, но затем вспомнил, что смерть одного злобного евнуха вовсе не поможет вам, в то время как, оставшись живым, он может привести меня к царю, кстати, я не заплатил ему из того мешка золота, который я нес. Хотя он заслужил за свою работу, потому что, когда царь загрустил и вино еще не затуманило его разум, именно евнух подсказал ему, что я смогу его развеселить, я, уродливый и такой разный в своих выходках, потому что всего за несколько минут я сделал то, чего не смогли сделать женщины-танцовщицы. — И что случилось потом, Бэс? — Потом я был приглашен и проделал все свои трюки с этой змеей, которую я поймал и приручил и которая сейчас у меня в сумке. Вы не должны больше ненавидеть ее, господин, потому что она помогла нам сыграть свою игру. После этого царь начал разговаривать со мной, и я уже знал, что он чувствует неловкость из-за вас, поскольку сознавал, что поступил неправильно. Тогда я рассказал ему историю о слоне, которого мой отец убил, чтобы спасти царя, — она выросла в моей голове, как поганка ночью, это история про неблагодарного царя и о том, что с ним случилось. Тогда царь забеспокоился еще больше и спросил евнуха Хумана, где вы находитесь. Хуман ответил, что по приказу царя вы спите в лодке и вас нельзя беспокоить. Моя стрела не достигла своей цели, потому что царь не хотел что-либо менять в вашей судьбе, хотя и приказал привести вас из лодки, куда он же вас и отправил. Теперь, когда все казалось потерянным, какой-то бог, возможно, святой Танофер, который всегда присутствует во мне, чтобы видеть, что я его не забыл, вложил в царскую голову идею начать разговор о женщинах и спросить меня, видел ли я когда-нибудь кого-то красивее, чем танцовщицы, которых я встретил, когда проходил мимо. Я ответил, что не обратил на них внимания, потому что они были так уродливы, какими казались мне все женщины с тех пор, когда на берегах Нила я не встретил ту, которая была подобна Хатор в ее красоте. Царь спросил меня, кто бы это мог быть, а я ответил, что не знаю, поскольку не осмелился спросить имя той, которую даже мой господин почитал как богиню, хотя, будучи детьми, они воспитывались вместе. Потом у царя наконец пробудилась совесть, и он потребовал от старого советника подсказать ему, нет ли такого закона, который давал бы царской власти возможность отменить свое решение, если таким образом он успокоит свою душу и получит новые знания. Советник ответил, что такой закон есть, и начал приводить примеры, пока царь не прервал его и не сказал, что, пользуясь этим законом, он приказывает вытащить вас из постели, которая находится в лодке, и привести к нему, чтобы ответить на вопрос. Итак, господин, за вами послали, но я не пошел вместе со слугами, боясь, как бы царь не забыл обо всем до вашего прихода. Поэтому я был при нем и развлекал его историями об охоте, потому что не мог думать больше ни о чем, пока вы шли. На самом деле, я начал бояться, что он объявит об окончании пира. Но, в конце концов, в этот момент, когда он заскучал и заговорил с одним из советников о том, что скоро отправится в гарем, и велел предупредить, чтобы они были готовы принять его, вы наконец пришли. Остальное вы знаете. Я посмотрел на Бэса и сказал: — Пусть боги всех земель благословят тебя, ведь если бы не ты, лежать мне сейчас в муках в той лодке. Послушай, приятель: если мы когда-нибудь снова попадем в Египет, ты ступишь туда не рабом, а свободным человеком. Ты также станешь богат, Бэс, я обещаю, если мы заберем то золото, которое я выиграл, половина его — твоя. Бэс припал к полу, и на его уродливом лице заблуждала странная улыбка. — Господин, вы дали мне три вещи, — сказал он, — золото, которое я не хочу получать в качестве подарка, свободу, которой я не хотел и не хочу в будущем, пока вы живы и любите меня, и звание друга. Этого я и хочу, хотя не понимаю, почему слышу это из ваших уст, ведь я знаю, что многие годы вы звали меня так в своем сердце. Если вы сказали это, то я скажу то, что многие годы скрывал от вас. У меня есть право на это имя, потому что моя кровь так же благородна, как и ваша, Шабака. Знайте, что этот бедный карлик, которого вы взяли в плен и спасли много лет назад, был кем-то большим, чем простой вождь, каковым он сам себя назвал. Он по праву был царем Эфиопии, и свой трон, и богатство, и власть он может вернуть себе хоть завтра, если пожелает. — Царь Эфиопии! — вскричал я. — О мой друг Бэс, умоляю, вспомни, что мы уже не во дворце, чтобы лгать ради нашего спасения. — Я говорю правду, Шабака. Перед вами царь Эфиопии. Более того, я отказался от этого звания по собственной воле и, если пожелаю, могу вернуть себе власть, потому что эфиопы верны своим царям. — Почему? — спросил я, пораженный. — Господин, потому что я буду называть вас так до того момента, пока мы не прибудем в Египет, где вы обещали мне свободу. Вы не помните ничего странного в тех людях племени, из которого вы и египетские солдаты захватили меня внезапно, потому что они хотели выгнать вас и тех, кто следовал за вами, из своей страны? Я подумал и ответил: — Да, была одна странная вещь. Я не видел женщин в их лагерях и ни одного ребенка. Я знаю это потому, что отдал приказ пощадить их, но мне доложили, что ни женщин, ни детей не найдено. Именно поэтому я предположил, что все они ушли. — Они не ушли, мой господин. Это было мужское братство, которое отказалось от женщин. Посмотрите на меня теперь. Я несчастен, отвратителен, не так ли? Я такой, потому что перед моим рождением моя мать была напугана карликом. Закон эфиопов гласит, что их цари должны жениться не позднее, чем через год после коронации. Следовательно, я выбрал женщину, которая станет царицей и которая давно мне втайне нравилась. Она посмеялась надо мной, поклявшись, что ни за какие троны всего мира не станет женой такого чудовища, а если ее возьмут силой, то она убьет себя. И сказала, что уедет прочь из наших земель. Я сказал, что ее слова справедливы, и отправил в безопасности из наших земель, после чего сложил корону и ушел с теми, кто любил меня, чтобы создать братство женоненавистников на землях ниже по Нилу, за пределами границ Эфиопии. Именно там египетские силы, которыми вы командовали, напали на нас, неподготовленных, и вы сделали меня своим рабом. Вот и все. — Но почему ты поступил так, Бэс, ведь девушек много и не все думают одинаково? — Потому что мне нужна была лишь она одна, мой господин, кроме того, я боялся, что стану отцом карликов-близнецов. Итак, я был царем и стал рабом, а дальше — кто знает, как прыгнет Саранча? Однажды из раба я стану царем. А теперь, как цари, побывавшие рабами, и как рабы, ставшие царями, давайте спать. Мы легли и заснули, а я еще и благодарил богов, что моей постелью больше не была та лодка на великой реке. Когда я проснулся отдохнувшим, хотя из-за всего того, что я пережил вчера, мой мозг еще не пришел в себя окончательно, свет уже пробивался через вырезанные из дерева окна. Я увидел, что Бэс сидит на полу и что-то делает со своим луком, который, как я уже сказал, был возвращен нам вместе с остальным оружием. Я спросил его сонным голосом, чем он занимается. — Господин, — ответил мой слуга, — тот царь потребовал ваш лук, и он должен быть отправлен ему. Но в этом нет необходимости, потому что тот лук, которым вы убивали львов, вы цените больше всего на свете, и потому что вы получили его от своего предка, который был фараоном Египта. Кроме того, этот лук был вашим товарищем с самого детства, с тех пор, когда вы стали достаточно сильны, чтобы держать его. Если вы помните, я скопировал этот лук с лука из более светлого дерева, которое смог с легкостью согнуть, и эту копию мы отдадим царю. Но сначала я должен натянуть на него вашу тетиву, потому что она достаточно заметна. И надо сделать одну или две отметины, доказывающие, что это именно ваш лук. Именно это я сейчас заканчиваю делать, а начал я на рассвете. — Да, ты умен, — сказал я, рассмеявшись, — и я очень доволен. Святой Танофер, однажды поглядев на мой лук, предсказал кое-что. Он увидел, что стрела, вылетев из лука, прольет кровь Великого царя и спасет Египет. Но он не смог увидеть, что это был за царь. Карлик покачал головой и ответил: — Я слышал эту историю, как и много других. Поэтому я и проделал этот трюк, ибо лучше, чтобы тот обитатель дворца получил стрелу, но не сам лук. Мне осталось сделать последнюю царапину, и никто, кроме вас и меня, не отличит их друг от друга. Пока мы не покинем эту проклятую страну, ваш лук — это мой лук, господин, а вы возьмете другой, сработанный выходцами с востока. — Господин… — эхом повторил я вслед за ним. — Скажи, Бэс, я спал, или ты в самом деле прошлой ночью рассказал мне, что по рождению и по праву ты являешься царем великой страны? — Я говорил вам об этом, господин, и это правда, а не сон, с тех пор как радость и страдание соединились и закрыли уста печатью молчания, я сказал то, что сердце вынуждено прятать. Теперь у меня есть просьба: не говорите об этом ни со мной, ни с кем-либо еще, будь это мужчина или женщина, до тех пор, пока я сам не заговорю на эту тему. Давайте вести себя так, как будто это действительно был сон. — Я согласен, — сказал я, вставая и облачаясь, но не в свою одежду, которую у меня забрали во дворце, а в прекрасные шелковые одеяния, которые дали мне после того, как я был вызволен из лодки. После этого я умылся и расчесал свои длинные кудрявые волосы. Позднее мы спустились в нижнюю комнату и позвали служанку, чтобы нам принесли еду, которую я съел с большим удовольствием. Закончив трапезу, мы услышали крики на улице: «Дорогу царским слугам!» и выглянули в окно, где увидели огромную кавалькаду, приближающуюся к нам. Ее возглавляли два принца на лошадях. — Я молюсь, чтобы этот тиран не изменил своего слова, и эти люди не приехали за мной, чтобы отправить обратно в лодку, — заметил я тихо. — Не бойтесь, господин, — ответил Бэс, — все видели, что вы коснулись его скипетра и выпили из его кубка, который он дал вам. После этого уж точно никто не причинит вам вреда на тех землях, которыми он управляет. Успокойтесь и ведите себя с этим людьми независимо и гордо. Минуту спустя вошли два принца в сопровождении слуг, которые несли множество вещей. Среди них были мешки, наполненные золотом, которые находились подо мной на дне лодки. Старший принц поклонился, приветствуя меня, назвав «господином», я поклонился в ответ. Он протянул мне какие-то свитки, перетянутые шелком и запечатанные. Я должен был доставить их по приказу царя его наместнику в Египте, а также принцу Пероа. Кроме того, он дал мне еще несколько писем, адресованных слугам царя, которых я должен был встретить по дороге. Они были написаны на глиняных дощечках на языке, которого я не мог понять. По восточной традиции я прикоснулся к ним лбом. После этого один из принцев сказал мне, что к вечеру все будет готово к путешествию, которое я должен буду предпринять в ранге царского посланника, а значит, меня обеспечат провизией и слугами. Кроме того, у меня будет возможность использовать царских лошадей, меняя их от одного перегона до другого. Он приказал рабам принести те дары, которые царь послал мне, их было огромное множество, включая даже гибкую кольчугу, которая могла защитить от любого удара меча или стрелы. Я поблагодарил его, сказав, что к вечеру буду готов отправиться, и спросил, не захочет ли царь увидеть меня до отъезда. Принц ответил, что тот очень хотел увидеть меня, но, страдая от головной боли, вызванной чрезмерным сиянием солнца, не сможет этого сделать. Однако он умолял меня не забывать все то, что говорил мне, и хотел быть уверенным, что благородная Амада, о которой я рассказывал, прибудет к нему без промедления. В этом случае моя награда будет огромной, но, если я не смогу выполнить его поручение, ярость его будет велика, и я погибну страшной смертью, как он и обещал. Я поклонился и ничего не ответил, после чего он и его спутники открыли мешки с золотом, предлагая мне убедиться, что оно там есть, и взвесить снова, чтобы сравнить с весом слуги-карлика и чтобы я удостоверился, что из мешков ничего не пропало. Я ответил, что слово царя правдивее, чем любые весы, но, несмотря на это, все мешки снова были развязаны и взвешены. Я взял лук, вернееего подделку, и, показав его принцам, завернул его и шесть моих собственных стрел в льняную ткань, чтобы передать царю, снабдив посланием, что, хотя стоит приложить усилия, чтобы натянуть лук, это самое смертельное оружие в мире. Старший принц принял его с почтением, поклонился и пожелал мне счастливого пути, сказав, что, возможно, мы еще встретимся во время его путешествия в Египет, если мои боги даруют мне безопасное путешествие. Мы расстались, и я был рад, что вижу этих людей в последний раз. Едва они удалились, как в комнату зашли шестеро охотников, которых я выиграл в пари и таким образом спас от смерти. Они упали на колени передо мной и спросили, не будет ли каких-нибудь приказаний, чтобы подготовить мои вещи к путешествию. Я спросил их, пойдут ли они со мной, на что главный ответил, что они теперь мои рабы и будут делать то, что я прикажу. — Вы хотите пойти? — спросил я. — О благородный Шабака, — ответил их вожак, — мы пойдем, хотя некоторые из нас должны оставить здесь жен и детей. — Почему? — спросил я. — По двум причинам, господин. Во-первых, здесь мы обесчещены, хотя это и не наша вина, и если вы оставите нас на этой земле, вскоре гнев царя найдет нас, и мы потеряем не только наших жен и детей, но и свои жизни. И хотя в иных землях мы можем завести других жен и детей, другую жизнь найти там не сможем. Поэтому мы должны оставить наших любимых нашим друзьям, зная, что вскоре наши жены забудут нас и найдут себе других мужей, а дети вырастут, несмотря на ту судьбу, которую уготовила им жизнь, думая о том, что мы, их отцы, мертвы. Во-вторых, мы по роду деятельности охотники, а мы видели, что вы — великий охотник, и мы должны гордиться, что служим вам во время погони или во время войны. Вы тот, кто сошел со своей тропы, чтобы спасти наши жизни, потому что увидели, что мы были несправедливо приговорены к жестокой смерти. Вот поэтому мы не желаем в своей жизни ничего, только быть вашими рабами, надеясь на то, что, возможно, сможем заработать свободу хорошей службой. — Вы все хотите этого? — спросил я. Один за другим они ответили утвердительно, хотя слезы текли по щекам некоторых из них, тех, которые были женаты, потому что думали о том, что придется расстаться с женами и детьми, которых нельзя взять с собой, потому что они подданные царя и не были упомянуты в пари. К тому же для такого огромного количества людей невозможно было достать лошадей, да и быстро идти они не могли. — Пойдемте, — сказал я, — и знайте, что, пока вы верны мне, я буду хорошо относиться к вам, проданным в неволю, и, возможно, в конце нашего путешествия вы станете свободными на земле, где дикие животные не разрывают на мелкие кусочки смелых мужчин за любое слово. Но если вы предадите меня или подведете меня, я либо убью вас, либо отправлю к тому, кто знает толк в работорговле, для работы на веслах или в шахтах до самой вашей смерти. — Отныне у нас нет другого господина, кроме вас, Шабака, — сказали они. Один за другим они пожали мне руку и приложили ее ко лбу, поклявшись в том, что будут верны мне во всем, пока все мы живы. Я приказал им пойти и попрощаться с теми, кого они любят, и вернуться обратно через полчаса. Если честно, я не ожидал, что они вернутся. Я сделал это, чтобы дать им возможность сбежать, если представится случай, и надежно спрятаться. Но, как я часто замечал, честность у охотников в крови, и в назначенный час все они вернулись. Один из охотников был с женщиной, которая несла на руках ребенка. Она буквально висела на муже и горько плакала. Когда она откинула покрывало, я увидел, что она очень молода и весьма красива. Вскоре после полудня мы покинули город Великого царя в сопровождении двух его солдат, которые привезли мне на словах царскую благодарность за лук, который я отправил ему. Он велел передать мне, что будет ценить его превыше всех имеющихся у него сокровищ. При этих словах Бэс скорчил гримасу и завертел глазами. Нас посадили на великолепных жеребцов из царских конюшен, одели в подаренные кольчуги, хотя, покинув город, мы тут же сняли их из-за жары, а еще потому, что кольчуга Бэса натерла ему кожу, потому что была слишком большой для его маленького квадратного тела. Наши вещи вместе с мешками с золотом были уложены на вьючных лошадей, которых вели шестеро рабов. Четверо вооруженных солдат шли сзади, это были сильные воины из личной гвардии царя, а двое царских почтальонов были нашими проводниками. Кроме того, были еще повара и конюхи с запасными лошадьми. Итак, мы начали путешествие при большом стечении народа и в большом волнении, когда огромная толпа наблюдала за нашим уходом. Путь наш шел через реку, которую мы должны были пересечь на баржах ниже по течению, поэтому через несколько минут мы подошли к тому причалу, где предыдущей ночью я готовился умереть. Да, там были надсмотрщики, и проклятая двойная лодка все еще стояла там, на ее носу показалось измученное лицо евнуха Хумана, который крутил головой в разные стороны, чтобы хоть как-то избежать атак назойливых мух. Он увидел нас и стал громко кричать с просьбой о жалости и прощении, а Бэс только ухмылялся. Солдаты остановили нашу кавалькаду и один из них, обращаясь ко мне, сказал: — По приказу царя вы, благородный Шабака, должны посмотреть на этого злодея, который оклеветал вас перед царем, а потом осмелился ударить вас. Если вы хотите, войдите в воду и ослепите его, так, чтобы ваше лицо было последним, что он видел перед погружением в темноту. Я покачал головой, но Бэс, которому в голову пришла какая-то мысль, прошептал: — Я хочу поговорить с этим евнухом, позвольте мне и ничего не бойтесь. Я не причиню ему вреда, только добро, если будет такая возможность. Я сказал солдату: — Благородные господа не должны сами мстить павшим. Но мой раб тоже был оскорблен, поэтому он хочет сказать несколько слов этому Хуману. — Пусть будет так, — сказал командир, — но попросите его быть осторожным и понапрасну не мучить несчастного, а то он умрет раньше времени и избежит своего наказания. Тогда Бэс подобрал полы одежды и ступил в воду, размахивая огромным ножом, а Хуман, едва завидев его, начал кричать от страха. Он добрался до лодки и наклонился к евнуху, тихо разговаривая с ним. Я не мог видеть, что он там делает, потому что его одежда закрывала голову Хумана. Однако я увидел взмах ножа и услышал пронзительный мученический крик, сопровождающийся стонами, после чего я приказал ему вернуться и оставить человека в покое. Потому что, когда я вспоминал, что меня могла ожидать такая же судьба, от этих звуков у меня заболело сердце. Я разозлился на Бэса, хотя жестокие жители востока смеялись. В конце концов он вернулся, усмехаясь и споласкивая лезвие ножа в воде. Я сердито заговорил с ним на его языке, а он продолжал усмехаться, ничего не отвечая. Когда мы снова двинулись и отъехали от этой ужасной лодки, где сидел воющий пленник, я смотрел на Бэса и так и не мог понять ни его поведения, ни его молчания. Он коснулся рукой своего огромного рта и приложил ее к груди. После этого Бэс был готов разговаривать, хотя и очень тихо, чтобы кто-то, кто понимает египетский язык, не мог услышать нас. — Вы глупец, мой господин, — сказал Бэс, — если думаете, что я стал бы тратить время, мучая этого жирного мошенника. — Тогда зачем ты мучил его? — спросил я. — Потому что мой бог, Саранча, сделав меня карликом, дал мне большой рот и хорошие зубы, — ответил Бэс, пока я таращился на него, думая, что он сошел с ума. — Послушайте меня, господин, я не трогал Хумана. Все, что я сделал, — это перерезал веревки под ним, чтобы ночью он смог развязать их и исчезнуть, если получится. Вы, может, не заметили, но я заметил, что перед тем, как царь приговорил вас вчера к смерти в лодке, он взял какую-то круглую белую печать в форме цилиндра с богами и знаками, вырезанными на ней, которая свисала на золотой цепи с его шеи. Он отдал ее Хуману в знак того, что она является гарантом всего, что он делает. Эту печать Хуман показал хранителю сокровищницы, когда они взвешивали золото, и другим людям, которым было приказано подготовить лодку к вашему приходу. Более того, он забыл вернуть ее, потому что, когда сам по приказу царя был направлен в лодку, я увидел цепь на его одежде. Вы все поняли? — Не совсем, — ответил я, — но и ты ведь недосказал всего? — Да, вы правы, господин. Когда я разговаривал с Хуманом после того, как он посадил вас в лодку, я спросил про эту печать. Он показал ее мне и сказал, что тот, кто носит ее, на время становится правителем всей империи Востока. Кажется, это единственная печать, которая сохранилась с древних времен и передается от царя к царю, и, имея ее, каждый правитель, великий или нет, имеет власть над всеми землями. Если печать предназначена для него, он сравнивает ее с оттиском, и, если они совпадают, подчиняется приказам, как будто сам царь отдал их лично. Когда мы дошли до царского двора, без сомнения, Хуман должен был вернуть печать, но, увидев, что царь был пьян или просто притворялся, он помедлил из страха, что, отдав печать, он потеряет свою жизнь. Когда его схватили, вы это видели, от ужаса он забыл обо всем, как и сам царь, и его стража. — Но, Бэс, вероятно, что тот, кто сажал его в лодку, должен был снять с него печать. — Господин, даже при хорошем зрении невозможно все видеть ночью. В любом случае я надеялся, что они не заметят печать, вот почему я пошел вброд, чтобы уколоть Хумана. Случилось то, на что я так надеялся, — под его одеждой я нашел цепочку. Затем я заговорил с ним и вот что сказал: — Я пришел, чтобы выколоть твои глаза, как ты этого заслуживаешь за то, что ты так поступил с моим господином. Однако я хочу предложить тебе сделку. Отдай мне древнюю царскую печать, которая открывает все двери, и я лишь притворюсь, что ослепляю тебя. А еще я разрежу твои веревки почти полностью, чтобы ты мог разорвать их, когда придет ночь, потом прыгнуть в воду и скрыться. — Возьми ее, если ты сможешь, — сказал тот, — и используй, чтобы вредить и разрушать то, что проклято. — И ты взял ее, Бэс. — Да, господин, но это было не так легко. Помните, что печать была на цепочке, которая висела на шее, и я не мог снять ее, поскольку его горло, как и руки, были стянуты веревками, как, собственно, было и у вас. — Я хорошо помню, — отвечал я, — потому что мое горло все еще болит от той веревки, которая была привязана к той же скобе, что и мои руки. — Да, господин, даже если бы я снял цепочку с его шеи, она бы все равно оказалась под веревками. Я думал перерезать ее ножом, но это невозможно было сделать, поскольку цепочка толстая, если бы я ее потянул при помощи лезвия ножа, это было бы заметно, потому что за мной наблюдало множество глаз. Тогда я решил поступить по-другому. Пока я притворялся, что протыкаю глаза Хумана, я наклонился ниже и вцепился в цепочку зубами. Один зуб сломался — вот, посмотрите, но дело я сделал. Я прокусил мягкое золото, затем затянул цепочку в рот и туда же отправил и печать. Вот почему я не мог говорить с вами — мои щеки были заполнены золотом. Теперь у нас есть царская печать, которой подчиняются все страны. Это может быть полезно там, в Египте, да и золото имеет свою цену. — Молодец! — воскликнул я. — Очень умно сделано. Но ты забыл кое-что, Бэс. Когда этот мошенник сбежит, он обязательно проговорится, и царь пошлет за нами карательную экспедицию и убьет нас, осмелившихся украсть царскую печать. — Я так не думаю, мой господин. Во-первых, маловероятно, что Хуман сбежит. Он очень толстый и нерешительный, к тому же сильно страдает. После дня, проведенного на солнце, он очень слаб. Во-вторых, я не думаю, что он умеет плавать, потому что евнухи ненавидят воду. Так что если он и выберется из лодки, то, вероятно, он утонет в реке, потому что не осмелится приблизиться к причалу, где стоит стража. Но если он даже сможет убежать, переплыв реку, то спрячется ради спасения своей жизни и никогда снова не появится. А если его случайно поймают, он скажет, что печать упала в реку, когда его запихивали в лодку, или что один из охранников украл ее. А вот чего он никогда не скажет, так это того, что отдал ее кому-то, кто взамен перерезал веревку, потому что за это он получит еще худшее наказание, чем то, что было в лодке. В конце концов, мы поскачем так быстро, что через шесть часов нас уже никто не поймает. А если они сделают это, я выброшу цепочку и проглочу печать. Как Бэс сказал, так и случилось. Я так ничего никогда не узнал о судьбе Хумана и ничего больше не слышал о краже печати — до тех пор, пока по всем царствам не было объявлено, что сделана новая печать. Но это случилось значительно позднее, после того как печать помогла мне вернуться в Египет.Глава 8
ГОСПОЖА АМАДА
Сейчас это наше путешествие, каждая его деталь, день за днем, час за часом, минута за минутой возникли перед моими глазами. Но рассказывать обо всем здесь нет необходимости. Потому что, когда я, Аллан Квотермейн, записываю, что видел, мне все еще кажется, что я слышу топот лошадиных копыт, когда мы скакали галопом через равнины, через горы и по берегам рек. Наша скорость была достойной уважения, через каждые сорок миль стояли почтовые станции, и не важно, были это день или ночь, мы находили свежих лошадей из царской конюшни, которые уже поджидали нас. Кроме того, почтовые служащие знали, что мы уже подъезжаем, что приводило меня в изумление, пока мы не поняли, что их предупреждают о нашем приближении посланцы царя, которые спешили впереди нас. Казалось, что эти люди — хотя наша стража и проводники открыто демонстрировали незнание вопроса — покинули царский дворец на рассвете в день нашего отъезда, тогда как мы въехали в город чуть позже полудня. Значит, у них было, по крайней мере, шесть часов форы, и, более того, они ехали без нагруженных животных, без поваров и слуг. Помимо этого у них всегда был выбор лошадей, это были трое прекрасных животных, третья лошадь нужна была на случай, если вдруг одна охромеет или случится нечто непредвиденное. Именно поэтому мы никогда не могли нагнать их, хотя за день проезжали почти сто миль. Лишь однажды я видел их, далеко, на фоне линии горизонта была гора, на которую нам надо было взобраться. Но к тому времени, когда мы достигли вершины горы, они уже исчезли из вида. В конце концов мы доехали до края пустыни без происшествий, углубились в нее и пересекли, хотя и более медленно, чем ожидалось. Но даже если у царя и были здесь посты, за которые отвечали кочевники, жившие в палатках рядом с источниками воды или где-то еще, не было ничего, что могло бы пригодиться ему. Поэтому мы проехали мимо, поджариваясь на горячем песке под нами и таком же горячем песке, клубящемся в воздухе над нами. Вскоре мы достигли границ Египта. Здесь, на самой границе, два командира неожиданно остановили нашу кавалькаду, сказав, что им приказано вернуться и доложить обо всем царю. Мы расстались. Бэс, я и шестеро охотников, которые держались около меня, поехали вперед, а царские командиры с проводниками и слугами отправились обратно. По приказу царя они передали нам свежих лошадей, на которых мы проехали последний пост; уставших животных, тащивших грузы, оставили там, поскольку навьюченным лошадям, которые привыкли возить колесницы, пришлось бы очень тяжело в Египте. Мы взяли новых лошадей, передав благодарность царю, и снова отправились в путь. Бэс лично вел под уздцы то животное, которое было нагружено золотом, а охотники двигались рядом в качестве охраны. Я был рад видеть этих последних выходцев востока. Несмотря на то что они доставили нас в целости и сохранности и хорошо с нами обращались, я далеко не был уверен в том, что у них нет приказа загнать нас в ловушку или даже избавиться от нас, пока мы спим, и забрать золото и бесценное розовое ожерелье, из которого любые две жемчужины стоили всего. Но у них не было такого приказа, и они не могли осмелиться украсть у нас что-то по своей инициативе, потому что, если бы даже они и избежали мести царя, их жены и дети заплатили бы за все сполна. Мы вошли в Египет возле Соляных озер, которые находились недалеко от истока залива, сливающегося с каналом, выкопанным еще при древних фараонах. Его было легко пересечь, потому что он засорился. Перед тем как попасть сюда, мы увидели нескольких крестьян, работавших на своих участках с чахлыми посадками, и я услышал, как один говорил другому: — Вот еще люди, прибывшие с востока. Как ты думаешь, сосед, что с ними будет дальше? — Я не знаю, — отвечал второй, — но, когда я пересекал канал сегодня утром, я видел группку людей из царской охраны, которые выходили из крепости. Наверняка они были нужны, чтобы встретить этих людей, о чьем появлении объявили те, двое, которые прибыли пятьдесят часов назад и предупредили солдат. — Что ты об этом думаешь? — спросил я Бэса. — Не более того, что мы слышали, господин. Два царских посланника, которые ехали впереди нас всю дорогу из города, сказали командиру у приграничной крепости, что мы приближаемся, поэтому он отправился, чтобы встретить нас. А уж по какой причине — я не знаю. — Я тоже не знаю, — сказал я, — но мне хотелось бы выбрать другую дорогу, если бы была такая возможность. — Такой дороги нет, господин, потому что выше и ниже канал заполнен водой, а берега слишком круты для лошадей. К тому же мы не должны показывать сомнение или страх. Он подумал и добавил: — Возьмите царскую печать, господин. Думаю, она может пригодиться. Он отдал печать мне, и я смог рассмотреть ее лучше, чем делал до этого. Она представляла собой цилиндр из плоской белой ракушки, висевшей на золотой цепи, которую Бэс прокусил насквозь, но потом снова собрал, соединив разрушенные звенья. На этом цилиндре были вырезаны фигуры. Мне показалось, что это был жрец, который выказывал почести богу. Над головой бога висел полумесяц, за его спиной стоял человек или демон с длинным копьем. Между фигурами же имелись какие-то таинственные знаки, значение которых мне было неведомо. Качество работы потускнело со временем, и от частого использования цилиндр казался очень старым. Это был священный предмет, который передавался из поколения в поколение, сквозь него проходила серебряная пластинка, на которой он проворачивался. Я взял печать, подобной которой еще не видел, потому что то была работа ранней эпохи, повесил на шею под кольчугу, и мы продолжили наш путь. Спустившись с крутого берега канала, мы подошли к броду. Там песок, засоривший канал, был покрыт слоем воды не более фута глубиной. Когда мы вошли в него, на гребне противоположного берега появилась группа из тридцати вооруженных всадников, один из которых нес знамя Великого царя, на нем я заметил герб с теми же фигурами, которые были вырезаны на цилиндре. Было слишком поздно отступать, поэтому мы преодолели водное препятствие и приблизились к солдатам. Их офицер подошел к нам и провозгласил: — Приветствую вас от имени Великого царя, о, благородный Шабака! — От имени Великого царя и я приветствую вас! — ответил я. — Что вы намерены сделать с Шабакой, о командир славного царского воинства? — Лишь оказать ему уважение. Слово царя дошло до нас, и мы приехали, чтобы сопровождать вас ко двору Идернеса — наместника царя и правителя Египта, который находится в Саисе. — Это не моя дорога, командир. Я направляюсь в Мемфис, чтобы доставить приказы царя моему двоюродному брату, Пероа, правителю Египта под властью царя. После этого я, возможно, приеду к великому Идернесу. — Тот, кто отдал нам приказы, не будет ждать, о, Шабака, — сказал командир жестко, оглядываясь на вооруженный эскорт. — Я привык отдавать приказы, а не получать указания, командир! — Взять Шабаку и его слуг, — вдруг приказал командир коротко, и солдаты двинулись, окружая нас. Я подождал, пока они окажутся на расстоянии вытянутой руки. Затем внезапно вытащил руку из складок своей одежды и достал маленькую белую печать, которую поднес к глазам командира со словами: — Кто осмелится поднять руку на того, кто носит царскую Белую печать? Надо думать, этот человек готов к смерти? Командир уставился на печать, затем спрыгнул с лошади и упал на землю с криком: — Это древний знак царя востока, данный ему первым богом Солнца Самасом, в чьих руках находится судьба великого царства! Простите меня, о, благородный Шабака! — Извинения приняты, — снисходительно ответил я, — поскольку то, что ты творил, ты делал по незнанию. Теперь отправляйся к наместнику Идернесу и скажи, что, если он хочет поговорить с тем, кто носит царскую печать, которой все должны поклоняться, он может найти его в Мемфисе. Прощай. И вместе с Бэсом и шестью охотниками я с горделивым видом проехал мимо гвардии. Никто не осмелился остановить нас. — Хорошо сделано, господин, — заметил Бэс. — Да, — ответил я, — те двое посланников царя, которые ехали впереди нас, привезли приказы пограничной службе Идернеса, что я должен быть доставлен ему в качестве пленника. Я не знаю почему, но я думаю, что из-за того, что мы не знаем о том, какие истинные дела творятся в Египте, царь не желал, чтобы я увиделся с принцем Пероа и привез ему новости, которые мог получить. Может быть, Бэс, мы узнали слишком много и благородная Амада всего лишь предлог, чтобы внезапно развязать ссору до того, как Пероа сможет нанести удар первым. — Возможно, мой господин, потому что эти выходцы с востока — большие мастера. Но, господин, что случится с теми, кто станет использовать белую священную печать царя, не имея на это права? Я думаю, что они оборвут нити, связывающие их с землей, — и он посмотрел в небо, отчаянно вращая своими желтыми глазами. — Они должны найти новые веревки, Бэс, причем быстро, пока их не поймали. Послушай. Ты сидел на троне, и я могу говорить с тобой. Подумай, нравится ли моему двоюродному брату, принцу Пероа, быть слугой этого далекого восточного царя, если он по праву является фараоном Египта? Пероа может восстать или потерять своего племянника и, возможно, свою жизнь. Вперед, мы должны предупредить его. — А если он не восстанет, господин, зная силу царя и почему-то при этом не торопясь? — Тогда, я думаю, Бэс, что мы должны отправиться на охоту далеко-далеко в те земли, на которых, как ты знаешь, ни один Великий царь не сможет найти нас. — И где, если только я не найду женщину, от взгляда на которую я не заболею и которая не заболеет, глядя на меня, я снова смогу быть царем и господином тысяч вооруженных и смелых людей. Я должен поговорить об этом со святым Танофером. — Который, без сомнения, знает, что посоветовать тебе, Бэс, а если он потеряет свою волшебную силу, это сделаю я. Некоторое время мы ехали молча, каждый думал о своем. Потом Бэс заговорил снова: — Мой господин, мы скоро приедем к Нилу и, имея столько золота, сможем купить лодки и нанять людей. Мне все-таки кажется, что мы должны для собственной безопасности и удобства немедленно отправиться на охоту подальше от Египта, в земли эфиопов. Там я смогу собрать вместе несколько мудрых людей, в чьих руках я оставил право правления моим царством. Кроме того, я смогу поручить им поиск женщины для моей женитьбы. Эфиопы — верные люди, мой господин, и они не откажут мне, потому что я провел несколько лет, изучая этот мир, что поможет мне теперь управлять подданными лучше прежнего. — Мне представляется, что это невозможно, — возразил я. — Почему нет, господин? — Есть одна причина. Ты покинул свою страну из-за женщины? Я не могу покинуть тоже из-за женщины. Бэс покрутил глазами вокруг, как будто думал найти в пустыне женщину. Не найдя ее, он посмотрел наверх и увидел там свет. — Ее, наверное, зовут благородная Амада, господин? Я кивнул. — Хорошо. Амада, про которую вы сказали царю, что это самая красивая женщина в мире, зажгла огонь любви в сердце царя и много всего того, о чем мы не знаем. — Ты сказал ему, Бэс, — зло ответил я. — Я сказал ему о прекрасной женщине, но не называл ее имени. Хотя я не думал об этом какое-то время, возможно, она рассердится на того, кто произнес ее имя. Страх обуял меня, и Бэс прочитал это на моем лице. — Не бойтесь, господин. Если в этом проблема, я поклянусь, что сказал имя этой госпожи Великому царю. — Да, Бэс, но как можно объяснить в этой истории то, что меня вытащили из лодки именно с этой целью? — Очень просто. Я могу сказать, что вас вытащили из лодки, чтобы подтвердить мою историю. О! Она разозлится на меня, без сомнения, но в Египте даже карлика нельзя убить из-за того, что он назвал какую-то женщину самой красивой в мире. Но, господин, расскажите мне, когда вы поняли, что любите ее? — Когда мы были еще детьми, Бэс, мы вместе играли, будучи родственниками, я часто держал ее за руку. Потом она неожиданно стала возражать, чтобы я держал ее за руку. Я уже был достаточно взрослым, она была моложе меня, и я понял, что мне лучше уехать подальше. — Я не должен был говорить об этом, господин. — Нет, Бэс. Она готовилась к тому, чтобы стать жрицей, и мой дядя, святой Танофер, сказал, что мне лучше уехать, и чем дальше, тем лучше. Поэтому я отправился на юг охотиться и сражаться в командовании армией, где и встретил тебя, Бэс. — Может быть, это лучше для вас, господин, чем оставаться и смотреть, как благородная Амада проходит свое обучение. Я думаю, что святой Танофер, как всегда, оказался прав. Видите, мой господин, он много думает о жрецах и жрицах, но он уже настолько стар, что забыл все о любви и о том, без чего не было бы святого Танофера. — Святой Танофер думает о душах, а не о телах. — Да, господин. Но как масло бесполезно без лампы, так и душа без тела, во всяком случае, здесь, под солнцем. Так учат тех, кто поклоняется Саранче. Но, господин, что же случилось после того, как вы вернулись с охоты? — Бэс, я увидел, что благородная Амада, пройдя свое обучение, исполнила свои первые обеты Исиде. Она сказала, что не смогла бы изменить свою судьбу ни ради какого мужчины на земле, хотя это и можно было сделать без нарушения закона. И хотя я был дорог для нее как брат, которого она хотела бы иметь при себе, она поклялась, что никогда не думала ни об одном мужчине, она отказалась даже от мысли о замужестве и мечтала только о небесных совершенствах благородной Исиды. — Ого! — сказал Бэс. — У эфиопов есть жрицы Саранчи, или жены Саранчи, но мы не думаем о ней таким образом. Я боюсь, как бы однажды кто-то, кто окажется сильнее, чем благородная Амада, не заставил ее нарушить клятву божественной Исиде. Возможно, лишь тогда это случится ради другого мужчины, который не отправится на восток из-за такой глупой истории. Но вот и деревня, надо дать отдых лошадям. Давайте остановимся и поедим, я думаю, что даже благородная Амада делает это иногда. На следующий день мы перебрались через Нил и к заходу солнца вошли в огромный древний город Мемфис. На его белых стенах висели символы Великого царя, на которые Бэс указал мне, сказав, что, где бы мы ни были, ему кажется, что никогда мы не будем свободны от этих проклятых знаков. — Я живу для того, чтобы плюнуть на них и сбросить в ров, — ответил я в ярости, потому что, чем ближе я был к Амаде, они становились в десятки раз более ненавистными для меня, чем было до этого. По правде говоря, я находился ближе к Амаде, чем думал, потому что, после того как мы подошли к входу в храм Птаха, самый прекрасный и мощный в мире, мы приблизились к храму Исиды. Там, около ворот с пилонами, мы встретили процессию из жриц и жрецов, которая шла для проведения вечернего жертвоприношения в виде песнопений и цветов. Они были одеты в непорочные белые одежды. Это был праздничный день, поэтому певцы шли вместе с ними. После того как прошли певцы, двинулись жрицы, несущие цветы, а впереди них шла еще одна жрица, которая несла систрум[351], он издавал тихий музыкальный звон. Даже на расстоянии чувствовалось что-то особенное в этой высокой и стройной жрице, что до глубины души взволновало меня. Когда мы подошли поближе, я понял, в чем дело, потому что это была благородная Амада. Сквозь тонкую вуаль, которая была надета на ней, я мог видеть ее темные нежные глаза, широкий лоб, полный каких-то мыслей, и очаровательный изогнутый рот, которого я не видел ни у одной другой женщины. Никаких сомнений не было, потому что через вуаль, прикрывающую ее грудь, была видна родинка, которая делала ее знаменитой, — знак молодой луны, знак Исиды. Я спрыгнул с лошади и направился к ней. Она подняла глаза и увидела меня. Сначала нахмурилась, потом лицо ее разгладилось, она успокоилась, и мне показалось, что ее алые губы произнесли мое имя. В легком смятении она даже уронила систрум. Я прошептал: «Амада!» и прошел вперед, но жрецы встали между нами и оттолкнули меня. В следующий момент она подняла систрум и прошла со склоненной головой. Она даже не подняла глаза, чтобы оглянуться. — Отойди, мужчина! — закричал жрец. — Отойди, кто бы ты ни был. Думаешь, если ты носишь восточные доспехи, тебе позволено оскорблять Исиду? Я отшатнулся, священный образ богини проплыл мимо, и вся процессия исчезла в воротах. Я, Шабака из Египта, стоял рядом с лошадью и смотрел, не в силах ничего сделать. Я был счастлив, потому как убедился, что Амада жива и более прекрасна, чем раньше, и потому, что она, увидев меня, смутилась и обрадовалась. Но все-таки я был несчастен, потому что она была занята тем святым делом, которое построило стену между нами, и еще потому что мне казалось злом то, что я был отброшен от нее жрецом Исиды, который говорил о проклятии богини. К тому же священная статуя случайно повернулась ко мне, когда ее проносили мимо, и мне померещилось, что она нахмурилась. Так я думал, будучи Шабакой за сотни лет до христианской эры, однако, будучи современным человеком, Алланом Квотермейном, которому было дано увидеть все таким замечательным образом и кто, увидев это, никогда не терял чувства сегодняшнего дня, я был просто восхищен. Потому что я знал, что благородная Амада была той же, хотя и плоть ее была другой, как и та госпожа, рядом с которой я вдыхал аромат таинственной травы тадуки, чья власть позволила приоткрыть завесу прошлого или, возможно, лишь вызывала сны о том, как это могло быть. Для постороннего глаза она была совсем другой, как и я был другим, — выше, более стройной, с большими глазами, с более длинными и тонкими руками, чем у западных женщин. Но все равно она была еще более прекрасной и очаровательной. Более того, тот таинственный взгляд, который я время от времени видел на лице леди Регнолл, вообще не сходил с лица Амады. Он возникал в ее глубоких глазах и превращался в лукавую улыбку на изогнутых губах. Эта улыбка была не вполне земная: так улыбаться могла та, которая видела скрытые вещи и слышала голоса, которые звучали за пределами мира. Однако ни тогда, ни в какое-то другое время, пока я спал, я не мог представить себе, что эта Амада, дочь сотен царей, чью кровь можно было проследить от династии к династии, могла быть только лишь женщиной, которая нянчит детей у своей груди. Как будто что-то из нашей обычной природы было удалено из нее, а взамен что-то иное, неземной природы, чему мы не имеем объяснений, заняло это место. И эти две женщины были похожи, мне известно точно. Ведь кто может сказать, какую часть себя мы оставляем позади, путешествуя от жизни к жизни, чтобы найти ее снова где-нибудь в дебрях времени и судьбы? Одно было явно и точно: родинка в виде молодой луны над грудью, которую жрецы племени кенда объявили печатью жриц, охранявших священное дитя. Когда процессия уже почти прошла и я больше не мог слышать звуков песен, я снова сел на лошадь и поехал к себе домой, или, скорее, в дом своей матери, великой Тиу, который располагался под стенами старого дворца, глядя фасадом на великую реку. В самом деле, мое сердце было переполнено любовью к матери, которую я обожал и которая обожала меня, потому что я был ее единственным ребенком, а моего отца уже давно не было на свете, так давно, что я даже не помнил его. Восемь месяцев назад я видел ее лицо, а кто знал, что может случиться за восемь месяцев? Я похолодел, подумав о своей матери, которая была уже старой и слабой, возможно, уже собираясь к Осирису. О, только бы все было хорошо! Я пустил свою уставшую лошадь галопом, Бэс ехал впереди меня, чтобы расчистить дорогу от собравшейся толпы, которая в этот закатный час, кажется, собрала всех бездельников Мемфиса. Они глазели на меня, потому что видеть мужчину на лошади было не совсем обычно для Мемфиса, но без симпатии. Из-за моей одежды и эскорта они приняли меня за посланника своего ненавистного господина, великого восточного правителя. Некоторые даже пытались помешать мне проехать. Однако мы прорвались сквозь толпу и повернули на оживленную улицу, где, утопая в садах, стояли частные дома. Наш был третьим. Около ворот я спрыгнул с лошади, рывком распахнул дверь и углубился в сад. Мне не пришлось далеко ходить. Во дворе, впереди нашего скромного семейства, одетая в праздничные одежды, стояла моя мать, гордая и седая благородная Тиу. Она стояла так, словно приветствовала почетного гостя. Я подбежал к ней, упал на колени, поцеловал руку и произнес: — О моя мать! Моя мать, я целый и невредимый вернулся домой и приветствую тебя. — Я тоже приветствую тебя, мой сын, — отвечала она, склоняясь ко мне и целуя в лоб, — того, кто был в далеких землях и подвергался стольким опасностям. Я приветствую тебя и благодарю богов-хранителей, которые вернули тебя домой целым и невредимым. Я встал и поцеловал ее, потом посмотрел на слуг, которые кланялись мне в знак приветствия, и спросил: — Как случилось так, что все собрались здесь? Вы ждали гостя? — Мы ждали тебя, мой сын. Мы стояли здесь целый час, прислушиваясь к звуку твоих шагов. — Меня! — воскликнул я. — Это странно, потому что я скакал с востока очень быстро, замешкавшись лишь на несколько минут и то уже после того, как въехал в Мемфис, когда я встретил… — Кого ты встретил, Шабака? — Благородная Амада шла в процессии Исиды. — Да, благородная Амада. Мать ждет, пока ее сын, остановившись, приветствует благородную Амаду. — Но почему ты ждала, мама? Кто, кроме духа птицы в небе, мог принести тебе весть о моем приезде, особенно если я не отправлял к тебе вестника? — Должно быть, ты все-таки сделал это, Шабака, поскольку вчера прибыл один такой вестник от святого Танофера, нашего родственника, который обитает в пустыне на кладбище Секера. Он принес сообщение от Танофера, сказав, что надо быть готовыми, потому что до захода солнца мой сын будет со мной, избежав великих опасностей, в сопровождении карлика Бэса и шестерых странных выходцев с Востока. Поэтому я приготовилась и ждала, также я приготовила комнаты для шестерых необычных людей в домиках позади нашего дома и отправила подношения в храм. Знаешь, сын, я очень боялась за тебя. — И не без причины, но об этом я расскажу тебе позднее, — отвечал я, смеясь, — но как Танофер узнал, что я приеду, — это выше моего понимания. Пойдем, мама, поздоровайся с Бэсом, потому что, если бы не он, я не смог бы выжить и снова держать твою руку. Она поздоровалась с Бэсом, пока он вращал глазами и шептал что-то о святом Танофере. Потом мы вошли в дом. Там я отправил посланника принцу Пероа, говоря, что, если он захочет, я буду ждать его, потому что мне есть что сказать ему. Сделав это, я принял ванну, приказал постричь мне волосы и бороду, сбросил восточную одежду и снова почувствовал себя самим собой. Я вышел освеженным и выпил бокал сирийского вина. Потом ночь пала на нас, и я сидел рядом с матерью в комнате, а между нами стояла горящая лампа. Я держал мать за руку и рассказывал ей, что со мной приключилось, показывая ей мешки с золотом, которые прибыли вместе со мной с востока, и цепочку с висевшим на ней бесценным красным жемчугом, который я выиграл в пари с Великим царем. Когда моя мать услышала, как Бэс своей смекалкой спас меня от мучительной смерти в лодке, она хлопнула в ладоши, чтобы позвать слугу и отправить его за Бэсом, а когда тот пришел, она сказала ему: — Бэс, до сих пор я считала тебя рабом, которого захватил мой сын, благородный Шабака, в одном из своих дальних походов, потому что ему нравится сражаться и охотиться. Но теперь я считаю тебя другом и позволяю сесть за мой стол. Более того, мне почему-то кажется, что, несмотря на странную форму, приданную тебе каким-то злым богом, ты не тот, за кого себя выдаешь. Бэс посмотрел на меня, чтобы удостовериться, что я ничего не рассказал моей матери, когда я покачал головой, ответил: — Благодарю вас, уважаемая хозяйка этого дома, но я лишь исполнял свой долг перед господином. Хотя это правда, что если в мехах из козлиной шкуры может храниться хорошее вино, то и карлика не всегда принимают за того, кто он есть. Затем он поклонился и ушел. — Сын мой, мне кажется, мы снова богаты, хотя и нуждались в последние годы, — сказала моя мать, глядя на мешки с золотом, — еще у нас есть жемчужины, которые, без сомнения, значительно дороже, чем это золото. Что ты собираешься делать с ними, Шабака? — Я думал предложить их в качестве дара благородной Амаде, — ответил я, замешкавшись, — если только тебе они не нужны… — Мне? Нет, я слишком стара для таких украшений. Сын мой, но тебе было бы лучше оставить их на некоторое время у себя, потому что, пока они у тебя, они могут придать тебе больше веса в глазах принца Пероа и всех остальных. Если ты отдашь их Амаде и она возьмет их, возможно, это будет означать их возвращение на Восток. Ведь ты говорил мне, что она должна отправиться к тому, чьи приказы не обсуждаются. Я побелел от злости и ответил: — Пока я жив, Амада никогда не отправится на Восток, чтобы стать женщиной того царя. — Пока ты жив, мой сын. Но те, кто нарушает волю Великого царя, должны умереть. К тому же это вопрос, который твой дядя, принц Пероа, должен решить так, как диктует политика. А сейчас даже женщина — это мелкая крупица в большой игре. О мой сын, — продолжала она, — не пытайся привязать к себе Амаду. Она очень красива и умна, но может ли она любить? И даже если это так, она жрица, и для нее будет очень трудно выйти замуж, потому что она связала свою жизнь с Исидой. И наконец, помни: если Египет будет свободным, она будет править им, а не ее дядя Пероа. Захочет ли он отдать ее мужчине, который, согласно древним традициям, через нее сможет потребовать право на корону? — Я не хочу править, мама, я лишь хочу жениться на женщине, которую люблю. — Амада, которую ты любишь и чье имя называешь ты или твой слуга Бэс, что одно и то же, потому что он вынужден выполнять твои приказы, отдана царю востока, так я понимаю. Прекрасный треугольник, Шабака. Лучше бы мне быть без всего этого золота и бесценных жемчужин, чем распутывать эту задачу. Перед тем как я смог ответить и объяснить ей все, отодвинулась занавеска, и в залу вошел посланник от принца Пероа, который приказывал мне отобедать с ним в его дворце, поскольку хотел бы увидеться со мной сегодня вечером. Моя мать повесила мне на шею нитку красного жемчуга на двойной цепочке, я поцеловал ее и вышел вместе с Бэсом, которого тоже просили присутствовать. Снаружи нас ждала колесница. — Знаете, мой господин, — сказал Бэс, когда мы направлялись во дворец, — я очень хочу, чтобы мы ехали в другой повозке и охотились на львов на востоке. — Почему? — спросил я. — Потому что нам было бы чего бояться, но в этой истории не было бы женщины. Теперь женщина вошла в нее, и я думаю, что настоящие неприятности только начинаются. Завтра я обязательно попрошу совета у святого Танофера. — И я пойду с тобой, — ответил я, — я думаю, он нам понадобится.Глава 9
ПОСЛАННИКИ
Мы спешились возле главных ворот дворца, и нас провели через пустые залы, которые не использовались с тех пор, как у Египта не было правителя. Так мы попали в то крыло дворца, где жил принц Пероа. Здесь нас принял камергер, потому что сам принц Пероа все-таки имел некий статус, хотя и не очень серьезный, и вокруг него были люди, которые носили старый звучный титул «слуги фараона». Камергер провел нас с Бэсом в коридор перед залом приемов и оставил, сказав, что он предупредит принца, который хотел увидеть нас до церемонии обеда. Однако в этом не было необходимости, поскольку, пока он говорил, Пероа, который, я думаю, уже ждал меня, вышел из другой двери. Это был величественный мужчина среднего возраста, седина проскальзывала в его шевелюре и бороде, облачен он был в белые одежды с пурпурной каймой и носил на лбу золотой обруч, на передней части которого был знак в форме согнутой змеи. Такой знак могли носить лишь особы царской крови. Его лицо было задумчивым, а взгляд черных пронзительных глаз был проницателен и тяжел, как будто он долго не спал. Я увидел, что он в самом деле встревожен. Он заметил нас, и лицо смягчилось в приятной улыбке. — Приветствую тебя, племянник Шабака, — сказал он, — я рад, что ты вернулся целым и невредимым с Востока, и горю желанием услышать новости. Молю, чтобы они были хорошими, Египет никогда так не нуждался в хороших новостях. — Приветствую вас, о принц, — ответил я, преклонив колени, — я и мой слуга вернулись невредимыми, но, что касается наших новостей, вам судить о них. Я вытащил из складок одежды письмо Великого царя, склонил голову и передал ему свиток. — Я вижу, ты приобрел восточные привычки, Шабака, — заметил принц, принимая свиток. — Но это мой дом, который когда-то был дворцом наших предков, фараонов Египта, и твое возвращение отменяет эти привычки. Да будет так, — добавил он горько. — Я не могу выносить того, что передо мной лежит письмо чужеземного царя как знак подчинения моей державы. Он разорвал шелковые нитки печатей и прочитал письмо. Его лицо чернело от гнева по мере чтения. — Что?! — закричал он, отбрасывая письмо и наступая на него. — Эта восточная собака приказывает мне отправить мою племянницу, царскую принцессу по крови, чтобы она стала его игрушкой, пока он не замучает ее до смерти? Сначала я задушу ее собственными руками. Как случилось так, Шабака, что ты привез мне такое письмо? Если бы я был фараоном, ты заплатил бы своей жизнью за это. — Я заплатил бы своей жизнью, если бы не привез его, о, принц, и я привез письмо, потому что вынужден был сделать это. Кроме того, копия письма, я полагаю, отправлена Идернесу, наместнику Саиса. Лучше смотреть в лицо правде, принц, но я думаю, что тебе я буду более полезен живой, чем мертвый. Если ты не хочешь отправлять благородную Амаду царю, выдай еезамуж за кого-нибудь другого, и после этого царь никогда не получит ее. Он бросил на меня проницательный взгляд и сказал: — За кого? Я не могу жениться на ней, потому что я ее дядя и уже женат. Ты имеешь в виду себя, Шабака? — Принц, я любил благородную Амаду с детства, — ответил я отважно. — И во мне течет голубая кровь, кроме того, я привез с Востока много золота, я снова богат и готов воевать. — Ты привез золото с Востока? Как? Ладно, потом расскажешь мне об этом. Но ты летаешь высоко. Ты, знатный человек из Египта, хочешь жениться на царской особе, потому что она такова по крови и по рождению. А это, если Египет вновь обретет свободу, даст тебе некоторые права на трон. — Мне не нужен ваш трон, принц. Если бы у меня и был таковой, я с удовольствием оставил бы его вам и вашим наследникам. — Ты говоришь искренне. Но смогут ли дети Амады сказать то же самое? Сказал бы ты это, если был бы ее мужем? И сказала бы так она? Кроме того, она жрица и поклялась не выходить замуж, хотя, возможно, это препятствие и можно преодолеть, если бы она действительно захотела замуж, в чем я сомневаюсь. Может быть, ты увидишь это. Но ты голоден и устал от долгого путешествия. Пойдем пообедаем, а после этого ты расскажешь свою историю. Амада и другие будут рады услышать ее, как и я. Следуй за мной, Шабака. Мы отправились в зал для приемов меньшего размера, при этом я испытывал сладостное предчувствие от того, что увижу Амаду, и был напуган, потому что должен был рассказать всем свою историю. Мы собрались и ждали принца, отошедшего ненадолго по дороге в зал. Там мы увидели его жену, полную добродушную женщину, двух его старших дочерей и сына — юношу шестнадцати лет. Кроме того, здесь было несколько старших командиров, а за столами в нижнем зале сидели остальные домочадцы, придворные рангом пониже, их жены, а принц Пероа возвышался над ними, словно тень старого египетского двора. Принцесса и остальные поприветствовали меня и Бэса, который всегда был их любимцем. Он занял свое место у самого дальнего стола. Я тоже поприветствовал всех, оглядываясь в поисках Амады, которую так и не увидел. Однако, когда мы заняли свои места на лавках, она вошла, одетая не как жрица, а в прекрасные одежды великой госпожи Египта. У нее на голове был золотой обруч, обозначавший ее царскую кровь. Случилось так, что единственное свободное место в зале было рядом с моим. Она заняла его, еще не узнав меня, потому что была занята извинениями за свое опоздание перед принцем и принцессой, сказав, что задержалась из-за церемонии в храме. Внезапно она увидела, кто является ее соседом, и сделала вид, что хочет пересесть, но потом вдруг поменяла решение и осталась там, где была. — Приветствую тебя, брат Шабака, — сказала она, — хотя мы уже виделись сегодня. Я обрадовалась, когда подняла глаза и увидела тебя в этих странных восточных одеждах, и узнала, что ты вернулся целым и невредимым из своих долгих странствий. Я должна понести наказание за это в виде двух дополнительных молитв, потому что в такое время все мои мысли должны быть посвящены только богине. — Приветствую тебя, сестра Амада, — отвечал я, — но это должна быть ревнивая богиня, раз она недовольна тем, что ты думаешь о родственнике и друге в такое время. — Она ревнива, Шабака, потому что является царицей всех женщин и должна одна править сердцами ее сторонниц. Но расскажи мне о своих путешествиях на восток, и о том, как тебе удалось привезти такие замечательные жемчужины, если только жемчуг может быть таким крупным и прекрасным. У меня было совсем мало шансов поговорить с Амадой, потому что вступила в беседу принцесса, которая сидела рядом с ней. Она говорила с Амадой о каком-то предстоящем празднике, а сын принца, который сидел рядом со мной, обожал охоту и начал спрашивать меня об охоте на востоке. К моему сожалению, я рассказал, что застрелил там львов, и остаток вечера был мне обеспечен. Кроме того, принцесса, которая сидела напротив, очень хотела узнать, что едят знатные люди на востоке, как это приготовлено, как они сидят за столом, какова мебель в их комнатах, присутствуют ли женщины на праздниках и так далее. Поэтому случилось так, что за разговорами, едой и питьем — а я ел, потому что был очень голоден, ибо не съел ничего в доме моей матери, только выпил бокал вина — у меня было мало шансов поговорить с красавицей Амадой. Однако я чувствовал, что она тайком изучает меня, косясь уголками своих больших глаз. Или, может быть, она осматривала красный жемчуг, я не уверен… Лишь одну вещь она сообщила мне, когда был небольшой перерыв, пока чаша шла по кругу, и она подала ее мне, согласно обычаям. Вот что она сказала: — Ты выглядишь хорошо, Шабака, хотя немного устал, но гораздо более печальным, чем обычно, мне кажется. — Возможно, потому что я знаю то, что печалит меня, Амада. А ты выглядишь еще более красивой, чем обычно, если это вообще возможно. Она улыбнулась и покраснела, отвечая мне: — Восточные женщины научили тебя говорить любезности. Но не трать их на меня, я покончила с женской суетой и посвятила себя знаниям и религии — А разве знание и религия не такая же суета?.. — начал было я, когда внезапно принц подал сигнал закончить пир. В это время вся нижняя часть зала опустела, люди ушли, маленькие столы, за которыми мы ели, были унесены слугами. Нам оставили лишь кубки с вином, которые мы держали в руках, дворецкий время от времени наполнял их, смешивая воду с вином. Это напомнило мне кое о чем, и, попросив позволения, я поманил Бэса пальцем, он задержался у дверей. Я взял у него прекрасный золотой кубок, который Великий царь подарил мне. По моему приказу он завернул его в ткань и спрятал в своей одежде. Развернув ткань, я поклонился и протянул кубок принцу Пероа. — Что это за удивительная вещь? — спросил принц, закончив любоваться прекрасной ручной работой. — Шабака, это подарок, который ты привез мне от царя востока? — Это мой подарок, принц, если вы согласитесь принять его, — ответил я, добавив: — Правда, я получил его от царя востока, потому что это был его собственный кубок, который он подарил мне в обмен на некий лук, хотя и не тот, что он искал, после того как он дал слово. — Мне кажется, ты снискал его расположение, Шабака, а это больше, чем смогли сделать мы, египтяне, — воскликнул он, а затем продолжал поспешно: — Я все же благодарю тебя за твой прекрасный дар, и, от того, как ты получил его, он приобретает еще большую ценность. — Может быть, мой брат Шабака расскажет нам свою историю, — произнесла Амада, ее глаза все еще не могли оторваться от красного жемчуга, — и о том, как тебе удалось выиграть эти красивые вещички, которые ослепляют наши глаза сегодня вечером. Теперь я подумал о том, чтобы предложить ей этот жемчуг, но, помня слова матери, а также то, что принцессе может не понравиться, что другая женщина носит такие дорогие драгоценности, не сделал этого. Вместо этого я начал рассказывать мою историю, а Бэс сидел на земле рядом со мной по желанию принца, чтобы в любой момент рассказать свою. Эта история была долгой, потому что началась задолго до того, как я увидел себя в колеснице, охотясь на львов вместе с царем Египта, а я, как современный человек, который видел это зрелище, узнал об этом в первый раз. В истории сохранились подробности моего путешествия на Восток, мой приезд в царскую столицу и остальное, и нет необходимости это повторять. Затем я перешел к охоте на львов, к моей победе в пари и о том, что случилось со мной, как я был приговорен к смерти, о взвешивании Бэса и о том, как я лежал в лодке. Я заметил, что Амада побледнела и задрожала. Тут я замолчал, сказав, что Бэс знает лучше, чем я, о том, что случилось во дворце в то время, как я изнемогал в лодке, и все присутствующие принялись упрашивать Бэса, чтобы он продолжил историю. И он рассказал, причем гораздо красочнее, чем мог сделать это я, выдавая множество подробностей, чтобы перед ними возникла реальная картина, а эфиопы, надо сказать, мастерски умеют это делать. В конце концов он подошел к тому месту истории, где царь спрашивает его, видел ли он когда-либо женщину более прекрасную, чем танцовщицы, и продолжал: — О принц, я сказал Великому царю, что видел: живет в Египте женщина царской крови с глазами, подобными звездам, с волосами, как шелк, и длинными, как лошадиная грива, с телом богини, чье дыхание подобно цветам, кожа белая, как молоко, голос, как мед. Она умная, как бог Тот, и мудрость ее острая, как бритва, губы, как жемчужины, она величественна, как сам царь, пальцы ее подобны розовым бутонам в розовых раковинах, она двигается, как антилопа с грацией лебедя, плывущего по воде, — и я не помню всего остального, принц. — Возможно, так и есть, — воскликнул принц, — но что сказал на это царь? — Он спросил ее имя, принц. — И какое же имя ты дал этой удивительной женщине, которая превосходит всех богинь по красоте и очарованию, карлик? — весело спросила Амада. — Что я мог сказать, о божественная? Разве нужно это спрашивать? Какое имя я мог назвать кроме вашего, есть ли в мире другое имя, о котором сердце мужчины, исполненное правды, может говорить подобные вещи? Услышав это, я вздохнул, но не успел сказать ни слова, потому что Амада вскочила с криком: — Негодяй! Ты осмелился назвать мое имя этому царю! Тебя нужно пороть до тех пор, пока твои кости не побелеют. — За что, госпожа? Разве вы не хотите, чтобы я остался сидеть и рассказал, как эти жирные восточные неряхи восхваляют вас? Вы хотите, чтобы я проявил неуважение к вашей царской красоте? — Тебя надо выпороть, — повторила Амада, топая ногой, — дядя, я прошу тебя приказать выпороть этого плута. — Нет, нет, — сказал Пероа мрачно, — этот бедняга не нашел ничего лучшего, чем пропеть похвалу тебе в дальних землях. Не сердись на карлика, племянница. Если бы твое имя произнес Шабака, все было бы намного сложнее. Что случилось дальше, Бэс? — Только это, принц, — сказал Бэс, глядя снизу вверх и вращая глазами в своей обычной манере, когда хотел соврать. — Царь послал своих слуг, чтобы привести моего господина из лодки, чтобы он мог заверить его в том, что я говорю правду. Потому что, о, принц, эти восточные жители имеют про запас множество историй, которые они принимают за правду, о той, которая здесь, в Египте, почитается как богиня. Они не могут почитать ее, потому что она живет в сердце каждого мужчины и некоторых женщин. Все уставились на Бэса, который продолжал смотреть в потолок, а я встал, чтобы что-нибудь сказать, сам не знаю что, когда внезапно открылись двери и через них прошли с криком глашатаи: — Слушай, Пероа, принц Египта по милости Великого царя! Послание от Великого царя. Слушай и повинуйся, о Пероа, принц Египта по милости Великого царя! Пока они кричали, между ними возник человек, чьи длинные восточные одежды были испачканы дорожной пылью. Подойдя без всякого приветствия, он вытащил свиток, коснулся им своего лба, низко поклонился и протянул свиток принцу со словами: — Целуй слово. Читай слово. Повинуйся слову, слуга нашего господина, царя царей, под чьими ногами мы лишь пыль. Пероа взял свиток, изобразил, что касается им своего лба, открыл и прочитал. Пока он читал, я видел, что на его шее вздулись вены и вспыхнули глаза, но он лишь сказал: — О посланец, сегодня у меня праздник, завтра же ответ будет отправлен для передачи наместнику Идернесу. Мои слуги дадут тебе еду и ночлег. Ты можешь идти. — Пусть ответ будет дан раньше, иначе ты лишишься власти, Пероа, — нагло заявил мужчина. Он повернулся к принцу спиной и ушел, сопровождаемый глашатаем. Когда они ушли и двери закрылись, Пероа заговорил гневно: — Послушайте, как написано письмо. И он прочитал его. «От Царя царей, правителя всей земли, Пероа, одному из моих слуг в Египте. Доставьте без промедления через моего слугу Идернеса женщину по имени Амада, особу царской крови древних фараонов Египта, которая является вашей родственницей и находится под вашей охраной. Она будет в числе женщин моего дома». Все присутствующие посмотрели друг на друга, в то время как Амада словно окаменела. Она не успела ничего сказать, как Пероа продолжал: — Обратите внимание, как царь ищет ссоры со мной, хочет уничтожить меня и перемолоть Египет в ступке, содрать кожу и бросить к своим ногам. Все в порядке, Амада, ничего не бойся. Я не отправлю тебя на восток, скорее, я убью тебя своими собственными руками. Но какой ответ мы дадим? Ведь дело срочное, и от этого зависит наша жизнь. Подумайте, Идернес имеет огромную власть там, в Саисе, и, если я категорически откажусь, он нападет на нас, чего, собственно, и добивается царь, если мы не предпримем мер предосторожности. Скажите, должны ли мы сражаться или же отправиться в Верхний Египет, покинув Мемфис, и оставаться там? Казалось, советники не могли найти ответ, потому что не знали, что сказать. Однако Бэс шепнул мне на ухо: — Помните, господин, что вы владеете царской печатью. Сделайте так, чтобы ответ был направлен к Идернесу с этой печатью, и предложите подождать вас. Тогда я встал и произнес небольшую речь: — О Пероа, случилось так, что я сейчас являюсь носителем личной печати Великого царя, которой должны повиноваться все жители севера и юга, запада и востока, где бы ни всходило солнце над владениями царя. Посмотрите на нее, — и, сняв древнюю Белую печать с шеи, я протянул ее Пероа. Принц и советники посмотрели на нее. Затем практически в один голос заявили: — Да, это Белая печать, знак великих царей Востока, — и все как один склонились перед этим пугающим атрибутом высшей власти. — Шабака, мы не знаем, как Печать Печатей попала к тебе, — сказал принц, — это можно выяснить потом. По правде говоря, представляется, что это действительно древняя Печать Печатей, которая передается от отца к сыну на протяжении бесчисленного количества поколений. Царь царей носит ее на себе, и с ее помощью отдаются его личные приказы и подписываются величайшие документы государства, которые впоследствии никогда нельзя отменить. Копия этой печати изображена на его гербе. — Это так, — ответил я, — и от царя она временно перешла ко мне. Если есть какие-то сомнения, пусть принесут оттиск, который есть у всех командиров в империи, и сравнят. Один из офицеров встал и собрался пойти за оттиском, который хранился у него, но Пероа продолжал: — Если это настоящая печать, как ты можешь использовать ее в нашем нынешнем положении? — А вот как, принц, — ответил я, — я пошлю приказ с этой печатью Идернесу, чтобы он ждал носителя печати здесь, в Мемфисе. Он заподозрит ловушку и не приедет сюда, пока не соберет огромную армию. Тогда он придет, но за это время и вы, принц, сможете собрать армию. — Для этого нужно золото, Шабака, а у меня его мало. Царь царей забирает все. — У меня есть золото, принц, весом с тяжелого человека, и оно полностью в распоряжении Египта. — Я благодарю тебя, Шабака. Поверь мне, такая щедрость не останется без награды, — и он посмотрел на Амаду, опустившую глаза. — Но если мы сможем собрать армию, что тогда? — Тогда вы превратите Мемфис в неприступную крепость. Когда Идернес придет, я встречу его и, как носитель печати, отдам ему приказ отступить и распустить армию. — Но, если это произойдет, ему стоит лишь получить новый приказ от Великого царя, и он снова выступит против нас. — Нет, принц, не выступит, или выступит, но с другой армией. Когда они отступят, мы нападем на них и уничтожим. И объявим вас, принц, фараоном Египта, хотя и не знаю, что случится потом. Когда все услышали это, раздался вздох изумления. Лишь Амада прошептала: «Хорошо сказано!», а Бэс тихо хлопнул в ладоши в своей обычной эфиопской манере. — Смелый совет, — сказал Пероа, — у меня есть ночь, чтобы обдумать его. Шабака, возвращайся сюда завтра утром, через час после восхода солнца. К этому времени я смогу собрать самых мудрейших людей Египта, и мы обсудим это дело. О, вот и оттиск. Давайте рассмотрим печать. Принесли и открыли коробочку. Внутри нее лежала деревянная пластина, на которой был оттиск царской печати в воске. Ее окружали другие печати, свидетельствовавшие, что это оригинал. Кроме того, внутри лежала бумага с описанием печати. Я протянул печать царю, он сравнил ее с описанием, приложил к восковому оттиску. — Это она, — произнес он, — смотрите все. Все посмотрели и согласно кивнули. Затем царь передал печать мне, но я вернул ее со словами: — Не совсем правильно, что такое оружие, такой символ висит на шее обычного человека, ведь он может быть украден или потерян… — …Или кто-то может умереть ради него, — прервал меня Пероа. — Именно так, о принц. Поэтому возьмите его и спрячьте в самом безопасном и тайном месте во дворце, а вместе с ним — этот жемчуг, который слишком бесценен для того, чтобы хвалиться им на ночных улицах Мемфиса, пока, в самом деле… — и тут я повернулся, чтобы посмотреть на Амаду, но ее уже не было. Итак, мы отдали печать и жемчужины, их убрали в коробку с оттиском, которую унесли. Я не сожалел о том, что вижу их в последний раз, поскольку считал, что поступил мудро. Потом я пожелал принцу и его советникам спокойной ночи и отправился к дому в колеснице вместе с Бэсом. Наша дорога шла мимо каких-то больших домов, когда-то занятых командирами двора фараона, но сейчас двор лежал в руинах. Внезапно из домов выскочила группа мужчин, одетых в обычную одежду, их лица были скрыты масками с прорезями для глаз. Они схватили лошадей под уздцы до того, как мы успели что-то сделать, подскочили к нам и быстро связали нам руки. Затем высокий мужчина сказал с иностранным акцентом: — Обыщите этого командира и карлика. Возьмите у них печать на золотой цепи и нитку красного жемчуга, который они украли. Но не причиняйте им вреда. Они тщательно обыскали все складки нашей одежды, а высокий мужчина помогал им и с помощью других людей держал Бэса, который пытался сопротивляться. Они обыскали при свете луны и колесницу, но ничего не нашли. Высокий мужчина пробормотал, что я плохой командир, и по его знаку люди оставили нас и умчались во тьму. — Я мудро поступил, Бэс, что оставил кое-какие украшения во дворце, — заметил я. — Но они ничего не взяли. — Да, господин, — ответил Бэс, — хотя я забрал кое-что у них. Тогда я не понял, что значила эта фраза. — Те восточные жители, которых мы встретили возле канала, рассказали Идернесу о печати, и он приказал забрать ее. Этот высокий человек — один из тех посланников, которые приезжали вечером во дворец. — Но почему они не убили нас, Бэс? — Потому что убийство того, кто носит такую печать, — плохое дело, убийцу легко выследить и уничтожить, хотя в Мемфисе полно воров, и кто будет волноваться, если кто-нибудь из них исчезнет? Саранча или Амон, или они оба были с нами сегодня вечером. Я тоже так думал, хотя ничего и не сказал. Мы избежали смерти, но что это значило? Я понял, что печать Великого царя внушает ужас и является желанной добычей даже здесь, в Египте. Если бы она оказалась в руках Идернеса, кто знает, что он сделал бы? Провозгласил бы себя фараоном и стал бы основателем независимой династии. Возможно, почему нет, если империя востока истощена многочисленными войнами? И почему Пероа не сделал так? Тот, за спиной которого было все древнее царство, страдавшее от несправедливостей и иностранного правления? Той же ночью, перед тем как лечь спать, мы с Бэсом спрятали мешки с золотом, закопав их под глиняной дверью. Я обо всем рассказал моей матери, которая была очень мудрой женщиной. Она выслушала меня, задала несколько вопросов, а потом сказала: — Это очень опасное дело, и я не могу говорить о том, как все закончится, пока не услышу совета твоего великого дяди, святого Танофера. Дела могут зайти так далеко, что решимость, как мне кажется, будет лучшим выходом, потому что Великий царь ведет войну с Грецией, и, что бы он ни говорил, он еще долго окажется не в состоянии напасть на Египет. Таким образом, если принц Пероа победит Идернеса и его армию, он сможет сам провозгласить себя фараоном и освободить Египет хотя бы на время. — Я тоже так думаю, мама. — Не об этом ты думаешь, сын, — ответила она, смеясь, — ты больше думаешь о прекрасной Амаде, чем о высокой политике, во всяком случае, сегодня ночью. Хорошо, женись на Амаде, если ты сможешь, хотя я недостаточно уверена в женщине, которая посвятила себя учению и слишком много думает о своей душе. В конце концов, если ты женишься на ней и Египет станет свободным, как это было на протяжении тысяч лет, ты станешь следующим претендентом на трон, будучи мужем великой царицы. — Как это может быть, мама, если у Пероа есть сын? — Самовлюбленная юность не более чем детская погремушка. Если Амада перестанет думать о своей душе, она начнет думать о своем троне, особенно если у нее будут дети. Но это все далекое будущее, а сейчас я рада, что ни она, ни воры не получили те жемчужины, хотя, возможно, здесь они были бы в большей безопасности, чем там, где они сейчас. А теперь, мой сын, иди отдыхать, тебе сейчас это нужно, не думай ни о чем, даже об Амаде, которая, со своей стороны, будет мечтать об Исиде, вот и все. Я разбужу тебя до рассвета. Итак, я ушел, потому что слишком устал для дальнейших разговоров. Я спал, как крокодил на солнце, и, как мне показалось, проспал всего несколько минут, потому что увидел свою мать, которая склонилась надо мной, говоря, что пора вставать. Я поднялся, правда, неохотно, но силы мои были восстановлены, умылся, оделся, к этому времени солнце уже начало всходить. Я немного поел, позвал Бэса и приготовился отправиться во дворец. — Мой сын, — сказала моя мать, благородная Тиу, перед тем как мы расстались, — пока ты спал, я думала, поскольку это удел стариков. Пероа, твой дядя, будет очень рад использовать тебя, но он не сильно любит тебя, потому что ревнует и боится, что ты можешь стать его соперником в будущем. Но он честный человек и сделает то, что обещал. Мне кажется, что превыше всего на земле ты любишь Амаду, которой посвятил себя с самого детства. Но она всегда играла тобой и говорила на расстоянии вытянутой руки. Но жизнь коротка, и никто не знает, когда она закончится, и ты знаешь об этом лучше, чем любой другой человек, ибо опасности соседствуют с тобой всю жизнь. Это правильно, что мужчина должен получать то, что хочет, даже если потом выяснится, что найденная им роза полна шипов. Ведь в таком случае ему придется нюхать розу, а не только смотреть на нее, и долго нюхать. Следовательно, перед тем как ты заберешь золото и направишь свою сноровку и силу на службу принцу Пероа, заключи с ним сделку. А именно: если тебе удастся спасти Амаду от царского гарема и помочь посадить на трон Пероа, он должен пообещать ее тебе, освободив от службы Исиде, и в качестве приданого ты отдашь ей красный жемчуг, который стоит целого царства. Таким образом, у тебя будет роза, которая долго не завянет, и если ты уколешься ее шипами, не вини меня. Однажды ты можешь стать царем или рабом — один Бог знает, что будет. Я засмеялся и сказал, что приму ее совет, потому что мечтаю об Амаде и больше ни о ком. Что касается шипов, то я не обращал на них внимания, поскольку знал, что мать очень меня любит и ревнует к Амаде, которая, как ей казалось, может занять ее место.Глава 10
ШАБАКА КЛЯНЕТСЯ В ВЕРНОСТИ
Мы с Бэсом во всеоружии направились ко дворцу, держась середины дороги, но солнце уже стояло высоко, и разбойников простыл и след. У ворот посыльный окликнул меня, чтобы я один предстал перед высокой особой Пероа, пожелавшим, как он сказал, переговорить со мной до заседания совета. — Слыхал я, на тебя напали прошлой ночью, — молвил он, приветствовав меня. Я ответил, что так оно и есть, и рассказал, как было дело, прибавив, что, к счастью, припрятал Белую печать с жемчужинами в надежном месте, поскольку вероятные грабители с Востока наверняка попытались бы их заполучить. — Ах, жемчужины! — сказал он. — Один из тех, кто держал их в руках, потому как торговал драгоценными камнями, уверяет, будто они бесценны и бесподобны и что он в жизни не видывал ничего, что могло бы сравниться даже с самой мелкой из них. Я ответил, что, по моему разумению, это правда. Потом он спросил, какова цена золота, о котором я говорил. И я сказал, назвав огромную сумму, потому как золото в Египте — большая редкость. Глаза его полыхнули, ибо он нуждался в деньгах, чтобы платить воинам. — И все это ты готов отдать мне, Шабака? Тут я вспомнил слова моей матушки и ответил: — Да, властитель, но за достойную цену. — Какую же, Шабака? — В обмен на руку царственной Амады, освобожденной от ее обетов. Я же, помимо всего прочего, передам ей жемчужины в качестве приданого, а к твоим услугам предоставлю свой меч и знания, обретенные мною на Востоке, и дам клятву стоять за тебя или погибнуть вместе с тобой. — Так я и знал, Шабака. Что ж, в этом мире ничто не дается даром, и предложение твое справедливое. Ты знатного рода, как и я, ты храбр и мудр. К тому же Амада пока еще не приняла вечного обета, так что верховные жрецы могут избавить ее от верного служения богине и сыну ее Гору или от чего там еще, ведь я не разбираюсь в этих таинствах. Но, Шабака, даже если судьба и будет благоволить нам и я стану первым фараоном новой египетской династии, тот, кто женат на принцессе-цесаревне чистой крови, может стать угрозой и престолу моему, и роду. — Это буду не я, властитель, ибо я доволен своим положением и тем, что могу служить тебе. — И моему сыну, Шабака? Сам знаешь, у меня лишь один законный сын. — И твоему сыну, властитель. — Ты честен, Шабака, и я верю тебе. А как насчет твоих сыновей, если они у тебя будут, и как насчет самой Амады? Что ж, великие свершения требуют решимости, и мне нужно золото, а что до остального, чего я не могу взять даром, ты сам завоюешь умением своим и храбростью, и все это будет твое. Ты не сказал нам, как добыл печать, ну да теперь не время. Пероа ненадолго задумался и, пройдясь взад вперед по зале, продолжал: — Я принимаю твое предложение, Шабака, насколько это возможно. — Насколько возможно, властитель? — Да, я могу выдать за тебя Амаду и устроить вашу женитьбу так, чтобы все было честь по чести, но только при условии, что сама Амада будет на то согласна. Никто не может нарушить волю совершеннолетней египетской принцессы-цесаревны, кроме ее отца, царствующего фараона, а я ей не отец — всего лишь опекун. Но, ежели она не пойдет за тебя, готов ли ты исполнить уговор, кроме того, что касается жемчужин, и попытаться завоевать сердце Амады так, как подобает мужчине, желающему добиться благорасположения женщины, при том что я со своей стороны обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы помочь тебе в твоем деле? Теперь настал мой черед задуматься. Чем я рисковал? Золотом, да, может, жемчужинами, и только: ведь в любом случае мне предстояло сражаться на стороне Пероа с ненавистным восточным царем, а значит — во славу Египта. Богатства же достались мне по случаю, и, коли я лишусь их по воле того же случая, что с того? К тому же я не из тех, кто будет добиваться руки и сердца женщины, как бы я ее ни боготворил, ежели она даст мне от ворот поворот. Сумею снискать взаимность с ее стороны — отлично. А нет, так и поделом мне — никаким иным образом искать ее любви я не желал. В конце концов, я полагал, и не без основания, что она благоволила ко мне больше, чем к любому другому мужчине, и, если бы не чувство, которое моя матушка называла душевным томлением, она была бы моей еще до того, как я отправился на Восток. В самом деле, однажды она сама мне это сказала, и в ту последнюю ночь было в ее глазах нечто такое, что говорило: да, в глубине души она любит меня, вот только как страстно, я не знал. Так что, не мудрствуя лукаво, я ответил: — Понятно, я согласен. Золото переправят тебе нынче же, властитель. Жемчужины уже у тебя, и ты храни их до поры. — Хорошо! — воскликнул Пероа. — Тогда давай немедля скрепим наш уговор подписями, чтобы впредь ни один из нас не был в претензии к другому. С этими словами он послал за тайным писцом и изложил ему коротко и ясно суть нашей сделки, ничего не прибавив и не убавив. С этого папирусного свитка сделали три копии: одну взял Пероа, другую — я, а третью, по обычаю, передали на хранение в архив при храме Птаха[352]. Покончив со всем, мы с Пероа обнялись и, поклявшись в верности друг другу именем Амона, отправились отобедать в трапезную, где дожидались те, кого созвал властитель. Всего же там собралось десятка три именитых граждан Мемфиса и окрестных землевладельцев, которых созвали вечером. Были среди них старцы, помнившие те времена, когда Египтом правил собственный фараон, прежде чем оказаться под пятой Востока, — те, в чьих жилах текла благородная кровь. Были там и купцы, торговавшие со всеми городами Египта, и потомственные военачальники с флотоводцами; и греческие командиры наймитов, состоящих на службе у Царя царей, хотя и презиравшие его, подобно всем грекам. Среди приглашенных были также верховные жрецы Птаха, Амона и Осириса и самые могущественные из местных властителей, поскольку не было ни одного селения между Фивами и разветвленным устьем Нила, где не нашлось бы верноподданных, присягнувших беззаветно служить своим богам. Таким было общество, олицетворяющее собой все, что осталось — и что можно было собрать воедино — от былого и ныне утраченного величия Египта. Когда двери были плотно закрыты и верные стражники встали рядом, чтобы их охранять, Пероа тихим и серьезным голосом изложил присутствующим суть дела. Он сказал, что царь Востока выискал новый повод для ссоры с Египтом, вознамерившись стереть его в пыль своею пятой, если к его двору, вопреки требованию, не доставят Амаду, его родную племянницу и наследную принцессу Египта, как какую-нибудь наложницу. В случае отказа он грозит послать великое войско под предлогом захватить ее силой и опустошить все земли до самых Фив. Но даже если она и будет обещана ему, он найдет другой повод для распри, и тогда в лице царственной Амады они все будут посрамлены навеки. Потом он показал присутствующим печать и сказал, что я — а многие из них знали меня по крайней мере понаслышке — привез ее с Востока, и изложил им план, предложенный мною давешним вечером. После этого он попросил у них совета, как быть, объяснив, что до полудня ему надлежит передать ответ Идернесу, царскому наместнику в Саисе[353]. Вслед за тем слово дали мне, чтобы ответить на вопросы, и я чистосердечно признался, что похитил древнюю Белую печать у царского слуги, который носил ее в знак личной царской мести тому, кто обвел его вокруг пальца. Каким образом — я умолчал. Я также рассказал присутствующим о состоянии Великой царской империи и о том, что, по слухам, царь собирается выступить войной против греков, для чего ему понадобится вся его сила, и если присутствующие желают сразиться за свободу, то время пришло. Затем начались прения, и продолжались они часа два: каждый присутствующий высказывал свое мнение в порядке старшинства, и мнения у всех были разные. Когда обсуждение закончилось и стало ясно, что мнения у всех разные — поскольку одни соглашались и дальше прозябать в рабстве, довольствуясь тем, что имели, а другие желали биться за свободу, и среди них были верховные жрецы, боявшиеся, как бы восточные иноверцы не искоренили их веру, — слово снова взял Пероа. — Старейшины Египта, — коротко начал он, — кто-то из вас считает так, а кто-то иначе, но нет никаких сомнений, что состоявшийся меж нами разговор не утаить. Он непременно дойдет до ушей лазутчиков, а через них — до Великого царя, и тогда все мы как один будем обречены. Если вы решили сидеть сложа руки, я сегодня же вместе с родней, двором и принцессой-цесаревной Амадой, и всеми, кто верен мне, отправляюсь в Верхний Египет, а оттуда, возможно, в Эфиопию, и сейчас предоставляю вам самим решать — или сдаться на милость Великого царя, как вы сами того хотите, или последовать со мной в изгнание. Царь нападет на нас, вне всякого сомнения, либо под предлогом заполучить Амаду, либо найдет какую-либо иную причину, тем более что Шабака слышал это из его собственных уст. Так что выбирайте. Затем, недолго посовещавшись шепотом, каждый из присутствующих проголосовал за восстание, хотя некоторые, как я заметил, сделали это с тяжелым сердцем, после чего все дали великую клятву стоять друг за друга до последнего. Порешив таким образом, мы написали Идернесу послание, как я и советовал давеча вечером, и скрепили его Печатью Печатей. Об отказе в передаче Амады в нем не упоминалось ни словом, зато Идернесу было наказано властью личной Белой печати властителя, которого никто не смел ослушаться, ждать скорейшего прибытия царевича Пероа в Мемфис, где он, как хранитель печати, должен был сообщить волю Великого царя. Следующий совет перенесли на час пополудни, и большинство присутствующих отправилось снаряжать гонцов, которым надлежало разнести принятое тайное послание по Египту. Однако, прежде чем они разошлись, мне было велено дождаться моего родственника, святого Танофера, известного всем в Египте величайшего кудесника, и попросить его, чтобы он обратился к своему премудрому, всеведущему Духу и узнал, что ждет нас впереди — удача или погибель. Когда почти все члены совета ушли, вызвали посланников Идернеса, а вместе с ними, вернее чуть их опередив, в залу величавой походкой вошел Бэс, за которым я перед тем послал, поскольку он не присутствовал на совете. — Хозяин, — шепнул мне он, — вон тот, самый рослый из посланников, — предводитель разбойников, которые напали на нас прошлой ночью. Погодите, я докажу. Пероа вручил свиток старшему посланнику, просив передать его наместнику в ответ на грамоту, которую тот прислал. Посланник надменно принял свиток, сунул его под мантию, обнажив порванную и стянутую узлом серебряную цепочку, и спросил, не нужно ли передать наместнику что-нибудь на словах вдобавок к написанному в свитке. Прежде чем Пероа успел ответить, Бэс поднялся и сказал: — О властитель, прошу и молю, воздай этому человеку по справедливости! Прошлой ночью он с подручными напал на меня и моего господина, намереваясь нас обобрать, но ничего не нашел и отпустил восвояси. — Ты лжешь, недоросток! — вскричал пришелец с Востока. — О, да неужели? — усмехнулся Бэс. — Ладно, сейчас поглядим, — вскинув длинную руку, он схватился за цепочку на шее у посланника и мигом сорвал ее. — Взгляни, о властитель! — сказал он. — Ты, верно, заметил прошлой ночью, когда этот человек вошел в залу, что на шее у него висела эта самая цепочка с серебряным ключом? — Заметил, — проговорил Пероа. — Тогда спроси его, о властитель, где сейчас ключ? — Тебе-то что за дело, коротышка? — прервал его верзила. — Ключ — мой знак отличия, я старший дворецкий верховного наместника. Мне что, прикажешь всегда носить его тебе в угоду? — Всегда не всегда, да только нет его у тебя, дворецкий, — возразил Бэс. — Смотри-ка, вот он, — Бэс достал из обшлага ключ, висевший на обрывке цепочки. — Послушай, о властитель, — продолжал он. — Когда я давеча сцепился с этим типом, ключ оказался у меня в левой руке, но тот тогда ничего не заметил, так ключ и попал ко мне вместе с обрывком цепочки. Сравни их и сам суди. К тому же с разбойника слетела маска, я разглядел его лицо и теперь вот признал. Пероа сложил вместе обрывки цепочки и угадал в них редкое мастерство восточного золотаря. Затем он хлопнул в ладоши, и по сигналу из-за спины у него тотчас же возникли вооруженные охранники из придворной стражи. — Все сходится, — молвил он. — Дворецкий Идернеса, оказывается, самый заурядный разбойник. Верзила попробовал было возразить, но не смог, поскольку все говорило против него. — Итак, о властитель, — спросил Бэс, — какое наказание ожидает разбойников, безжалостно нападающих на добрых путников на улицах Мемфиса, и какую кару просить мне для этого? — Отрубить правую руку да высечь плетьми, — ответствовал Пероа. Заслышав такое, дворецкий попытался улизнуть, но Бэс мигом накинулся на него, точно обезьяна на птицу, и вцепился мертвой хваткой. — Держите разбойника! — велел Пероа слугам. — Да всыпьте ему полсотни розог. А руку ему я сохраню, потому что его ждет дорога. Слуги повалили верзилу наземь и, когда принесли розги, принялись сечь его, пока на тридцатом ударе он не взмолился о пощаде, сознавшись, что именно он предводительствовал разбойниками, — Пероа тут же велел скрепить его слова письменно. Потом он спросил, зачем ему, посланцу наместника, понадобилось грабить на улицах Мемфиса, и, поскольку тот отказался отвечать, судебному исполнителю было велено пороть его дальше. После очередных трех ударов верзила сказал: — О властитель, это был не простой грабеж наживы ради. Я исполнил приказ, потому что вон у того сановника была при себе древняя Белая печать Великого царя, которую он показал кому-то из слуг наместника на берегу канала. Печать эта, о властитель, — священный знак, и она, как говорят, передается по наследству в роду Великого царя дважды в тысячу лет, а поскольку наместник не ведал, как она попала в руки благородного Шабаки, он приказал мне при случае ее заполучить. — Вместе с жемчужинами, дворецкий? — Да, о властитель, потому что цена их очень высока, и на них наместник смог бы купить себе сатрапию[354] побольше. — Отпустите его, — велел Пероа. И верзила поднялся, потираясь и стеная от боли. — Теперь, дворецкий, — продолжал Пероа, — возвращайся к своему повелителю с благодарным сердцем, ибо ты избежал того, что заслужил с лихвой. Передай, что ему нипочем не выкрасть печать, и, коли он мудр, пусть смирится, а нет, так участь его будет ужаснее твоей, да и всем его слугам скажи то же самое. Глупец, откуда мог ты или твой повелитель знать, что на уме у Великого царя или каково предназначение Печати Печатей здесь, в Египте? Поостерегись, не то все вы дружно угодите в пропасть, а Идернес падет на самое ее дно. — Поостерегусь, о властитель, — проговорил пристыженный дворецкий, — и, что бы там ни было начертано на печати, я повинуюсь, как и многие другие. — Ты благоразумен, — ответил Пероа. — Молю, чтобы и наместнику Идернесу достало благоразумия. А теперь убирайся и благодари бога, которому поклоняешься, что сохранил себе жизнь и запястье на правой руке. Дворецкий и спутники его пали ниц перед Пероа, потом униженно поклонились мне и даже Бэсу, поскольку в глубине души поверили, что нам покровительствуют несокрушимые силы Великого царя, могущие стереть их всех с лица земли, ежели на то будет наша воля. Потом они ушли — дворецкий слегка прихрамывал: от былой его спеси не осталось и следа. — Вот и отлично, — сказал Пероа чуть погодя, когда мы остались с ним наедине. — Отныне этот плут так напуган, что нагонит страху и на своего повелителя. — Да уж, — ответил я, — ловко вы все проделали, властитель. Однако нельзя терять времени, поскольку еще до следующей луны все станет известно на Востоке, а там кто его знает, что им придет на ум, — может, и новая печать появится. — Говоришь, ты похитил Белую печать? — спросил он. — Нет, властитель, на самом деле ее приобрел Бэс — некоторым образом, — и я ею воспользовался. Может, оно и к лучшему, что вы пока еще не все знаете. — Может, и так, — ответил он. И мы расстались, потому как у него было много дел. Пополудни совет собрался снова. Я передал им золото, и с его помощью все было улажено. Через неделю в Мемфис должна была прибыть посуху тысяча вооруженных воинов, а по Нилу — сотня кораблей с экипажами; кроме того, в Верхнем Египте собиралось огромное войско, большей частью под водительством греков, весьма искусных в военном деле. Греческие города в устье Нила также собирались присоединиться к восстанию, о чем объявили некоторые их граждане, потому что они всем сердцем презирали Великого царя и страстно желали высвободиться из-под его ярма. Что касается меня, то мне поручили командовать личной охраной Пероа, в числе которой было немало греков, а кроме того, я получил чин полководца; что же до Бэса, ему, по моей просьбе, были дарованы привилегии почетного гражданина, и он принял их с улыбкой — он, который у себя на родине был царем. Наконец, после того как все приготовления были завершены, я вышел в дворцовый сад отдохнуть перед дорогой в пустыню, где должен был встретиться с моим двоюродным дедом, святым Танофером. Я был один — Бэс пошел за лошадьми, на которых нам предстояло отправиться в путь, — и, усевшись под пальмой, принялся размышлять о великом приключении, на поиски которого мы пустились с легким сердцем: ведь я так любил приключения. Потом я вспомнил об Амаде, на которой не успел жениться. И вдруг — нате вам, она сама предстала передо мной, без свиты, в тунике — но не жрицы, а знатной египетской дамы — и с подобающей ее титулу маленькой диадемой в волосах. Я встал, поклонился, и, когда мы пошли вместе прогуляться под сенью пальм, почувствовал, как у меня забилось сердце, потому что я понимал: пришел мой час объясниться. Но первой заговорила она: — Слыхала я, Шабака, будто ты затеваешь великие козни во благо Египта. — Египта и тебя, ведь ты и есть Египет, — ответил я. — Стало быть, брат, я смогу вернуть себе и былое положение, и титул, которые мне подобают, ведь сейчас я самая обыкновенная простолюдинка. — Притом вернешь навсегда, Амада, и да поможет мне в этом мой меч. — Брат, а как же обещания, которые ты дал моему дяде Пероа и его сыну? — Да, я им тоже дал обет, Амада, и сдержу его. Но боги превыше всего, и кто знает, какова будет их воля? — Да, брат, боги превыше всего, и только им мы можем доверяться в таких делах, стараясь никоим образом не прогневать их нарушением наших обетов. Какое-то время мы шли молча. Потом я заговорил снова: — Амада, есть вещи поважнее всех престолов на свете. — Да, брат, и знаменуют они крах всех престолов, как, например, смерть, которую мы будто сами ищем. — Но они же, Амада, дают и начало всем престолам, как, например, любовь, которую я ищу в твоем сердце. — Мне это давно известно, — сказала она, серьезно посмотрев на меня, — и я благодарна тебе, ведь ты значишь для меня больше, чем любой другой мужчина, и так было, есть и будет. Но, Шабака, я жрица и обречена угождать богине, которой служу, а несмертному. — Твоя богиня, Амада, была замужем и родила сына, отомстившего потом за своего отца, как и мы, надеюсь, отомстим за Египет. Поэтому она благоволит женам и матерям. К тому же ты еще не приняла вечных обетов и можешь быть избавлена от них. — Пожалуй, — тихо проговорила она. — В таком случае, Амада, может, ты доверишься моим заботам? — Конечно, Шабака, хотя сам знаешь, я только и помышляю о том, чтобы постичь Богиню неба и служить ей. Сердце мое взывает к тебе — правда, оно зовет меня денно и нощно, да так громко, что не передать словами, а я все не откликаюсь на его зов; однако не мне одной это решать. Египет тоже взывает ко мне с тех пор, как однажды во время бдения в святилище мне привиделось, будто ты единственный, кто может его освободить, и я думаю, видение это снизошло на меня свыше. Так что я согласна, но только не сейчас. — Не сейчас… — в смятении проговорил я. — А когда? — Когда я буду свободна от обетов, а это должно произойти в ночь новолуния, то есть через двадцать семь дней. Потом, если за этот срок меж нами не возникнет никаких препятствий, будет объявлено, что принцесса-цесаревна Египта выходит замуж за благородного Шабаку. — Двадцать семь дней! За этот срок, Амада, всякое может случиться. Да и что может нам воспрепятствовать кроме смерти? — Я знаю лишь то, Шабака, что небытие темнее полуночного мрака. — Мне ли этого не знать, — ответил я. Мы стояли на прогалине в лучах солнечного света. Когда я произнес последние слова, ветром колыхнуло пальмы, и тень одной упала прямо на меня, что Амада не преминула заметить. — Кое-кто мог бы принять это за знамение, — с легкой улыбкой молвила она, показывая на край тени. — Ох, Шабака, если б ты признался, что бы там ни было, и сказал правду, я бы все простила. Может, во время твоих странствий по Востоку… — Ничего, ничего не было! — радостно воскликнул я, тем более что за все это время я почти ничего не сказал юной деве. — Я счастлива, что на Востоке с тобой не случилось ничего такого, что могло бы нас разлучить, Шабака, хотя, право же, я имела в виду совсем не то, о чем ты подумал, ведь на свете помимо женщин есть много чего другого. Только странно, что ты вернулся в Египет с кучей бесценных даров от злейшего врага египтян. — Но разве я не говорил тебе, что интересы родины для меня превыше моих собственных? Те дары — выигрыш в честном споре, Амада, и эту историю ты слышала прошлой ночью. К тому же сама знаешь, какой цели они послужат, — с негодованием возразил я. — Да, теперь знаю наверняка. Не сердись, Шабака, ведь я люблю тебя всем сердцем и надеюсь скоро называть тебя моим мужем. А пока не бери в голову, если я немного сторонюсь тебя, ведь тебе еще предстоит отрешиться от прошлого и приготовиться к встрече с будущим, о котором я и не мечтала. Напоследок Амада подала мне руку, и я ее поцеловал: покуда она все еще была жрицей, ее уста не могли прикоснуться к моим. В следующее мгновение она со счастливой улыбкой ускользнула прочь, и я снова остался в саду один. Только сейчас я впервые задумался о предостережениях Бэса — вспомнил, что это я, а не он назвал Великому царю имя прекраснейшей египтянки, причем без всякой задней мысли. А когда вспомнил, тут же почувствовал, как вокруг меня сгустились все тени земные. Я думал разыскать ее, а она упорхнула — растворилась в стенах огромного дворца. Ладно, решил я, в следующий раз, когда мы останемся с нею наедине, я расскажу ей все как есть — объясню, что к чему, и с этой мыслью успокоился, но откуда мне было знать, что пройдет еще немало дней, прежде чем мы будем неразлучны. И я отправился домой поделиться с матушкой моей радостью, потому что, сказать по правде, не было во всем Египте человека счастливее меня. Матушка выслушала меня, а после с едва уловимой улыбкой сказала: — Когда отец твой пожелал взять меня в жены, Шабака, он не руку мне целовал, хотя в моих жилах, сам знаешь, тоже течет царская кровь. Но, с другой стороны, я не была жрицей Исиды, так что не сомневаюсь — все будет хорошо. Только за двадцать семь дней много чего может случиться, ведь то же самое ты сказал и Амаде. Однако интересно, почему она… Впрочем, не важно, ибо жрицы совсем не похожи на других женщин, помышляющих только о мужчине, которого они покорили, и больше ни о чем на свете. Да благословят тебя боги вместе со мной, сынок, — и она ушла хлопотать по хозяйству.По дороге в Секеру — к святому Таноферу — я поведал обо всем Бэсу, прибавив, что по забывчивости не сказал раньше, что это я назвал царю имя Амады, но собирался признаться в ближайшее же время. Бэс вытаращил на меня глаза и ответил: — На вашем месте, господин, если б я что и позабыл, то вспоминать бы не стал, потому как бывает, что сейчас хочется в чем-то признаться, а через час уже нет. Зачем вообще выкладывать начистоту то, что женщине тяжело объяснить, какой бы мудрой и благородной она ни была? Я уже сказал, что сам назвал ее имя царю, а вас сняли с лодки только затем, чтобы подтвердить мою правоту. Разве этого недостаточно? Пока я обдумывал его слова, он продолжал: — Вы, верно, помните, господин, что, когда я рассказал, ну… все как было, благородная Амада велела выпороть меня до крови. Теперь же, если вы расскажете, как все было на самом деле, поставив под сомнение мою честность, словно чистоту серебряной монеты, она и вовсе сотрет меня в порошок как лжеца, а о том, что ждет вас, я и знать не хочу. К тому же, господин, я больше не раб, а гражданин Египта, не говоря уже о том, кто я есть на самом деле, а посему у меня нет ни малейшего желания вкусить плетей от руки, которую я даже не смею поцеловать, в отличие от вас. — Но, Бэс, — заметил я, — правда все равно откроется, рано или поздно. — Господин, если б правда всегда открывалась, земля уже давно бы разверзлась или, по крайней мере, на ней не осталось бы ни одной живой души. Да и зачем открывать правду? Ее знаем только мы с вами, не считая Великого царя, который, наверно, уже все забыл, потому как был пьян. Эх, господин, когда у вас нет ни лука, ни стрел, глупо пинать в живот спящего льва, поскольку он тут же вспомнит, что голоден, и проглотит вас за милую душу. Кроме того, рассказывая вам ту историю первый раз, я оплошал. На самом деле я тогда сказал Великому царю, как теперь отчетливо припоминаю, что благородную красавицу зовут Амадой, и он послал за вами лишь для того, чтобы удостовериться, что я не вру. — Бэс, — воскликнул я, — с какой же легкостью вы, поклонники Саранчи, рядитесь в тогу добродетели! — Так же легко, как в сандалии, господин, вернее, не совсем, поскольку Саранче они ни к чему. Мы издревле приглядывались к тем, кто поклоняется египетским богам, и научились у них… — Чему же? — Среди прочего, господин, тому, что женщина, если она скромница, приходит в смущение при виде голой Истины.
Глава 11
СВЯТОЙ ТАНОФЕР
Мы въехали в Город гробниц, как еще называют Секеру. Там, посреди защищенных башнями пирамид, скрывающих бренные останки древних, позабытых царей, и среди занесенных песками пустыни улиц со множеством памятников, не было ни единой живой души, за исключением одного-двух жрецов, спешащих на доходную службу в поминальные храмы. Бэс оглянулся кругом и фыркнул, выпустив воздух из широких ноздрей. — Неужели, господин, смерть такая уж большая редкость на свете, — спросил он, — что живым угодно превозносить ее подобным образом, смакуя на кончике языка, словно лакомство, которое они не торопятся проглотить, поскольку уж больно оно вкусное? Ох, и к чему такие траты? Все они жили в свое удовольствие, но им и теперь подавай роскошные палаты, пирамиды да усыпальницы, где не зазорно почить вечным сном, хотя, если б они верили в то, что исповедовали при жизни, им следовало бы предать свой прах земле, дабы накормить ее так же, как когда-то она кормила их, а души свои отпустить на небеса. — Но разве твой народ поступает иначе, Бэс? — Большей частью точно так же, господин. Наших усопших царей и сановников мы замуровываем в хрустальные колонны, и делаем это с двойной целью. Во-первых — чтобы колонны служили оплотом величия их преемников, а во-вторых — чтобы наследники их богатств радовались, видя, сколь прекрасны они в сравнении с теми, кто был до них. А поскольку мумия выглядит не очень приглядно, господин, по крайней мере, если ее распеленать, наших царей мы замуровываем в хрусталь нагими. — А как с остальными, Бэс? — Их тела предаются земле или воде, а души Саранча уносит — куда бы вы думали, господин? — Не знаю, Бэс. — То-то, господин, и никто не знает, кроме царственной Амады да, быть может, святого Танофера. А вот, сдается мне, и проход в его прибежище, — с этими словами он припустил своего жеребца к проему, напоминавшему вход в гробницу. Нас, по-видимому, ждали, поскольку возникшая в дверном проеме высокая, с гордой осанкой, черноглазая девушка в белом мягким голосом спросила, не мы ли доблестный Шабака и Бэс, его раб. — Я Шабака, — был мой ответ, — а это Бэс, да только он не раб, но вольный египтянин. Девушка воззрилась на карлика своими большими глазами и проговорила: — При прочих равных, я думаю. — Каких таких равных? — полюбопытствовал Бэс, уставившись на красавицу. — Храбрейший из храбрых и светлейший из умов, а с ним тот, кто, возможно, выше, чем кажется. — Кто тебе сказывал про меня? — с тревогой воскликнул Бэс. — Никто, о Бэс. По крайней мере я такого не помню. — Не помнишь! Тогда кто ты такая, чтобы знать то, чего не знаешь? — Меня зовут Карема, дочь пустыни, я служу Чашей святому Таноферу. — Уж коли отшельники пьют из такой чаши, я и сам готов стать отшельником, — рассмеявшись, сказал Бэс. — Но как женщина может служить чашей мужчине и что за вино вкушает он из нее? — Вино мудрости, о Бэс, — ответила она, слегка зардевшись, поскольку, как и большинство арабов с благородной кровью, ее легко бросало в краску. — Вино мудрости, — вторил Бэс. — Из таких чаш многие вкушают вино скудоумия, а то и безумства. — Святой Танофер ждет вас, — прервала его она и, развернувшись, вошла в проем. Чуть дальше — вниз по проходу — виднелась ниша, где помещались три зажженные лампы. Одну из них она оставила себе, а две другие передала нам. И мы двинулись следом за нею вниз по длинной, крутой лестнице, пока наконец не оказались в большом душном зале, вырубленном прямо в скале, где царил кромешный мрак. — Что это за место? — испуганно пробормотал Бэс. Хотя говорил он почти шепотом, наша проводница расслышала его и, повернувшись, ответила: — Здесь погребен бык Апис[355]. Глядите, вот он лежит, его еще не успели замуровать, — и, подняв лампу повыше, она осветила огромный саркофаг из черного гранита, помещавшийся в нише мавзолея. — Выходит, они делают мумии не только из людей, но и из быков, — ворчал Бэс. — Ах, ну что за страна! Однако ж со святым Танофером я виделся последний раз в кирпичной келье под сводом небес. — Наверняка это было ночью, о Бэс, — ответила Карема, — потому что в том пристанище он только спит, а дни проводит в гробнице Аписа, поскольку все зло творится под солнцем. — Неужели! — проговорил Бэс. — А я-то думал, оно большей частью вершится под луной, хотя святому Таноферу виднее, иначе не спал бы. Здесь же перед каждой замурованной нишей располагалось по маленькой молельне — у четвертой, откуда исходил свет, девушка остановилась и молвила: — Входите! Здесь и живет святой Танофер. В молодости он служил этому богу, когда тот был еще жив, а теперь, когда тот мертв, он поклоняется его праху. — Поклоняется мертвому быку во тьме? Ну и ну! Уж лучше поклоняться Саранче на свету, все веселей, — пробормотал Бэс. — О, карлик, — послышался громкий низкий голос из молельни, — не смей судить о том, чего не знаешь. Я поклоняюсь вовсе не праху мертвого быка, как ты полагаешь в неведении своем, а духу, который обитал в этом священном животном, всего лишь одном из плотских символов, и тебе, пришедшему в это обиталище призраков, не пристало его оскорблять. И тут я в кои-то веки увидел, как испугался Бэс: у него разом отвисла массивная челюсть, а сам он задрожал как лист. — Господин, — обратился ко мне он, — когда в следующий раз вздумаете наведаться в гробницы с девами, умеющими заглядывать к тебе в душу, и отшельниками, читающими любую твою мысль, прошу, бросьте меня снаружи. Я почитаю святого Танофера, но только издали, не у него дома, в его… — тут он глянул на Карему, наблюдавшую за ним с милой улыбкой поверх пламенеющей лампы, и прибавил: — А то, господин, я чувствую себя здесь не в своей тарелке. Врать и то не могу. — Прекратите там молоть вздор, о, Шабака и Бэс, и входите! — раздался громкий голос из молельни. Мы вошли — и увидели престранное зрелище. У подпорной стены молельни, озаренной светом ламп, возвышалась высеченная из алебастра в натуральную величину статуя Маат, богини Истины и Правопорядка. Голову ее, покрытую искусственными волосами наподобие парика, венчало перо, шею обвивало ожерелье из лазурита, а на локтях и запястьях сверкали золотые браслеты. Тело плотно облегала туника. В правой руке, опущенной вдоль туловища, она держала Крест жизни, а в вытянутой левой — продолговатый скипетр с набалдашником в форме лотоса; раскрашенные глаза смотрели во тьму. На земле, у подножия статуи, сидел, сгорбившись, в позе писца, мой двоюродный дед Танофер, глубокий старец, длиннорукий, с незрячими глазами, до того тощий, что в пламени ламп просвечивал насквозь. Голова — выбритая, борода — длинная и седая, такая же белая, как и его хламида. Перед ним стоял низенький алтарь, на нем — неглубокая серебряная чаша с чистой водой, а по обе стороны от нее — по горящему светильнику. Мы опустились перед ним на колени, вернее, только я, поскольку Бэс пал ниц. — Я ли не Царь царей, которого вы так давно навещали, что не преминули пасть ниц предо мной? — изрек Танофер громовым голосом, казавшимся неестественным, поскольку исходил он от хилого, ветхого старца. — Или вы пришли поклониться богине Истины, что стоит рядом? Коли так, прекрасно, ибо одному из вас, если не обоим, ох как нужна и милость ее, и помощь. А может, вы пришли воздать молитвы спящему быку, что держит весь мир на своих рогах? Или мраку этого святого места, которое напоминает вам о том, что смерть близка и готова впиться когтями вам в горло? — Нет, дядюшка, — сказал я, — мы здесь, чтобы поклониться тебе, и только, ибо вы с лихвой заслуживаете нашего почтения, если вспомнить, что именно вы, по обоюдному нашему мнению, вырвали нас там, на Востоке, из когтей смерти, о которой только что упомянули, а вернее, львов, избавив от жестокой, мучительной гибели. — Может, и я, а может, боги, ведь я всего лишь их оружие. По крайней мере, помнится, я отправил вам какие-то послания в ответ на мольбу о помощи, дошедшую до меня в здешнем мраке. Знайте же, с тех пор как мы расстались, я совсем ослеп и отныне принужден читать глазами этой девушки все, что написано в моей волшебной чаше. Зато теперь мне проще сносить мрак этого склепа и готовиться к встрече с вечной тьмой, что ждет меня впереди. Подойди ближе, племянник, поцелуй меня в лоб и помни, покуда пребываешь в силе: придет день, и станешь ты таким же, как я, если боги будут хранить тебя так же долго. И я поцеловал его, хотя было страшновато: уж больно чудным казался мне старик. Потом он отослал Карему из святилища и попросил меня рассказать мою историю, что я и сделал. Зачем ему это понадобилось, не могу сказать, поскольку он, похоже, и так все знал, потому что раз или два даже напоминал мне кое-какие подробности, если я что-то упускал: к примеру, точные слова, которыми я назвал Великого царя в гневе своем, или каким образом меня связали в лодке. Когда я закончил, он сказал: — Стало быть, ты выдал Великому царю имя Амады, так? Что ж, никак иначе ты и не мог поступить, коль хотел сохранить свою жизнь, и винить тебя не за что. Однако, прежде чем все закончится, Шабака, не миновать тебе беды, Шабака, ибо среди многих даров, коими боги оделили женщин, недостает разума. Так что смирись, поскольку лучше попасть в беду и остаться в живых, чем избавиться от всех бед и умереть, особенно для тех, чьи дела на этом свете еще не завершены. Ты, а вернее Бэс, похитил Белую печать печатей, совсем невзрачную и простую, хотя она и не дает власти над миром. И ты правильно сделал, поскольку она пригодится, пусть на какое-то время. Пероа решился восстать против царя, и это тоже правильно. О, только не трудись объяснять мне, что к чему, я и так все знаю. Но что тебе угодно услышать от меня, Шабака? — Мне велено узнать у тебя, дядюшка, чем закончатся эти великие дела. — Ты, никак, из ума выжил, Шабака, если принимаешь меня за бога, только и умеющего читать будущее. — Вовсе нет, дядюшка, ведь ты можешь, если пожелаешь. — Кликни девушку, — сказал он. Бэс вышел за нею и скоро привел. — Сядь, Карема, вот здесь, перед алтарем, и посмотри мне в глаза. Карема повиновалась — и мгновение спустя голова ее склонилась на грудь, как будто девушка погрузилась в сон. Тут он проговорил: — Очнись, женщина, посмотри на воду в чаше на алтаре и скажи, что видишь. Девушка как будто очнулась, хотя я почувствовал, что на самом деле это не так, потому что она показалась мне какой-то не такой: лицо у нее было каменное — пугающее, глаза расширились и вроде как застыли. Она уставилась в серебряную чашу и вдруг заговорила чужим голосом, словно ее языком управлял какой-то дух. — Вижу себя венценосной правительницей страны, которую ненавижу, — холодно проговорила она, к вящему моему изумлению. — Я восседаю на троне подле вон того карлика, — эти слова ввергли в изумление Бэса. — Хоть карлик и страшен с виду, он велик и благороден, хитер, как лиса, и отважен, как лев. И в жилах его течет царская кровь. Тут Бэс закатил глаза и улыбнулся, но Танофер, будто ничуть не удивившись, сказал: — Многое мне уже известно, а об остальном нетрудно догадаться. Поведай лучше о том, что ожидает Египет, прежде чем дух покинет тебя. — Египет ждет война, — ответила Карема. — Вижу побоища; Шабака ведет за собой египтян. Полчища с Востока частью изгнаны, частью перебиты. Пероа становится фараоном, я вижу его на престоле. Шабаку тоже изгоняют, я вижу, как он, повергнутый в печаль, уходит на юг с карликом и со мной. Проходит время. Вижу, как луна проплывает за луной; вижу, как к Шабаке приходят посланники от Пероа и от тебя, о святой Танофер; они сообщают, что Египет постигла беда. Вижу, как Шабака с карликом идут на север во главе великого войска чернокожих, вооруженных луками. Я ликую вместе с ними, потому что сердце мое радуется. Он подходит к храму на берегу Нила, неподалеку от того места, где стоит лагерем другое великое войско — бессчетные полчища с Востока под водительством Царя царей. Шабака с карликом дают бой чужеземцам — завязывается отчаянное побоище. Они разбивают чужеземцев, теснят их в Нил; Нил становится красным от крови. Царь царей падает замертво: стрела, пущенная Шабакой, поражает его в самое сердце. Шабака входит в храм как победитель, а там лежит Пероа — он умер или, того и гляди, испустит дух. Там же, перед священным изваянием, вижу жрицу в покрывале — лица ее не разглядеть. Шабака смотрит на нее. Она простирает к нему руки, глаза ее горят огнем любви, грудь вздымается, а на них сверху хмуро и грозно взирает изваяние. Для Танофера, повелителя духов, все кончено — ты умираешь в том же храме на берегу Нила, и теперь я больше ничего не вижу. Сила, исходящая от тебя, оставила меня. И Карема снова как будто погрузилась в сон. — Слыхали, Шабака, и ты, Бэс? — невозмутимо проговорил Танофер, поглаживая длинную седую бороду. — Впрочем, вы можете верить или не верить тому, что дева прочла в воде, воля ваша. — А ты чему веришь, о святой Танофер? — спросил я. — Из того, что она рассказала, я знаю точно лишь одно, — сказал он, избегая прямого ответа, — что я умру и что без меня у юной Каремы больше не будет видений. Что же до всего остального, почем мне знать. Такое может случиться, а может и нет. Но, — прибавил он с едва уловимой тревогой в голосе, — как бы там ни было, мой совет вам обоим — до поры держите язык за зубами. — Тогда какой ответ мне дать тем, кто послал меня к тебе за мудрым словом, о Танофер? — Можешь им передать: мудрость моя подсказывает, что в знамениях добро перемешалось со злом, и время покажет, что есть истина. А теперь тише, дева вот-вот проснется — ни к чему ее пугать. К тому же мне пора покинуть эту гробницу и переместиться туда, где я сплю, тем более что Ра, думаю, уже совсем низко, и я устал. О Шабака, и зачем тебе понадобилось заглядывать в будущее, ведь оно само откроется тебе, подобно свитку папируса? Довольствуйся настоящим и принимай все хорошее или плохое, уготовленное тебе судьбой, не пытаясь узнать, какие подношения она прячет под своей мантией, приберегая их на грядущие дни, годы и века. — Однако ж и тебе самому не терпелось все узнать, о Танофер, и недаром. — Верно, да только какой мне от этого прок? Старому, слепому отшельнику, согбенному под тяжестью лет и теребящему пальцами жалкие нити, которые я в муке и скорби выдергиваю из бахромы покрова Мудрости. Внемли же моим предостережениям, племянник! Покуда ты человек, живи по-человечески, а станешь духом, живи как дух. И не пытайся мешать одно с другим, как масло с вином, иначе лишишься и того, и другого. Я рад слышать, о Бэс, что ты намерен сделать эту девушку царской или невольничьей женой, впрочем, какая разница, тем более что я люблю ее всем сердцем и считаю, что всякий торг ее недостоин. Уж лучше пусть рожает детей, чем читает видения в волшебной чаше, а я буду молить богов, чтобы дети ее рождались не такими карликами, как ты, а походили на свою мать, которая, если верить ей, прекрасна. Но тише! Она приходит в себя. — Ты очнулась, Карема? Хорошо. Тогда выведи меня из склепа, дабы я мог предаться вечерним молитвам при звездах. Ступайте же, Шабака и Бэс, вы оба храбрецы, и я рад, что один из вас приходится мне внучатым племянником, а другой — питомцем. Мой поклон твоей матушке Тиу. Она добрая и честная женщина, и тебе пристало ее слушаться. Передавай поклон и царственной Амаде да попроси ее больше приглядываться к своему прелестному отражению в зеркале и отрешиться от излишней святости, ибо чрезмерная благочестивость зачастую бывает губительна как для самое себя, так и для нечестивой плоти. К тому же она, как и всякая женщина, любит жемчуга — разве нет? — ведь даже статуе Исиды нравится, когда ее украшают. Что же до тебя, Бэс, хотя, как я понимаю, это ненастоящее твое имя, впредь не лги, за исключением тех случаев, когда это необходимо, ибо жонглер, играющий со множеством ножей, рискует порезать себе пальцы. И еще: прекрати потчевать своего господина дурными советами касаемо женщин. А теперь прощайте! И да услышу я, что будущее благоволит вам хотя бы время от времени, Шабака, ибо ты участвуешь в великом деле, какие и мне самому были по душе до того, как я стал праведным отшельником. О, если б меня в свое время послушали, ныне в Египте все было бы по-другому. Но предначертано было иначе, тем более что писцами выступили женщины. Доброй ночи, доброй ночи, доброй ночи! Я рад, что мысль моя догнала вас там, на Востоке, и научила, что надобно говорить и делать. Порой лучше проявить мудрость ради других, а не ради себя… о, только не ради себя. — Господин, — сказал Бэс, когда мы под звездами возвращались иноходью домой, — а святой Танофер и впрямь мудрейший из мудрых, и к советам его стоит прислушаться, ведь, даже взойдя на высочайшую вершину святости, он как будто ежится от холода, который от нее исходит, и предостерегает всех, кто собирается последовать по его стопам. — К тому же он, похоже, пытался избавить тебя, Бэс, да и меня от лишних мытарств, тем более что нам с тобой нипочем не подняться так высоко. — Да уж, господин, я с радостью внемлю его совету и прижмусь пониже, поскольку мне в мои годы претит ютиться в той духотище по соседству с мертвыми быками и глядеть глазами какой-то девицы в чашу с водой, пытаясь узреть там чудеса, которые куда проще увидеть после кувшинчика-другого доброго вина. О, святой Танофер, конечно, прав! Чему суждено случиться, так тому и быть, потому что мы все равно не в силах ничего изменить, даже если будем все знать заблаговременно. Да и кто, господин, согласится знать заранее, когда ему перережут глотку? — Или когда он женится, — намекнул я. — Вот-вот, господин, поскольку такие пророчества в конце концов сбываются, и все благодаря нам, ведь мы сами прилагаем к этому руку. Стало быть, придется мне жениться на этой Кареме, если она согласится, не то святой Танофер, боюсь, и впрямь будет держать меня за лгунишку. Я рассмеялся, а потом спросил Бэса, обратил ли он внимание на то, что сказала провидица о нашем бегстве на юг и последующем возвращении с великим войском чернокожих, вооруженных луками. — Да, господин, — серьезно ответил он, — и то войско, сдается мне, будет состоять из эфиопов, чьим царем я считаю себя по праву. Нынче же ночью отряжу гонцов, чтобы передали тем, кто остался править вместо меня, что я жив и переменил свое мнение насчет женитьбы. А коли так, я вернусь к ним мудрейшим из правителей, когда-либо царствовавших в Эфиопии, ведь я немало постранствовал по свету и много чему научился. — А что, если те, кто правит вместо тебя, Бэс, не пожелают вернуть тебе престол? Что, если они захотят тебя убить? — Не бойтесь, господин, я же говорил, эфиопы умеют хранить верность. Кроме того, они знают, что за подобное злодеяние они навлекут на себя проклятие Саранчи, тогда нагрянет ее несметное воинство и опустошит их землю, а когда они останутся голодными, на них обрушатся вражьи полчища. Наконец, они народ храбрый и бесхитростный и ни за что не посмеют свергнуть с престола самого мудрого карлика на свете, хотя бы потому, господин, что для них это будет внове. Я снова рассмеялся, решив, что Бэс, по своему обыкновению, шутит. Но когда той же ночью за углом я случайно наткнулся на него и увидел, что его голову венчает диадема из перьев, а в руке он держит лук и повелительно говорит с тремя чернокожими сановниками, склонившимися перед ним как перед богом, то изменил свое мнение. Я было попятился, но он, завидев меня, сказал: — Прошу тебя, господин мой Шабака, останься! Вслед за тем он снова обратился к троим соплеменникам, переводя мне слово в слово то, что говорил им. А сказал им он вкратце нижеследующее: «Передайте правителям и советникам Древнего царства, что у меня, каруна (вероятно, это был его титул), есть друг, и величать его властитель Шабака — вот он, стоит перед вами; в который уже раз он спасает мне жизнь, вскармливая из своих рук, подобно тому, как мать вскармливает свое дитя, — он самый храбрый и мудрый на свете после меня. Передайте им, что если я действительно склонюсь к женитьбе и вернусь, исполнив закон, то буду просить сего могущественного царевича сопровождать меня, и, если он согласится, это будет самый счастливый день для эфиопов за тысячу лет, ибо он научит их мудрости и поведет их войска на великие, славные битвы. А посему пусть жрецы Саранчи молятся, чтобы он дал на то свое согласие. Так приветствуйте же могущественного властителя Шабаку, могущего пронзить насквозь одной стрелой не только вас троих, но и еще двоих у вас за спиной, и трогайтесь в путь, нигде не задерживаясь ни на день, ни на ночь, покуда не доберетесь до земли эфиопской. После того как вы передадите послание каруна военачальникам и советникам, возвращайтесь назад — или отрядите кого другого, — разыщите меня, где бы я ни был, и передайте мне часть эфиопского золота и прочие дары вместе с их ответом, памятуя, что ни я, ни властитель Шабака, у чьих ног лежит весь мир, ни за что не прибудем туда, где нас не ждут». На этом сановники приветствовали меня как самого Царя царей, после чего замели свои следы в пыли перед Бэсом, проговорили что-то, чего я не разобрал, вскочили на ноги с дружным возгласом «Карун!» и скрылись в ночи. — Хорошо побывать в шкуре раба, господин, — сказал Бэс, когда они ушли, — ибо только после этого понимаешь, что быть царем куда лучше, во всяком случае, иногда. Здесь же могу прибавить, что в течение последующих дней Бэс частенько куда-то пропадал. Когда же я допытывался, где его носит, он отвечал, будто ходил вкусить мудрости святого Танофера из серебряного сосуда, который дева Карема подносила к его устам. Из всего этого я заключил, что он искал расположения девушки, которая называла себя Чашей Танофера, хотя на мои расспросы, как продвигаются его дела, он отвечал так: «Лучше и не спрашивайте». Конечно, у меня было не так много времени, чтобы поговорить с Бэсом на столь незначительные темы, поскольку события в Мемфисе стали развиваться стремительно. В течение недели все великие правители из тех, что остались в Верхнем Египте, поклялись присоединиться к восстанию под водительством Пероа, и в город с каждым часом все прибывали их приспешники и наймиты. Моим же долгом было собрать войско, чем я и занялся без промедления, начав с того, что взялся формировать подразделения и обучать их военному искусству, — помимо всего прочего, мне предстояло наладить снабжение провиантом боевых кораблей. Вскоре пришли вести, что Идернес выдвинулся из Саиса во главе несметной силы с Востока — должно быть, всего гарнизона, размещавшегося в Нижнем Египте, а сообщили об этом его посланцы в ответ на переданный ему ультиматум, скрепленный царской Печатью Печатей. Амаду все эти дни я почти не видел: мы изредка встречались за трапезой у Пероа или на людях. Остальное же время она предпочитала обходить меня стороной. Раз или два я пытался застать ее одну, но не тут-то было: она денно и нощно предавалась служению своей богине. Однажды, после трапезы у Пероа, я шепнул ей на ухо, что хотел бы поговорить с нею. На что она покачала головой и сказала: — Дождись новолуния, Шабака. Тогда сможешь говорить со мной, сколько пожелаешь. Словом, мне так и не случилось рассказать ей о том, что произошло при дворе Великого царя. Тем не менее каждое утро она присылала мне всякие безделицы, цветы и разные подарки, а однажды я получил от нее перстень, принадлежавший, должно быть, кому-то из ее предков, поскольку в гнезде камня был выгравирован царский урей[356] вкупе с символами долголетия и здравия; этот перстень я повесил себе на шею, решив не надевать на палец, потому что боялся, как бы знаки царского достоинства не оскорбили Пероа или кого-то из его придворных, если б они ненароком их заметили. Я тоже посылал ей в ответ цветы и разные дары, а что до всего прочего, то мне оставалось только ждать своего часа. Все это моя матушка наблюдала с улыбкой, приговаривая, что царственная Амада проявляет удивительное благоразумие и всякому мужчине пристало ценить подобное поведение жены, да еще такой красавицы, тем более что оно угодно и ее покровительнице — богине Исиде. Я же на это отвечал, что как влюбленный ценю подобное поведение не столь высоко, как, несомненно, оценил бы, став мужем. В ответ матушка снова улыбалась и переводила разговор на другую тему. Так дни и шли за днями, пока однажды над Египтом не сгустились грозовые тучи. Как-то ночью мне не спалось. Было это как раз в новолуние, и я знал, что в это самое время под покровом тьмы Амада принимает избавление от своих обетов Исиде перед тайным советом жрецов в пышной, торжественной обстановке подле храмового алтаря, обретая тем самым свободу и право на замужество, как всякая женщина. Матушка моя, будучи Певицей Амона, разумеется, тоже присутствовала на церемонии — и по возвращении домой не преминула рассказать, как все прошло. Она описала, как появилась Амада, облаченная в жрицу, как она вознесла молитвы четверым верховным жрецам, восседавшим в важных позах перед нею, и как просила их освободить ее от обетов «во спасение своей души и Египта». Потом один из верховных жрецов, тот, что служит Амону и потому главенствует над всеми остальными, приблизился к статуе Исиды, прошептал ей молитву, и после недолгого затишья богиня трижды кивнула, как показалось всем присутствующим, показывая таким образом, что она согласна. Вслед за тем верховный жрец вернулся на место и на древнем наречии возгласил, что Амада освобождается от данных ею обетов «во спасение ее просящей души и Египта» с благословения и согласия богини, а в дополнение к сказанному он сообщил, что, «вняв твоей мольбе, я, дочь и мать, богиня Исида, обрываю узы, связующие меня с тобою на земле. Однако ж если ты пожелаешь восстановить их вновь, то оборвать уже не сможешь, ибо, если попытаешься, они задушат тебя, в каком бы обличье ни пребывала ты на земле, и всех в колене твоем, заодно с мужем, что выбрал тебя, и теми, кто отдаст ему тебя. Так говорит Исида, Богиня Неба». — И что это значит? — спросил я матушку. — Это значит, сынок, что, если женщина, освобожденная от обетов Исиде, примет их вновь и вновь же начнет служить этой богине, а потом вдруг опять вздумает от них отрешиться, она и человек, ради которого ей пришлось пойти на такое, попадут в паутину, точно мухи, и останутся там навсегда, не только в этой жизни, но и в других, что будут дарованы им на этом свете. — Похоже, у этой Исиды длинные руки, — заметил я. — Нет спору, сынок, притом очень длинные, ибо Исида, каким бы именем ее ни называли, всемогуща, бессмертна и ничего не забывает. — Что ж, матушка, в таком случае помнить ей ничего не придется, потому что Амада больше никогда не будет ее жрицей. — Не уверена, Шабака. Да и кто знает наверняка, что может прийти женщине на ум сейчас или потом? Что до меня, я была счастлива служить Амону, а не Исиде хоть бы и потому, что смогла выйти замуж.Глава 12
СМЕРТЬ ИДЕРНЕСА
Пока мы с матушкой вот так разговаривали, за мной прислали по срочному вызову из дворца. Я отправился туда и там, в маленькой передней встретил Амаду — она была одна и как будто ждала меня. На ней были обычная, мирская туника и знаки царского достоинства, и выглядела она распрекрасно. Больше того, изменился весь ее облик: ведь она уже была не жрицей, окутанной покровом тайн, а любимой и любящей девушкой. — Вот и свершилось, Шабака, — шепнула она. — Отныне ты мой, а я твоя. Я раскрыл ей свои объятия, она прильнула к моей груди, и я впервые поцеловал ее в губы, а потом еще и еще, и, пока целовал, — о! — сердце мое переполнялось радостью. Но каким скоротечным было наслаждение первыми плодами любви, семена которых я посеял так давно и все ждал, когда же они наконец взойдут: мы только-только соединились с моей возлюбленной, только-только принялись нашептывать друг другу разные нежные слова, как вдруг раздался голос — это звали меня, и я был вынужден оставить мою возлюбленную, даже не успев спросить, когда мы с нею поженимся. Между тем во дворце собрался совет. До него дошли вести, что наместник Идернес с десятитысячным войском стал лагерем на берегу Нила, неподалеку от великих пирамид, откуда до Мемфиса рукой подать. Кроме того, его посланцы объявили, что он намерен нынче же прибыть к царевичу Пероа всего лишь с небольшим отрядом личной охраны и выяснить все, что касается печати, а посему он просит для себя охранную грамоту от имени Великого царя, а также богов Египта и Востока. В противном же случае он без промедлений нападет на Мемфис, какие бы указы свыше он ни получил, даже если они будут скреплены печатью, ибо, пока не увидит собственными глазами, он будет считать ее подложной. Вопрос заключался в том, какой ответ ему направить. Завязался спор, долгий и нешуточный. Одни склонялись к тому, чтобы без лишних проволочек напасть на Идернеса, невзирая на то что его лагерь, как стало известно, был обнесен рвами и подступал с одной стороны к Нилу, а с противоположной его защищала возвышенность, где размещались великий сфинкс и пирамиды. Другие, и я в том числе, считали иначе, и мне казалось, что какой-то злой гений надоумил меня дать совет, благой для Египта и пагубный для моего счастья. Возможно, этим гением была Исида, недовольная утратой своей служительницы. Я заметил, что, приняв Идернеса, Пероа сможет выиграть время, дав войску в три тысячи человек, а то и больше, которое подходит к нам по Нилу, соединиться с нами до того, как ему, возможно, успеют отрезать подступы к городу, — таким образом мы сравняемся с Идернесом в силах, а может, и превзойдем его. К тому же, добавил я, мы переложим всю ответственность на себя, если, требуя от Идернеса клятвенного обещания хранить верность печати, откажемся его принять и немедленно на него нападем. Третьи ратовали за то, чтобы впустить Идернеса вместе с охраной в Мемфис, а после взять его под стражу или убить. Тут я снова заметил, что тем самым мы не только нарушим торжественную клятву и навлечем проклятие богов на наши головы, став в лице всех предателями, но и поступим безрассудно, поскольку Идернес не единственный военачальник на Востоке, и если мы убьем его вместе с охраной, то опять же мало что выиграем, потому что в таком случае пришельцы с Востока будут биться за праведное дело. В конце концов все сошлись на том, что требуемая охранная грамота будет предоставлена и что Пероа примет Идернеса в этот же день на торжественном пиру в его честь. Соответственно древнему обычаю, охранную грамоту ему отправили с условием, что он передаст с посланцами клятвенное обещание, что ни сам он, ни свита его, числом не больше двадцати человек, не будут чинить ущерб в Мемфисе и что на обратном пути наша охрана будет сопровождать его до сторожевых постов их лагеря. Вслед за тем меня в сопровождении одного только Бэса отрядили на колеснице к берегу Нила — поторопить идущие к нам войска, о которых я говорил, чтобы они подоспели к Мемфису до захода солнца. Но перед уходом я успел переговорить с Пероа один на один. Он сообщил, что о скорой моей женитьбе на царственной Амаде будет объявлено на пиру тем же вечером. Тогда я попросил его передать Амаде нить бесценных розовых жемчужин, которые оставил ему на сохранение в качестве обручального подарка, и сказать, чтобы она предстала в них на пиру, ради меня. Поговорить ни о чем другом времени не было. Путь к Нилу оказался долгим: дорогу местами занесло песком, а кое-где она утопала в грязи — после наводнения. Наконец я отыскал войска — они как раз снимались в поход после привала — и, к вящей своей радости, увидел, что воинов было больше, чем я ожидал. Я ввел командиров в курс дела, и они заверили меня, что прибудут форсированным маршем в Мемфис за два часа до полуночи. На обратном пути Бэс сказал: — А знаете, почему меня было не сыскать нынче утром? Я ответил, что понятия не имею. — Потому что хороший раб бежит на шаг впереди своего господина, чтобы проторять ему дорогу и предупреждать о ловушках. Я женился. Так что теперь Чаша святого Танофера по законному праву считается эфиопской царицей. И вы уж, когда снова увидите ее, соблаговолите обходиться с нею с большим почтением, как я. — Разумеется, Бэс, — рассмеявшись, сказал я. — Но когда же ты успел? Должно быть, усердно обхаживал ее все эти дни, а значит, мы с тобой оба не теряли время даром. — Уж не больно-то и обхаживал, господин. Хотя времени, конечно, было маловато. Зато я успел заручиться благоволением святого Танофера, а это поважнее будет. — Святого Танофера? — воскликнул я. — Да, господин. В конце концов, сами знаете, эта прекрасная Чаша принадлежит ему. Ее разум — тень его разума, к тому же из нее он черпает свою мудрость. Вот я и излил ему душу. Поначалу святой Танофер здорово разозлился, потому как, несмотря на все, что наговорил вам и мне, он оказался на поверку таким же, как все мужчины: уж больно не хотелось ему расставаться со своей Чашей. Понятно, будь он помоложе, думаю, наверняка пожертвовал бы своей святостью ради нее. Впрочем, он привык зреть в корень вещей — и все ради вас, господин, не меня, ибо мудрость подсказала ему, что я должен снова стать царем эфиопов, а для этого мне надобно жениться. Во всяком случае, он изрядно потрудился над разумом своей Чаши, внушив ей, что она должна привести себе на замену свою младшую сестрицу; поэтому, когда я все ей рассказал, она сразу согласилась. — Кто бы сомневался, Бэс, ведь она влюблена в тебя, и чужая воля здесь ни при чем. Девушка ни за что не согласилась бы выйти замуж абы за кого, лишь бы угодить святому Таноферу. — Ох, господин, — ответил он уже другим голосом, совсем безрадостным, — как мне хотелось бы думать так же! Но вы посмотрите на меня, жалкого карлика, проклятого с рождения. Разве может красавица, подобная Кареме, выйти замуж за такого, как я, ради того, чтобы осчастливить его? — Что ж, Бэс, тогда тому должны быть другие причины помимо воли святого Танофера, — скороговоркой ответил я. — Никаких других причин нет, господин, разве что Чаша, пробуждаясь, вспоминает, что содержала в себе, будучи в помраченном состоянии, но я в это не верю. Я обхаживал ее как мог и ни словом не обмолвился о том, что я тоже царь эфиопов или, по крайней мере, не самый последний человек на свете, как может показаться. Да и потом, святой Танофер не сказал ей ничего такого, в чем клятвенно меня заверил, а он слову своему хозяин. — Так что же она сказала тебе, Бэс? — полюбопытствовал я. — Она обманула меня и глазом не моргнув, господин. Сказала — впрочем, то же самое она говорила, когда мы встретились с нею в первый раз, — так вот, она сказала, что во мне есть гораздо больше, чем видит глаз, и она, долго прожившая среди духов и видящая скорее дух, чем плоть, любит меня, будь я хоть карликом, хоть кем еще, и желает выйти за меня, чтобы стать мне верной, преданной женой и спутницей жизни. Она врала мне так искусно, что раз или два я почти поверил ей. Во всяком случае, я поймал ее на слове, но вовсе не ради себя, уж поверьте, господин, а только лишь потому, что я безоговорочно верю святому Таноферу, предрекшему наше будущее, из чего явствует, что это вам нужно, чтобы я женился. — Так ты что, женишься на ней ради меня, Бэс? — Вот именно, господин. В конце концов, она такая крошка, такая красивая, благородная и славная, что мне было трудно ее не полюбить. И я не виноват, что в моем лице она обрела больше, чем ожидала, ведь, если ее дети не будут карликами, они наверняка смогут стать царями. Сомневаюсь, — задумчиво прибавил он, — что даже самые верные эфиопы захотят заполучить в цари еще одного карлика. Им и одного довольно, а о двух или трех не можетбыть и речи. Да и какой здоровяк из числа сильных мира сего захочет иметь дело с коротышкой? Я взял Бэса за руку и пожал ее, проникшись глубиной его любви ко мне и готовностью к самопожертвованию. И тогда некий дух — не иначе как ниспосланный святым Танофером — побудил меня сказать: — Утешься, Бэс, уж я точно знаю, дети твои вырастут крепкими, стройными и высокими и на голову превзойдут во всем своих пращуров. И это, безусловно, была чистая правда: ведь уродство их отцов было всего лишь несчастной случайностью, а не врожденным пороком. — Какие добрые пророческие слова, господин, благодарю, хотя святой Танофер сказал то же самое, когда нынче утром скрепил наш союз священными словами и дал нам свое благословение, оделив мою жену кое-какими дарами тайной мудрости, которая, по его заверениям, пригодится и ей, и мне. — Бэс, а где она сейчас? — Со святым Танофером, господин. Карема пробудет с ним, пока я не приведу ей на замену ее младшую сестру, чтобы она стала ему новой достойной волшебной Чашей. Да только, боюсь, случится это теперь не скоро, потому что не за горами тот день, когда нам придется пролить свою кровь. — Да уж, Бэс, поэтому было бы лучше, если б ты предоставил это право другим, ведь ты только-только женился. — Нет-нет, господин. Поле брани лучше супружеского ложа. Потом, неужто вы думаете, что я могу оставить вас сражаться в одиночку? Если я это сделаю и с вами случится беда, я умру от позора или повешусь, и Кареме уже нипочем не стать царицей. Это будет для нее двойным ударом, поскольку, выйдя замуж, она не сможет снова стать Чашей, и без меня сердце у нее разорвется от боли… Но вот уже и ворота Мемфиса, так что забудем про любовь и вспомним о ратных делах.Спустя час я и моя матушка, благородная Тиу, уже находились в дворцовой трапезной вместе со многими другими приглашенными, и нам сообщили, что наместник Идернес со своей свитой прибыл в Мемфис и соблаговолил почтить пир своим присутствием. Чуть погодя грянули трубы, и в трапезную вошла сиятельная процессия. Во главе ее шествовал Пероа и под руку он вел Идернеса. У этого важного сановника с Востока, высокого, крепко сложенного, были усталые, беспокойные глаза, свойственные, по моим наблюдениям, всем слугам Великого царя, и по сей день не знающим, что их ждет впереди — славная победа или бесславная погибель. Он был облачен в пышные шелка, голову его венчала шапочка со сверкающим спереди драгоценным камнем, а под одеждами у него я разглядел блестящую кольчугу. Войдя в залу и увидев большое число высоких гостей, взиравших на него с оживлением и ожиданием, Идернес вздрогнул — словно испугался, но, мигом совладав с собой, поспешил высказать слова признательности хозяину и направился к почетному месту за столом, которое ему указали, — оно располагалось по правую руку от властителя. За ними следовали жена Пероа с сыном и дочерьми. Затем появилась египетская принцесса-цесаревна Амада в подобающем ее рангу дивном парадном облачении. Впрочем, никаких царских регалий на ней сейчас не было — то ли потому, что негоже было ей блистать ими перед наместником, то ли потому, что теперь она считалась невестой человека, не принадлежащего к царскому роду. Действительно, как я заметил, к вящей своей радости, единственным украшением ей служила нить розовых жемчужин — сложенная вдвое, она прилегала к ее груди. Она отыскала меня глазами, улыбнулась, проведя пальцами по жемчужинам, и проследовала к своему месту рядом с дочерьми Пероа во главе стола — с одного его конца, — поставленного в форме подковы. За нею прошествовали знатные спутники Идернеса, важные вельможи с Востока. Одного из них, рослого военачальника с ястребиным взором, я как будто признал. И ошибиться я не мог, тем более что стоявший у меня за спиной Бэс, которому надлежало прислуживать мне на пиру, шепнул мне на ухо: — Гляньте-ка на того вояку! Это он был у Великого царя, когда вас привели к нему с лодки, а значит, он тогда все видел и слышал. — Лучше бы его здесь не было, — прошептал я в ответ, почувствовав, как меня вдруг пронизал невесть откуда нахлынувший страх. Мало-помалу все заняли указанные места. Мое располагалось рядом с матушкиным — за длинным столом, стоявшим поперек главного, но на некотором удалении от него, так что я оказался почти напротив Пероа и Идернеса и мог видеть Амаду, хотя она сидела слишком далеко от меня, чтобы я мог разговаривать с ней. Пир начался в гнетущей тишине, поскольку, за исключением обмена любезностями, никто не решался завести разговор. Но в конце концов вино, к которому Идернес прикладывался изрядно, равно как и его свита, в отличие от Пероа и египтян, так вот, вино развязало язык сотрапезникам, и они постепенно оживились. Однако, если подданные Великого царя не считали для себя зазорным обсуждать дела частные и государственные в хмельном угаре, египтяне, напротив, блюли при этом трезвость. О пристрастии чужеземцев к вину было хорошо известно Пероа и многим из нас, особенно мне, немало пожившему среди них, поэтому, и это было одной из причин, Идернесу и предложили встретиться на пиру, где в спорах с ним мы могли бы заручиться преимуществом. Некоторое время спустя наместник обратил внимание на дивный кубок, к которому он то и дело прикладывался, и спросил о чем-то вельможу с ястребиным взором — того самого, о котором я упомянул выше. И, когда получил ответ, громко, достаточно громко, чтобы я мог его слышать, произнес: — Скажи мне, о властитель Пероа, не принадлежал ли когда-то этот кубок Великому царю, уж очень он на него похож? — Понимаю тебя, о Идернес, — ответил Пероа. — Так и есть, но потом этот кубок стал моим, ибо его подарил мне Шабака, а он принял его в дар от Великого царя. Лицо у наместника, как и у всех из его свиты, исказилось от ужаса. — Ну конечно, — ответствовал он, — этот Шабака, должно быть, ни во что не ставит царские милости, коли запросто передает их первому встречному. По крайней мере, да не осквернят слуги Царя царей кубка, коего касались уста его. Прошу тебя, о властитель, пусть мне дадут другой кубок. После того как ему принесли другой кубок, Пероа попытался обратить все в шутку и попросил меня рассказать историю с этим кубком. Все обратились в слух, и я сказал так: — О властитель, высочайший наместник ошибается. Это был вовсе не дар Царя царей. Я приобрел у него кубок в обмен на знаменитый в некотором смысле лук и не вижу ничего зазорного в том, что передал его тебе, мой повелитель. Идернес промолчал в ответ, решив, как видно, забыть это дело. Немного погодя, однако, его взгляд упал на Амаду и жемчужины, что были на ней, и, опять обратившись с вопросом к своему военачальнику с ястребиным взором, он сказал: — Не сочти меня нелюбезным, о властитель, за то, что я не могу отвести глаз от той благородной юной красавицы, чье появление на публике у нас в стране, где женщинам не пристало показываться на людях, сочли бы за оскорбление. Но на ее прекрасной груди я вижу некие жемчужины, похожие на те, что, как известно всем на свете, издавна украшали правителей, восседающих на троне Востока. И мне было бы любопытно узнать, те ли это жемчужины или нет? — Не знаю, о Идернес, — ответствовал Пероа. — Единственное, что мне известно, так это то, что благородный Шабака привез их с Востока. Расспроси его, если это доставит тебе удовольствие. — Шабака снова… — начал было Идернес, но тут же осекся, воздержавшись от продолжения. — Да, о наместник, и снова Шабака. Я выиграл эти жемчужины на спор у Царя царей, а заодно и немного золота. Думаю, тебе это уже известно, поскольку намедни твоего посланника высекли за то, что он пытался их выкрасть, в чем он сам же и признался, сказав, что пошел на кражу не по своей воле, о наместник. Идернес ничего не смог возразить против столь смелого ответа. Однако его военачальники насупились, а многие египтяне прошептали слова одобрения. Вслед за тем пир продолжался без каких бы то ни было происшествий — восточные гости пили без устали, и так до тех пор, пока столы в конце концов не опустели и низшие рангом не покинули трапезную, за исключением дворецких и личных слуг, к числу коих относился и Бэс, — они так и стояли за спинами у своих хозяев. Тут же воцарилась тишина, подобная той, что наступает перед бурей, и в самый ее разгар Идернес заговорил с заметной вялостью в голосе: — Я прибыл сюда, о Пероа, — сказал он, — оставив кресло правителя Саиса не затем, чтобы вкушать твое мясо и вино. А для того, чтобы обсудить с тобой дела первейшей важности. — Вот именно, о наместник, — ответил Пероа. — Так чего же тебе угодно теперь? Быть может, ты желаешь обсудить их наедине со мной и моими советниками? — Есть ли в том нужда, о Пероа, тем более что я не собираюсь говорить ни о чем таком, чего не должно слышать всем? — Как будет угодно. Тогда говори, о наместник. — Я прибыл сюда, властитель Пероа, во исполнение писания, скрепленного так называемой Печатью Печатей, древней Белой печатью, издревле принадлежавшей предкам Царя царей. Так где же эта печать? — Здесь, — молвил властитель, распахивая на себе мантию. — Вот она, взгляни, наместник, и пусть твои приближенные тоже поглядят, только не вздумайте ни ты, ни кто-либо из них к ней прикоснуться. Идернес смотрел на нее долго и упорно, как и некоторые его спутники, в частности военачальник с ястребиным взором. Потом они переглянулись и, смутившись, принялись перешептываться. — Похоже, это подлинная печать, та самая Белая печать! — наконец воскликнул Идернес. — А теперь скажи, Пероа, как эта священная реликвия, которой пристало храниться на Востоке, попала в Египет? — Ее доставил мне благородный Шабака вкупе с кое-какими грамотами от Великого царя, о наместник. — Опять Шабака, уже в третий раз, клянусь Священным огнем! — вскричал Идернес. — Он привез кубок, достославные жемчужины, золото и, наконец, Печать Печатей. Чего он только не привез! Уж не стоит ли он, случаем, превыше самого Царя царей? — Ничего особенного, о наместник, всего лишь указы Царя царей за Белой печатью, и мы готовы передать их тебе, дабы ты принял их к исполнению. — Какие еще указы, египтянин? — Вот какие, о наместник. Тебе и войску твоему, что ты привел с собой, предписано вернуться в Саис и следом за тем покинуть Египет, да как можно скорее, а если ослушаетесь, то поплатитесь жизнью. Идернес и его военачальники онемели от изумления. — Это что, бунт? — вопросил он. — Нет, о наместник, всего лишь воля Царя царей, скрепленная Белой печатью, — с этими словами Пероа снял с груди свиток, поднес его ко лбу и, к прискорбию Идернеса, прибавил: — Изволь повиноваться предписанию, скрепленному печатью, не то данной мне властью, как только ты с войском своим вернешься восвояси и как только истечет срок данной тебе охранной грамоты, я обрушу на тебя весь свой гнев и сотру в пыль. Идернес огляделся кругом, как затравленный волк, и спросил: — Неужто ты задумал убить меня прямо здесь? — Никоим образом, — ответствовал Пероа, — ведь у тебя есть наша охранная грамота, а египтяне — народ великодушный. Однако ты отстраняешься от должности, и тебе велено покинуть Египет. Идернес на мгновение задумался, потом сказал: — Если я и покину Египет, то, во всяком случае, не один, ибо мне велено как устно, так и письменно, в чем вы можете не сомневаться, привезти с собой деву по имени Амада, которую Великий царь желает видеть в числе своих жен. Мне было сказано, что она сидит вон там, подобная драгоценному камню и прекрасная, как те жемчужины на ее груди, которые таким образом вернутся к своему царственному хозяину. Так отдайте же ее мне, и пусть она тотчас же отправится со мной. Тогда, нарушив повисшую в воздухе тягостную тишину, Пероа ответил: — Египетская принцесса-цесаревна Амада не может отправиться в гарем Великого царя без согласия благородного Шабаки, которому она отныне принадлежит. — Шабака, уже в четвертый раз! — проговорил Идернес, сурово глянув на меня. — Коли так, пусть Шабака тоже едет с нами. Впрочем, и одной его головы в корзине будет довольно, благо это избавит нас от дальнейших хлопот, а самого Шабаку от мучений. Да-да, теперь я припоминаю. Ведь это тот самый Шабака, которого Великий царь приговорил к смерти в лодке за злой умысел против его величества и который выторговал себе жизнь, пообещав доставить к нему самую прекрасную и самую ученую девушку на свете — египетскую принцессу-цесаревну Амаду. Так что пускай этот плут держит свое слово! Тогда я вскочил на ноги, как и большинство присутствующих. Только Амада осталась сидеть, не сводя с меня глаз. — Ты лжешь! — воскликнул я. — И я убью тебя, хоть ты и заручился охранной грамотой. — Я лгу? — презрительно усмехнулся Идернес. — Тогда скажи ты, присутствовавший при том разговоре, скажи перед этой честной компанией, лгу я или нет, — и он указал на военачальника с ястребиным взором. — Он не лжет! — проговорил тот. — Я был тогда при дворе Великого царя и слышал, как этот самый Шабака выторговал себе помилование, обязавшись через своего брата передать царю принцессу-цесаревну Амаду. В подарок ей ему были вверены жемчужины, те, что сейчас на ней. Золото, о котором здесь упоминалось, тоже было дано ему, чтобы она могла прибыть на Восток в полном парадном облачении, — по крайней мере, я так слышал. Кубок же был отдан ему в награду вместе с деньгами на личные нужды. — Это неправда! — выкрикнул я. — Имя Амады вырвалось у меня случайно, только и всего. — Вырвалось случайно, да неужели? — рассмеялся Идернес. — Тогда, коли ты мудр, то стерпишь, когда царственная Амада вырвется из твоих рук, и уже не случайно. Но оставим этого шельмеца. Властитель, так готов ли ты отдать мне эту красавицу или нет? — Нет, наместник, — ответил Пероа. — Твое требование оскорбительно и толкает нас на восстание, ибо во всем Египте нет мужчины, который с готовностью не отдал бы свою жизнь в защиту египетской принцессы-цесаревны. Это заявление было встречено одобрительными возгласами всех египтян, присутствовавших в трапезной. Идернес выждал, когда стихнет шум, и сказал: — Властитель Пероа, египтяне, вы передали мне некие указы, скрепленные Печатью Печатей, похищенной, я полагаю, вот этим Шабакой. Слушайте же: я повинуюсь вашей воле, но лишь до тех пор, покуда все не прояснится. Я возвращаюсь с войском в Саис, отошлю отчет Великому царю и дождусь его предписаний. Если же во время перехода в нашу сторону будет пущена хоть одна стрела, это будет означать открытый мятеж, и в отместку Египет будет стерт с лица земли, и вам, здесь присутствующим, тогда не сносить головы — всем, кроме царственной Амады, ибо она считается собственностью Великого царя. Итак, благодарю вас за радушие и прошу сопроводить меня вместе со свитой до моего лагеря, потому, как сдается мне, мы оказались здесь в самой гуще врагов. — Прежде чем ты уйдешь, Идернес, — крикнул я, — попомни, ты и твой лживый прислужник сами поплатитесь головой за то, что оклеветали меня. — Многие еще поплатятся головой за свои ночные подвиги, о похититель жемчугов и печатей, — ответил наместник и, повернувшись кругом, вместе со свитой вышел из трапезной. Я же кинулся искать Амаду, но и она успела удалиться вместе с придворными женщинами Пероа, испугавшимися, как бы пир не закончился кровопролитной стычкой и как бы не пролилась их собственная кровь. В самом деле, из всех гостей, присутствовавших на пиру, в трапезной осталась одна лишь моя матушка. — Разыщи благородную Амаду, — обратился я к ней, — и расскажи ей всю правду. — Хорошо, сынок, — задумчиво проговорила она в ответ, — да только где она, правда? Как я понимаю, это Бэс первым назвал имя Амады Великому царю. И вот теперь мы узнаем от тебя, что это был ты. Однако ты поступил бы куда мудрее, сынок, если бы прикусил себе язык, вместо того чтобы говорить такое, потому что далеко не всякая женщина это поймет. — Ее имя сорвалось у меня с языка случайно, матушка. А Бэс расписал царю все прелести некой благородной египетской красавицы. — Я, сынок, думаю так: это Бэс рассказал Пероа и его гостям, что именно он, а не ты назвал ее имя царю, и ты этого как будто не отрицал. В таком случае вина ваша, бесспорно, в том, что вы оба совершили глупость, и только, ведь я знаю, ты скорее умер бы десятикратно, чем выторговал себе жизнь, пожертвовав ради этого честью египетской принцессы-цесаревны. То же самое я скажу и ей, как только смогу, а после ты расскажешь мне все как на духу — что ты собирался сделать до того, как Бэс, если я не ошибаюсь, со свойственной чернокожим хитростью надоумил тебя поступить иначе… Но смотри, Пероа зовет тебя, да и мне пора, тем более что грядут дела похлеще споров, кто выдал имя Амады Царю царей. И она ушла, а мы держали спешный военный совет: напасть ли на войско наместника или дать ему вернуться в Саис. Когда спросили мое мнение, я, в свою очередь, сказал: — Напасть, и немедленно, потому что взять Саис приступом у нас нет никакой надежды. К тому же сейчас мы сильны, как никогда прежде, однако, если воины наши будут пребывать в праздности и если вдобавок им не будут платить, они скоро разбегутся. И даже если нам не удастся сокрушить Идернеса с его войском, пройдет немало времени, прежде чем Царь царей, вознамерившийся бросить всю свою мощь против греков, снова соберется с силами, а между тем Египет сможет превратиться в могучее государство, способное защитить себя под властью Пероа, своего фараона. В конце концов я и мои единомышленники одержали верх — и еще до рассвета я отбыл вниз по Нилу во главе флотилии и двух тысяч воинов, вверенных под мое командование. Кроме того, я взял с собой шестерых охотников, которых заполучил у Великого царя, потому как верил в их преданность и рассчитывал, что их знание восточных традиций может пригодиться. Нам было предписано удерживать перешеек между рекой и возвышенностями, где должно было пройти войско Идернеса, а Пероа со всеми своими силами собирался ударить по нему с тыла. Спустя четыре часа ветер сделался попутным, мы благополучно добрались до означенного места и, став лагерем, расположились на отдых, сохраняя, однако, бдительность. Ранним вечером, когда я спал, забывшись глубоким сном, меня растолкал Бэс и указал на юг. Я посмотрел в том направлении и сквозь висевшее над пустыней марево разглядел колесницы Идернеса: они катили стройными порядками впереди, а за ними длинной вереницей тянулись пешие воины. У нас колесниц не было — только лучники да два отряда копьеносцев, вооруженных длинными копьями и мечами. Кроме того, у мореходов на кораблях имелись пращи и дротики. Зато у нас было преимущество на местности: мы расположились на возвышении, и пространство между нами и рекой было узким, а после разлива Нила — еще и заболоченным, и колесницам пришлось бы продвигаться одной колонной, притом очень медленно, так что обрушиться на нас стремглав они не могли. Идернес и его военачальники тоже все видели и потому спешили. Они отрядили вперед гонца — узнать, кто мы такие, и именем Великого царя передать нам приказ расступиться, чтобы дать проход их войску. Я ответил, что мы египтяне и Пероа наказал нам перекрыть дорогу наместнику, который оскорбил Египет, потребовав передать ему египетскую принцессу-цесаревну, чтобы переправить ее на Восток в качестве наложницы, а если наместник желает расчистить себе дорогу, что ж, пускай попробует. Или, если ему будет угодно, пусть возвращается в Мемфис либо отправляется куда глаза глядят, поскольку мы не хотим нападать первыми. Вслед за тем я прибавил: — Меня, говорящего от имени властителя Пероа, зовут благородным Шабакой — я тот самый Шабака, которого только давеча наместник с одним из своих военачальников назвали лжецом. Пришельцы с Востока, конечно, храбрые воины, но мы, египтяне, слыхали, что среди них нет храбрее Идернеса, возвысившегося благодаря своей отваге и воинскому мастерству. А посему пусть он выйдет вперед вместе с военачальником, назвавшим меня лжецом, и пусть у них обоих будет только по мечу, а им навстречу выйду я, лжец и, стало быть, трус, на пару с моим слугой, черным карликом, и мы сойдемся в поединке — один на один перед лицом того и другого войска, и будем биться насмерть. Если же Идернес откажется, что ж, пускай не приходит — тогда я сам найду его и убью в бою, а нет, так пусть он убьет меня. Гонец, оглядев меня и Бэса, которому он рассмеялся в лицо, отправился с моим ответом к наместнику. — Думаете, он придет, господин? — спросил Бэс. — А куда ему деваться, — ответил я, — ведь у них на Востоке постыдно не принять вызов от любого, кого они называют дикими, и того, кто откажется, впоследствии ожидает смерть от руки Великого царя. Но даже смертью он не смоет позор, запятнавший его честь. — Да, — сказал Бэс, — к тому же они держат меня за никчемного карлика, который нипочем не сможет им помешать вас убить. Ладно, еще поглядим, кто кого. Теперь, когда вызов был брошен, мною владело только одно желание: отомстить Идернесу и его прихвостню за нанесенное мне прилюдное оскорбление. Мне хотелось отсрочить нападение их полчищ на наше маленькое войско, чтобы дать время Пероа с основными силами зайти к ним с тыла. И даже если меня убьют, потеря будет невелика, благо у меня в подчинении смышленые командиры, знавшие обо всех моих замыслах. Мы видели, как гонец добрался до войска наместника, а потом, спустя некоторое время, повернул обратно к нам, и мы уже было решили, что мой вызов отвергнут, тем более что гонца сопровождал один из их военачальников — его, должно быть, отрядили, смекнул я, чтобы выведать, какие у нас силы. Но все оказалось иначе, потому что по прибытии он сообщил следующее: — Наместник Идернес поклялся именем Великого царя убить похитителя печати, а его голову послать Великому царю, и он боится, как бы вор не ускользнул от него прежде, чем он дождется встречи с ним в бою. Поэтому он намерен принять твой вызов, о Шабака, и покончить с тобой, тем более что по законам Востока ему нельзя отказаться. Но сановник Великого царя не может сражаться с черным рабом, разве только высечь его плетью, — так вправе ли этот сановник принять вызов от карлика Бэса? — Еще как может! — ответил Бэс. — Ведь я не раб, а вольный египтянин. Помимо того, у себя на родине, в Эфиопии, я почитался как царь. Наконец, передай ему, что, если он не придет, а после попадет в руки ко мне или к благородному Шабаке, ему, заикнувшемуся о плети, придется отведать ее самому, и бит он будет до тех пор, пока с его костей не сойдет плоть и дух из него не выйдет вон. Так сказал Бэс, вращая своими глазищами столь грозно, что гонец и спутник его отпрянули на шаг или два. Я же заметил вслед за тем, что, если мое предложение их не устраивает, я согласен сразиться один: сперва с Идернесом, а после с сановником. На том они отбыли к своему войску. И вот, наконец, мы увидели, как к нам направляются Идернес со своим военачальником в сопровождении десяти человек охраны. Объяснив нашим командирам, что к чему, мы с Бэсом тоже вышли вперед, сопровождаемые десятью копьеносцами. Сошлись мы на небольшой песчаной равнине у подножия возвышенности, аккурат между их войском и нашим; командиры их и нашей охраны договорились об оружии и о прочем, а мы вчетвером хранили молчание, так и не обменявшись друг с другом ни словом, ибо время разговоров вышло. Впрочем, мы с Бэсом, присев на песок, все же малость поговорили — об Амаде с Каремой и о том, как они узнают о нашей победе или смерти. — Какая разница, господин, — сказал в заключение Бэс, — ведь, ежели мы умрем, то уже этого не узнаем, а коли останемся в живых, то они все узнают от нас самих. Наконец, когда все было оговорено, мы вчетвером встали друг против друга, вооруженные одинаково. По примеру Идернеса и его военачальника с ястребиным взором мы с Бэсом облачились в кольчуги — те самые, которые привезли с Востока. Оружием нам служили короткие тяжелые мечи, маленькие щиты и ножи на поясе. — Взгляните последний раз на солнце, лжецы, — насмешливо бросил Идернес, — ибо снова вы обратитесь к нему лишь незрячими глазами с наконечников пик, прикрепленных к колоннам врат дворца Великого царя. — Вы при жизни были болтунами, болтунами и подохнете! — выкрикнул Бэс, в то время как я смолчал. Наконец мы договорились, что по сигналу Идернес и я, его сановник и Бэс сойдемся все дружно, и если они убьют одного из нас или мы — одного из них, двое оставшихся в живых будут биться с тем, кто уцелеет. Как позже вспоминал в разговоре со мной Бэс, по сигналу он стрелой кинулся вперед с искаженным лицом и пеной на губах, но не успел я сойтись с Идернесом, не знаю почему, как сановник с Востока хватил его, Бэса, мечом по щиту, а он, Бэс, даже не дрогнув, обхватил его за колени своими длинными ручищами. В следующее мгновение они оба оказались на земле — Бэс верхом на противнике, и тут же я услыхал скрежет ударов, одного за другим, не то ножа, не то меча, впивавшихся в кольчугу военачальника с Востока, а затем — победоносный возглас египтян, заслышав который я понял, что Бэс сразил противника. Но вот сошлись и мы с Идернесом. Он был выше меня и здоровее, но при этом старше и дороднее. Поэтому было разумнее держать его подальше от себя и постараться измотать, что я и делал, мало-помалу пятясь, всякий раз отражая его удары щитом и лишь иногда парируя их мечом. — Он идет! Идет! — заорали воины с Востока. — О Идернес, остерегайся карлика! — Не подходи, Бэс! — крикнул я. — Это мое дело, — и он повиновался, как нередко случалось, когда мы вместе охотились. Вдруг Идернес нанес мне резкий удар по шлему, едва не сбив меня с ног, а следом за тем, прежде чем я успел оправиться, еще один, и выбил у меня щит, на что воины с Востока ответили громоподобным криком. И тут меня охватил страх неминуемого поражения, чуть было не лишив меня рассудка, поскольку этот наместник оказался на поверку недюжинным бойцом. Тогда я с криком «Слава Египту!» двинулся на противника, точно раненый лев, и скоро пришел его черед пятиться. Но, увы, слишком сильно ударил я его в очередной раз, так, что мой меч сломался о его кольчугу. — Нож! — завопил Бэс. — Нож! Я швырнул рукоятку меча Идернесу в лицо, мигом выхватил из-за пояса кинжал. Ринулся вперед и, застав его врасплох, стал наносить ему один удар за другим. Он схватил меня в охапку — мы повалились наземь и принялись кататься, подминая друг дружку под себя. И только богам ведомо, чем бы все это кончилось, не найди я в разгар этой невообразимой возни прореху в его кольчуге, лопнувшей, должно быть, после того как я сломал о нее свой меч, что лишило его сил. Впрочем, разум его тоже ослаб, потому что он простонал, задыхаясь: — Пощади меня, египтянин, и все мои сокровища будут твоими. Клянусь огнем! — Ни за какие сокровища на свете, наветчик! — выпалил я в ответ и трижды вонзил в него кинжал по самую рукоятку, после чего он испустил дух. Затем я встал, и, когда воины с той и другой стороны увидели, что я вышел победителем, а Идернес так и остался лежать на земле, египтяне сотрясли воздух оглушительным победоносным криком, которому вторил злобный рев пришельцев с Востока. С возгласом «Лихо, господин!» Бэс набросился на убитого и отсек ему голову, как уже сделал это с трупом сановника с ястребиным взором. Затем, взяв в каждую руку по голове, он показал их пришельцам с Востока. — Воины Великого царя! — сказал я. — Призываю вас в свидетели, мы бились честно, один на один, хотя нужды в том не было. Все десятеро охранников наместника стояли молча, а один из моих вдруг воскликнул: — Назад, Шабака! Они наступают! Я поднял глаза, увидел, как пришельцы с Востока двинулись на нас неудержимыми волнами, и в окружении охранников во главе с Бэсом, который приплясывал впереди, потрясая отрубленными головами, кинулся обратно — к своему лагерю; один из наших дал мне испить вина и плеснул водой на раны, оказавшиеся всего лишь легкими царапинами. Не успел я напиться и ополоснуться, как завязался бой, и вскоре в пылу сражения я совсем забыл про смерть Идернеса и его прихвостня-клеветника.
Глава 13
АМАДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ИСИДЕ
Мы сошлись в жесточайшей схватке в тот вечер на берегах Нила. Мы занимали превосходную позицию, однако нас было вчетверо или впятеро меньше, к тому же неприятель с наймитами не на шутку рассвирепели после того, как от моей руки пал наместник. Время от времени они приходили в такую ярость, что кидались на нас вверх по склону, точно дикие буйволы. Мы отбрасывали их назад главным образом с помощью лучников, поскольку наши плохо обученные ратники едва ли могли противостоять закаленным в сражениях воинам с Востока. Так что мы, укрывшись за скалами, обрушили на них град стрел, валя с ног лошадей, запряженных в колесницы, а потом принялись выкашивать пеших, которые шли следом. Что до меня, я схватил свой большой черный лук, трижды натянул тетиву — и увидел, как один за другим упали трое неприятельских командиров: никакая кольчуга не могла бы уберечь их от пущенных мною стрел, потому что в стрельбе из лука я был весьма искусен. Никто во всем Египте не стрелял так далеко и метко, как я, за исключением разве что Пероа. Впрочем, воспользоваться луком в полной мере у меня не было времени: мне то и дело приходилось перемещаться вдоль наших рядов и подбадривать моих боевых товарищей. Трижды мы теснили их, пока они не решились пойти на хитрость. Отказавшись от натиска напролом и собрав остававшиеся в резерве колесницы, они направили один отряд вверх по склону с той стороны, где нападающим было бы легче укрыться за скалами от наших стрел, а другому их отряду предстояло продраться через заросли тростника и хлебные поля вдоль берегов реки и выйти к нам с той стороны, откуда из-за плохого обзора мы не могли вести прицельную стрельбу из луков, хотя пращники, защищавшие наши корабли, все же их малость потрепали. Таким образом, они атаковали нас с обеих сторон, и, покуда мы отражали их натиск с флангов, они ударили по нам и спереди. Вот когда завязался самый ожесточенный бой: луки теперь были бесполезны, и в ход пошли мечи и копья. В какой-то миг мы дрогнули, и мне показалось, что неприятель, того и гляди, прорвет наши ряды. Но я тут же собрал наши силы в кулак и бросил их в контратаку — и мы снова потеснили неприятеля, хоть и совсем немного. И все же исход сражения был неясен, пока у меня из-за спины вдруг, откуда ни возьмись, не выскочил дико оскалившийся Бэс с небольшим отрядом греков, который мы держали в резерве, — тогда-то, думаю, при виде жуткого карлика, похожего на не на шутку разгулявшегося злого духа, пришельцы с Востока и дрогнули, при том что греки испугались его не меньше. Во всяком случае, выкрикивая что-то про злого духа египтян, под которым думаю, они разумели бога, в честь коего был наречен Бэс, пришельцы с Востока отступили, бросая убитых — их было не счесть — и унося с собой раненых, чтобы избежать полного разгрома. У подножия склона они перестроились и стали держать совет, а потом расселись прямо на земле — на расстоянии полета стрелы, будто расположившись на отдых. И тут я разгадал их замысел. Они намеревались дождаться ночи, благо она была не за горами, поскольку солнце клонилось все ниже, и затем, когда нам будет не видно, куда стрелять, либо атаковать нас в лоб, пользуясь своим численным превосходством, либо, отойдя к скалам пониже, взобраться на них, чтобы занять более высокое положение на открытой возвышенности. Тогда мы тоже собрались на совет, хотя так толком ничего не решили, потому как не знали, что делать дальше. Нас было слишком мало, чтобы самим атаковать такое большое войско, да и взобравшись на скалы, мы вряд ли смогли бы выдержать натиск неприятеля посреди песчаной пустыни, вздумай он напасть на нас под прикрытием тьмы. Если бы это случилось, все, что нам оставалось бы делать, так это стоять до последней возможности, а потом уцелевшими силами отступить под защиту наших кораблей. Но тогда мы проиграли бы сражение, а большая часть воинов с Востока вернулась бы в Саис с победой, если, конечно, нам на выручку не подоспели бы основные наши силы под водительством Пероа. Покуда мы вот так советовались, я велел перенести раненых на корабли до того, как сгустится тьма. Бэс вызвался их сопровождать. А некоторое время спустя он опрометью вернулся обратно. — Господин, — сказал он, — вечерний ветер дует все сильнее и вздымает тучи песка, но с верхушки мачты я все равно разглядел знамена Пероа. Войско его обходит излучину реки где-то в четырех стадиях[357] отсюда. Выступай же и ты, тогда пришельцы с Востока окажутся между молотом и наковальней и, отвлекшись на нас, забудут оглядываться назад. Я тотчас направился к нашему маленькому лагерю и сообщил воинам добрые вести, рассказав и о своих намерениях. Воины все выслушали и согласились со мной. Мы построились, собрав последние наши силы, — нас осталось, может, не больше тысячи — и выступили. Пришельцы с Востока расхохотались, видя, как мы спускаемся по склону: они решили, что мы рехнулись и что они перебьют нас всех до единого, полагая, должно быть, что у Пероа нет другого войска. Подойдя к ним на расстояние полета стрелы, мы начали стрелять, и все наши стрелы, за редким исключением, попали в цель. Уязвленные меткостью наших лучников, они выстроились в боевые порядки, собираясь снова двинуться на нас. Мы с криками бросились им навстречу, тем более что теперь и я разглядел с возвышения колесницы Пероа, мчавшиеся нам на выручку. Мы столкнулись вновь. Такого побоища не было со времен Тутмоса[358] и Рамсеса Великого[359], уж это точно. И тем не менее пришельцы с Востока отбросили нас и теснили до тех пор, покуда с тыла на них нежданно-негаданно не налетели колесницы и пешие воины Пероа. Враги дрогнули и побежали кто куда: одни — к берегу Нила, другие — к холмам. В лучах заходящего солнца мы с ними покончили: еще до наступления тьмы войско Великого царя было наголову разбито, а тех редких беглецов, которым удалось улизнуть, мы изловили на другой день. Да, в той битве погибло десять тысяч пришельцев с Востока вместе с их наймитами, и посреди поля брани на рассвете мы провозгласили Пероа фараоном Египта, а он, в свою очередь, назначил меня главным военачальником своего войска. В той битве пало и больше тысячи моих воинов, включая тех шестерых охотников, которых я выиграл в споре с Великим царем и привез с собой с Востока. На поле брани они служили мне телохранителями, сражаясь не на живот, а на смерть, и кто знал, что у них не было никакой надежды на пощаду от своих соплеменников. Они пали замертво один за другим, а последние двое — во время атаки на заходе солнца. Что ж, они проявили отвагу и преданность мне, и да упокоятся их души с миром. Уж лучше умереть так, чем в яме со львами.В Мемфис мы вернулись с триумфом — я, с трофеями, прибыл в арьергарде. Прежде чем мы с фараоном расстались, к нам подоспел гонец с добрыми вестями. Как стало доподлинно известно, в подвластных Царю царей землях грянули мятежи, и он объявил войну Сирии, Греции, Кипру и другим, наполовину покоренным им странам, где тоже, разумеется по взаимному согласию, внезапно полыхнуло пламя бунтов. И вот уже посланцы Пероа отбыли к восставшим, чтобы поведать им о том, что произошло на берегах Нила. — Если это правда, — сказал Пероа, когда все выслушал, — Великому царю не хватит сил, чтобы снова пойти на Египет. — Именно так, фараон, — ответствовал я. — Только, думаю, он одержит верх в этой великой войне, а стало быть, года через два будь готов сойтись с ним лицом к лицу. — Два года — большой срок, Шабака, за это время с твоей помощью можно много чего сотворить. Однако волею судеб ему было суждено лишиться этой помощи, и все из-за Девы-губительницы. А произошло вот что. В разгар великих торжеств по случаю победоносного возвращения Пероа в Мемфис в огромном храме Амона, перед образом бога, расположили наши трофеи: тысячи правых рук, отсеченных у павших врагов, тысячи же мечей и прочее оружие, а также колесницы, груженные множеством сокровищ, частью причитавшихся богу. Верховные жрецы благословили нас именем Амона и других богов, а народ осыпал нас во время шествия цветами: весь Египет торжествовал, ибо он вновь обрел свободу. В тот же день в храме, по древним обычаям и традициям, Пероа венчали на египетский престол. Скипетры и драгоценные камни, сокрытые для поколений грядущих, извлекли из потайных хранилищ, известных только хранителям; на голову ему возложили венцы древних фараонов: да-да, то был двойной венец — Верхнего и Нижнего Египта. Так, в охваченном безудержным весельем Мемфисе, свободном от чужеземного гнета, он был помазан как первооснователь новой династии, а вместе с ним помазали и его царицу. Я тоже был удостоен высоких почестей, поскольку история о том, как Идернес пал от моей руки, и о других моих подвигах разошлась и за пределами Египта, так что следом за фараоном меня нарекли величайшим человеком в Египте. Не был обделен вниманием и Бэс: простой люд в большинстве своем принял его за духа в обличье карлика, эдакого крепыша-ловкача, ниспосланного нам в помощь богами. Помимо всего прочего, в завершение церемонии многие зрители подняли голос за то, чтобы я, намеревавшийся жениться на египетской принцессе-цесаревне, был наречен следующим наследником престола. Заслышав такое, фараон глянул сперва на своего сына, потом с недоверием посмотрел на меня — я смутился и был вынужден спешно ретироваться. В открытой галерее храма не было ни души: все, даже стража, собрались в просторном внутреннем дворе поглазеть на церемонию венчания Пероа на царство. Только в тени у подножия одной из двух громадных статуй перед наружным пилоном храмовых ворот сидел крохотный с виду человечек, кутавшийся в темную хламиду, которого я поначалу принял за нищего. Когда я поравнялся с ним, он схватил меня за край мантии. Я остановился и стал ощупывать себя, пытаясь найти, что бы ему дать, но ничего не нашел. — У меня ничего нет, отец, — рассмеявшись, сказал я, — кроме разве что золотого эфеса меча. — Не бери в голову, сынок, — ответил мне низкий голос, — к тому же, думаю, он тебе еще пригодится, пока все не закончится. Затем, пока я приглядывался к нему, он откинул капюшон, и под ним я увидел старое, морщинистое лицо, обрамленное длинной седой бородой, как у моего двоюродного деда, святого Танофера, отшельника-кудесника. — Великие дела вершатся там, Шабака, столь великие, что я даже выбрался из своего склепа, чтобы посмотреть, а вернее, послушать, ибо я слеп, — послушать то, что уже трижды слышал на своем веку, — и он указал на пеструю толпу во дворе. — Да уж, — продолжал он, — я повидал фараонов, царствующих и почивших, при том что один из них пал от руки захватчика. А что станется с этим фараоном, как думаешь, Шабака? — Тебе лучше знать, дядюшка, ведь я не пророк. — Да как же я теперь увижу, племянничек, ежели твой карлик отнял у меня чудесную Чашу? Впрочем, я нисколько не жалею, ибо твой карлик храбр и умен и еще может оказать тебе не одну услугу, как и Египту. Но прежней Чаши нет, а новая пока не обрела угодную мне форму. Так как же я тебе отвечу? — Полагаясь на мудрость сердца. — Хорошо, племянничек. Что ж, мудрость сердца моего подсказывает, что за пирами порой следует голод, за весельем — скорбь, за победами — поражение, за великими прегрешениями — покаяние и несуетное обращение к добру. А еще она подсказывает мне, что ждет тебя дальняя дорога. Где сейчас царственная Амада? Я не расслышал ее поступи среди шагов сошедшихся в Мемфис на торжество? Хотя, быть может, мой слух ослаб в последнее время, Шабака, и теперь я слышу хорошо только в ночной тиши. — Не знаю, дядюшка, да и кого только не занесло нынче в Мемфис. Но что ты имеешь в виду, спрашивая об Амаде? Она, конечно, готовится к пиру, где я с нею и увижусь. — Ну конечно. Скажи: а что происходит в храме Исиды? Когда я проходил мимо пилона, нащупывая дорогу нищенским посохом, я подумал… а почем ты знаешь, сколько народу сошлось в Мемфис? Хотя, определенно, я слышал много голосов, и все кричали, что тебя, Шабака, надобно наречь следующим наследником египетского престола. Так ли это? — Да, святой Танофер. Потому я и ушел — с досады, ибо, клянусь, не ищу для себя подобной чести и, конечно, совсем не желаю. — Вот-вот, племянничек. Однако ж дары имеют свойство доставаться тем, кто их не желает, а последнее, что я видел перед тем, как расстаться с Чашей, — вернее, последнее, что видела она, — так это тебя в двойном венце. Чаша сказала, что ты смотрелся в нем великолепно, Шабака. А теперь ступай, потому как — слышишь? — сюда направляется процессия с новопомазанником-фараоном, для которого ты завоевал царскую мантию в той лощине, где сразил насмерть Идернеса и дал отпор его полчищам. Да, ты был молодцом, моя новая Чаша, хоть она и несовершенна, показала мне все. Я горжусь тобой, Шабака, но ступай, ступай же!.. Подайте бедному старцу! Подайте, высокочтимые, бедному слепцу, который лишился всего, еще когда последний фараон заступил на египетский престол, и который с тех пор живет одними лишь тягостными воспоминаниями! Дома я застал матушку — она только-только вернулась с венчания, но Бэса нигде не было, я решил, что он, должно быть, отправился проведать свою новоиспеченную женушку — Карему. Матушка обняла и благословила меня, похвалив за ратные подвиги, а потом занялась моими ранами, хоть они и были пустячные. Но, едва она принялась за дело, как я ее остановил, спросив, не видела ли она, случаем, Амаду. Матушка ответила, что нигде ее не видела и ничего о ней не слышала, и это показалось мне странным, тем более что она тут же затараторила о чем-то своем. Я сказал ей то же, что и святому Таноферу, предположив, что Амада, верно, готовится к пиршеству, поскольку на венчании я ее не видел. — Наверно, прощается со своей богиней, — кивнув, ответила матушка, — поскольку некоторым куда тяжелее бывает спуститься с небес на землю, чем вознестись с земли на небеса, а ты, сынок, в конце концов, настоящий герой. С этими словами матушка удалилась переодеваться, оставив меня в недоумении, поскольку она была женщина прозорливая и слов на ветер не бросала. А тут еще святой Танофер — должно быть, неспроста помянул храм Исиды, а ведь он тоже не бросает слов на ветер. О, сейчас я чувствовал себя точно так же, как тогда, в тени под пальмой в дворцовом саду. Впрочем, хандра у менябыстро прошла: кровь моя вновь закипела от радости великой победы, и сердце мигом закрыло доступ тоске, ибо в тот день я и впрямь прослыл величайшим героем в Мемфисе. Однако на самом деле, сказать по правде, я об этом узнал, лишь когда вместе с матушкой вошел в главную трапезную дворца, немного, однако, опоздав, поскольку уж больно долго матушка наряжалась. Первым, кого я увидел, был Бэс, разодетый в восточные шелка, которые он умыкнул из шатра наместника: карлик стоял на столе, чтобы всем было его видно и слышно, и потрясал в воздухе обеими руками, держа в одной мерзкую голову Идернеса, а в другой — голову того сановника с ястребиным взором, которого он прикончил самолично; при этом он зычным голосом рассказывал подробности нашего поединка. Заприметив меня, он громко возгласил: — Глядите! Вот идет храбрец! Вот он, герой, которому Египет обязан свободой, а фараон — царским венцом! Вслед за тем все, кто был в зале: знать, воины и слуги, толпившиеся у дверей, — принялись громогласно восхвалять и славить меня, так, что я даже пожалел, что не могу раствориться в воздухе, как святой Танофер, которому, по слухам, такое было вполне под силу. Поскольку это было никак невозможно, я кинулся к Бэсу, который с ловкостью обезьяны успел спрыгнуть со стола и, все так же потрясая жуткими трофеями и что-то выкрикивая, уж не знаю как, выскочил из залы под громогласный хохот гостей. Потом глашатаи возвестили о появлении фараона — и все разом смолкли. Он вошел торжественно, в сопровождении свиты, и мы, его верноподданные, по древней традиции простерлись перед ним ниц. — Вставайте, гости мои! — воскликнул он. — Вставай, народ мой! И прежде всего встань ты, Шабака, возлюбленный брат мой, которому Египет и я обязаны всем! Тогда мы поднялись, и я занял почетное место за пиршеским столом, усадил матушку рядом и огляделся в поисках Амады, но нигде ее не увидел. Мраморное кресло, в котором она должна была восседать рядом с царевнами, пустовало. Сперва я подумал, что она опаздывает, но время шло, а ее все не было; тогда я спросил: может, ей нездоровится, но ответить мне никто не смог. Пир проходил сообразно всем древним церемониям, сопутствующим венчанию фараона Египта на царство, благо приглашенные на пир старейшины хорошо помнили традиции, а писцы и жрецы записывали все на свитках. Я же не был ни писцом, ни жрецом и ничего не записывал. Наконец фараон поднял кубок во славу своих подданных, а подданные восславили фараона. Затем двери распахнулись, и в залу вошла процессия бритоголовых, облаченных в белые одежды жрецов — они несли на погребальных носилках мертвое тело, спеленутое вроде мумии. Сначала сотрапезники было рассмеялись, потому что подобный ритуал не проводили в Египте давно: его перенял Царь царей Востока, и с тех египтяне о нем забыли. Но вот смех стих: траурная процессия жрецов, проходившая мимо величественных колонн и то скрывавшаяся в их тени, то будто выраставшая из тени, мало-помалу заворожила пирующих, произведя на них поистине гнетущее впечатление, тем более что сопровождалась она заунывным траурным пением. В наступившей тишине матушка шепнула мне, что они несут тело последнего египетского фараона, извлеченное из гробницы, впрочем, я не мог сказать наверняка, так это или нет. Наконец они поднесли мумию, увенчанную царским уреем и покрытую траурными гирляндами, к Пероа, и, когда водрузили ее на ноги у него за спиной, аккурат между ним и тем местом, где сидели мы с матушкой, сердца наши налились тяжестью. Мне в ноздри тут же ударил тяжелый запах бальзамов, на голову упал увядший цветок с гирлянды, а оглянувшись через плечо, я увидел нарисованные или расписанные финифтью глаза золотой маски: они будто уставились на меня. Я не на шутку испугался, сам не знаю чего. Нет, конечно, не смерти, потому как последнее время не раз смотрел ей в лицо, и она меня нисколько не страшила. На самом деле то был даже не страх, а скорее глубокое ощущение бренности всего сущего. Мне показалось, что это ощущение проникло в самую глубину моего сознания — Шабаки или Аллана Квотермейна, поскольку видения в моем сне, или что это было, через дух вдохнули жизнь в нас обоих, — и, как никогда прежде, я вдруг со всей отчетливостью почувствовал, что… все есть ничто; что победа и любовь, и даже самое жизнь суть никчемны; что в действительности не существует ничего, кроме человеческой души и Бога, которому, возможно, душа отчасти и принадлежит и который отпускает ее на какое-то время, чтобы она действовала от его имени, совершая добро или зло. При мысли об этом я поднялся, сам не свой: на мгновение мне показалось, будто все, что делает человека человеком, куда-то исчезло, и я стою один-одинешенек, нагой перед достославным Богом, видимый лишь ярким звездам, озаряющим его небесный престол. Да-да, и в это самое мгновение я вдруг постиг, что все боги есть не что иное, как один Бог, многоликий и разноименный. Потом я услышал, как жрецы возгласили: — Фараон, Осирис приветствует фараона, живущего на земле, и передает ему послание: «Подобным мне будешь ты, где буду я, там будешь и ты, ибо отныне суждено тебе жить веки вечные». Фараон живой поднялся и поклонился фараону усопшему, и следом за тем фараона усопшего понесли обратно к его вечному пристанищу, а я подумал: «Что, если его Ка, или дух, или часть его, продолжающая жить, сейчас наблюдает за нами и запоминает пиршество, в котором он и сам когда-то участвовал, среди пышного убранства этого колонного зала, в точности, как все происходило с его праотцами сотни, а то и тысячи лет назад». И лишь когда мумию унесли прочь, лишь когда смолкли последние отголоски траурного пения жрецов, у пирующих снова отлегло от сердца. И вскоре они забыли о происшедшем, ибо живым свойственно забывать о смерти и о тех, кого поглотило Время: вино было добрым и крепким, глаза у красавиц сверкали точно звезды, наши копья венчала победа, и Египет снова стал свободным, пусть и на время. Так продолжалось до тех пор, пока Пероа не поднялся и не удалился, звеня массивными золотыми сережками в ушах, и пока не смолкли трубы, возвестившие о его уходе. Я тоже встал, собираясь с матушкой покинуть пиршество, как вдруг в зале появился гонец, сообщивший, что меня с карликом Бэсом ждет фараон. Мы отправились прямиком к нему, а мою матушку кто-то из военачальников сопроводил домой. Когда я проходил мимо нее, она удержала меня за рукав и шепнула на ухо: — Сынок, что бы ни случилось, не падай духом и помни, что земля не на одних женщинах держится. — Хорошо, — ответил я, — земля держится на смерти и на Боге, а может, смерть и Бог держат ее. Не знаю, кто вложил эти слова в мои уста, тем более что их смысл я так и не понял, а времени поразмыслить над этим не было. Гонец проводил нас до дверей в личные покои Пероа, те самые, где я виделся с ним по моем возвращении с Востока. Гонец пригласил меня войти, а Бэсу велел подождать за дверью. Я вошел и увидел там двух мужчин и женщину: все трое стояли молча. Это были сам фараон, не успевший снять с себя парадную мантию и двойной венец, и верховный жрец Исиды в белом; рядом с ними стояла Амада, тоже облаченная в белые одежды Исиды. Стоило мне увидеть ее в этом наряде, как у меня замерло сердце и я застыл как вкопанный, не в силах вымолвить ни слова. Она тоже хранила молчание, а под прозрачной вуалью я разглядел ее печальное, бледное лицо, точно у мраморного изваяния. И то верно, сейчас она больше походила не на прекрасную живую девушку, а на саму богиню Исиду, чьи символы служили ей украшениями. — Шабака, — молвил наконец фараон, — египетская принцесса-цесаревна Амада, она же жрица Исиды, намерена тебе кое-что сообщить. — Так пусть же египетская принцесса-цесаревна обратится к своему слуге и нареченному супругу, — ответствовал я. — Благородный Шабака, главный военачальник, — начала она холодным, звонким голосом, словно повторяла заученный урок, — знай же, что отныне ты мне не нареченный супруг, а я тебе больше не нареченная жена, ибо я намерена вернуться к служению божественной Исиде. — Не понимаю. Может, соблаговолишь выражаться яснее? — едва выговорил я. — Хорошо, я буду говорить яснее, благородный Шабака, яснее, чем ты, говоривший со мной прежде. И раз уж мы видимся с тобой в последний раз, мне и правда следует выражаться яснее. Так слушай же. Когда ты вернулся с Востока, то в этом самом зале поведал нам о том, что там с тобою приключилось. Потом говорил карлик, твой слуга. Он сказал, что ты назвал мое имя Великому царю. Я не на шутку рассердилась, но, даже когда я просила, чтобы его за это высекли, ты не стал отрицать, что именно он выдал мое имя царю, хотя фараон здесь же сказал, что, если это все же был ты, дело принимает уже совсем другой оборот. — У меня не было времени оправдаться, — ответил я, — потому что тогда же объявились посланцы от Идернеса, а потом, когда я искал тебя, чтобы рассказать все как есть, ты куда-то исчезла. — А разве у тебя не было на это времени, — холодно вопросила она, — тогда, под пальмами в дворцовом саду, когда мы были уже помолвлены? О, времени у тебя было сколько угодно, но тебе не хотелось признаваться, что ты купил себе жизнь и получил великие дары, заплатив за все честью египетской принцессы-цесаревны, чью любовь ты украл. — Ты не понимаешь! — в отчаянии воскликнул я. — Прости, Шабака, но я все отлично понимаю, ибо на пиру в честь Идернеса я слышала от тебя самого, что «имя Амады» сорвалось у тебя с языка и тут же дошло до ушей Великого царя. — В словах Идернеса и его прихвостня не было ни слова правды, за это мы с Бэсом с ними и поквитались. — Возможно, было бы куда лучше, если бы ты сохранил им жизнь, тогда бы они сами признались, правда это или ложь. Но тебе, конечно, было выгоднее, чтобы они были мертвы, ибо с мертвецов какой спрос, вот ты и вызвал их на поединок. Я едва не задохнулся и не смог выговорить ни слова в ответ, мне вдруг показалось, что рассудок покидает меня, а она меж тем уже более снисходительно продолжала: — Я не желаю срывать на тебе зло, брат мой Шабака, в частности, потому, что ты совершил великие подвиги во славу Египта. Помимо того, по закону, которому я служу, я не вправе гневно говорить с кем бы то ни было. Да будет тебе известно, что, узнав всю правду, поскольку я не могу любить никого, кроме тебя, по плоти и потому же не могу выйти замуж ни за кого другого, я искала заступничества у богини, к которой обратилась ради тебя. И она соблаговолила меня принять в свои объятия, забыв о моем отступничестве. И в этот самый день я во второй раз дала обеты, которые уже не могут быть нарушены, так что отныне нам не суждено увидеться вновь, никогда, к тому же фараон внял моей просьбе и соблаговолил наречь меня верховной жрицей и прорицательницей Исиды, назначив мне местожительством ее храм в Амаде, в далеком Верхнем Египте, где я родилась. Итак, между нами все сказано и сделано, а посему прощай. — Сказано и сделано не все, — вспыхнул гневом я. — Фараон, прошу твоего позволения рассказать во всех подробностях, как имя благородной Амады стало известно Царю царей, и пусть это будет сделано в присутствии карлика Бэса. Ибо даже рабу дозволено сказать свое слово перед тем, как ему вынесут приговор. Пероа взглянул на Амаду — она не возражала — и сказал: — Позволяю, великий воин Шабака. Вслед за тем в покои фараона позвали Бэса — он с любопытством огляделся кругом и уселся на пол. — Бэс, — обратился я к нему, — ты не слышал ни слова, произнесенного здесь. (Тут я ошибался, поскольку, как он сам мне потом признался, карлик все слышал, потому что дверь была приоткрыта.) Так вот, Бэс, ты должен повторить слово в слово все, что произошло при дворе Царя царей до того, как меня вытащили из лодки, и после. Бэс повиновался и подробнейшим образом рассказал все как было, не допустив ни малейшей ошибки, — все слушали его, затаив дыхание. Когда он закончил, слово взял я и рассказал, как у меня, обессиленного после пытки в лодке и едва стоявшего на ногах, случайно вырвалось имя Амады и что тогда я и помыслить не мог, что царь вдруг потребует ее себе, и что я скорее тысячу раз расстался бы с жизнью, чем согласился бы на такое. К этому я прибавил то, что позднее услышал от наших охранников: имя Амады, оказывается, уже было известно Великому царю, и он думал использовать его как повод для распрей с Египтом. Больше того, он избавил меня от смерти в страшных муках потому, что видел сон, покуда отдыхал накануне пиршества, и в том сне ему явился бог, и бог сказал, что негоже лишать жизни человека, оказавшегося ловчее на охоте и что за подобное злодеяние его ждет расплата на небесах. Однако закон его страны требовал, чтобы он нашел открытый предлог для освобождения человека, приговоренного к смерти, и тогда он решил сыграть на имени Амады, объявив, что посылает меня за ней. Когда я закончил, фараон, поскольку Амада по-прежнему молчала, спросил Бэса, почему в тот вечер, когда мы вернулись, он говорил одно, а сейчас — другое. — Потому, о фараон, — ответил Бэс, заводя глаза, — что я впервые в жизни дал маху и пустил стрелу слишком далеко. Так выслушайте меня, о фараон, принцесса-цесаревна и ты, верховный жрец. Я знал, что господин мой любит благородную Амаду, как знал я и то, что она бойка на язык и горяча и что обидеть ее проще простого, хотя, обижаясь, она ввергает себя в горькую печаль и губит собственную жизнь, а заодно и свою страну. Поэтому, хорошо зная женщин у себя на родине, я понял: после того, что случилось, она непременно обидится, и посоветовал моему господину держать язык за зубами и ничего не говорить о том, как имя Амады было помянуто при царе. Но какой-то злой дух надоумил его внять моему плохому совету и, пока я тут городил невесть что, разозлив благородную Амаду так, что она велела меня высечь до костей, он молчал, не решаясь сказать всю правду. Он не вымолвил ни слова и потом, поскольку боялся, что в противном случае меня и впрямь высекут: ведь мы с моим господином любим друг друга. И вовсе не желаем, чтобы кого-то из нас высекли, хотя, боюсь, нынче мне достанется, — и он посмотрел на Амаду. — Я все сказал. И вот наконец заговорила Амада: — Будь мне все известно с самого начала, быть может, я не сделала бы того, что сделала сегодня, и, возможно, все простила бы и забыла, потому что, на самом деле, даже если карлик опять лжет, твоим словам я верю, о Шабака, и прекрасно понимаю, отчего все так вышло. Но сейчас уже поздно что-либо менять. Скажи, о жрец Матери моей, разве нет? — Слишком поздно, — чинно ответствовал жрец, — тем более что, если твои обеты будут нарушены во второй раз, о прорицательница, проклятие богини падет не только на тебя, но и на него, ибо из-за него ты нарушила то, что обещала богине, и прокляты вы будете не только в этой жизни, но и во всех других, что, возможно, будут отпущены вам на земле или где еще. — Фараон! — в отчаянии вскричал я. — Мы связаны с тобой договором. Это записано и скреплено печатью. Я исполнил мою часть договора; мои сокровища оказались в твоем распоряжении; я поверг твоих врагов; я достойно командовал твоим войском. Так, может, пришло время тебе выполнить свою часть договора, повелев жрецам освободить эту благородную девушку от обетов и отдать ее мне, как было обещано? Или я должен поверить, что ты отказываешь мне, и не из-за богинь и обетов, а потому, что эта самая принцесса-цесаревна — истинная наследница престола, которой суждено продолжать свой род, чего не может себе позволить прорицательница Исиды. Так поэтому или потому, что до твоих ушей дошли недостойные возгласы, когда тебя венчали на царство перед Амоном-Ра и другими богами? Пероа вспыхнул, заслышав такие слова, и ответил: — Ты говоришь неучтиво, брат, и, будь ты не тот, кто есть, я был бы вынужден ответить тебе столь же резко. Но я знаю, как ты страдаешь, и потому прощаю тебя. Нет, тебе не пристало верить во все это. Лучше вспомни, что в помянутом тобой договоре записано, что я обещал отдать за тебя благородную Амаду лишь в случае ее согласия, а она взяла его назад. — Тогда слушай, фараон! Я завтра же покину Египет и отправлюсь в другую землю, и верну высочайшее звание военачальника, коим ты меня удостоил; я вложу обратно в ножны меч, который надеялся еще поднять во славу Египта и в твою честь, когда придет великий день новой битвы, а он придет. И знай: я не вернусь до тех пор, пока благородная Амада сама меня не позовет вновь, чтобы сражаться за нее и за тебя в обмен на обещание отдать ее за меня в качестве награды. — Этому никогда не бывать, — промолвила Амада. Тут я почувствовал, что в покоях есть еще кто-то, но как и когда неизвестный сюда проник, я не знал, хотя догадывался, что это могло произойти, пока мы были заняты бурными разговорами. Вслед за тем между мной и фараоном вдруг возникла согбенная фигура человека, закутанного в нищенскую хламиду. Он отбросил капюшон — и я увидел обрамленное белоснежной бородой, мертвенно-бледное лицо святого Танофера. — Ты знаешь меня, фараон, — молвил он своим низким, степенным голосом. — Я Танофер, царский сын; Танофер-отшельник, Танофер-провидец. Я все слышал, не важно как, и пришел к тебе с посланием, я, читающий в человеческих сердцах. Об обетах, богинях и женщине я не скажу ни слова. Скажу только, что если ты нарушишь дух своего договора и обречешь вот этого Шабаку на смерть от отчаяния, то навлечешь беду и на себя самого. Далеко не все воины Великого царя пали там, на берегах Нила, и, может, однажды он придет, дабы предать земле кости павших, а заодно и твои, о фараон. Не думаю, что ты сейчас готов прислушаться ко мне, как и эта благородная дева, объятая жаром, исходящим от ревнивой богини. И все же пусть она внемлет моему совету и попомнит мои слова: пусть в минуту крайней опасности она пошлет к Шабаке с просьбой о помощи, обещая ему взамен то, что он просил, и пусть она запомнит, что Исида любит ее не меньше, чем Египет, ибо богиня эта тоже родилась на берегах Нила. — Уже поздно, слишком поздно!.. — простонала Амада. Тут она разрыдалась и, повернувшись, ушла вместе с верховным жрецом. Фараон тоже ушел, оставив нас с Бэсом одних. Я огляделся кругом в поисках святого Танофера, потому как хотел с ним поговорить, но его и след простыл. — Пора бы и ко сну, господин, — заметил Бэс, — а то после всех этих пересудов чувствуешь себя хуже, чем после изрядной драки. Ба! А это еще что такое, да с вашим именем сверху? — он поднял с пола шелковый мешочек и раскрыл его. Внутри оказались бесценные розовые жемчужины!
Глава 14
ШАБАКА СРАЖАЕТСЯ С КРОКОДИЛОМ
— Куда теперь? — спросил я Бэса, когда мы вышли из дворца, поскольку я был сам не свой и не знал, что делать. — Домой к госпоже Тиу, господин, ибо вам нужно подготовиться к завтрашнему отъезду и попрощаться с нею. О! — продолжал он как будто с восторгом, который, как я узнал потом, был напускным, хотя тогда я об этом как-то не подумал. — О, как вы, должно быть, счастливы сейчас, когда освободились от всех этих женских пут и перед вами открылась новая, яркая жизнь! Подумайте, господин, об охоте, что ждет нас там, в Эфиопии. Никаких тебе забот и хлопот о благе Египта, никаких увещеваний неверующих, что пора-де браться за оружие, никаких отчаянных битв за честь страны, воздетую на острие меча. А коли пожелаете сойтись с женщиной, что ж, в Эфиопии их что песку морского, знай себе порхают туда-сюда, легкие, точно вечерний ветерок, и благоуханные, как цветы, и никогда не докучают тебе поутру. — Что ни говори, а сам-то ты, Бэс, не освободился от этих пут, — сказал я, заметив в лунном свете, как вытянулось его широченное лицо. — Нет, господин, я привык сам держать их за горло. Так уж устроен мир, видите ли, а может, так угодно богам, которые этим миром правят, почем мне знать. Я столько лет был свободен и счастлив, радовался приключениям, путешествовал в дивные края и набирался уму-разуму, что, думаю, стал мудрейшим человеком на берегах Нила, бок о бок с тем, кто был мне дорог, я ничем не рисковал, кроме собственной шкуры, которая, впрочем, стоит не больше, чем жизнь мошки, кружащей под солнцем. И вот все изменилось. У меня теперь есть любимая жена, и люблю я ее так, что не передать словами, — он вздохнул. — Но кого ей теперь любить, кого слушаться… да-да, слушаться? Больше того, скоро я обрету свой народ и надену корону, начну управлять советниками и государством, буду поддерживать старую веру и делать много чего еще, что одной только Саранче ведомо. Все бремя забот отныне перевалилось с вашей спины на мою, господин, отягчив мне сердце, не знавшее тягот… Но пусть на том все и закончится. И тут я рассмеялся, хотя до этого пребывал в печали, потому как в рассуждениях Бэса определенно была доля истины. — Господин, — продолжал он изменившимся голосом, — я был глупцом, и глупость моя обернулась вам во зло. Простите меня, ведь я хотел как лучше, да только кто его знает, что лучше, а что нет. Но вот мы и подошли к вашему дому, я пойду проведую мою женушку и улажу кое-какие дела. А на рассвете вы должны быть готовы в путь-дорогу — мы отбываем в Эфиопию. — Ты и правда хочешь, Бэс, чтобы я отправился с тобой? — Конечно, господин, если только вам не взбредет податься куда еще, к примеру, по морю на юг. Коли так, я, наверно, соглашусь быть вам попутчиком, к тому же Эфиопия никуда не денется, а мне охота еще много чего повидать на свете. Вот только как быть с Каремой: ведь она ждет, а вернее, еще долго будет ждать, ежели все узнает, когда теперь станет царицей? — нерешительно прибавил он. — Нет, Бэс, я слишком устал и не хочу строить новые планы, так что давай-ка лучше отправимся вместе в Эфиопию и не будем огорчать Карему, к тому же она так долго держала в руках всевидящую чашу, что теперь ей наверняка не терпится подержаться за скипетр. — Думаю, это очень мудрое решение, господин; по крайней мере, святой Танофер, безусловно, счел бы его таковым, а ведь он живое воплощение гласа судьбы. Да и чего нам, собственно, беспокоиться, ведь, в конце концов, мы, и каждый из нас, всего лишь жалкие костяшки на игральной доске судьбы. С этими словами он развернулся, оставив меня одного, я прошел в дом и увидел матушку: она сидела в том же парадном облачении, словно ожидая чего-то. Глянув на мое лицо, она спросила, чем я так опечален. Я присел на скамеечку у ее ног и рассказал все как есть. — Я так и думала, — сказала она, когда я закончил свой рассказ. — Чересчур умные женщины — что скользкие рыбешки, их не удержать в руках, а чересчур большая душа что слишком большой парус на лодке, пустынный ветер над Нилом опрокинет ее в два счета. Что ж, не стоит винить ни ее, ни Бэса, ни Пероа — он больше обеспокоен будущим своей династии, и ему лучше, чтобы Амада была жрицей, чем твоей женой, да и богине Исиде это в угоду, ибо она ревностно относится к своим прислужницам. Тут пристало винить скорее власть, ту, что таится в тени, ибо пред нею мы склоняем наши головы, хотя даже не представляем себе, что она творит на самом деле. Стало быть, Египет закрывает пред тобою свои двери, сынок. И куда же ты подашься? Надеюсь, не на Восток, как прежде, ибо там ты живо станешь на голову короче. — Я отправляюсь в Эфиопию, матушка, благо Бэс там как будто важный человек и может меня приютить. — Значит, мы перебираемся в Эфиопию, верно? Что ж, хотя для старухи путь туда долгий, в Мемфисе, где я прожила столько лет, меня гложет тоска, а лучшего кладбища, чем южные пески, не сыскать. — Мы!.. — воскликнул я. — Мы? — Ну да, сынок, ибо, потеряв жену, ты снова обрел мать, и отныне нас ничто не разлучит — только моя смерть. Когда я это услышал, глаза мои наполнились слезами. У меня проснулась совесть, потому как последние дни, не сказать годы, я помышлял только об Амаде и совсем не думал о матушке. И вот Амада оттолкнула меня, поступив не по справедливости: она не пожелала узнать правду и убедила себя в самом худшем, решив, будто я, боготворивший ее, выдал ее имя, чтобы избавить себя от медленной, мучительной смерти, а матушка, забыв все, вновь приласкала меня, как когда-то в детстве. Я не нашелся, что сказать, но, вспомнив о жемчужинах, достал их и повесил матушке на шею. Она посмотрела на чудесные вещицы, улыбнулась и сказала: — Такие украшения лишь подчеркивают седины и иссохшую грудь. Однако ж я буду беречь их, сынок, пока ты не найдешь себе жену, — не Амаду, так какую другую. — Никто мне не нужен, кроме Амады, — с горечью проговорил я, на что она только улыбнулась. И вслед за тем оставила меня, намереваясь отбыть ко сну.На другой день мы были готовы отправиться в путь только к двум часам пополудни, поскольку перед дорогой нужно было много чего успеть сделать. Среди прочего — передать дом на попечение друзей и собрать все необходимое для дальнего путешествия. А тут еще прибыл гонец от фараона, просившего меня ради него и ради Египта хорошенько подумать, прежде чем уезжать, на что я ответил так: решение мое непреложно, а ежели фараону будет угодно узнать, где я, пускай он обратится к святому Таноферу, поскольку тот знает все. Следом за тем прибыл другой гонец, с прощальными дарами от фараона, наградившего меня почетной цепью, высочайшим титулом и полномочиями его посланника в любой стране, куда бы я ни прибыл, и многим прочим, — получение всего означенного мне надлежало подтвердить ответом. Наконец, когда мы покидали дом, собираясь направиться к берегу Нила, где нас ожидала лодка, которую подготовил Бэс, подоспел третий гонец, при виде которого у меня сердце упало: то был жрец Исиды. Он поклонился и передал мне свиток. Я открыл его дрожащими руками и прочел нижеследующее: «От прорицательницы Исиды, чей дом положен в Амаде, и в прошлом принцессы-цесаревны Египта, к благородному Шабаке: Насколько мне известно, о брат мой Шабака, ты покидаешь Египет, и сердце мое обливается кровью. Поверь, брат мой, я горячо тебя люблю, даже больше, чем кто было то ни было на свете, и любви своей никогда не изменю, несмотря на то что богиня, держащая мое будущее в своих руках, знает, из чего мы сделаны, и не ревнует к прошлому. А посему она не отринет земную любовь той, которая отдала себя в ее божественные руки. Мы благословляем тебя, я и она, и если нам больше не будет суждено увидеться с тобой лицом к лицу на этом свете, быть может, мы снова встретимся в обители Осириса. Прощай же, возлюбленный мой Шабака. О, и зачем ты позволил этому черному повелителю лжи, карлику Бэсу, оговорить себя, скрыть от меня правду?» Так заканчивалось послание, под которым я заметил два влажных пятнышка, — следы от слез, как я догадался. Кроме того, к свитку было прикреплено завернутое в шелк золотое колечко с царским уреем, которое Амада носила с детства. И только минувшим вечером я заметил его на большом пальце ее правой руки. Я тут же схватил стиль[360], вощеные таблички и на одной из них написал так: «Будь ты мужчиной, Амада, а не женщиной, думаю, ты судила бы обо мне иначе, но, даже будучи просвещенной жрицей и прорицательницей, ты все равно остаешься женщиной. Возможно, придет время и ты снова обратишься ко мне, коли будет нужда; и я, если буду жив, непременно приду. Но даже если меня и не будет среди живых, думаю, я все равно приду, поскольку на самом деле ничто не может нас разлучить. А пока я буду носить твое кольцо денно и нощно и, глядя на него, вспоминать Амаду — девушку, чьи уста прикасались к моим; при этом, однако, я буду забывать Амаду-жрицу, которая ради спасения своей души ранила душу человека — того, кто любил ее и кого в гордыне своей и в гневе, к прискорбию его, она недооценила». Я завернул табличку в ткань и скрепил глиной, а также колечком Амады, воспользовавшись им вместо печати, после чего вручил послание жрецу, чтобы он передал его по назначению.
Наконец мы прибыли к реке и там, на открытом берегу, я увидел многих из тех, кто бок о бок сражался со мною в том бою с пришельцами с Востока, а вместе с ними — несметную толпу горожан. Они обступили меня со всех сторон — некоторые из них были ранены и опирались на костыли — и принялись упрашивать, чтобы я не уезжал, ибо с моим отъездом, как они предвидели, Египет будет ввергнут в печаль. Но я, едва ли не со слезами на глазах, отбился от них и вместе с матушкой укрылся под навесом, покрывавшим лодку. Там нас уже поджидал Бэс вместе со своею прекрасной женой, которая, несмотря на горечь расставания с Египтом, приветливо улыбалась нам, а кормчий и гребцы, все до одного эфиопы, разом поднялись и приветствовали меня как великого военачальника. Дождавшись попутного ветра, мы подняли парус и заскользили вверх по Нилу, уносясь прочь от Мемфиса, чьи храмы и пальмовые рощи через некоторое время исчезли из вида. Нет нужды подробно рассказывать о нашем долгом-долгом плавании. Выше по течению Нила мы продвигались медленно: нам то и дело приходилось перетаскивать лодку через пороги — и так до тех пор, пока Египет не остался у нас далеко за кормой. В конце концов спустя несколько дней после того, как мы миновали устье другой реки, синего цвета, которая, стекая с северных гор, впадала в Нил, мы подошли к тому месту, где пороги оказались настолько длинными и крутыми, что нам пришлось тащить лодку волоком по суше. На заходе солнца мы снова сели в лодку и двинулись вверх по реке дальше, и вскоре я заметил чуть поодаль на песчаном берегу толпу людей, а за ними лагерь, состоявший из множества дивных шатров, расшитых, как мне показалось, шелком и золотом, под стать развевавшимся над ними знаменам с рельефными фигурами саранчи с золотым туловищем и серебряными лапами. — Похоже, посланцы мои добрались вполне благополучно, — сказал мне Бэс, — потому что, как видишь, там собралась часть моих подданных, и они пришли нас встречать. Отныне, господин, я больше не буду величать вас господином, поскольку, сдается мне, я теперь снова стал царем. А вы теперь должны звать меня не Бэсом, а каруном. И еще, простите, но отныне вам придется кланяться в моем присутствии, хоть сам я того не желаю, но так велит обычай эфиопов. О, как бы мне хотелось, чтобы вы были царем, а я вашим другом, но теперь прощай беззаботная жизнь и свобода! Я рассмеялся, а Бэс и бровью не повел — только повернулся к своей женушке, которая уже взирала на него свысока, и сказал: — Госпожа Карема, наведи на себя красоту, да побольше, и забудь, что когда-то ты была Чашей или чем там еще, безусловно полезным, ибо отныне тебе суждено стать царицей, коли ты придешься по нраву моему народу. — А что, если я не придусь ему по душе, муженек? — полюбопытствовала Карема, распахнув свои прекрасные глаза. — Даже не знаю, женушка. Может, меня отвергнут, хотя горевать по такому случаю я не стану. Или тебя, потому как уж больно ты кожей бела, а все царицы эфиопов чернокожи, и тогда я уж точно не выдержу и зальюсь слезами. — А если они и впрямь отвергнут меня, потому что я белая, вернее коричневая, а не черная, как агат, что тогда, о муженек? — Тогда — о! — тогда не могу сказать, о женушка. Может, они отошлют тебя обратно на родину. Может, упекут в храм, где ты будешь жить в одиночестве, хоть и в достатке. Помню, как-то раз они упекли туда одну белую женщину, нарекли ее богиней и поклонялись ей до тех пор, пока она не померла с тоски. А может… ну, я даже не знаю. Тут Карема вышла из себя. — В таком случае уж лучше я осталась бы Чашей, — сказала она, — и служила дальше святому Таноферу — по крайней мере, он учил меня всяким таинственным фокусам, — вместо того чтобы забраться в такую глушь к чернокожим дикарям за компанию с карликом, который хоть и царь, но, как видно, не имеет никакой власти, потому что даже не может защитить свою избранницу-жену. — Ну почему женщины всегда впадают в раж за здорово живешь? — робко вопросил Бэс. — Ладно бы попрекать меня, когда б такое и впрямь случилось. — Если хоть что-нибудь похожее случится, муженек, я и не такое скажу, — огрызнулась она. Однако спор на том и закончился, поскольку как раз в это время наша лодка подошла к берегу и в воду с дикими песнями тут же кинулась часть встречавших нас туземцев, чтобы вытащить лодку на прибрежный песок. Бэс встал на носу лодки, потрясая луком, и ответом ему был громогласный крик: — Карун! Карун! Это он! Он вернулся через столько лет! Туземцы дважды прокричали так и тут же все как один пали ниц, уткнувшись лбами в песок. — Да, народ мой! — воскликнул Бэс. — Это я, карун, чудесным образом избегнувший многих опасностей в дальних краях благодаря Саранче — на небесах и, как вам, верно, рассказали мои посланцы, дорогому моему другу, благородному Шабаке-египтянину, соблаговолившему прибыть со мной и какое-то время у нас погостить… Так вот я наконец вернулся в Эфиопию, дабы оделить вас мудростью, как солнце — светом, излив его на ваши головы топленым медом. Кроме того, памятуя о наших законах, которыми я некогда пренебрег и оставил вас, я обошел весь свет, пока не нашел самую красивую девушку на земле и не взял ее себе в жены. Она также соблаговолила прибыть в эту далекую землю, дабы стать вашею царицей. Подойди же, прекрасная Карема, и покажись народу моему, эфиопам. Карема вышла вперед и встала рядом с Бэсом — то была странная парочка. Эфиопы, поднявшись на ноги, впились в нее глазами, и тут один из них сказал: — Карун назвал ее красивой, но на самом деле она почти белая и на редкость уродливая. — Во всяком случае, она женщина, — проговорил другой, — ведь у нее женская фигура. — К тому же он женился на ней, — заметил другой, — и даже царь вправе хоть раз выбрать себе жену. Да и можно ли в таких делать судить о вкусах? — Довольно! — властно сказал Бэс. — Это сегодня она кажется вам некрасивой, посмотрим, что вы скажете завтра. А теперь дайте нам сойти на берег и перевести дух. Пока мы высаживались на берег, у меня была возможность рассмотреть эфиопов. Они были высоки и черны как смоль; у них были полные губы, белые зубы и плоские носы. Глаза — большие, а белки — желтоватые, волосы — курчавые, точно шерсть, бороды — короткие, лица — неизменно улыбчивые. Что до одежды, то они были почти нагие, хотя старейшины или вожди рядились в леопардовые шкуры, а некоторые — в некое подобие шелковых туник с поясами. У всех имелось оружие: луки, короткие мечи и маленькие, круглые щиты, обтянутые шкурой не то гиппопотама, не то носорога. Они были буквально увешаны золотом — даже не самые знатные носили на руках широкие золотые браслеты, при том что шеи вождей обвивали массивные крученые золотые ожерелья, а у некоторых тяжелыми браслетами из того же золота были обхвачены и лодыжки. Обуты они были в сандалии; головы у одних были украшены страусиными перьями, а у других, которых я принял за жрецов, — искусной отделки золотыми ободами в форме саранчи. Однако ни одной женщины среди них не было. Солнце опускалось все ниже, и нас сразу провели к роскошному шатру, сплетенному из льна и расшитому, как я уже говорил, шелком и золотом, — там для нас приготовили богатую трапезу, состоявшую из молока в кувшинах, жареной и пареной баранины и говядины. Между тем Бэса препроводили в другое место, что разозлило Карему пуще прежнего. Не успели мы покончить с едой, как в шатер вошел гонец и возгласил: — Падите ниц! Немедля всем пасть ниц: Саранча идет! Карун идет! Здесь я должен заметить, что титул карун означает «Великая саранча», но Карема, не знавшая этого, спросила в недоумении, с какой стати ей преклоняться перед какой-то саранчой. Она не поклонилась, даже когда в шатер вошел Бэс, облаченный в пышную цветастую мантию с длинным шлейфом, который поддерживали двое его здоровых соплеменников. В своем наряде он выглядел до того нелепо, что мы с матушкой тут же склонились чуть ли не до земли, стараясь спрятать улыбки, а Карема при виде его сказала: — Было бы куда лучше, муженек, если бы полы твоего наряда несли детишки, а не эти верзилы. К тому же, если ты вздумал разукраситься под саранчу, то дал маху, потому как у саранчи окрас зеленый, а на тебе сплошь золото да пурпур. Потом, у саранчи нет перьев на голове, а у тебя хоть отбавляй, и все торчат сикось-накось. Бэс закатил глаза, словно от боли, повернулся и велел сопровождавшим его здоровякам выйти вон. Те повиновались, хоть и неохотно, поскольку не желали оставлять своего повелителя наедине с нами, после чего он задернул полу шатра, сбросил свое пышное облачение и сказал: — Как ты не понимаешь, женушка, наши обычаи совсем не то, что у вас в Египте. Там я был счастлив как раб, а тебя держали за чудесную Чашу святого Танофера, хоть и премудрую. Здесь же я несчастный царь, а ты — неказистая, неразумная чужеземка. О, никаких возражений, молю тебя, знай только, что пока все складывается замечательно. До поры ты будешь считаться моей женой и подчиняться решениям совета старших женщин и моих родственниц, ибо только они могут решить, когда нам выдвигаться в город Саранчи и признают ли тебя царицей эфиопов или не признают. Нет-нет, ничего не говори, прошу, поскольку мне нужно идти, прямо сейчас, ибо по законам эфиопов для Саранчи пришло время ложиться спать, в одиночестве, Карема, потому как тебя еще не нарекли моей женой. Ты можешь спать с госпожой Тиу, а для Шабаки приготовили отдельный шатер. Сладких тебе снов, женушка. Ну вот, слышите? Меня уже зовут. — Ну, ежели я сама по себе, — заявила Карема, — тогда посплю лучше в лодке и завтра же отправлюсь назад в Египет. А ты что скажешь, благородный Шабака? Но я ничего не сказал, и Бэс, так и не услышав моего ответа, вышел из шатра, предоставив ей обсуждать что да как с моей матушкой. Я увидел, как верноподданные толпой сопроводили Бэса ко сну — в другой шатер, а сами, расположившись вокруг, принялись играть на музыкальных инструментах. Вслед за тем один из них пришел за мной и отвел меня в отведенный мне шатер, где помещалась хорошая постель, где я должен был спать. Впрочем, уснул я не сразу, потому что меня разбирал смех, да и потом, как тут заснешь, когда кругом грохотали барабаны и трубили рога, услаждая слух Бэса. Теперь я понимал, почему он любил приговаривать, что уж лучше быть рабом в Египте, чем царем в Эфиопии. Утром я поднялся чуть свет и спустился к реке искупаться. Но не успел я заняться водными процедурами, как заметил, что ко мне направляется Бэс с немногочисленной свитой. — Давненько не было у меня такой ночи, господин, — сказал он. — По крайней мере, с тех пор, как вы захватили меня в плен много лет назад, ибо законом мне запрещено останавливать барабанный бой и глас рогов. Однако отныне, и опять же по закону эфиопов, до восхода солнца я считаюсь сам себе хозяин, вот и пришел нарвать вон тех голубых лилий в подарок Кареме, ведь она так их любит. К тому же, боюсь, она все еще злится на меня, а они, надеюсь, ее утешат. — Конечно, злится, да еще как, — подтвердил я. — Во всяком случае, давеча вечером, когда мы прощались, она была вне себя. О, Бэс, ну зачем ты позволил своим подданным называть ее уродицей? — А что мне было делать, господин? Разве ты никогда не слыхал, что в одном эфиопы непревзойденны, а именно: если они что говорят, то только правду. Она им чужая, вот и не приглянулась. И ежели они говорят, что она уродица, стало быть, так оно и есть. — Но такая правда ей совсем не по душе, Бэс, и Карема, не сомневаюсь, скоро сама тебе об этом скажет. А что они думают обо мне? Должно быть, тоже держат за урода? — Что верно, то верно, господин. Они также думают, что ты из тех, кто ловко владеет луком и мечом, а у эфиопов это в большом почете. О матушке твоей они ничего не говорят, потому как она в преклонных летах, а старость у нас в почете, ибо Саранча ждет их к себе. Я снова рассмеялся и пошел с Бэсом собирать лилии. Они росли у края зарослей камышей, переплетенных под напором течения. Бэс распластался на животе, прямо на этой камышовой подстилке, покуда приближенные молча и с любопытством наблюдали за ним, держась поодаль от берега, и простер вперед свои длинные руки, силясь дотянуться до бело-голубых лотосов. Едва он успел ухватить пару цветков и дернуть их на себя, как вдруг подстилка под ним разошлась в стороны и он провалился в воду. В следующий миг я увидел, как бурая вода вспенилась и закружилась — из нее будто вырос огромный крокодил. И бросился на Бэса с разверзшейся пастью. Будучи неплохим пловцом, Бэс метнулся в сторону, стараясь уклониться от нападения, и тут я услышал, как громадные крокодильи зубы с лязгом сомкнулись, впившись в короткую кожаную подвеску у него на поясном ремне. — Злой дух явился за мной! Прощайте! — крикнул Бэс и скрылся под водой. Как уже было сказано, перед тем я почти разделся, собираясь искупаться, не успел снять короткий меч — он так и висел у меня на поясе. В мгновение ока я выхватил его и под крики насмерть перепуганных эфиопов, наблюдавших за происшедшим с берега, кинулся в реку. Среди пловцов мне не было равных, к тому же я хорошо нырял с открытыми глазами и мог надолго задерживать дыхание под водой, поскольку упражнялся в этом с детства. Я тут же увидел, как огромная тварь устремилась вниз, к илистому дну, утаскивая с собой Бэса, чтобы его утопить. Но река в этом месте была очень глубокая, и, сделав пару-тройку гребков руками, я изловчился поднырнуть под крокодила. Затем что было сил метнулся вверх — и вонзил меч в мягкую часть его глотки. Почувствовав боль от впившегося в нее железного клинка, тварь выпустила Бэса и повернулась ко мне. Не знаю, как все случилось, но через мгновение я уже оказался верхом на твари и дубасил ее по глазищам кулаками. Один удар, по крайней мере, пришелся в цель — ослепленная бестия выскочила на поверхность, утаскивая меня следом за собой… и — о чудо! — я с жадностью принялся хватать ртом воздух. Так мы и вынырнули на поверхность: я, верхом на крокодиле, точно на лошади, из всех сил колол его мечом, а Бэс, безоружный, лишь дико вращал глазами. Тварь все еще была жива, хотя истекала кровью, но от боли и ярости она словно обезумела. Между тем эфиопы стояли на берегу и кричали, не в силах мне помочь: у них были только луки, однако стрелять они не решались, боясь ненароком попасть в меня. Потом крокодил стал опять погружаться в воду, отчаянно молотя передними и задними лапами. И тут я вспомнил один трюк, который проделывали прибрежные жители Нила: я видел это не раз собственными глазами. Дождавшись, когда огромные челюсти крокодила разомкнутся, я вставил между ними свой короткий меч так, что рукояткой он уперся в язык твари, а острием — ей в небо. Крокодил попытался сомкнуть челюсти, но не тут-то было: ему мешал крепкий железный клинок — и они так и остались широко открытыми. Затем я ослабил хватку и всплыл на поверхность, целый и невредимый, если несчитать царапины на запястье, оставленной одним из его острых зубов. Следом за мной всплыл крокодил — он истекал кровью и бился в судорогах. Что было дальше, я не знаю — помню только, что очнулся уже на берегу, в окружении склонившихся надо мной эфиопов, среди которых был и Бэс. А рядом, на мелководье, валялся издохший крокодил — между челюстями у него все так же торчал мой меч. — Ты ранен, господин? — в ужасе воскликнул Бэс. — Похоже, самую малость, — ответил я, усаживаясь и осматривая свою окровавленную кисть. Бэс отстранил Карему, которая выбежала к нам из шатра, едва прикрыв наготу, и сказал: — Все хорошо, женушка. Сейчас я принесу тебе лилии. Но прежде он припал к моим рукам, облобызал их, поцеловал меня в лоб и, повернувшись к толпе, горячо воскликнул: — Давеча вечером вы спорили, позволить ли этому благородному египтянину остаться у меня в гостях здесь, в Эфиопии. Кто из вас готов снова затеять этот спор? — Никто! — хором прокричали его соплеменники. — Он не человек, а бог. Ибо ни один человек неспособен на такой подвиг. — Вот именно, — уже спокойно проговорил Бэс. — Во всяком случае, такое никому из вас не под силу. Однако он не бог, а человек, имя которому герой. А еще он мне брат, и, пока я царствую в Эфиопии, он будет править вместе со мной, иначе мы с ним уйдем. — Да будет так, карун! — в один голос прокричали они. И следом за тем перенесли меня в шатер. У шатра ждала моя матушка — она с чувством гордости поцеловала меня перед всеми, и эфиопы снова восторженно закричали. Так закончилось это приключение с крокодилом — остается только добавить, что потом Бэс вернулся на берег за двумя лилиями для Каремы, лежавшими уже в лодке, и это лишний раз убедило эфиопов, что он и правда ее очень любит, хотя и не так сильно, как меня. Тем же вечером, разместившись на носилках, мы отправились в город Саранчи и прибыли туда через четыре дня. На подходе к городу нас встречали толпы народа числом не меньше двенадцати тысяч человек, а то и больше, и в город мы вошли в сопровождении огромного скопища людей, распевавших торжественные песни под аккомпанемент музыкальных инструментов, да так громко, что у меня голова шла кругом. Это был большой город с глинобитными домами под камышовыми кровлями. Стоял он на широкой равнине, и посреди его громоздился естественный каменистый холм, на гребне которого возвышался сложенный из сверкающего мрамора и покрытый металлической, отливавшей золотом крышей храм Саранчи — обнесенное колоннами здание, очень похожее на египетские святилища. Вокруг храма размещались другие строения, в том числе дворец каруна, окруженный тройной мраморной стеной, служившей ему надежной защитой от вражьих набегов. Еще никогда прежде не видывал я ничего более прекрасного, чем этот холм с его ослепительной белизны зданиями, крытыми золотом и медью, ярко блестевшими на солнце. Спустившись с носилок, я подошел к паланкину, где сидели моя матушка с Каремой, — к Бэсу, преисполненному собственного величия, приближаться было запрещено — и поделился с ними впечатлениями от увиденного. — Да, сынок, — ответила матушка, — видно, и впрямь стоило проделать такой долгий путь, чтобы поглядеть на эдакую красоту. Я обрету последнее пристанище в прекрасном месте. — А я все это уже видела, — вступила в разговор Карема. — Когда же? — полюбопытствовал я. — Не помню. Наверно, когда была Чашей святого Танофера. По крайней мере, здесь мне все знакомо. Хотя и совсем не в радость, поскольку чего стоит страна, где белых считают страшилищами, а жене если и позволено приближаться к мужу, то разве что между полуночью и рассветом, когда смолкает их жуткая музыка. — В твоей власти поменять их обычаи, Карема. — Да, — воскликнула она, — уж я постараюсь! После этого я вернулся к своим носилкам.
Глава 15
ЗОВ О ПОМОЩИ
У ворот города Саранчи нас встречали по-царски. К нам вышли жрецы, толкавшие перед собой плоскую колесницу с огромным изваянием своего божества, и мне, помнится, тогда даже стало любопытно, сколько может стоить эта золотая громадина, если ее переплавить. Вышли к нам и члены совета, все как один вековые старцы — эфиопы в основном живут больше ста лет. Может, потому их и обрадовало возвращение Бэса: они были слишком стары и не могли удерживать власть в своих руках, хотя были вынуждены править во время его долгого отсутствия. Ведь кроме Бэса среди живущих эфиопов не было никого с истинно царской кровью, кто мог бы занять его место на престоле. Были там и тысячи женщин, широколицых, улыбающихся; их черная кожа, смазанная маслами, блестела, поскольку из одежды на них были только набедренные повязки, не считая золотых украшений. У некоторых золотые серьги были размером с ладонь, а в носах у многих торчали большие золотые кольца, в точности как у египетских быков. Матушка рассмеялась при виде их, а Карема сказала, что, по ее мнению, выглядят они ужасно, просто отвратительно. Странный народ, эти эфиопы: большинство из них были как дети — веселые и добрые и совершенно не способные сосредоточиться на одной вещи более чем на минуту. Они могли плакать и одновременно смеяться. Была у них и своя знать — люди высокопросвещенные, хранители многих древних знаний. Они создавали законы, которые могли бы показаться чужеземцу несуразными, строили храмы, управляли золотыми, железными и медными копями и занимались искусством. То были настоящие господа, окружившие себя рабами, которые, впрочем, жили в полном довольстве, ибо на своей плодородной земле не знали ни нужды, ни лишений. Так и протекала жизнь эфиопов от колыбели до могилы — среди песен, цветов и нехитрых трудов, за исключением которых делали они что хотели и любили кого хотели, и особенно своих чад, а детей у них было множество. Эфиопские мужчины по натуре своей и традиции были воинами и охотниками; они мастерски владели луками, и на войне, когда она случалась, впрочем довольно редко, им не было равных. В самом деле, к тому времени, когда мы нагрянули к ним, у эфиопов совсем не осталось врагов, и они сразу же стали упрашивать Бэса, чтобы он повел их на какую-нибудь войну, поскольку им уже было невмочь пасти скотину да возделывать поля. Все это я узнавал постепенно, как и то, что эфиопы были великим народом и могли снарядить семидесятитысячное войско на войну, оставив достаточно воинов для защиты своей земли. О том же, что творилось за ее пределами, большинство из них имело слабое представление, хотя мудрецы, с которыми я беседовал, знали многое, поскольку они путешествовали в Египет и другие страны, чтобы изучать чужеземные обычаи и традиции. А что до их собственных верований, эфиопы поклонялись только одному божеству — Саранче, и, подобно этому насекомому, они беззаботно прыгали и стрекотали на протяжении всей своей жизни, а когда приходила зима, пора смерти, они так же легко перепрыгивали в иной мир, о котором ничего не знали, оставляя после себя потомство, чтобы оно могло так же греться под лучами грядущего лета жизни. Вот такими были эфиопы. Что касается церемоний, проведенных по случаю приема Бэса и его повторного венчания на царство как каруна, об этом я мало что знаю, поскольку от укуса крокодила у меня началось заражение крови, я сильно занедужил и целую луну, а то и больше пролежал в роскошных дворцовых покоях, где золота, кажется, было столько, сколько глиняных горшков в Египте, и где вся посуда была из чистого хрусталя. Если бы не искусные эфиопские лекари и, главное, не заботы моей матушки, думаю, я бы, несомненно, умер. Ведь это матушка воспротивилась, когда они было вознамерились отрезать мне руку, и поступила мудро, потому как рука у меня постепенно зажила и снова стала как новенькая. В конце концов я выздоровел и, выйдя на площадку перед дворцом, был представлен Бэсом народу как его спаситель и как второй после него человек в царстве, чего я никогда не забуду, как и оказанного мне восторженного приема. В качестве жены Бэса народу представили и Карему, прошедшую через испытание в кругу старейших женщин, и то, думаю, лишь потому, что, как выяснилось, она вот-вот должна была произвести на свет наследника престола. Поскольку ее красоту они восприняли как уродство и так и не смогли понять, как вышло, что, вопреки общепринятым в Эфиопии традициям, разрешающим царю иметь только одну жену — дабы потом их дети не перессорились, — выбрал на эту роль белую женщину. Поэтому они приняли ее сдержанно, хотя перед тем долго шептались, споря меж собой, что привело Карему в ярость. Однако, когда пришел срок и на свет появился младенец, чудный, ладненький чернокожий мальчуган, они смилостивились над нею, а когда она родила второго, они уже возлюбили ее всем сердцем. Но Карема все им припомнила — и все так же испытывала к ним неприязнь. Не очень сильно была она привязана и к своим чадам, потому как они были чернее ночи, что, по ее словам, лишний раз доказывало, сколь заразна кровь эфиопов. Что верно, то верно, я и сам не раз замечал, что, если эфиоп брал себе в жены женщину другого цвета кожи, потомство у них рождалось чернокожее, и так до третьего, а то и четвертого колена. В общем, Карема не чаяла скорее вернуться в Египет: ей была не в радость даже роскошь, которая ее окружала. Она желала этого так страстно, что даже стала заниматься колдовством, которому научилась у святого Танофера, и подолгу просиживала, всматриваясь в наполненный водой хрустальный шар, силясь разглядеть, что сейчас происходит в Египте. Благо она вновь обрела большую часть своего дара и обо всем, что видела, непременно рассказывала мне, потому как делиться своими тайнами больше ни с кем не хотела, даже с мужем. Так, однажды она увидела Амаду, коленопреклоненную и рыдающую перед статуей Исиды в храме, и это сильно меня опечалило. Видела она и святого Танофера, погруженного в раздумья во мраке Бычьей пещеры, и прочла в его мыслях, что он думает о нас, хотя о чем именно, узнать не смогла. А еще Карема увидела восточных посланников, передающих какие-то свитки фараону, и по его лицу догадалась, что он встревожен и что Египту снова грозят беды. И тому подобное. Вскоре слухи о чудесных способностях Каремы разлетелись по всей стране, и эфиопы стали бояться ее колдовских чар — с тех пор, что бы они там себе ни думали, никто больше не смел называть ее уродицей. К тому же дар у нее был самый что ни на есть настоящий: когда она рассказывала мне о тех или иных вещах, как, например, о прибытии восточных посланников, это непременно случалось, и тогда мне многое становилось понятно, хотя толковать свои видения она сама не могла.Теперь, после того как я снова окреп, а Бэс прочно обосновался на престоле, мы с ним решили заняться тренировкой и обучением эфиопского войска, которое до сей поры являло собой скорее банду разбойников с луками и щитами. Мы разбили воинов на фаланги, как у греков, вооружили длинными копьями, мечами и большими щитами взамен прежних маленьких. Потом мы взялись за лучников — обучили их выдвигаться вперед разомкнутым строем и стрелять из-за укрытия, ну и, наконец, выбрав лучших воинов, назначили их командирами и начальниками. Так, спустя два года моего пребывания в Эфиопии у нас сформировалось войско числом шестьдесят тысяч человек, а то и больше, и я был готов без страха выступить с ним против любой армии мира, поскольку наши воины отличались небывалой силой и храбростью, и потом, как я уже говорил, они были прирожденными воителями. К тому же луки у них были длиннее и крепче, чем у кого бы то ни было, и стреляли эфиопы намного дальше, чем воины с Востока или египтяне. Эфиопские вельможи удивлялись, зачем нам с царем все это нужно, ибо они не видели врага, против которого можно было бы выставить эдакую силищу. Поэтому мы с Бэсом созвали отдельный совет и все им разъяснили, заметив, что воинам надлежит быть готовым к войне во всякое время, потому как, прознав об их богатствах, Царь царей, не исключено, попытается захватить их страну. Так что месяц за месяцем я занимался своим делом, не жалея сил: водил войско в отдаленные уголки Эфиопии, чтобы они привыкали к дальним походам, и несли с собой все необходимое, включая продовольствие. Так продолжалось до тех пор, пока не случилась беда: однажды по возвращении из очередного дальнего похода — нам надлежало покарать одно племя, члены которого расправились с нашими охотниками, и в отместку мы угнали у них несколько тысяч голов скота — я узнал, что моя матушка при смерти. Ее сразила лихорадка, распространенная в это время года, и ей не хватило сил побороть недуг, потому как она была совсем стара и слаба. Поскольку лекарь так и не смог ей помочь, жрецы Саранчи денно и нощно молились в храме за ее здравие. Да, они молились золотому идолу Саранчи, установленному на алтаре святилища, окруженному хрустальными саркофагами с телами усопших эфиопских царей. На меня подобное зрелище произвело безотрадное впечатление, и Бэс тогда спросил, какая разница, кому поклоняться — Саранче или образам со звериными головами, или же карлику, похожему на него, как мы делаем в Египте, и я не нашелся, что ему ответить. — Истина, брат, в том, — сказал он, поскольку с известных пор обращался ко мне только так, — что все люди на свете обращаются с мольбами не к тому, что видят и что должно почитать, а к тому, что они воспринимают как некий знак. Однако, почему эфиопы избрали себе божественным символом вездесущую Саранчу, я, увы, сказать не могу. Как бы то ни было, они поклоняются ей не одну тысячу лет. Когда я подошел к ложу, на котором лежала моя матушка, то застал ее в бреду и понял, что долго она не протянет. Но вскоре сознание у нее прояснилось — она узнала меня, и по ее бледным щекам потекли слезы: ведь я все-таки успел вернуться до ее отхода в иной мир. Она напомнила мне о том, что всегда говорила: умереть ей суждено в Эфиопии, и попросила похоронить ее в земле, а не над землей в хрустальном саркофаге, как велит здешний обычай. Потом она сказала, что видела во сне моего отца и меня и что мне не стоит так печалиться по Амаде, ибо, как ей стало известно, пройдет совсем немного времени и я снова буду целовать ее в уста. Я спросил, означает ли это, что я женюсь на Амаде и что мы будем жить в счастье и достатке. Матушка ответила, что, по ее разумению, я непременно женюсь на ней, а остальное ей неведомо. Тут ее лицо исказилось от боли: должно быть, ей подумалось о чем-то горестном — и, оставив разговоры об Амаде, она попросила Карему принести мне розовые жемчужины, потом благословила меня, помолилась за наше воссоединение в обители Осириса и вскоре умерла. Я распорядился забальзамировать ее по египетскому обычаю и положить в хрустальный саркофаг со скарабеем на сердце, которого Карема подобрала где-то в городе: дело в том, что она везде и всюду искала вещицы, которые напоминали был ей о Египте, благо время от времени путешественники и чужеземцы чего только не привозили оттуда. Вслед за тем, исполнив все подобающие обряды, хоть и за отсутствием жрецов Осириса, мы с Каремой похоронили матушку в гробнице, которую Бэс велел выкопать у лестницы храма Саранчи, а сам Бэс вместе с приближенными наблюдал за церемонией погребения издали. Прощай же, возлюбленная моя матушка, благородная Тиу!
После смерти матушки мне стало очень грустно и одиноко. Покуда она была жива, я и на чужбине чувствовал себя как дома, а теперь ощущал себя изгоем, чужим в чужой стране, где не было ни одного моего соплеменника, с которым можно было бы обменяться хоть словом, за исключением Каремы, но и с нею, во избежание сплетен, до коих эфиопы были весьма охочи, я не решался беседовать подолгу. Впрочем, был еще Бэс, что правда, то правда, но он был великим царем и временем своим, как и все цари, не распоряжался. Кроме того, Бэс оставался Бэсом и эфиопом, а я — самим собой и вдобавок египтянином, так что, невзирая на нашу братскую любовь, мы с ним никогда не стали бы людьми одной крови и родины. Словом, мне стало совсем не по себе в Эфиопии с ее никчемным золотом, влажными, вечнозелеными зарослями и нескончаемым зноем — я безмерно скучал по пескам и сухому пустынному ветру. Бэс, заметив такое, предлагал мне жен, но мне претили чернокожие женщины, хотя они были добрые и веселые, и я не хотел иметь от них потомство, ибо потом уже ни за что не смог бы расстаться со своими чадами. Но я поклялся, что не вернусь в Египет до тех пор, пока не услышу голос, зовущий меня, а он все молчал. Единственное, что мне оставалось, так это довольствоваться дальнейшим обучением войска, которое, однако, мне, как главнокомандующему, некуда было отправить. Наконец я решился. Будучи по природе охотником и воином, я попросил Бэса дать мне несколько храбрецов из числа людей, хорошо мне известных, охочих до приключений и рисковых, чтобы выдвинуться вместе с ними на юг по слоновьим тропам и идти по ним, куда бы ни привели нас боги. В конце концов они непременно привели бы нас к смерти, но какое это имело бы значение для тех, кому жизнь совсем немила? Покуда я вынашивал в уме свои планы, Карема прочла мои мысли — наверное, потому, что и сама так думала, а может, благодаря своему таинственному дару, хотя почем мне знать. Как бы там ни было, в один прекрасный день, когда я сидел в одиночестве, глядя из дворцового окна на лежавший внизу город, она подошла ко мне, такая красивая и загадочная, в любимом своем белом одеянии, и сказала: — Господин мой Шабака, тебе наскучила эта медвяная земля с ее беспечным житьем, ласковыми ветрами, цветами, золотом, хрусталем и чернокожими обитателями, которые вечно скалят зубы, пустозвонят и сторонятся тебя, разве нет? — Да, царица, — ответил я. — Не называй меня царицей, господин мой Шабака, я устала от этого имени, да и от всего остального, как и ты. Зови меня Каремой-кочевницей или Каремой-Чашей, как тебе угодно, только не царицей, заклинаю тебя именем Тота, бога мудрости. — Карема так Карема, — согласился я. — Но почем ты знаешь, что я от всего устал, Карема? — А как же иначе, ведь ты не дикарь и все так и живешь с Египтом в сердце, с верой в судьбу Египта и… — она посмотрела мне прямо в глаза… — с помыслами о благородной египтянке. Потом, я мерю тебя по себе. — Но ты, по крайней мере, счастлива, Карема. Ведь ты окружена величием, богатством и любовью, ты жена царя, самого лучшего из людей, и к тому же мать. — Да, Шабака, все это так и вместе с тем не так, ибо разве можно насытиться одними лишь сладостями, если тебе больше по вкусу кислое? Ты только погляди, какие мы чудные. Когда я была девчонкой, дочерью вождя кочевников, сытая и образованная волею судеб, мне наскучила суровая жизнь в пустыне и мое узколобое окружение, потому что я хотела стать мудрее и узнать великих людей. Так я стала Чашей святого Танофера и окружила себя мудростью, таинственной мудростью иного мира, дикой и тонкой мудростью Танофера и тайной мудростью мертвецов, среди которых я жила. Но все это мне тоже наскучило, Шабака. Я была красива и знала это — мне хотелось блистать при дворе, чтобы мною восхищались, вожделели меня… мне хотелось править. И вот я повстречала своего мужа. Он был умен и благороден. К тому же он оказался твоим другом, и я думала, что он, без сомнения, верный и сердечный. Он был царем, или должен был им стать, хотя думал, что я ничего не знаю. Я вышла за него, на что святой Танофер только рассмеялся, хотя и ничего мне не сказал, и вот я стала царицей. И теперь мне иногда хочется умереть или же снова стать Чашей святого Танофера, полной божественной мудрости, разливающейся вокруг меня в безмятежном мраке среди гробниц. Кажется, в этом мире мы уже никогда не будем счастливы, Шабака. — Нет, Карема, нам это только кажется, потому что на самом деле все обстоит иначе. Чем же тебе помочь, Карема? — Менее всего тем, что ты уйдешь восвояси и оставишь меня здесь одну, — ответила она со слезами на глазах. Посмотрев на нее, я подумал, что мне было бы все же лучше уйти, и прямо сейчас, но она, знавшая мои мысли наперед, покачала головой и рассмеялась. — Нет-нет, я сама взвалила на себя это бремя и буду нести его до конца. Разве нет у меня двух чернокожих детишек и мужа-героя, благоразумного и острого на язык, или нет у меня престола и груд золота да хрусталя, о чем я никогда и не мечтала… и разве я не привязана ко всему этому великолепию? Если б ты ушел, я стала бы лишь немного несчастней, только и всего. Но не ради себя я прошу тебя остаться, а ради тебя самого. — Как это — ради меня самого, Карема? Я сделал здесь все, что мог. Создал целое войско, превратил неумелых мальчишек в заправских воинов. Бэсу я больше не нужен, ему нужна ты, его дети да родная земля… а я здесь умираю с тоски. — Но ведь ты можешь использовать свое войско по прямому назначению, Шабака. — Против кого? Воевать-то не с кем. — Против Великого царя Востока. Слушай же! За последнее время дар мой окреп, и теперь я вижу яснее. Только сегодня я видела, как фараон встречается со святым Танофером и Амадой. Все трое были взволнованны, не знаю почему, под конец Амада написала что-то на свитке и передала написанное посланникам — и вот уже те мчатся во весь опор на юг… к тебе, Шабака. Только не смотри на меня с таким недоверием: я верно говорю. — Хорошо, что ты мне это сказала, Карема, потому как через одну луну я оказался бы там, где меня не нашли бы никакие посланники. Но теперь я обожду, а ты пока расскажи все Бэсу. Как думаешь, он даст мне войско для похода в Египет, если будет надобность? Карема кивнула и сказала: — Конечно, и тому есть три причины. Во-первых, он любит тебя, во-вторых, ему тоже наскучили Эфиопия и такая жизнь — в роскоши и лености, и, в-третьих, я скажу ему, что так надо. — Тогда к чему другие две причины? — рассмеявшись, сказал я.
Итак, я остался в городе Саранчи и стал обдумывать, как организовать передвижение войска, чем его кормить и как поддерживать его боеспособность в течение полугода или года; помимо того, я заказал сотням искуснейших мастеров изготовить луки, стрелы и щиты. Бэс не возражал и ни в чем мне не препятствовал. Напротив, он всячески помогал скорейшему воплощению в жизнь всех моих начинаний, издавая соответствующие указы, и тут, как я догадывался, не обходилось без советов Каремы. Так прошло три месяца, и я уже подумывал, не подвел ли Карему ее чудесный дар и что, если видение ее исходило не из сердца, а ненароком сорвалось с губ, лишь бы удержать меня в Эфиопии. Но она и в этот раз прочла мои мысли и только улыбнулась. — Нет, Шабака, — сказала она, — просто с теми посланниками случилась беда: их захватило маленькое племя у пределов Эфиопии… вроде как из-за женщины. Но десять дней тому назад пограничные стражи их освободили. И я снова стал ждать, и ждал до тех пор, пока наконец не объявились посланники: трое египтян и трое эфиопов, подавшихся в Египет изучать его мудрость. Они, все шестеро, в точности подтвердили слова Каремы, сказав, что из-за глупого слуги их захватил в плен вождь какого-то кочевого племени, потому они и задержались в пути. Затем они передали нам свитки, которые им удалось сберечь. Один свиток был посланием фараона к каруну Эфиопии, другой — от святого Танофера к Кареме и третий — от благородной Амады ко мне. Дрожащей рукой я сорвал шелковую нить с печатями и стал читать. В послании говорилось нижеследующее:
«Брат мой Шабака. Ты покинул Египет, сказав, что не вернешься, покуда я, жрица Амада, не позову тебя, а я ответила тебе, что такому не бывать. Еще ты сказал, что если и откликнешься на мой зов, то потребуешь себе награду — меня, а я ответила, что никогда не смогу быть твоей, ибо дважды дала обет Исиде. Так вот я призываю тебя и говорю, что, если ты придешь и победишь, и я буду еще жива, тогда, коли ты по-прежнему будешь того желать, я стану твоею. А дела обстоят так: Великий царь идет на Египет с несметным войском, ибо воинов у него — что песка в пустыне, и у Египта нет никакой надежды одолеть его в одиночку, без сторонней помощи. Он идет, чтобы поработить нашу землю, убить ее детей, сжечь ее храмы, разорить ее города и осквернить ее богов. Больше того, он идет, чтобы схватить меня и силой увезти в свой гарем, дабы подвергнуть унижениям.
Посему, во спасение богов наших и Египта, а также ради моего спасения, заклинаю тебя: приди и выручи нас. Я все так же люблю тебя, Шабака, да, но только в тысячу раз больше, хотя не знаю, любишь ли ты меня по-прежнему. И во имя этой любви я готова нарушить обеты Исиде и пренебречь ее местью, коли она действительно захочет мне отомстить, — я же, в свой черед, буду оберегать ее и поклоняться ей, моля, чтобы гнев свой она обрушила только на меня, а не на тебя. Я сделаю так по совету святого Танофера, по воле фараона и с согласия верховных жрецов Египта.
На этом я, Амада, заканчиваю мое послание. Выбирай же, Шабака, возлюбленный сердца моего».
Таково было послание, от которого у меня голова пошла кругом, а в душе разгорелось пламя. Но я не проронил ни слова — просто спрятал свиток под мантию и стал ждать. Через некоторое время Бэс закончил читать адресованный ему свиток, оторвал глаза от написанного и заговорил, сказав так: — Хочешь ли ты, брат, увидеть, как летят стрелы и сверкают щиты в бою? Если да, случай такой представился. Фараон за самоличной печатью взывает ко мне и просит заключить союз между Египтом и Эфиопией. Он сообщает, что Царь царей идет на него войной и что если он захватит Египет, то, по его же словам, на том не остановится и двинется дальше на Эфиопию, ибо, как ему стало известно, там отныне правит некий карлик, похитивший некогда его Белую печать, а в соправителях у него некий египтянин, убивший некогда его наместника, Идернеса. — И что скажет карун? — осведомился я. Бэс закатил глаза и, повернувшись, к Кареме, спросил: — А что скажет жена каруна? Карема отложила в сторону свиток, который читала, и ответила так: — Она скажет, что получила приказ от своего повелителя, святого Танофера, немедленно прибыть к нему, а зачем — он объяснит по ее прибытии, иначе проклятие его ляжет на нее, детей ее, страну ее и мужа ее, и не только на них, но и на духов, которые служат ему. — Проклятие святого Танофера — дело нешуточное, — сказал Бэс, — и я, почитающий его, знаю это, как никто другой. — Нет, муженек, и потому я отправляюсь в Египет как можно скорее. Похоже, сестра моя умерла в прошлом году и святому Таноферу некем заменить Чашу. — И что прикажешь делать? — спросил Бэс. — Тебе решать, муженек. Но, если хочешь, можешь остаться здесь и приглядывать за нашими детишками, а водительство войском перепоручить благородному Шабаке. Поскольку мы были одни, Бэс скорчил гримасу, закатил глаза и расхохотался, как делал это обыкновенно, прежде чем стал каруном Эфиопии. — О-хо-хо, женушка! — наконец сказал он. — Значит, ты задумала податься в Египет, а меня оставить здесь, чтобы я забавлялся, как нянька, с детишками и чтобы войсками верховодил мой брат, а я, сидючи здесь, приглядывал за стариками да женщинами. Нет уж, у меня другое мнение. Решено, я тоже пойду, если, конечно, брат не против. Не он ли спасал мне жизнь, а я — ему, и все такое? Так что сказано — сделано. Выходит, нам снова суждено сражаться с тобой бок о бок, брат, а после будь что будет, пусть судьба нас рассудит. Скажи лучше, сколько у нас лучников да меченосцев и можем ли мы выступить против Великого царя, с которым у меня, как и у тебя, свои счеты? — Семьдесят пять тысяч, — доложил я. — Прекрасно! Стало быть, через пять дней выдвигаемся с войском в Египет.
Глава 16
ТАНОФЕР НАХОДИТ СВОЮ РАЗБИТУЮ ЧАШУ
Итак, мы выдвинулись в поход — но не через пять дней, а через пятнадцать, поскольку уж больно затянули с подготовкой. Первым делом надлежало узнать мнение совета эфиопов, выразителя воли народа. Поначалу дело не заладилось — поскольку многие были против войны на чужедальней земле, хотя Бэс уверял всех, что лучше самим напасть, чем ждать, когда нападут на тебя. На это члены совета возразили, и справедливо, что здесь, в Эфиопии, защитой нам служат отдаленность и пустыня, к тому же Царь царей, сколь бы велика ни была его сила, несомненно, ослабеет и оголодает, прежде чем ступит в пределы Эфиопии. В конце концов узел удалось рассечь мечом: когда в войсках прознали о споре, все, от командиров до простых воинов, стали ратовать за дальний поход, ибо, повторюсь, эфиопы, все как один, были прирожденными воителями, а поблизости не было ни одного врага, с которым можно было бы свести счеты. Поэтому, когда совет понял, что ему придется выбирать между тем, вести ли войну за пределами Эфиопии или подавлять военный мятеж в ее пределах, он уступил, хотя и выдвинул одно непременное условие: чтобы дети каруна не покидали родную землю, ибо, если с ним что случится, на родине у него останутся единокровные наследники. В довершение всего жрецы обратились за советом к Саранче — и она дала им благие знамения. Оказывается, как мне потом сказали, ее огромный золотой идол как будто вскинулся на задние лапы и зашевелил усищами, что случалось лишь перед тем, как на эфиопскую землю обещала снизойти чудесная благодать. Это напомнило мне поведение статуй наших египетских богов, с поклоном встречавших представляемого им новоиспеченного фараона, или реакцию той же Исиды, которая благосклонным кивком приветствовала Амаду, вознесшую молитвы этой Божественной матери. По правде говоря, я подозревал, что без Каремы тут явно не обошлось. Но что случилось, то случилось. Наконец мы выступили в поход — несметной силой, Бэс командовал меченосцами, а я, будучи у него в подчинении, — лучниками общим числом больше тридцати тысяч человек; меня охватила непередаваемая радость, когда мы сказали все прощальные слова и высвободились из толпы плачущих женщин. Поначалу Бэс с Каремой очень тосковали, расставшись со своими чадами, но через некоторое время снова повеселели, поскольку один предвкушал мгновение, когда извлечет меч из ножен, а другая — когда увидит пески Египта. Долго рассказывать о походе я не стану — скажу только, что продвигались мы медленно, хотя никто не смел чинить препятствий столь могучему войску. Поскольку передвигаться приходилось пешим ходом, за день мы покрывали не больше пяти лиг[361]: даже когда мы подошли к реке, лодок все равно на всех не хватило, к тому же одну пришлось выделить для Каремы с ее свитой. Помимо всего прочего, по дороге надо было кормить и то и дело подгонять скотину. Тем не менее на всем пути до Египта ни один из наших не занедужил, не получил увечий и не возроптал. Когда мы подошли к пределам Египта, нас уже встречали посланцы фараона — они передали нам свитки в ответ на наши, в которых мы перед тем извещали его о нашем прибытии. Вести от фараона были скупые и безрадостные. Из них явствовало, что Великий царь с бессчетными полчищами захватил все города в Дельте[362] и после долгой осады взял в мешок и завладел Мемфисом, вследствие чего египетское войско после отчаянных стычек на суше и на Ниле было вынуждено отступить на юг, к Фивам. Фараон писал также, что он предложил упрочиться в укрепленном городе Амада, ибо никто не ведал, что сталось с войском Нижнего Египта: сдалось ли оно на милость захватчиков с Востока или отступило, поднявшись вверх по Нилу. Фараон благодарил и благословлял нас за обещанную помощь и просил поторопиться, чтобы избавить Египет от порабощения, а его самого — от верной смерти. Среди переданных нам свитков было и адресованное мне послание от Амады, в котором она писала:«О, приди же скорее! Поспеши, возлюбленный мой Шабака, если не хочешь застать меня среди мертвых, ибо я ни за что не сдамся в руки Великого царя. Времени у нас совсем не осталось, и, хотя Амада укреплена достаточно, нам, боюсь, недолго суждено противостоять таким громадным полчищам, да еще с боевыми машинами».
Были среди свитков и послания к Кареме от святого Танофера, писавшего в том же духе: если мы-де не подоспеем через луну по получении нами свитков, все будет кончено. Прочитав послания, мы стали держать совет. Затем двинулись дальше с удвоенной скоростью, отрядив вперед самых быстрых гонцов с просьбой к фараону держаться с войском до последнего копья, до последней стрелы. На двадцать пятый день по получении этих известий мы подошли к большому приграничному городу и застали тамошних жителей в панике: казалось, они и правда обезумели от страха. Там мы переночевали и отведали разных угощений, которыми нас на славу потчевали горожане. Затем, отрядив арьергард в пять тысяч человек из числа самых уставших удерживать город, мы поспешили дальше, тем более что до Амады оставалось еще четыре дня пути. На четвертый день утром нам сообщили, что город то ли вот-вот падет, то ли уже пал, и, когда он наконец показался перед нами, мы увидели, что его осаждают и впрямь неисчислимые восточные полчища, а на Ниле собралась огромная флотилия с греческими и киприйскими наймитами. Хуже того, подоспевшие к нам вскоре посланцы Царя царей объявили: «Сдавайтесь, дикари, иначе еще до следующей зари все как один уснете вечным сном». На это мы ответили, что прежде будем держать совет, а там, может, и решим поутру сдаться, ибо, выдвинувшись из Эфиопии, мы даже не представляли себе, сколь велико на самом деле царево войско, потому как были сбиты с толку извещениями фараона. И что при всем том было бы мудро со стороны Царя царей оставить нас в покое, поскольку отваги и стойкости нам не занимать, а стало быть, ему и впрямь лучше бы отпустить нас обратно в Эфиопию, нежели потерять свое войско в смертельной схватке с нами. С этими словами, а произнес их сам Бэс, посланцы отбыли восвояси. Однако один из них, судя по всему, человек не из последних, громко крикнул своим спутникам, что негоже-де высоким сановникам выполнять подобные поручения и вести переговоры не с человеком, а с обезьяной, чье место скорее на цепи, подвешенной к столбу. Бэс ничего не ответил — только завел свои желтоватые глаза, а когда обидчик был уже далеко и не мог его слышать, сказал: — Клянусь же Саранчой и всеми египетскими богами, что в отместку за подобное оскорбление загоню все войско Великого царя в Нил да там и утоплю, а этого мерзавца посажу на цепь и подвешу к носу царского струга. Такого от него я никак не ожидал.
Итак, когда посланцы отбыли, Бэс распорядился накормить войско и потом всем ложиться спать. — Думаю, — сказал он, — Царь царей не станет нападать на нас прямо сейчас, ибо надеется, что, увидев, какая у него сила, мы этой же ночью уберемся прочь. И вот эфиопы насытились и улеглись спать, благо им это удавалось во всякое время, даже когда они не были настолько уставшими. А пока они отдыхали, Бэс, я и Карема с несколькими военачальниками долго и обстоятельно совещались. Ибо, сказать по чести, совершенно не знали, что делать дальше. Но в лиге отсюда лежал город Амада, осажденный сотнями тысяч захватчиков с Востока так, что в город и из города и мышь не могла проскочить, а за городскими стенами укрывались остатки фараонова войска числом не больше двадцати тысяч человек, если все, что мы слышали, было правдой. Кроме того, на Ниле стояла крупная греческо-киприйская флотилия численностью более двух сотен кораблей, хотя, насколько нам было видно в лучах закатного солнца, многие из них отошли к западному берегу, где египтянам их было не достать. В остальном же позиция наша была неплохая: мы расположились на пустынной возвышенности перед распаханными землями, примыкавшими к восточному берегу Нила. А прямо перед нами, отделяя нас от южного крыла царева войска, простиралось непроходимое болото — и наступать с этой стороны в безлунную ночь не представлялось никакой возможности. Наконец, главные силы восточного войска числом двести тысяч человек, а то и больше размещались к северу от Амады. Все это мы обсуждали хоть и тихо, но истово, сидя под шатром, пока совсем не стемнело и нам уже было не разглядеть лица друг друга и пока рядом спали крепким сном наши воины, которых у нас сейчас насчитывалось под семьдесят тысяч человек. — Мы в ловушке, — наконец проговорил Бэс. — Если будем сидеть и ждать их наступления, они задавят нас числом. А если отойдем, они нагонят нас на верблюдах и лошадях и всех перебьют; к тому же у них есть корабли, а у нас ни одного. Если же мы сами пойдем в наступление, то только через болото и без всякого прикрытия, но тогда мы там все и увязнем. А фараон меж тем гибнет за стенами Амады, которые, того и гляди, сокрушат вражьи тараны. Клянусь Саранчой, я ума не приложу, что делать. Похоже, мы напрасно проделали весь этот путь и не многим из нас будет суждено снова увидеть Эфиопию, да и судьба Египта уже предрешена. Я молчал, поскольку мое полководческое искусство здесь было бессильно, да и сказать мне было нечего. Молча сидели и командиры, и только Карема, истинно женская натура, всплакнула, да я и сам готов был расплакаться, думая, каково сейчас Амаде в ее храме: ведь она, должно быть, сидит там, как овечка в загоне, и ждет, когда придет мясник и поведет ее на заклание. И вдруг за входом в шатер, хотя я думал, что он завешен, послышался чей-то низкий голос: — Я всегда замечал, что эти эфиопы туго соображают после захода солнца, чего не скажешь о египтянах. Странный этот голос показался мне до боли знакомым, но я, как и остальные, не проронил ни слова, потому что все мы испугались и решили, будто он нам почудился. Да и кто мог незаметно подобраться к нашему шатру, обойдя тройное оцепление? Словом, мы застыли как вкопанные, вперившись во тьму, и сидели так, пока ее не разредил мерцающий огонек, похожий на промелькнувшего светляка, как оно часто наблюдается в Эфиопии. Огонек все разрастался, а мы так и сидели, затаив дыхание от страха, покуда в свете огонька не возникла фигура — фигура со старческим, иссохшим лицом, незрячими глазами и седой бородой, какая была только у святого Танофера. В самом деле, невысоко над землей в зыбком свечении мало-помалу обозначилась голова святого Танофера, возникшая, будто отражение от пламени ближайшего бивачного костра. — О возлюбленный мой повелитель! — воскликнула Карема и тут же бросилась к нему. — О возлюбленная моя Чаша! — молвил в ответ Танофер. — Рад, что ты цела и невредима. Вслед за тем полыхнул факел, и — нате вам! — перед нами предстал сам святой Танофер в своей мрачной хламиде. — Откуда ты взялся, дядюшка? — изумился я. — Уж не из дальнего далека, как ты, племянничек, — ответил он, — а прямиком из Амады. Спросишь — как? Это просто, ежели ты старый, нищий слепец, знающий дорогу. Кстати, если у вас осталась какая снедь, я бы с радостью поел чего-нибудь, да и попил, поскольку в Амаде последнее время каждый кусок на счету, а к нынешней ночи из съестного и вовсе почти ничего не осталось. Карема выбежала из шатра и вскоре вернулась с хлебом и вином, чему Танофер несказанно обрадовался. — Давненько не пивал я такого крепкого напитка, — признался он, осушив кубок. — Но уж лучше нарушенный обет, чем разум, особливо когда есть над чем подумать и что сделать. Во всяком случае, надеюсь, боги сказали бы то же самое, случись мне повстречаться с ними прямо сейчас. Ну вот, кажется, я снова полон сил. А теперь скажите, какая у вас сила? — Мы рассказали. — Хорошо. И что думаете делать? Мы покачали головами, потому как не знали, что сказать. — Бэс, — строго молвил он, — похоже, став царем, ты совсем отупел… хотя, может, виной тому твоя женитьба. Ведь все минувшие годы ты строил планы один хлеще другого, да так, что они не успевали слетать с твоих толстых губ. А ты, Шабака, неужто растерял всю свою воинскую удаль да смекалку, которой у тебя было с лихвой, под ласковым ветерком Эфиопии? Или, может, тень неудавшейся женитьбы помутила твой разум? Что ж, тогда спросим женщину, единственную среди стольких мужчин. Так что можешь предложить ты, Карема? Говори скорей, ибо время не ждет. Тут лицо Каремы застыло, глаза затуманились, и она заговорила медленным, размеренным голосом, будто знала наверняка, что говорит: — Предлагаю сокрушить все воинство Великого царя и освободить город Амаду. — Отличный план, — согласился святой Танофер, — загвоздка лишь в том — как? — Сдается мне, — продолжала Карема, — есть в лиге отсюда, вверх по течению, место, где в это время года Нил может перейти вброд любой, кто большого роста, даже не замочив плеч. Так что первым делом я отправила бы к тому броду пять тысяч меченосцев, дабы, перейдя реку, они могли подкрасться к кораблям Великого царя и поджечь их, покуда люди на них бражничают в беспечности своей или спят мертвым сном. Южный ветер нынче крепок — и корабли заполыхают один за другим. Их команды большей частью поглотит огонь, а остальных добьют пять тысяч наших меченосцев. — Превосходно! Просто замечательно! — сказал святой Танофер. — Но этого мало, ибо на восточном берегу собрались полчища численностью больше двухсот тысяч воинов. Так как же быть с ними, Карема? — Кажется, я вижу дорогу за тем болотом. Она тянется вдоль края пустыни за барханами. Я отправила бы лучников, которых у нас больше тридцати тысяч, под водительством Шабаки по той дороге, и она вывела бы их аккурат за Амаду. По ту сторону от города стелются низкие каменистые холмы. Там я укрыла бы лучников до рассвета. А на рассвете они увидели бы внизу большую часть восточного войска и смогли бы засыпать стрелами из своих луков всю равнину от холмов до самого Нила, к тому же с таким количеством стрел — по сотне на человека — они запросто уложили бы десять тысяч неприятельских воинов, а после, когда остальные бросились бы на них в атаку, добили бы их на ходу, пронзая одной стрелой двоих сразу. — Опять же неплохо, — согласился Танофер. — А как насчет войска Великого царя, что стоит по эту сторону от Амады? — Думаю, еще до рассвета, полагая, что нас совсем немного, оно выдвинется вперед и с первыми лучами солнца начнет пробиваться через болото, поэтому нам не худо бы выставить против него пять тысяч лучников. А когда неприятель все же прорвется, хоть и с потерями, он наткнется на наши плотные ряды с сомкнутыми щитами, но ни конные враги, ни пешие не пробьют в них бреши, ибо еще никому не удавалось вбить клинья в ряды эфиопов, обученных Шабакой и каруном Бэсом. Я говорю: они откатятся, как валы от утеса, и так снова и снова, и все реже и реже, покуда шум битвы и крики ужаса и боли не долетят до их ушей со стороны Амады, где Шабака случниками будет крушить вражье войско с другой стороны и пока вид полыхающих кораблей не ввергнет их в ужас и они наконец не обратятся в бегство. — Неплохо-неплохо, — одобрительно сказал святой Танофер. — Но с обоих фронтов все едино останется немало врагов, ибо восточному воинству нет числа. Как же быть с ними, о Карема? — С этими управился бы и фараон с остатками своих сил, выдвинувшись через северные и южные ворота Амады, иначе они там станут подобны раненым львам, оказавшимся меж двух разъяренных буйволов, которые забодают их и затопчут, — словом, сокрушат всех подчистую. Единственное, я не знаю, как это передать фараону и когда. — Хорошо-хорошо, — снова согласился святой Танофер, — очень хорошо! Что до фараона, я сам скоро ему все передам. Странно, моя треснувшая Чаша, которую я едва не выбросил за ненадобностью, хоть ты и со сколами, однако ж мудрость свою не растеряла. Знай же, как это ни удивительно, все эти планы, которые ты нам тут изложила, пришли в голову и мне, просто я хотел убедиться, сочтешь ли ты их мудрыми или нет. С этими словами он рассмеялся, а Карема простерла вперед руки, будто очнувшись от сна, потерла глаза и спросила, не желает ли он еще откушать. Но Танофер уже говорил о другом — быстро и четко. — Бэс, о царь, — сказал он, — ты, конечно, готов исполнить волю своей жены. А посему пора воинам пробудиться и взяться за оружие. Волею случая там снаружи ждут четверо моих верных людей. Двое из них проведут пять тысяч ваших воинов через брод и дальше к кораблям. А двое других поведут Шабаку с лучниками по дороге, которую Карема знает как свои пять пальцев, наверно, потому, что бродила по ней в детстве. Я же вернусь в Амаду, дабы удостовериться, что фараон сделает свое дело, и своевременно. И еще, если за ночь не управимся, завтра Амада падет, кое-кто из жриц умрет и ты, Бэс, и воины твои больше никогда не увидят Эфиопию. Договорились? Я кивнул, потому что не хотел тратить время на разговоры, а Бэс завел глаза и ответил: — Ежели кому отказывает разум, тому не худо прислушаться к добрым советам других, да и охотником быть куда лучше, чем дичью. И особливо стоит прислушиваться к тому, что говорит святой Танофер или его разбитая Чаша. Командиры, вы все слышали. Поднимайте же воинов, призовите всех к оружию и построению! Командиры мигом выскочили из шатра, метнувшись во тьму, точно стрелы из лука, и следом за тем мы услыхали шум: воины строились в боевые порядки. — Где же твои проводники, святой Танофер? Танофер глянул через плечо, подав знак, и прямо из темноты один за другим возникли четверо и прошли в шатер. То были до странности спокойные люди — больше ничего о них сказать не могу, поскольку их лица были скрыты под покрывалами, да и после битвы мне не было суждено увидеть никого из них: наверное, они погибли… А может, когда еще и объявятся, кто знает. — Вы все слышали, — обратился к ним Танофер, на что они ответили, склонив свои таинственным образом покрытые головы. — А ну-ка, брат, — шепнул мне на ухо Бэс, — скажи мне, сделай милость, как эти четверо, находясь снаружи, могли слышать, о чем говорилось в шатре, и как они умудрились пройти через посты, которым было приказано убивать на месте всякого, кто не знает пароль, тем более что головы у них закутаны в покрывала? — Ума не приложу, — ответил я, на что Бэс только простонал, а Карема едва заметно улыбнулась, словно про себя. — Ну, а раз слышали, выполняйте! — велел святой Танофер, на что те четверо опять же ответили поклоном. — Но разве ты не скажешь им, что они должны делать, о высокочтимый? — нерешительно полюбопытствовал Бэс. — Думаю, это ни к чему, — сухо ответил Танофер. — Зачем учить ученых? — А почему ты не предложила им поесть, ведь они, наверное, тоже голодны? — спросил я Карему. — Молчи, глупец! — с презрением ответила она. — Разве… друзья… Танофера нуждаются в пище? — Думаю, да, и еще как, тем более что после месячной осады города немудрено оголодать. И если их господин хочет есть, почему бы их тоже не накормить? — пробурчал я. Тут меня осенило — и я прикусил язык. Вслед за тем один из командиров вернулся доложить, что все приказы выполнены и воины, все как один, построены. — Хорошо, — сказал Бэс. — Тогда бери пять тысяч человек, выдвигайся к Нилу и сожги эти корабли, чтобы все было по плану, предложенному царицей Каремой, да ты и сам все слыхал, — он перечислил отряды, которые ему надлежало взять с собой, те самые, что находились в непосредственном подчинении его, Бэса, а после прибавил: — Впрочем, несколько кораблей все же оставь — потом переправишься на них вместе с людьми обратно и присоединишься ко мне или к отряду благородного Шабаки, опять же все по плану. И да поможет тебе Саранча добыть победу и не потерять мудрость! Командир отдал честь и спросил: — Кто же поведет нас вброд через великую реку? Двое с покрывалами на лицах выступили вперед, и при виде их командир шепнул мне на ухо: — Не нравится мне их личина. Молю Саранчу, чтоб они не заманили нас в реку смерти. — Не бойся, командир, — молвил святой Танофер из дальнего конца шатра. — Если ты и люди твои справятся с порученным делом и проводники не подкачают, корабли уж точно сгорят заодно со всеми людьми. Только не забудьте взять с собой огонь. После такого напутствия командир с напуганным видом отбыл в сопровождении двух проводников — и вскоре выдвинулся к Нилу во главе пяти тысяч меченосцев. Тут Бэс посмотрел на меня и сказал: — Думаю, и тебе пора выдвигаться с лучниками, брат. Надеюсь, святой Танофер покажет вам дорогу. — Нет-нет, — ответил Танофер, — дорогу ему покажут мои проводники. Не сомневайся, Шабака. Или я оставил тебя там, на Востоке, когда ты угодил в лапы Царя царей и когда смерть ходила по пятам не только за тобой, но и за Бэсом? — Не знаю, — ответил я. — Не знаешь, зато я знаю, да и Бэс с Каремой тоже знают, ибо кто-то отправляет послания, а кто-то получает. И уж коль я не оставил тебя тогда, неужто оставлю сейчас, когда Египет в страшной беде? Ступай за проводниками, которых я тебе даю, и… — тут он потянулся к колчану со стрелами, лежавшему на земле около меня, достал с несвойственной слепцу ловкостью одну, с двумя черными перьями и одним белым на конце, и продолжал: — …попомни мои слова, когда пустишь эту стрелу из своего большого лука и увидишь, куда она попадет. Тогда я повернулся к Бэсу и спросил: — Где же мы снова встретимся? — Не могу сказать, брат, — ответил он. — Может, в Амаде. А если нет, то у престола Осириса или на полях Саранчи, или же во мраке, что поглощает все и вся, даже богов заодно с людьми. — Карема пойдет со мной или останется с тобой? — снова спросил я. — Ни то, ни другое, — прервал нас Танофер, — она пойдет со мной в Амаду, потому как может мне понадобиться, да и там ей будет безопасней. О, ничего не бойтесь, ибо всякий отшельник, хоть и нищий, думает о своих подопечных и о своей Чаше, хоть и треснувшей. После этого я пожал Бэсу руку и ушел, недоумевая, то ли это явь, то ли сон; последнее, что я видел в шатре, — прекрасное лицо Каремы, улыбавшейся мне. Я счел это добрым знаком, потому как знал, что мне улыбнулся сам святой Танофер в сердце своем, а ее глаза были зеркалом его души. И вот уже тридцать тысяч моих лучников были готовы выступить в поход, и я, удостоверившись, что их колчаны полны стрел, а фляги — воды, выдвинулся впереди отряда следом за двумя проводниками. Я поглядывал на них с настороженностью, поскольку опасно было доверять войско незнакомцам: ведь они могли заманить нас прямиком в стан наших врагов. Но тут я вспомнил, что за них поручился сам святой Танофер, мой двоюродный дед, которому я доверял, как ни одному другому человеку на свете, и сразу успокоился. Как же он все-таки подобрался к нашему шатру, недоумевал я, и как он, слепец, думает вернуться в Амаду, хоть бы и с Каремой, если и правда возьмет ее с собой? Что ж, пути святого Танофера неисповедимы: ведь он больше похож на духа, чем на человека. Быть может, на самом деле мы видели не его самого, а то, что у нас, египтян, называется Ка, — его двойника, который может перемещаться с места на место по своему хотению. Но разве Ка могут голодать? Насколько я был сведущ в таких делах, подношения — снедь и питье — возлагают разве что на их усыпальницы. В общем, как бы там ни было, предоставив святому Таноферу поступать как знает, я стал размышлять о предстоящем нам деле — о том, как застать врасплох войско Великого царя. Обогнув болото, мы вышли на неровную возвышенность, и, хотя в темноте было почти ничего не видно, я знал, что мы продвигаемся вверх по склону. Вскоре мы перевалили через гребень холма, и, когда спустились по ту его сторону примерно на тройное расстояние полета стрелы, я почувствовал, что шагнул на дорогу. Здесь проводники свернули влево, и мое войско числом тридцать тысяч лучников цепочкой двинулось за ними следом. Так мы шли в полной тишине, поскольку никакой скотины с собой не гнали и наши ноги, обутые в сандалии, ступали почти бесшумно; к тому же по цепочке был передан приказ всем держать рот на замке — того же, кто нарушит приказ, ожидала смерть. Мы шли так часа два, может, больше, затем опять повернули налево, потом снова двинулись вверх по склону, и я смекнул, что мы, должно быть, уже обошли Амаду. Тут проводники внезапно остановились — по команде, переданной по цепочке, остановились и мы. Один из проводников тронул меня за плащ, отвел чуть в сторону — к гребню холма — и, вскинув белый рукав хламиды, указал куда-то вниз. Я глянул в ту сторону и увидел там, внизу, на расстоянии полета стрелы тысячи бивачных костров в стане царева войска: на сильном ветру они полыхали очень ярко, и пламя от них металось из стороны в сторону. Огни простирались вдаль на целую лигу, и мы находились аккурат напротив середины этой огненной цепи. — Смотри, Шабака, предводитель войска, — впервые за все время заговорил проводник свистящим шепотом, как будто у него не было губ, — у твоих ног спит восточное воинство, столь огромное, что ему даже не было надобности выставлять охранение здесь, на хребте. Построй же лучников в четыре шеренги, так, чтобы с первыми проблесками зари они могли укрыться за скалами и стрелять, не задевая друг дружку. Ты же сам стань здесь, посередине, чтобы твое знамя было видно всем как с севера, так и с юга. А я со спутником моим проведу лучников из головного твоего отряда дальше, где хребет спускается к Нилу, чтобы они встали преградой и разили всякого, кто попытается бежать вниз по реке. Остальное за тобой, ибо мы всего лишь проводники, а не полководцы. Собирай же своих командиров и отдавай приказы! Мы вернулись к войску, я созвал всех командиров, рассказал, что им надлежит делать, и распустил их по своим отрядам. Некоторое время спустя головной отряд из десяти тысяч человек тронулся в путь и скоро скрылся из вида, а вместе с ним исчезли и оба облаченных в белые хламиды проводника, и я их больше никогда не видел. Затем я расположил в порядке готовности главные свои силы, насколько это было возможно в темноте, и велел всем отдыхать или ложиться спать, если кто мог уснуть… А чуть погодя, за полчаса до рассвета, распорядился, чтобы все поели и напились, благо снедь и воду каждый нес с собой, и приготовили к бою луки и колчаны со стрелами. Покончив с этим, я взял несколько доверенных человек, состоявших при мне посыльными и телохранителями, и поднялся с ними на гребень холма, то есть на вершину склона, — там мы залегли и стали наблюдать.
Глава 17
БИТВА… И ПОСЛЕ
Минуло два часа, и по звездам я определил, что скоро займется рассвет. Взгляд мой был прикован к Нилу — к огням, что мерцали на носу кораблей Великого царя. Где же они — те, кому надлежало их поджечь, недоумевал я, поскольку никого из наших не мог разглядеть издалека. Что ж, им предстояло пройти долгий путь и к тому же перейти реку вброд. Может, они еще не подоспели, а может, у них что-то не заладилось. Как бы там ни было, на кораблях царевой флотилии все было спокойно. Ни тебе сигналов тревоги, ни суеты часовых. Наконец забрезжил рассвет, и у меня за спиной послышались шорохи: это поднимались эфиопские воины и тут же принимались за еду, как им было велено, — так что я тоже решил поесть и напиться, хотя был совсем не голоден, чего прежде за мной никогда не замечалось. Покуда на востоке мало-помалу светлело, гладь Нила вдруг озарилась вспышкой не то упавшей звезды, как мне сперва показалось, не то фонаря, раскачивавшегося на ветру, который в это время года дует довольно сильно, особенно на рассвете. Но вот огонек разгорелся ярче — и надо же, в следующее мгновение я увидел, как такелаж одного из кораблей объяло пламя. Оно пожирало снасть за снастью, парус за парусом, разгораясь все сильнее, при том что то же самое происходило и на других кораблях, стоявших ближе к нам, — и в конце концов огонь поглотил их целиком, будто накрыв огромным красным плащом. Наши не сплоховали — флотилия Царя царей полыхала ярким пламенем! И пламя это раздувалось вширь крепкими порывами ветра. Огонь переметывался с корабля на корабль, точно живое существо, потому как они стояли борт к борту, уткнувшись носом в берег, и развести их не представлялось никакой возможности. Впрочем, некоторым все же удалось отойти от берега, но они были объяты пламенем, а на ходу да под таким ветром оно разгоралось еще быстрее. Не успело солнце верхним краем показаться над горизонтом, как на протяжении лиги, а то и больше все обратилось в сплошной костер — с горящих кораблей доносились душераздирающие крики, а огонь буйствовал все сильнее, словно торжествуя свою великую победу. Однако наблюдать за происходящим и дальше у меня не было времени: надо было подниматься и действовать. Небо посерело, но и блеклого света хватало, чтобы оглядеться кругом. И вот, наскоро осмотревшись на местности, я понял, что лучшей позиции для лучников было не сыскать. Спереди склон представлял собой крутой откос длиной под сотню шагов, а то и больше, сплошь заваленный каменными глыбами, — лучшего укрытия для лучников не придумать. Дальше склон был сплошь песчаный и пологий, и взбираться по нему неприятелю было бы трудно. Еще ниже простиралась уходившая вдаль равнина, где и размещался стан захватчиков с Востока, а за долиной, не более чем в двух стадиях от ее дальнего края, уже виднелись берега Нила. Да уж, для столь великого войска позиция была выбрана неудачно: оно там едва могло разместиться, ибо лагерь тянулся на целую лигу в длину, и на всем его протяжении яблоку негде было упасть. Вот из рассветной дымки показались и неприятельские шатры: их было видимо-невидимо, и тянулись они вдаль, насколько хватал глаз, а почти напротив меня, ближе к речному берегу, возвышался огромный, расшитый золотом шелковый шатер, служивший, как я сразу догадался, укрытием его величеству Царю царей. Я убедился в этом наверняка, когда разглядел полоскавшееся над ним царское знамя, уж больно хорошо мне знакомое, поскольку с него-то и была сорвана Белая печать печатей, которую я потом похитил. Воистину у святого Танофера, или его Чаши — Каремы, или его посланцев, или духов, с которыми он разговаривал, — кто его знает — был наметанный полководческий глаз, безошибочно угадавший лучшее место для смертельной западни. Так думал я, когда спешил обратно к моему войску, чтобы собрать командиров и привести все дела в порядок. Много времени на это не ушло, поскольку командиры пребывали в боевой готовности, как и грозные эфиопские воины, набравшиеся сил после отдыха и трапезы: каждый из них уже успел натянуть тетиву на свой лук и развязать пучки стрел в колчане. Когда я подошел к ним, они вскинули руки в приветственном жесте, ибо не смели поднять голос, и я негромко сказал, пустив слова по их рядам, что пришел день, когда им суждено сразиться и победить либо погибнуть во славу Эфиопии и своего царя. Затем я отдал предварительные приказы — и еще до восхода солнца лучники выдвинулись вперед четырьмя шеренгами, укрылись за камнями, припав ничком к земле, и стали ждать решающего мгновения. Краем багряной своей мантии Ра величественно показался на востоке, я присел за камнем, который выбрал себе в качестве укрытия, и огляделся. О, вот уж действительно, Танофер или египетские боги распорядились так, что обстоятельства благоволили нам. Необъятный неприятельский лагерь пробудился, встревоженный тем, что случилось на Ниле. Но рассмотреть происходящее им было не с руки: мешали высокие прибрежные камыши; и тогда, плюнув на приказ и дисциплину, они многотысячной толпой — точно сказать было невозможно, — кто с оружием, кто без, кинулись к песчаному склону прямо под нашими укрытиями и полезли по нему все выше, силясь получше рассмотреть полыхавшие вовсю корабли. Солнце, как водится в Египте, взошло быстро. Его сияющая кромка озарила гребень холма, оставив низины до поры в тени. Время пришло. Я досчитал до десяти, глянул вправо-влево, чтобы удостовериться, что все готовы, и чтобы подпустить скопище врагов поближе, но не дать им подойти к нижней кромке каменных глыб, к которым они мало-помалу подбирались. Затем я подал двойной сигнал — и на него тут же последовал ответ. За спиной у меня взмыло знамя золотой Саранчи на высоком древке и заколыхалось на ветру. То был первый сигнал — по нему все вскочили на одно колено и приложили стрелы к тетивам. Затем я вскинул свой лук — старинный черный лук, который пускал в ход в исключительных случаях, — и натянул тетиву до самого уха. Вдали, за пределами дальности полета стрелы, как сказали бы многие, развевалось знамя Великого царя над его шатром. Туда-то я и целился — и, взяв поправку на ветер, спустил тетиву. Стрела рванулась вперед, сверкнув на солнце, и скрылась в тени, потом снова сверкнула, потом еще раз… и впилась в далекое знамя, пригвоздив его к древку! При виде этого благого знака, восторженный рев прокатился по нашим рядам справа и слева — рев, вырвавшийся из тридцати тысяч глоток. Но вслед за тем он будто растворился в звуке, очень похожем на пронзительное шипение грозового ливня в Эфиопии, — звуке тридцати тысяч стрел, разом рванувших сквозь ветер. О, они были нацелены верно, все как одна, — стало быть, не зря я отдал столько времени и сил на обучение эфиопских лучников. Сколько же врагов пало перед ними? Египетским богам это только и ведомо. Мне — нет. Единственное, что я знаю, так это то, что длинный песчаный склон, сплошь ощерившийся бегущими вверх людьми, вмиг покрылся убитыми — они лежали вповалку, будто спали. Да и какая кольчуга могла выдержать удары стрел ощетинившихся острыми железными наконечниками и выпущенных из тугих эфиопских луков? И это было только начало, потому как летящих друг за другом стрел было столько, что их нескончаемый рой заслонил солнце. Вскоре на склоне не осталось ни одной живой мишени: они пали все до одной, и тогда последовал приказ поднять луки выше и стрелять по неприятельскому стану, целя главным образом по загонам с обозной скотиной. Так что скоро стоявшие там животные частью попадали замертво, частью разбежались в разные стороны. Наконец восточные военачальники огляделись и смекнули, что к чему. С их стороны последовали громкие приказы — и многотысячная неприятельская орава отпрянула к берегам Нила, куда не долетали наши стрелы. Там неприятель перестроился в боевые порядки, и восточные военачальники стали держать совет. Впрочем, совещались они недолго, потому что скоро все их воинство, с целым скопищем лучников впереди, двинулось в сторону холма. Тогда я передал команду по рядам эфиопам, среди которых никто не пострадал, снова залечь и ждать. Захватчики с Востока шли в наступление несметным скопищем, отливавшим пурпуром и золотом; их кольчуги и мечи ослепительно сверкали в лучах восходящего солнца. А их боевые порядки нельзя было охватить одним взглядом. Они подошли к песчаному склону, сплошь заваленному телами их убитых и раненых товарищей, и на миг застыли в недоумении, потому как не видели перед собой противника: чернокожие эфиопы прятались за черными камнями, а их черные же луки не отражали свет. Затем от пышно разодетого десятитысячного отряда так называемых Бессмертных, среди которых, как я догадывался, был и Великий царь в окружении многочисленных телохранителей, отделились глашатаи и, выйдя вперед, выкрикнули приказ «в атаку!». И вся эта орава разом поперла вверх по зыбкому песчаному склону, а я ждал, пока их нескончаемые ряды не подойдут к нам на расстояние пятидесяти шагов, откуда они обрушили на нас град стрел, которые с треском ударялись в каменные глыбы, не причиняя нам ни малейшего урона. Тогда я велел трижды вскинуть знамя Саранчи, которое перед тем было опущено, — и после третьего взмаха вниз по-над склоном устремился тридцатитысячный рой наших смертоносных стрел. Неприятель покатился вниз, отходя все дальше и дальше. А задние его ряды между тем напирали снизу все сильнее, ибо на них было обращено грозное око Великого царя и бежать с поля боя означало неминуемую позорную смерть в страшных муках. Мы не могли перебить и половины наседавших врагов: уж больно много их было. Теперь неприятельские передовые ряды находились уже в десяти шагах от нас — чтобы прицельно стрелять, нам пришлось встать на ноги, и наши воины тут же стали падать один за другим, сраженные вражьими стрелами. Я протрубил сигнал к отступлению в рог из слоновой кости, и мы неспешно, шаг за шагом попятились к гребню хребта, отстреливаясь на ходу. На гребне воины мигом перестроились в две шеренги, встав плотнее друг к дружке на всем протяжении наших рядов по правую и левую руку от меня. И тут я вспомнил трюк, который не раз отрабатывал с моими лучниками в Эфиопии. Выхватив флажок, я подал сигнал прекратить стрельбу и повторил приказ устно, пустив его по рядам, так что в воздух больше не взметнулась ни одна стрела. Неприятель оторопел, заподозрив ловушку, или, может, решил, что у нас вышли стрелы, а я меж тем отрядил гонцов с приказом к нашим передовым отрядам как можно скорее отступить за холм. Не успел я это сделать, как услышал донесшийся снизу окрик: — Великий царь повелевает сокрушить дикарей. Да будет так! В следующее мгновение неприятельские орды хлынули неукротимой лавиной — но не вниз, а наверх. Я выждал, когда они подойдут к нам на расстояние двадцати шагов, и скомандовал «стрелять — ложиться!». Первая шеренга выстрелила — и это было страшно: ни одна стрела не пролетела мимо цели, а многие пронизали сразу двоих, потому как неприятель надвигался сплоченными рядами. Мои лучники выстрелили и упали наземь, чтобы снова вставить стрелы в луки, и в тот же миг вторая шеренга выстрелила поверх них. Затем поднялась первая: дала выстрел — упала, и тут же вскинула луки вторая шеренга и обрушила на неприятеля новый смертоносный град стрел. И вот захватчики с Востока приостановили наступление: передние их ряды лежали вповалку, и задним пришлось бы перебираться через павших, а это было бы крайне затруднительно. Да, застыв на месте, они только сверкали доспехами, в страхе не решаясь сделать вперед ни шагу, в то время как командиры подгоняли их мечами и копьями. Первая наша шеренга выпустила очередную лавину стрел — мы снова упали наземь, предоставив второй шеренге выстрелить поверх нас. Это было уже чересчур: никто не смог бы противостоять столь ошеломительному натиску. Враги тысячами валились как подкошенные — остальные в смятении попятились. Тогда по моей команде рога из слоновой кости протрубили сигнал атаки. Наши, все до одного, перебросили луки за спину и выхватили короткие мечи. — Круши их! — крикнул я и ринулся вперед. Подобно черному потоку, низверглись мы с вершины холма, перепрыгивая через мертвых и раненых. Отступление неприятеля обратилось в беспорядочное бегство: перед лицом наших крепких, черных, как эбеновое дерево, широкоглазых воинов давшим слабину захватчикам с Востока было уже не устоять. Они бежали назад и кричали: — Черные духи! Черные духи!.. Вскоре мы смешались с ними и обрушили на их головы и спины наши короткие мечи. Выбирать цели не приходилось: их было хоть отбавляй. Как стадо обезумевших баранов, развернулись они и в беспорядке побежали к Нилу. Мои команды услышал наш головной отряд, затаившийся в высокой траве на узком болотистом перешейке между каменистыми холмами и Нилом, — при подходе неприятеля наши из засады встретили их ливнем стрел, благо стрелять из-за подступавшего к тому месту каменного откоса было сподручно. Неприятельские колесницы вязли колесами в болоте, лошади и люди, сбившись в кучу, давили друг друга, и так продолжалось до тех пор, пока там не выросла стена из мертвых и умирающих. А мы рвались вперед и главными силами, и арьергардом. Мы наседали и наседали, покуда под стоявшем уже высоко солнцем не увидели, что Великий царь лишился доброй половины своего войска. Тогда мы перестроились, чтобы подсчитать наши потери, благо они были невелики, и напиться из Нила. — Дело еще не кончено! — крикнул я. Потому как Бессмертных оставалось еще немало и они плотно сомкнулись вокруг своего царя. Другие же неприятельские части, а там насчитывалась не одна тысяча воинов, по-прежнему удерживали позиции между нами и стенами Амады, при том что к югу от города располагалось второе царево войско, с которым должен был сразиться Бэс, но о том, удалось ли ему одолеть его, я не знал. — Эфиопы! — воскликнул я. — Еще рано торжествовать победу, ибо битва только началась. К бою, покуда враг не спохватился! И мы двинулись на Бессмертных всеми силами, благо теперь к нам присоединился и головной наш отряд. Построившись в длинные цепи, мы пошли в наступление по залитой кровью равнине, и, завидев это, Великий царь бросил против нас оставшиеся колесницы. Но проку в них не было никакого, поскольку лошадям, хвала богам, было не увернуться от наших стрел. А я заготовил их впрок в изрядном количестве, и нас ими снабжали по мере надобности мальчики-оруженосцы. Словом, до нас докатило совсем немного вражьих колесниц, но и они были уничтожены до того, как успели врезаться в наши ряды. Итак, колесницы были остановлены, а возницы — убиты, однако ж оставались еще построенные в каре Бессмертные. Мы обстреливали их из луков до тех пор, пока у нас не закончились стрелы, после чего, придя в неописуемый раж, они ринулись в атаку. Мы не стали дожидаться, когда они насадят нас на свои длинные копья, а, поднырнув под них, бросились на атакующих с короткими мечами — тогда-то и закипело побоище, жестокое и отчаянное, поскольку захватчики были закованы в кольчуги, а эфиопов защищали только короткие безрукавки из бычьей кожи. Так мы бились, пока нас не начали теснить. В конце концов дело обернулось против нас — мы сотнями падали как подкошенные. И я уже подумал, не отступить ли нам на холмы, тем более что неприятель заметно превосходил нас численностью, а мы совсем выбились из сил. И вдруг — о чудо! — когда все, казалось, обернулось против нас, со стороны Амады послышался громогласный клич, и из распахнутых настежь городских ворот выкатили остатки фараонова войска числом, может, восемнадцать или двадцать тысяч человек. При виде этого я снова воспрял духом. — Держитесь! — крикнул я нашим. — Держитесь! И вот мы держались. Египтяне с ходу набросились на неприятеля, и над их головами я видел реющее знамя фараона. Мало-помалу битва сместилась к берегам Нила, при этом мы находились на севере, египтяне наступали с юга, а неприятель метался между нами. Он пытался обойти нас с фланга, и ему бы это удалось, но тут на глади Нила показались какие-то корабли. Поначалу я подумал, что наше дело худо, ибо это могли быть струги греков или киприйцев, но вскоре я разглядел знамя Саранчи, развевавшееся на носу одного из них, и понял, что это те самые корабли, которые оставили себе пять тысяч наших воинов, спалившие остальную часть флотилии Великого царя. Вот они подошли к берегу, и с их палуб на прибрежный песок ринулось скопище из пяти тысяч воинов, или сколько их там было; не успев ступить на берег, они бросились крушить остатки восточных полчищ. Мы пошли в атаку последний раз, а египтяне тем временем наседали с юга. Наконец — ха-ха! — ряды Бессмертных дрогнули. Мы вклинились в них. Я увидел фараона — узнал его по урею на шлеме. Он был ранен и окружен со всех сторон. Один из Бессмертных, здоровенный детина, ринулся на него с копьем и пронзил насквозь. Фараон пал. Я накинулся на злодея и сразил его, рубанув мечом по шее, но мой меч зацепил его кольчугу и разбился. Битва разгорелась с новой силой, меня оттеснили в сторону, и я увидел только, как фараона понесли прочь с поля брани. И тут — ба! — неподалеку от меня возник сам Великий царь на золоченой колеснице, Великий царь во всей своей славе, каким я видел его когда-то на далеком Востоке. Он тоже признал меня — и пустил в мою сторону стрелу из лука, думая, что это мой старый, добрый лук, не дающий промаха, при этом он вскричал: «Умри же, египетский пес!» Стрела пробила мой шлем, но голову не задела. Я было рванул к обидчику, но достать его не смог. Началась настоящая бойня. Бессмертные были разбиты, как глиняные горшки. Они отступали, сбившись в кучи и отчаянно отбиваясь, — одна такая куча, самая большая, обступала Великого царя. Ненавистный мой враг ускользал от меня. У него остались лошади — он, наверное, рассчитывал прорваться к Нилу, соединиться со своими резервными частями и отступить дальше на Восток, а там собрать новые полчища, числом поболее, благо под его властью находились миллионы людей. Потом он вернется и сотрет Египет в пыль, ибо эфиопы уже не смогут прийти египтянам на выручку, а после захватит Амаду и отправит в свой гарем. Да вот они уже прорываются через окружение, а я так далеко от них и к тому же ранен в грудь и слегка — в ногу, да и меча у меня больше нет. Что я мог поделать? Стрелы у меня тоже вышли, да и оруженосцы исчерпали все свои запасы. Ан нет, одна у меня в колчане все же осталась. Я достал ее. На конце у нее было два черных пера и одно белое. Кто же рассказывал мне о такой стреле? Я вспомнил: Танофер. Мне следовало раньше поразмыслить над смыслом его слов. Сейчас же, недолго думая, я вскинул лук и наложил стрелу на тетиву. Но Великий царь был уже слишком далеко — большинству лучников его было не достать. Колесница царя мчалась впереди его недобитой охраны, а царская свита, некогда окружавшая его жалкую персону, рассыпалась по холмику, где когда-то ютилась деревня, ныне стертая с лица земли. Кольчуга Великого царя поверх шелковой мантии в лучах солнца переливала всеми цветами радуги, спина его была обращена ко мне. Я натянул лук — прицелился — спустил тетиву! Быстрая, дальнобойная, она молнией понеслась вперед… И — клянусь Осирисом! — пронзила его меж лопаток — и вот он, Царь царей, Властелин мира, подался вперед, припал к поручням колесницы и вывалился из нее наземь. В следующее мгновение послышался рев: «Царь мертв! Великий царь мертв! Бежим! Бежим! Бежим!» И враг побежал, а за ним в погоню пустились тысячи преследователей — они рубили и рубили убегавших прямо на ходу до тех пор, пока им хватало сил держать оружие. Однако кое-кому из беглецов удалось улизнуть от преследования, но жители Фив и окрестных поселений вскоре настигли их и перебили, так что на Восток вернулись лишь немногие, и то затем, чтобы рассказать, как было истреблено всесильное войско Царя царей, который по злой прихоти судьбы принял смерть от стрелы, пущенной из большого черного лука Шабаки-Египтянина. Я остановился перевести дух, и тут услышал сбоку голос. Он сказал: — А ты, как я погляжу, неплохо справился с делом, брат, даже лучше, чем мы по ту сторону от города, хотя и у нас там заварушка вышла такая, что аж пыль столбом. Ну а твой последний выстрел и вовсе выше всяких похвал, я сам видел, собственными глазами. Какую-то важную птицу с лету завалил. Пойдем-ка глянем на нее. Я обвил рукой бычью шею Бэса, оперся на него, и мы пошли к тому месту, где одиноко лежал царь, окруженный лишь свитой из убитых соплеменников. — Так он еще дышит, — заметил Бэс. — Давай-ка глянем на его лицо, — он перевернул тело навзничь и разложил на песке; из тела, в двух пядях[363] выше пояса, торчала стрела. — Ба! — воскликнул Бэс. — Так ведь эту самую птицу мы видали на Востоке! — он громко рассмеялся. Тогда Великий царь открыл глаза, признал нас — и его мертвеющее лицо исказила гримаса ненависти. — Выходит, твоя взяла, египтянин, — проговорил он. — О, попадись ты мне тогда еще раз на Востоке, когда я по глупости тебя отпустил… — Тогда ты снова привязал бы меня к своей лодке, той самой, с которой я сбежал благодаря мудрости Бэса. — Хуже того, — тяжело выдохнул он. — Но я не стану глумиться над тобой, — продолжал я. — А оставлю умирать как воина на славном поле брани. Только знай, тиран и душегуб, стрела, догнавшая тебя, была пущена из черного лука, который тебе так хотелось заполучить; и ты думал, что заполучил его… но натянула его вот эта рука… не знающая промаха. — Я уж понял, — прошептал он. — И еще знай, царь, что благородная Амада, которую ты вожделел не меньше, скоро станет мне женой и что несокрушимое войско твое разбито, и что Египет освободили Шабака-Египтянин и Бэс-Карлик. — Шабака-Египтянин, — пробормотал он, — ты же был у меня в руках, а я отпустил тебя, поддавшись грезам и политическому расчету. Значит, Шабака, ты собрался жениться на Амаде, которую я вожделел потому, что не мог заполучить, и, несомненно, ты намерен править Египтом, став фараоном, как думал и я до сего дня. О Шабака, ты сильный и великий воин, но на свете есть вещи посильнее тебя… то, что люди называют судьбой. Твоя удача оскорбляет богов. Посмотри на меня, Шабака, посмотри на Царя царей, правителя всей земли, униженно распростертого в пыли пред тобою, и, проклятый Шабака, не думай, будто тебе так уж повезло, ибо скоро и ты будешь умирать так же, как я. С этими словами он раскинул руки и испустил дух. Мы окликнули воинов, чтобы погрузить тело царя на носилки, и, сопровождая его величественный прах, с триумфом вошли в Амаду. Это был совсем небольшой городок, главным его украшением служил храм, и мы направились прямиком туда. В наружном дворе мы увидели фараона: он лежал при смерти, ибо жизнь источалась из него вместе с кровью через многие раны — лекари тут были бессильны. — Поздравляю тебя, Шабака! — молвил он. — Ты с эфиопами спас Египет. Мой сын пал в битве, да и я вот умираю, так кому же править страной, как не тебе, тебе с Амадой? Когда-то ты хотел жениться на ней и поклялся никогда не оставлять меня. Она была глупа и упряма, а я… завидовал тебе, Шабака. Прости же меня и прощай! Больше он не проронил ни слова, хотя какое-то время еще был жив. Из внутреннего двора вышла Карема. Она поздравила своего мужа, потом повернулась ко мне и сказала: — Благородный Шабака, тебя там ждут, хотят приветствовать. Я оперся на ее плечо, потому как идти самостоятельно не мог. — Что случилось с войском каруна? — спросил я, пока мы шли, очень медленно. — Случилось, повелитель, то, что и предсказывал святой Танофер. Захватчики с Востока пошли на наших через болото, думая подавить их числом. Но тропы оказались слишком узкие, и враги целыми колоннами увязли в топи. И все же они отбивались от эфиопских стрел, а после эфиопы напали на них и, будучи налегке — без громоздких доспехов, — враз одолели, хоть их и было много больше. О, я видела все с кровли храма. Бэс не оплошал, и я горжусь им, как и тобой. — Тебе больше пристало гордиться эфиопскими воинами, Карема, ибо хоть их и было впятеро меньше, чем неприятеля, они сокрушили его в этой великой битве. Мы прошли в конец второго двора, где помещалось святилище. — Входи! — сказала Карема и отступила назад. Я вошел, но, хотя кедровая дверь осталась приоткрытой, поначалу ничего не мог разглядеть, настолько темно было внутри. Мало-помалу глаза мои свыклись с темнотой, и я увидел алебастровую статую богини Исиды в натуральную величину, а на руках у нее — дитя из слоновой кости, тоже в натуральную величину. Затем я услышал вздох и, опустив глаза, рассмотрел женщину в белом, коленопреклоненную в молитве у подножия статуи. Вдруг женщина поднялась с колен, повернулась, и на нее упал луч света, пробивавшегося через приоткрытую дверь. Это была Амада, облаченная в прозрачную жреческую тунику и такая прекрасная, что представить себе невозможно… такая прекрасная, что у меня aж сердце замерло. Она увидела меня в потрепанной кольчуге, с окровавленной грудью, с кровью на лбу, и в ее глазах вспыхнул огонь, какого я прежде в них никогда не видел, — огонь, какой может быть только от факела женской любви. Да, то были уже глаза не жрицы, а женщины, сгорающей от смертельной страсти. — Амада, — прошептал я, — наконец я нашел тебя, Амада! — Шабака, — прошептала она в ответ, — наконец ты вернулся ко мне, к себе домой, — и она простерла ко мне руки. Но, прежде чем я успел заключить ее в свои объятия, она негромко вскрикнула и отпрянула от меня. — О, не здесь, — молвила она, — только не здесь, не на глазах у Священной, ибо она видит все, что творится на небесах и на земле. — В таком случае, Амада, она наверняка видела, какая битва нынче кипела там, на поле брани, за свободу Египта, и знает, ради кого. — Слушай, Шабака. Я твоя награда. Больше того, теперь я твоя женщина. И я не желала ничего так сильно, как твоих поцелуев. Ради этого, и только, я готова отдать свою душу на мученическую смерть. А за тебя я боюсь. Дважды давала я обет этой богине, очень ревнивой к тем, кто отнимает у нее верных прислужниц. Боюсь я, как бы ее проклятие пало не только на меня, но и на тебя, и не только в этой жизни, но и во всех, что будут дарованы нам потом. Ради твоего спасения молю, оставь меня. Я слышала, дядя мой, фараон, умер или при смерти, и престол его, несомненно, предложат тебе. Ты же прими его, Шабака, я на него не претендую. Прими его, а мне предоставь и дальше служить этой богине до самой моей смерти. — Я тоже служу богине, — сиплым голосом ответил я, — зовут ее Любовь, и ты ее жрица. А до Исиды мне нет дела, пусть она сама послужит богине Любви. Иди же ко мне, поцелуй меня прямо здесь, прямо сейчас, а то, боюсь, я вот-вот умру. Поцелуй меня, ведь я так ждал, и давай поженимся. Мгновение-другое она медлила, пошатываясь от порывов страсти, словно высокая тростинка на берегу Нила… а потом — ах! — бросилась ко мне на грудь и прильнула устами к моим.…И после
Несколько мгновений я, Шабака, как будто пребывал в бреду, окруженный розоватой дымкой. Потом я, Аллан Квотермейн, услышал резкий, прерывистый звук, напоминавший бой часов, и открыл глаза. Это действительно били часы, прекрасные старинные часы на камине напротив меня, и стрелки показывали десять часов. Теперь я вспомнил, что несколько столетий назад, уснув глубоким сном, не весть почему, я видел эти самые часы со стрелками в том же положении и знал, что они пробили дважды десять часов. Так что все это значит? И сколько времени прошло — тысячелетия… или всего лишь восемь секунд? На плечо мне что-то давило. Я посмотрел, что это может быть, и увидел изящную голову — леди Регнолл спала сладким сном. Леди Регнолл!.. В том дивном сне, который мне привиделся, она была жрицей и звалась Амадой. А вот и знак молодого месяца у нее повыше груди. Да, но ведь еще мгновение назад я был в храме с Амадой, облаченной так же, как нынче вечером была одета леди Регнолл, и находился с нею в такой близости, что при одном лишь воспоминании об этом меня бросило в краску. Леди Регнолл! Амада!.. Амада! Леди Регнолл! Храм! Будуар! О, я, верно, схожу с ума! Мне не хотелось будить ее: это было бы… совсем уж недостойно. И я, Шабака, или Аллан Квотермейн, так и сидел недвижно, ощущая себя на удивление уютно и пытаясь свести воедино все пережитое, как вдруг Амада… то есть леди Регнолл, сама очнулась. — Интересно, — проговорила она, не поднимая головы с моего плеча, — что сталось со святым Танофером. Кажется, я слышала сквозь мрак, как он отдавал распоряжения, какую могилу рыть фараону и в каком месте, и все приговаривал, что нужно поторапливаться, потому как дни его сочтены. Да-да, а мне хотелось, чтобы он ушел прочь. О Боже! — воскликнула она и тотчас встала. Я тоже поднялся — и мы так и стояли, глядя друг на друга. Между нами, напротив камина, помещался треножник с чашей из черного камня, на дне которой виднелась горстка серого пепла, — остатки тадуки. Мы посмотрели на чашу. — И куда же нас занесло, Шаба… то есть мистер Квотермейн? — вздохнула она, глядя на меня в изумлении. — Ума не приложу, — смущенно ответил я. — На Восток, кажется. Но это… это был всего лишь сон. — Сон? — переспросила она. — Ерунда! Скажите, разве не вы стояли вместе со мной в святилище перед статуей Исиды, той самой, что два года назад рухнула на Джорджа и задавила его насмерть? И разве не вы дарили мне ожерелье из чудесных розовых жемчужин, которое мы повесили на шею статуи в знак милостивого дара, потому что я нарушила данные ей обеты, — то самое ожерелье, которое вы выиграли на спор у Великого царя? — Нет, — торжествующе ответил я, — ничего подобного. Разве я не заслужил эти бесценные жемчужины в сражении? Я отдал ожерелье на хранение Кареме, после того как матушка моя вернула его мне, когда лежала на смертном одре. Я отлично помню. — Да, а Карема потом передала жемчужины мне в знак вашей любви, когда появилась в городе со святым Танофером и принесла с собой нечто куда более ценное для нас в те дни — кое-какую снедь. Потому что мы там умирали с голоду, да будет вам известно. Так вот, а после я соединила этим ожерельем нас обоих в храме в знак нашего вечного союза. Правда, вслед за тем мы решили, что будет разумнее преподнести жемчужины в дар богине… чтобы умилостивить ее, да будет вам известно. О, и как только посмели мы связать друг друга смертной клятвой в ее святилище, в ее же присутствии, и особенно я, дважды присягнувшая ей перед тем в верном служении? То было оскорбление, усугубленное святотатством. — Это только так кажется, потому что любовь сильнее страха, — возразил я. — Но вы как будто спали немного дольше меня. А значит, можете сказать, что было дальше. Сам я помню только… впрочем, далеко не все, — прибавил я, потому как вдруг все вспомнил, но продолжать не мог. Она вся зарделась и пришла в сильное волнение. — У меня мысли путаются! — воскликнула она. — Помню, дальше вышло как-тоглупо… все эти нежности. Но, сами знаете, чего только не бывает во сне. — А, по-моему, вы сказали, это был не сон. — На самом деле я даже не знаю, что это было… А ваша рана больше не болит? Вы тогда просто истекали кровью. И даже испачкали меня, — она прикоснулась к груди и с удивлением оглядела свое священное древнее одеяние, думая увидеть на нем красные следы. — Надо же, ни пятнышка, а значит, это и впрямь был сон. Но, клянусь честью, битва была! — ответил я. — Да, я наблюдала за ней с крыши пилона… О, это было грандиозное зрелище! Помните, как эфиопы атаковали Бессмертных? Ну конечно, помните, вы же сами вели их в бой. А потом фараон Пероа погиб … это был Джордж, чтоб вы знали. И Великий царь пал, сраженный из вашего черного лука… да уж, вы и тогда были не промах… И горели корабли — полыхали ярким пламенем! И много чего еще было. — Да, — сказал я, — было, было. Святой Танофер оказался неплохим стратегом, а может, его Чаша, кто знает. — А вы оказались неплохим полководцем, как, впрочем, и Бэс. О, сколько мук я натерпелась, когда все вдруг стало так неопределенно! Сердце у меня горело огнем, да, я так боялась за… — она вдруг осеклась. — За кого? — спросил я. — За Египет, конечно, а когда я увидела в алебастре ваше отражение — как вы вошли в храм, где, если помните, я молилась за вашу удачу и жизнь, то едва не умерла от радости. Потому что была привязана к вам, Шабака, да-да, чтоб вы знали, и так все время, пока продолжалась моя роль в этой истории, о чем мы, верно, даже не догадывались. Хотя я держалась холодно и упрямилась, я любила, да-да, и в той жизни знала, каково оно — любить. А Шабака выглядел — о! — таким героем в своей изодранной кольчуге и с победоносным блеском в глазах. К тому же он был по-своему красавец. Впрочем, я несу чушь. — Да уж, притом несусветную. Однако жалко, что мы не знаем, чем все закончилось. Жаль, что вы все забыли, хотя я просто сгораю от любопытства. А тадуки, что, больше не осталось? — Ни щепотки, — твердо сказала она, — да и потом, двойная доза за день может быть смертельна. Мы и так узнали все, что нужно. Хотя мне также хотелось бы знать, что было после нашей… женитьбы. — Значит, мы все-таки поженились, не так ли? — Я имела в виду, — продолжала она, пропустив мое замечание, — как долго вы правили в Египте. Потому что править должны были вы, вернее Шабака. А еще — вернулись ли потом захватчики с Востока… может, они изгнали нас или что там было. Знаете, а Дитя из слоновой кости почему-то исчезло — мы нашли его снова в земле кенда только через несколько лет. — Может, мы отправились в Эфиопию, — предположил я, — и ему, то есть Дитя, продолжали поклоняться в каком-нибудь уголке этой страны, после того как Эфиопское царство отжило свой век. — Может быть, только не думаю, что Карема согласилась бы вернуться в Эфиопию, разве что по принуждению. Вы же помните, как ей там все претило. Нет-нет, она даже своих чернокожих детей не желала больше видеть. Впрочем, мы того не знаем, а коли так, что тут гадать. — Кажется, немного тадуки все же оставалось, — горько заметил я. — Точно, я видел в ящике. — Ни понюшки, — с еще большей решимостью ответила она и, протянув руку, захлопнула крышку ящика, прежде чем я успел в него заглянуть. — Так-то оно лучше, поскольку при столь счастливом завершении истории я не желаю — о! — совсем не хочу знать, чем проклятие Исиды обернулось для вас и для меня. — Стало быть, вы в него верите? — Да, верю, — горячо ответила она, — более того, думаю, оно все еще в силе, потому-то, должно быть, все мы и вернулись в этот мир — вы, я, Джордж, Ханс и даже этот старик Харут, с которым мы повстречались в земле кенда и который, думаю, и был святым Танофером. Поскольку, это так же верно, как и то, что я живу, мне доподлинно известно, что, какие бы имена мы сейчас ни носили, вы были полководцем Шабакой, а я жрицей Амадой, египетской принцессой-цесаревной, и над нами, точно грозный меч судьбы, висит проклятие Исиды. Поэтому Джордж и погиб, поэтому… впрочем, что-то я устала, сил нет, — думаю, мне лучше пойти прилечь… Помнится, я уже говорил, что мне нужно было уезжать из замка Регнолл на следующее утро, причем очень рано, поскольку впереди меня ждала охота. О Боже, меня ждала охота! Но что бы там ни говорила Амада, то есть леди Регнолл, тадуки у нее еще оставалось с лихвой — мне ли было не знать.
Книга XIV. ЛЕДЯНЫЕ БОГИ[364]
Ви, лучшему охотнику племени, придётся драться насмерть в ритуальном поединке. Великан Хенга жестокий вождь и не терпит соперников. Он уже втайне от людей убил дочь Ви и пытался убить его самого. Аака, жена Ви, говорила во сне с их мёртвой дочерью, и та сказала, что ночью Ви должен идти молиться Ледяным богам и ждать знака от них…
Глава 1
ВИ ЖДЕТ ЗНАКА
Ви молился своим богам — Ледяным богам, тем, которым поклонялось его племя. Как давно верило в них племя — он не знал. Не знал также, откуда взялось племя, только слышал легенду, что когда-то, в древние времена, их предки, родоначальники, пришли сюда из-за гор, отступая к югу и теплу от грозного холода. Боги обитали в темной, почти черно-синей глыбе льда самого крупного из ледников, сползающих с вершин необъятных снежных гор. Основная масса этого ледника уже лежала в центральной долине, но часть ледяного потока шла по долинам на восток и на запад и доходила до моря. Там весною, зачатые в самом сердце покрытых снегом холмов, рождались дети Ледяных богов; великими айсбергами выходили они из темных недр долины и уплывали на юг. Поэтому обиталище богов — огромный центральный ледник — двигался медленно вперед. Урк-Престарелый, тот, кто видел рождение всех в племени, рассказывал, как дед говорил ему, когда сам Урк был еще совсем маленьким, что в дни молодости деда нижняя оконечность центрального ледника была не больше, чем на бросок копья. Ледник висел на высоте приблизительно двадцати высоких сосен, поставленных одна на другую; висел чудовищной угрозой и медленно, совершенно незаметно, но неуклонно сползал вниз. Большая часть ледника состояла из темного, почти черного льда, который подчас — когда живущие в нем боги разговаривали — трещал и стонал; а когда боги сердились, ледник двигался вперед, иногда на длину руки, и тогда сбривал перед собой стоящие на пути скалы и обрушивал их вниз, в долину, в качестве предвестника будущего своего прихода. Кто эти боги — этого Ви не знал. Знал он лишь одно: что они ужасны и власть их безгранична, что нужно страшиться их и поклоняться им, как поклонялись его предки, и что в их руках судьба племени. В осенние ночи, когда поднимались туманы, кое-кто из племени видел богов. То были огромные призрачные видения, медленно двигавшиеся по леднику. По временам случалось, что боги подходили к самому берегу, на котором жил их народ. Соплеменники Ви слыхали даже, как боги смеются. А жрец племени Нгай-Волшебник и Тарен-Колдунья, — Тарен, любовница Нгая, рассказывали о том, что боги говорили с ними и давали советы и указания. С Ви боги никогда не разговаривали, хотя он не раз оставался целыми ночами лицом к лицу с ними: на это никто в племени не осмелился бы. По временам, — особенно, когда Ви бывал совершенно сыт, доволен и спокоен и охота его была удачна, — боги становились так тихи и так молчаливы, что Ви начинал сомневаться в самом их существовании. Ви тогда думал, что боги — сказка, а то, что называют их голосами, — просто шум льда, ломающегося от морозов и оттепелей. В одном только он не сомневался. Скрытый глубоко во льду, на глубине трех шагов от поверхности, видимый далеко не всегда, а только при определенном освещении, стоял один из богов. Многим поколениям племени он был известен под именем Спящий, ибо он никогда не шевелился. Толком разобрать его очертаний Ви никак не мог. Видел только, что у Спящего длинный нос, у основания толстый как дерево и утончающийся к концу. Под носом виднелись огромные, искривленные зубы. Голова была большая, и сзади нее громоздилось необъятное тело, размером с кита, такое большое, что всех очертаний его до конца нельзя было различить. Это, несомненно, был бог, хотя бы уже потому, что никто во всем племени никогда не видывал подобного ему существа. Впрочем, почему бог спал в глубине ледника — понять никто не мог. Правда, если бы кто-нибудь видел подобное чудище, несомненно, понял бы, что это не бог, а просто мертвое животное. Но существо, вмерзшее в льдину, не было похоже ни на одно известное племени. И поэтому, подобно всем своим родичам и одноплеменникам, Ви считал богом доисторического огромного слона, в начале ледниковой эпохи попавшего в лед — должно быть, за сотни, а может быть, и за тысячи лет до этого принесенного от дальнего места своей гибели сюда — чтобы, очевидно, найти последнее пристанище на дне морском. Бог, несомненно, был странный, впрочем, не хуже многих других богов.* * *
Ви явился к леднику, когда еще не рассвело, после споров с женой, гордой и прекрасной Аакой, явился затем, чтобы получить от богов указания и узнать их волю. А дело было серьезное. Племенем правил сильнейший из мужчин, Хенга, родившийся десятью веснами ранее Ви, мужчина огромный, сильный и свирепый. Закон племени гласит, что править должен сильнейший, править до тех пор, покуда более сильный, чем он, не явится к пещере, в которой живет вождь, не вызовет вождя и не убьет его в единоборстве. Так Хенга убил своего отца, бывшего вождем до него. А теперь вождь угнетал племя. Сам он не работал, но брал у других пищу и меховые одежды, которые они добывали. Более того: хотя женщин в племени было мало и мужчины дрались из-за них, Хенга забирал женщин у их родителей или мужей; держал у себя некоторое время, а затем прогонял или убивал и брал себе новых жен. И никто не смел сопротивляться, ибо жизнь Хенги была священна и он был волен делать все, что ему нравится. Единственный, кто имел право спорить с ним, был, как уже сказано, тот, кто вызовет его на единоборство, ибо убить вождя не на единоборстве считалось великим грехом и убийцу изгоняли из племени и проклинали. Если же вызвавший победил бы, пещера вождя, его жены и все имущество переходили к победителю; победитель становился, в свою очередь, вождем и правил, покуда сам не погибал так же, как и его предшественник. И потому никогда не случалось, чтобы вождь племени дожил до старости, ибо как только с годами он слабел, выступал кто-нибудь моложе и убивал его. Впрочем, по той же причине редко выходили на единоборство с вождем, ибо кто желал им стать, помня, что вождь естественной смертью не умирает и что лучше терпеть угнетения, нежели умереть. Но Ви хотел стать вождем по двум причинам: во-первых, потому, что Хенга был слишком жесток и, во-вторых, он правил племенем неразумно, угнетал его и вел к погибели. И к тому же Ви знал, что если он не убьет Хенгу, то Хенга убьет его, убьет из ревности. Хенга давно убил бы Ви, если бы Ви не пользовался уважением в племени за то, что был великим охотником, за то, что запасы еды в значительной степени пополнялись им, так что убийца навлек бы на себя всеобщую ненависть. Поэтому Хенга, боясь вступить с Ви в открытый бой, пытался уже не раз исподтишка расправиться с ним. Так, например, совсем недавно, когда Ви осматривал свои волчьи ямы на опушке леса, внезапно мимо него прожужжало копье, пущенное с нависающей скалы. Ви подхватил копье и убежал. Он узнал это копье: оно принадлежало Хенге. К тому же, он обнаружил еще одну вещь: кремневый наконечник был смочен ядом, который племя добывало из внутренностей разлагающейся рыбы, смешивая его с соком одной травы. Яд этот Ви легко узнал, потому что сам пользовался им на охоте. Копье он сохранил и никому, кроме жены, не сказал обо всем происшедшем ни слова. А затем дела пошли еще хуже. У Ви был сын Фо, мальчик десяти лет, которого он любил больше всего на свете, и была дочь, годом моложе Фо, по имени Фоя. Детей в племени было мало, и большинство из них умирало в младенчестве от холода, недостатка пищи и различных болезней. К тому же рождавшихся девочек часто выбрасывали на съедение диким зверям. Однажды вечером Фои долго не было, и все решили, что ее растерзали лесные волки, а может быть, горные медведи. Аака плакала, и Ви, когда никто не видел этого, плакал тоже. Два дня спустя, выйдя утром из хижины, он нашел у входа что-то завернутое в звериную шкуру. Развернув тюк, он обнаружил труп маленькой Фои; шея ее была свернута и следы пальцев огромной руки отпечатались на горле. Ви сразу догадался, что сделал это Хенга, и та же мысль пришла в голову всем остальным, ибо никто в племени, кроме вождя, никогда не убивал, если не считать тех случаев, когда люди сражались за женщин. Однако, когда Ви показал тело дочери народу, все молчали и только покачивали головами, и каждый думал, что Хенга — вождь и, следовательно, имеет право убивать. И тогда кровь Ви вскипела, и он сказал Ааке, что хочет вызвать Хенгу на единоборство. — Он об этом только и мечтает, — сказала Аака. — Ведь он дурак; он думает, что сильнее и легко убьет тебя. И тем самым обезопасит себя на некоторое время, пока ты, несомненно, — это даже для него ясно — не убьешь его. А я давно уже хотела, чтобы ты вызвал Хенгу, и знаю, что ты одолеешь его. И она завернулась в свой меховой плащ и улеглась спать. Утром она вернулась к этой теме. — Слушай, Ви. Мне во сне явилось видение. Мне почудилось, что Фоя, наша дочь, стоит у моего ложа и говорит: «Пусть Ви, мой отец, ночью пойдет молиться Ледяным богам и ждет знака от них. Если на заре с вершины ледника упадет камень, то это будет приметой, знаком ему, что он должен бороться с Хенгой, отомстить Хенге за пролитую им мою кровь, что он станет вождем вместо Хенги. Если же камень не упадет, пусть не вызывает Хенгу, ибо в таком случае Хенга убьет его. А затем, убив Ви, Хенга убьет Фо, брата моего, а тебя, мать мою, возьмет себе в жены». — По-моему, Ви, нужно послушаться голоса умершей нашей дочери. Ты должен пойти к Ледяным богам, помолиться им и ждать от них знака. Ви с сомнением поглядел на нее. Он не очень верил в сны и был убежден, что она все придумала, чтобы заставить его вызвать Хенгу на бой. Так он ей и сказал: — Подобный сон — гнилая трость, на которую нельзя опираться. Я знаю, ты давно уже хочешь, чтобы я сразился с Хенгой, хотя он грозный и страшный воитель. Но если я буду драться с ним и он убьет меня, что станется с тобой и Фо? — С нами будет то, чему суждено случиться и ничего больше. А иначе племя начнет твердить, что Ви боится отомстить за кровь убитой дочери ее убийце Хенге. — Знаю только, что если и скажут — скажут ложь. Я беспокоюсь не за себя, но за тебя и за Фо. — В таком случае, ступай к Ледяным богам и жди от них знака. — Я пойду, Аака, но не вини меня потом, если приключится беда. — Беды не будет, — ответила Аака и улыбнулась в первый раз после смерти Фои. Она была уверена, что Ви, несомненно, одолеет Хенгу. Нужно было только заставить его вызвать Хенгу на бой, и тогда он уж отомстит за убитую дочь и станет вождем племени. И потому еще улыбалась она, что была твердо уверена в том, что с вершины ледника на заре, когда солнечные лучи упадут на лед, несомненно, свалится камень.* * *
Итак, на следующую ночь Ви-Охотник тихо выбрался из селения, обогнул подножие высившегося на востоке холма и пошел по ущелью между гор, покуда не достиг основания большого ледника. Волки, бродившие в окрестностях и по-зимнему голодные — весна в этом году припозднилась — почуяли человека и окружили его. Но он не боялся волков; к тому же печаль ожесточила его сердце. Увидев их, с воплем ринулся он на самого большого волка, вожака стаи, и вонзил кремневое копье в его горло. А когда тот завертелся, щелкая окровавленными челюстями, Ви ударом каменного топора вышиб ему мозги бормоча: — Так и ты умрешь, Хенга! Волки поняли, что с этим противником им не справиться и разбежались все, кроме вожака, который остался лежать мертвый. Ви потащил труп на вершину скалы, туда, где стая не могла достать его, и оставил там, чтобы освежевать поутру. Покончив с волком, он продолжал свой путь вверх по холодной долине, куда звери не заходили, так как здесь не было никакой добычи. Он поднимался, пока не достиг ледника. Мощная стена сползающего льда тускло сверкала в лунном свете и заполняла расщелину от края до края; лед был шириной не менее, чем в четыреста шагов. Ви, когда был здесь последний раз, вбил один кол между двух скал, а другой пятью шагами ниже, так как хотел проверить, движется ли ледник. Ледник двигался. Первый кол был уже скрыт под массой льда, язык ледника подбирался ко второму. Боги проснулись, боги шли к морю. Ви вздрогнул. Но вздрогнул он не от холода, к которому привык, а от страха, ибо боялся этого места. Здесь было обиталище богов, скрывавшихся в леднике, богов вечно гневных, в которых он верил. И тут он вспомнил, что не принес с собой жертвы, дабы умилостивить их. Он вернулся туда, где лежал убитый волк, и с трудом, пользуясь острым кремневым копьем и каменным топором, отделил голову волка от туловища. Он вернулся, положил волчью голову на камень у подножия ледника и пробормотал: — Она кровоточит, а боги любят кровь. Клянусь, что если я убью Хенгу, я принесу богам его труп, который понравится им больше, чем волчья голова. Затем он стал на колени и начал молиться. Молился он долго и закончил молитву так: — Укажите же мне, о боги, что делать. Должен ли я вызвать Хенгу на бой, как ведется издавна, и сойтись с ним в единоборстве перед лицом всего народа? Если же мне не делать этого, то как смогу я остаться здесь? Значит, тогда я должен бежать отсюда с женой моей Аакой и с сыном моим Фо и, может быть, с моим приемышем карликом Пагом, мудрым человеком-волком, бежать отсюда и искать себе иного жилища за лесами, если нам удастся пройти через них. Примите мое приношение, о боги, и дайте мне ответ. Если я должен биться с Хенгой, бросьте камень с вершины ледника, а если мне нужно бежать, дабы спасти жизнь Лаки и Фо, не бросайте его. Я жду здесь и буду ждать, покуда солнце не поднимется и не наступит ясный и полный день, и тогда, если камень упадет, я вернусь и вызову Хенгу на единоборство. А если он не упадет, я откажусь от этой мысли и в ночи скроюсь отсюда с Аакой, Фо и с Пагом, если он последует за мной, и тогда у вас будет четырьмя почитателями меньше, о боги! Последняя мысль пришла ему в голову внезапно. Эта мысль очень понравилась ему, и Ви решил, что она должна убедительнейшим образом подействовать на богов, так как почитателей у них было и так немного и потому боги должны были быть не склонны лишаться их.* * *
Ви окончил молитву — занятие, утомительное для него более, чем целый день охоты и рыболовства, — и, продолжая стоять на коленях, глядел на громоздившийся перед ним ледник. Он не имел ни малейшего представления о законах природы, но знал, что если пустить тяжелое тело вниз по скату, то оно понесется все быстрее и быстрее. Он помнил, как однажды убил медведя, скатив на него камень. Вспомнив это, он стал думать, что случится, если вся огромная масса двинется вниз с огромной скоростью, а не с обычной быстротой всего в несколько ладоней за год. Впрочем, представить подобную картину ему помогла память. Как-то в лесу увидал он ледяное дитя, порождение глетчера: увидал, как глыба, величиной с целую гору, внезапно обрушилась вниз по одной из западных долин в море, взметнув пену и брызги до самых небес. Глыба эта не причинила вреда никому, кроме, может быть, тюленей и котиков, игравших в бухте. Но если бы двинулся вниз огромный центральный ледник и вместе с ним все маленькие западные ледники, — что бы случилось с племенем на побережье? Всех бы прибило, всех до единого, и ни одного человека не осталось бы во всем мире. Он, понятно, обо всем мире, о вселенной ничего не знал. Землю называл он словом «место», и в это понятие входили те несколько миль побережья, лесов и гор, по которым он блуждал и которые были ему знакомы. С большой высоты гор не раз видел он другие побережья и леса, горы за каменистой пустынной равниной, но все эти края казались ему не настоящими, а каким-то видением из сна. По крайней мере, там никто не жил, не то племя слыхало бы голоса тех людей или увидело бы дым от их костров, костров, у которых соплеменники Ви грелись и готовили пищу. Правда, ходили рассказы о том, что существуют еще люди на свете, и даже хитрый карлик Паг полагал, что это так. Но Ви — человек действия — не обращал внимания на подобные россказни. В этой долине, был уверен он, вместе с ним жили единственные люди на земле, и, если их раздавит ледник, то вообще все будет кончено. Впрочем, если даже все люди и погибнут (понятно, кроме Ааки, Фо, Пага — о других он мало беспокоился), ничего ужасного не произойдет для остальных существ: те, кто идут в пищу — тюлени, птицы и рыбы, в особенности же лосось, который весной идет вверх по реке, а также форель, — будут даже счастливее, чем сейчас. Подобные размышления утомили его, ибо он был человек действия и только начинал учиться думать. Он оставил эти мысли так же, как бросил молиться, и большими задумчивыми глазами глядел на лед перед собой. Небо уже серело, и все вокруг стало светлеть. Скоро встанет солнце, и он сможет заглянуть в глубину льда. Заглянуть! Там, во льду, были лица странные, какие-то чудовищные, — одни широкие, толстые, другие — узкие, и они, казалось, колебались и менялись вместе с меняющимся освещением и игрой теней. Несомненно, то были лица меньших богов, которых, наверное, тоже немало, богов злых, коварных, все они издевались над ним, подглядывали, склабились, насмехались. А позади них неясным очертанием выделялся великий Спящий, такой, каким он был и всегда — бог-гора, бог с изломанным огромным носом, кривыми зубами, бог с головой, подобной скале, с ушами величиной с хижину, с маленьким холодным глазом, который, казалось, всегда глядел на смотрящего. А позади, в глубинах льда, терялось необъятное тело высотой, должно быть, в три человеческих роста. Да, это был настоящий бог! Глядя на него, Ви мысленно представил себе, как однажды бог пробудится, пробьет лед, вырвется на свободу и сбежит вниз по горе. Ви поднялся с колен, робко пополз к леднику и заглянул в отверстие во льду. Он хотел получше рассмотреть бога. Когда он стоял, наклонившись, в ясном небе, над плечом горы, поднялось солнце, и его лучи упали на ледник в первый раз за всю эту весну, вернее, за раннее лето. Солнце осветило расщелину во льду, и Ви различил Спящего лучше, чем ему случалось видеть бога до сих пор. Поистине, Спящий был огромен. А вот позади него находилось нечто подобное человеку, какой-то смутный образ, о котором Ви много раз слыхал, но которого до сих пор никогда не видал. А может быть, всего лишь тень? Ничего наверняка Ви сказать не мог, потому что как раз в это мгновение солнце скрылось за облаком, и неясный образ исчез.* * *
Ви терпеливо стал ждать, пока облако пройдет. Ему повезло, что он задержался. Как раз в то мгновение, когда он подумал было о том, чтобы вернуться вниз, огромная каменная глыба, лежавшая, очевидно, на самом гребне ледника, отделилась от своего подтаявшего основания и, грохоча, понеслась вниз по глетчеру, перескочила через Ви и упала в то самое место, на котором он только что стоял. Упала, оставила яму в промерзлой земле, в порошок растерла волчью голову и помчалась дальше к побережью. — Спящий охранял меня, — пробормотал Ви, оборачиваясь, чтобы посмотреть вслед несущейся скале. — Останься я там, где стоял, я был бы растерт так же в порошок, как и волчья голова. Затем он внезапно вспомнил, что скала — камень. И что камень упал в ответ на его молитву, что упавший камень — знак, которого он ожидал. Тогда он торопливо ушел прочь, дабы не свалился еще камень и не раздавил бы его самого. Пробежав несколько часов по склону ледника, он добрался до ниши в горе и сел, зная, что здесь он в полной безопасности. Ви задумался, вспоминая: — О чем это я спрашивал богов? Если камень упадет, я должен биться с Хенгой, или если камень упадет, я не должен биться с ним? Вдруг он вспомнил все. Понятно, он должен биться. И Аака всегда подбивала его биться; и холод пробежал по всему его телу. Легко говорить о битве с этим яростным великаном, но сразиться с ним — дело совсем не простое. Но боги сказали свое слово, и он не смеет не повиноваться приказу, о котором сам просил. И, наверное, боги, спасшие его жизнь от скатившейся каменной глыбы, тем самым хотели показать ему, что Хенгу он одолеет. А впрочем, может быть, боги хотели сохранить ему жизнь только затем, чтобы Хенга ради их удовольствия разорвал его в клочья. Ведь боги любят кровь. Они жестоки. И затем, ведь их боги — боги зла, и потому им, должно быть, приятно будет даровать победу злому человеку. На все эти вопросы Ви ответить не мог. Поэтому поднялся и медленно пошел к берегу, размышляя о том, что он, наверное, в последний раз в жизни видел ледник и обитающих в нем ледяных богов, — в последний раз, потому что сегодня вызовет Хенгу на бой и сразится с ним. А значит, ему больше не жить. Возвращаясь, он прошел мимо места, где оставил убитого волка, взглянул на скалу и был поражен тем, что кто-то уже свежует зверя. Пальцы его сжались на рукояти копья, ибо свежевать убитого другим зверя значило нарушать охотничий закон и красть убитое другим. Но приблизившись, Ви улыбнулся, и пальцы его, сжимавшие рукоять копья, разжались. То был не вор. То был Паг, его любимый раб. Странный вид был у Пага. Это был карлик с огромной головой, одноглазый, широкогрудый, длиннорукий силач на толстых коротких ногах, не длиннее, чем ноги восьмилетнего ребенка. Он был чудовищно безобразен — плосконос, широкорот, но безобразное лицо в шрамах всегда растягивала насмешливая улыбка. Рассказывали, что при рождении (то было немало времени тому назад, ибо юность Пага прошла) он был так безобразен, что мать бросила младенца в лесу, боясь, как бы его отец не убил ее за то, что она принесла такого урода. Мать выбросила его, собираясь сказать, что сын родился мертвым. Но случилось так, что отец, вернувшись и узнав об участи ребенка, отправился искать его труп, но нашел дитя живым, хотя один глаз у него вытек от удара о камень при падении и лицо было изорвано колючками. Но так как ребенок был первым, а отец — человеком мягкосердечным, он отнес его назад в хижину и заставил мать выкормить младенца. Мать выкормила ребенка, но видно было, что она испугана, хотя никому не рассказывала об этой истории. Таким образом, Паг не умер и остался жить. Помня то зло, которое причинила ему мать, он с малолетства стал женоненавистником. Большую часть своей жизни он проводил в лесу с волками, за что (а впрочем, может, и по другим причинам) был прозван «человек-волк». Паг вырос и стал умнейшим во всем племени, ибо природа, создавшая его безобразным и отвратительным на вид, наградила его умом и острым, злым языком, которым он преследовал всех женщин и нещадно издевался над ними. За все его насмешки они ему платили ненавистью и договорились погубить. И вот наступило время голода, я тогда все женщины убедили вождя, отца Хенги, что виноват во всех бедах и злоключениях племени Паг. Потому вождь изгнал Пага из племени, обрекая его на голодную смерть. Но когда Паг почти умирал от голода, Ви нашел его и привел к себе в хижину, как раба. Аака ненавидела Пага не меньше, чем все остальные женщины. Но закон гласил, что если кто-нибудь спас другому жизнь, жизнь спасенного принадлежала спасителю. В сущности же, Паг был гораздо больше, чем простым рабом. С того самого часа, когда Ви, невзирая на гнев женщин, привел к себе Пага, тот полюбил своего спасителя и хозяина больше, чем женщина любит своего первенца, больше, чем мужчина любит свою нареченную; к тому же Ви часто защищал и спасал Пага от смерти, сам рискуя навлечь на себя гнев вождя и своих одноплеменников, ибо женщины уже ликовали, что избавились от Пага и его злого языка. С тех пор Паг стал тенью Ви, был готов ради него переносить какие угодно муки, готов был умереть ради него, и даже удержаться от шуточек и насмешек по адресу Ааки или другой женщины, на которую Ви взглянул бы одобрительно. Впрочем, последнее было для Пага труднее всего: для того, чтобы удержаться от насмешек, ему приходилось до боли прикусывать себе язык. Таким образом, Паг любил Ви, а Ви любил Пага, и потому Аака, ревнивая и завистливая, стала ненавидеть Пага еще больше, чем ненавидела раньше. То, что Ви спас жизнь Пагу, изгнанному в самый злой холод на голодную смерть за то, что приносил несчастье племени, что был сварлив и неуживчив, вызвало немало толков. Но когда дело дошло до вождя, отца Хенги, человека мягкосердечного, он объявил, что раз уж Паг был дважды выброшен из племени и осужден на голодную смерть и дважды спасся, то ясно, что боги предрекли ему какую-нибудь иную кончину. Но Ви подобрал его и должен смотреть за тем, чтобы Паг никому не причинял беды. Если же Ви нравится держать в своем жилище одноглазого волка, то это дело только Ви. Вскоре после того Хенга убил своего отца и стал вождем вместо него, так что дело с Пагом было позабыто. Паг остался в хижине Ви и жил с ним вместе; Ви и дети любили Пага, а Аака ненавидела его.Глава 2
ПЛЕМЯ
— Хороший мех, — сказал Паг, указывая на волка окровавленным кремневым ножом. — Весна пришла поздно, и зверь еще не начал линять. Когда я выдублю шкуру как следует, выйдет хороший плащ для Фо. А Фо очень нужен теплый плащ, даже летом. Ведь все прошлое лето он кашлял. — Да, — тревожно сказал Ви, — кашель напал на него с тех пор, как он спрятался в холодной воде от гнавшегося за ним черного, длиннозубого медведя. Мальчик знал, что медведи в воду не входят. Но за это, — внезапно рассвирепев, добавил он, — я убью этого медведя. И Фо горюет по сестре. — Да, Ви, — прохрипел Паг, и его единственный глаз загорелся ненавистью, — Фо горюет, Аака горюет, ты горюешь и даже я, человек-волк, горюю о ней. Почему ты звал меня с собой на охоту в тот день, когда я хотел остаться дома и сердце мое чуяло грозящую беду? А я хотел остаться дома и присмотреть за Фоей, которую Аака отпустила побегать потому только, что я сказал ей, чтобы она не отпускала девочку далеко и следила за ней. — Такова воля богов, — пробормотал Ви и отвернулся. — Богов? Каких богов? Это воля не богов, а двуногой твари. Он зол, как тигр с клыками, о котором нам рассказывали деды. Да, это воля не богов, а всему виною Хенга, и помогла ему раздражительность Ааки. Убей этого человека-тигра, Ви, и брось думать о черном медведе. А если ты не хочешь или не можешь убить Хенгу, предоставь это мне. Есть одна женщина, которая ненавидит его за то, что он отверг ее и сделал служанкой той, которую взял вместо нее. А яд я умею варить, отличный яд… — Нет, это незаконно, — сказал Ви, — и такое убийство навлечет на нас проклятие. Но закон разрешает мне убить его. Об этом я и говорил с богами. — Так вот, значит, куда делась волчья голова: пошла на жертвоприношение! Понимаю. А что сказали тебе боги, Ви? — Они подали мне знак. Все случилось так, как сказала Аака: если мне суждено биться с Хенгой, то с ледника упадет камень. Камень упал. Он задавил бы и меня, но в это время я отошел от волчьей головы и приблизился ко льду, чтобы получше разглядеть Спящего, величайшего из богов. — По-моему, он вовсе не бог, Ви. Мне кажется, что это зверь неизвестной нам породы: замерзший зверь, а тень позади Спящего — человек, который охотился за этим зверем. Они оба попали в снег и там умерли, а снег обратился в лед, и так появился ледник. Ви удивленно взглянул на него, подобная мысль никогда не приходила ему в голову. — Как же это может быть, Паг? Ведь и Спящий, и Тень в леднике были вечно. И наши праотцы помнят, что они были здесь, и такого зверя никто не видывал. И кроме нас, вообще людей не существует. — А ты в этом уверен, Ви? Мир велик. Если ты подымешься на вершину холма, увидишь там далеко, как только хватает глаз, другие холмы; а между ними виднеются равнины и леса. И далеко в две стороны идет море, и немало заливов на морском берегу. Отчего же, в таком случае, не должно быть больше людей на свете? Неужто боги создали только нас? Слишком мало нас одних для забавы им. Ви только покачал головой в ответ на эти кощунственные рассуждения, а Паг продолжал: — А то, что ты думаешь о камне, — часто ведь случается, что, когда солнце подточит лед, с гребня начинают идти трещины и валуны сыплются с ледника. А все, что мы называем стенаниями и призывами богов, по-моему, просто треск льда, — он трещит, когда оседает под собственной тяжестью… — Замолчи, Паг, — перебил его Ви, затыкая пальцами уши. — Я больше не хочу слушать твои безумные речи. Если боги услышат их, они нас покарают. — Если люди услышат эти речи, они нас не убьют. Ведь люди живут в страхе перед тем, что не могут видеть, и рады спасти свои жизни ценою жизни другого. А что до богов — вот им. И Паг показал леднику кукиш, необычайно древний знак презрения. Ви был так подавлен этими словами и жестом, что уселся на камень, будучи не в силах отвечать, а Паг, первый скептик в племени, продолжал: — Если уж мне пришлось бы выбирать себе бога, — а, на мой взгляд, люди и так достаточно злы, и незачем было бы ставить над ними кого-нибудь еще злее, — я выбрал бы себе богом солнце. Солнце дает всему жизнь; когда солнце сияет, все растет, все живые существа сходятся в пары, птицы кладут яйца, и тюлени приплывают сюда, и цветут цветы. А когда нет солнца, а есть только мороз и снег, все существа или умирают, или уходят прочь отсюда, и жить становится трудно, волки и медведи бесятся от голода и пожирают людей. Да, я выбрал бы себе солнце добрым богом, а мороз и черную тьму — злыми богами. Но послушай, Ви! Как же будет с Хенгой? Ты вызовешь его на бой? — Да, — последовал свирепый ответ, — сегодня же. — О, если бы ты победил! Если б ты убил его! Поразил бы так, так, так! И Паг вонзил несколько раз кремневый нож в брюхо убитого волка. — Да, — задумчиво добавил он. — Дело это не легкое. Мне никогда не приходилось слышать ни об одном человеке, столь же сильном, как Хенга. Прав Нгай, который называет себя волшебником, а на самом деле только лжец и обманщик, прав, говоря, что мать Хенги ошиблась. Нгай говорит, что она хотела принести двойню, но только дети в ее утробе смешались и вышел один Хенга. Ведь он прямо двойной: у него зубы во рту в два ряда, и он вдвое выше ростом, чем все люди, и злее всех, побольше даже, чем вдвое. Впрочем, он, несомненно, человек, а не то, что ты называешь богом: ведь он толстеет и становится все более тяжелым на подъем, и волосы его начинают седеть. Значит, его может убить всякий, у кого хватит силы проломить ему толстый череп. Собственно, я бы предпочел отравить его, но ты говоришь, что нельзя делать этого. Ну, я обдумаю все, и мы с тобой поговорим еще перед боем. А пока что (наверное, потом нас будут окружать болтливые бабы и не удастся толком поговорить), скажи мне, Ви, что я должен делать, если Хенга убьет тебя? Наверное, тебе вовсе не хочется, чтобы он взял себе в жены Ааку, как он давно собирается сделать, и чтобы он превратил Фо в раба? — Вовсе не хочется. — В таком случае, прикажи мне убить их или присмотреть за тем, чтобы они сами убили себя. — Приказываю тебе это, Паг. — Хорошо. А что должен делать я? — Не знаю, — устало ответил Ви. — Поступай, как тебе заблагорассудится. Я благодарю тебя и желаю тебе добра. Паг поднял край содранной с волка шкуры, отер свой единственный глаз и сказал: — Ты не добр ко мне, Ви. Правда, меня называют Дважды-Выброшенный и Человек-Волк, Безобразный и Злоязычный, но ведь я всегда верно служил тебе. А тебе безразлично, что станется со мною.* * *
Со свежеванием волка было покончено, и Паг накинул себе на плечи окровавленную шкуру. Она висела шерстью наружу, так как, по словам Пага, не нужно было давать ей сморщиться, а несколько капель крови ему не помешают. И оба молча пошли вниз к берегу; впереди шествовал подвижный, стройный и рослый Ви, а за ним ковылял на коротких ногах безобразный Паг. Растянувшись вдоль побережья рядами, в долине стояло много грубых хижин, похожих на индейские вигвамы или на примитивные хижины австралийских дикарей. Возле бродили остромордые, длинношерстые, хмурые и крепкие звери, которых современный человек принял бы скорей за волков, чем за собак. Родоначальниками их и вправду были волки, но эти звери стали уже более или менее ручными и отпугивали от поселения настоящих хищных волков и других диких зверей, блуждавших по побережью и в лесах. Как только эти звери увидели Ви и Пага, они яростно бросились вперед, разинув пасти и свирепо рыча, но почуяв знакомый запах, немедленно успокоились и почти все вернулись обратно к хижине. Только несколько из них, принадлежавшие лично Ви и жившие у него в хижине, не отставали, виляли хвостами, прыгали на Ви и старались лизнуть его в лицо. Он погладил по голове одну из собак, любимого пса Ио, и немедленно остальные собаки ревниво набросились на него. Пагу немало труда стоило растащить их. Шум собачьей грызни привлек внимание людей, и многие выглянули из хижин, чтобы узнать, в чем дело. То были люди со свирепыми лицами, все темноволосые, подобно Ви, впрочем, ниже его ростом и не так крепко сложенные. Все здесь, в общем, походили друг на друга — результат перекрестных браков представителей многих поколений. Чужестранцу, наверное, пришлось бы отличать этих людей скорее всего по возрасту, но так как никогда человек другого племени не появлялся здесь, все это было не важно, потому что соплеменники легко различали друг друга по одним им известным признакам. У большинства из них лица были изможденные, покрытые ранними морщинами, свидетельствующими о том, что эти люди хорошо знакомы с голодом, холодом и нуждою. У многих, как и у Ви, были прекрасные, но словно испуганные глаза, глядевшие украдкой и нерешительно. Детей в племени было немного. Они держались вместе, в одной кучке, очевидно, для того, чтобы не попадаться под ноги старшим и избегать пинков; либо же бродили вокруг костров, где жарилась пища, насаженная на вертела (племя не знало никаких ремесел, пищу готовило самым примитивным способом и не имело никакой кухонной утвари), в основном тюленье мясо. Дети блуждали вокруг костров вместе с собаками, стараясь, пока никто не видит, стащить кусок мяса. Только несколько младенцев сидело на песке, играя палочками и ракушками. Женщины казались более подавленными, чем мужчины. Впрочем, неудивительно: они здесь были на положении рабынь, выполняли тяжелую работу и служили своим господам, взявшим их в жены либо силой, либо в обмен на другую женщину, или же за выкуп — костяными крючками для ужения, кремневым оружием, веревками из сухожилий и выделанными шкурами. Ви пробирался к своей хижине в сопровождении Пага. Хижина Ви была большая и опрятнее многих других. Выдубленные звериные кожи покрывали крышу, сделанную из сухих листьев и водорослей; эта крыша прекрасно предохраняла от холода. Судя по всему, с Ви в племени считались: все встречные расступались перед ним, и не одна женщина глядела ему вслед сочувственно, так как у людей еще свежо в памяти было, как Хенга всего несколько дней назад похитил его дочь и убил ее. Одна из женщин напомнила об этом другой, но та ответила, как только Ви отошел достаточно далеко, не боясь, что он услышит: — А кому какое до этого дело? Будущей зимой одним ртом меньше будет. Да и кому охота воспитывать дочерей, чтобы стало с ними то же, что с нами? Несколько молодых женщин — в племени девушек не было: как только девочка подрастала, ее сейчас же кто-нибудь брал себе в жены — окружили Пага и, будучи не в силах сдержать любопытство, принялись расспрашивать о волчьей шкуре, лежавшей у него на плечах. Но Паг остался верен себе: он огрызнулся, сказав, что им незачем вмешиваться в чужие дела и чтобы они лучше работали и не шлялись зря. Женщины рассердились, стали ругать его, дразнить, смеяться над его безобразием и корчить рожи. Тогда Паг науськал на них собаку, и они разбежались. Ви и Паг подошли к хижине Ви. Когда они приблизились, закрывавшая вход завеса распахнулась, и из хижины выбежал мальчик лет десяти. Мальчик был красивый, несколько худощавый, с оживленным и сияющим лицом и совсем непохожий на своих однолеток. Фо бросился к отцу на шею и закричал: — Мать заставила меня есть в хижине, потому что холодный ветер и я все еще кашляю. Но я услыхал твои шаги и походку Пага; ведь, знаешь, он ступает, точно тюлень переваливается на плавниках. Где ты был, отец? Утром я проснулся, а тебя не было. — Я был у обиталища богов, — ответил Ви, взглянув по направлению к леднику и поцеловав сына. В это мгновение Фо заметил огромную волчью шкуру, свисавшую до земли с плеч Пага; со шкуры все еще струилась кровь. — Где вы добыли эту шкуру? — закричал он. — Какая красота! Вот это волк — всем волкам волк! Это ты убил его, Паг? — Нет, Фо, я только освежевал его. Учись быть наблюдательным. Взгляни на копье отца. Весь наконечник его окровавлен, на рукояти — запекшаяся кровь. — Но твой нож, Паг, тоже окровавлен, и ты тоже весь окровавлен, с головы до ног. Откуда же мне знать, кто из вас убил волка, когда вы оба такие храбрые? А что вы собираетесь делать со шкурой? — Из нее мы сделаем тебе плащ, Фо. Я сделаю его искусно, так, что когти останутся на лапах, но отчищу их, и когда ты запахнешься в плащ, когти будут сиять. — Очень хорошо. Сделай это поскорее, Паг. Ведь плащ будет теплый, а сейчас дуют такие холодные ветры. Отец, зайдем в хижину; еда ждет тебя, и ты расскажешь мне, как убил волка. Фо ухватил Ви за руку и потащил его за собой за завесу из дубленых шкур, а Паг и собаки ушли в пристроечку позади хижины, где жил карлик. Хижина была просторная, футов в шестнадцать в длину и футов двенадцать в ширину. Посередине ее находился глиняный очаг, в котором горел огонь, и дым уходил в отверстие в потолке; впрочем, так как утро было тихое, дым почти весь оставался в хижине и воздух внутри стал тяжелым и удушливым. Но Ви, привычный к этой обстановке, не замечал духоты. По ту сторону очага стояла Аака, жена Ви, одетая в юбку из тюленьей шкуры, скрепленную завязками под грудью. Это была стройная, статная женщина лет тридцати; ее густые черные волосы свисали четырьмя пышными косами, завязанными на концеузлами из травы и сухожилий. Кожа Ааки казалась светлее, нежели кожа большинства женщин племени; она у нее, в сущности, была даже белая, только обветрилась от сурового климата: лицо — несколько широкое, но красивое и тонкое. Правда, физиономист подметил бы склонность к некоторой сварливости. Подобно всем ее соплеменницам, Аака имела большие и печальные темные глаза. Она стояла у очага и жарила на заостренных палочках полоски мяса. Когда Ви вошел, она посмотрела на него испытующим взглядом, точно пытаясь прочитать его мысли, затем улыбнулась несколько смущенно и пододвинула обрубок дерева, — племя не знало мебели, даже самой примитивной. Подчас случалось пользоваться вместо стола каким-нибудь большим плоским камнем или вместо вилки — раздвоенным прутиком, но больше этого фантазии ни у кого в племени не хватило, да и импровизированная вилка после употребления выбрасывалась и о ней забывали. Так, вместо кроватей служили охапки сушеных водорослей, брошенных на пол и накрытых какими-нибудь шкурами; для освещения приспосабливали большие раковины, наполненные тюленьим жиром, в котором плавал скрученный из моха фитилек. Он присел на обрубок, и Аака подала ему одну из палочек, на которой был насажен большой кусок тюленьего мяса, полусырого, прокопченного дымом, а в одном месте даже обугленного. Аака подала мужу еду и встала рядом в покорной позе, ожидая приказаний в то время, как Ви жадно пожирал мясо. Затем Фо скромно и робко вытащил из какого-то укромного уголка хижины что-то, завернутое в широкий древесный лист, развернул узел и опустил его наземь. В узле оказалась какая-то растертая в мелкий порошок коричневая пыль, которую мальчик с большим трудом соскребал со скал после испарения морской воды. Как-то Ви случайно примешал к пище этот самый порошок, и оказалось, что от примеси пища становится намного вкуснее. Таким образом, Ви открыл для своего племени соль; впрочем, соплеменники его считали соль роскошным нововведением, которым вряд ли стоило пользоваться. Но у Ви были взгляды более широкие, и Фо поручили собирать коричневый порошок, что прежде входило в обязанности его сестры Фои. За этим занятием ее и застал убийца. Вспомнив дочь, Ви отодвинул лист с его содержимым, но затем, увидев обиженное выражение лица мальчика, придвинул снова лист к себе и опустил мясо на порошок. Наевшись досыта, Ви знаком разрешил Ааке и Фо съесть оставшееся мясо, на которое они жадно набросились, так как ничего не ели с самого вечера. Дело в том, что закон племени не позволял, чтобы члены семьи ели прежде, чем насытится ее глава. В качестве сладкого Ви взял ломоть провяленной на солнце трески, такой твердой, что ни один современный человек не смог бы даже укусить ее. На закуску пошла пригоршня диких слив, которые Фо нашел где-то на холмах, а Аака испекла в золе. Потом Ви приказал Фо отнести остатки еды Пагу и оставаться в пристройке, покуда его не позовут. Затем он выпил немало ключевой воды, собранной Аакой в большие раковины и в камень (самое ценное ее имущество), который был выдолблен ледником в форме горшка и обтесан от трения о другие камни. Он напился воды за неимением ничего другого, хотя осенью Аака варила что-то вроде чая из какой-то травы в раковине, и ее настойку все пили и нахваливали за бодрящее действие. Но трава эта цвела только осенью и до сих пор никому в голову не приходило собирать ее и сушить. Напившись воды, Ви задернул шкуры, висевшие у входа, и скрепил их, протянув шнурок в специально для этого проделанные петли. Затем он уселся снова на свой обрубок. — Что сказали боги? — торопливо спросила Аака. — Они ответили на твою молитву? — Да, женщина, ответили. На восходе солнца с гребня ледника упала скала и раздавила мое жертвоприношение, так что лед воспринял его. — Какое приношение? — Голову волка, которого я убил по пути к леднику. Аака подумала некоторое время и сказала: — Сердце подсказывает мне, что примета эта добрая. Волк — Хенга, и ты убьешь Хенгу, подобно тому, как ты убил волка. Я слыхала, что шкура предназначена на плащ для Фо. Это добрая примета. Ибо она означает, что в некий день власть и звание вождя, которыми сейчас облечен Хенга, перейдут к Фо. И, наконец, если ты убьешь Хенгу, Фо останется в живых. Если же в живых будет Хенга, то Фо умрет, как умерла Фоя. Ви слушал, и лицо его становилось все радостней: — Такие слова дают мне силу. А теперь я пойду, созову племя и объявлю ему, что вызываю Хенгу на смертный бой. — Ступай! — ответила она, — но выслушай меня, муж мой. Сражайся без страха, ибо, если мое толкование примет и предчувствий неверно и Хенга убьет тебя — что из этого? Скоро мы все умрем. Часть людей умрет медленно от голода, холода, старости и болезней, а смерть от руки Хенги — быстрая и легкая. Но если ты будешь убит, то и мы умрем: умрем скоро, очень скоро. Ви встал и вышел из комнаты. Аака смотрела ему вслед и бормотала про себя: — Быть может, все мои мысли о предчувствиях вздор. Значит, я обезумела. Но я безумна от горя по Фое и страха за Фо. Я должна дожить до того дня, до того часа, когда Ви выбьет ударом секиры мозги из толстого черепа Хенги. А если Ви будет убит, я вместе с Пагом отравлю Хенгу. Говорят, что Паг — Волк. Я ненавижу Пага, и Ви слишком много думает о нем. Но что мне до того, — волк ли Паг или какое иное чудище? Он любит Ви и любит моих детей и поможет мне отомстить Хенге. И тут она услыхала, как трубит рог дикого буйвола, служивший сигналом для сбора племени. Значит, Винни, прозванный Трясучка, потому что всегда дрожал как медуза, даже когда его ничто не пугало (а это бывало очень редко), созывает племя для общего обсуждения новостей, которые сейчас сообщат. Аака поднялась, накинула плащ и пошла на звук рога к Месту сборища. Здесь, на ровном месте, на некотором расстоянии от хижины, шагах в двухстах от скалистого отрога горы, собиралось племя: мужчины, женщины и дети, — все, кроме тех, которые лежали в колыбели или были слишком больны или слишком стары, чтобы прийти. Собираясь, люди возбужденно болтали друг с другом, радуясь тому, что что-то случилось и нарушило ужасающее однообразие их жизни. Время от времени кто-нибудь указывал на вход в большую пещеру, видневшуюся в скалах расположенного у Места сборищ горного отрога. В этой пещере жил Хенга, ибо с незапамятных времен здесь находилось жилище вождя племени, в которое никто не смел ступить без разрешения: жилище это было священно и неприступно для простых смертных, подобно нынешним дворцам. Аака шла, чувствуя, что за ней внимательно следят одноплеменники. И она знала, почему так внимательно следят за нею, но делала вид, что не замечает пристальных взглядов. Уже разнесся слух, что Ви-Могучий, Ви-Великий Охотник, Ви, чью дочь на днях убили, собирается сделать что-то необычайное; впрочем, что именно — того никто не знал. Все хотели об этом спросить Ааку, но никто не решился обратиться к ней; глаза ее были сейчас холодны и неподвижны, а люди вообще побаивались ее. И она шла одна, окруженная почтительным молчанием и искала глазами Фо. Вскоре она заметила его в обществе Пага. На плечах карлика по-прежнему висела волчья шкура, хвост которой волочился по земле, так как Паг был ростом мал. Аака заметила, что народ расступился, пропуская Пага. Но она знала, что это делают не потому, что любят его или уважают, а из страха перед ним. — Погляди, — сказала неподалеку от Ааки какая-то женщина другой, — вон идет наш ненавистник, Злоязычный Паг. — Да, — ответила та: — и он так торопится, что даже позабыл снять с себя волчье обличье, в котором охотился в прошлую ночь. Слыхала ты, что у жены Бука пропал трехлетний ребенок? Говорят, что его унесли медведи, но мне сдается, что Человек-Волк знает, что случилось с ребенком, лучше, чем кто бы то ни было. — Однако, Фо не боится его. Смотри, Фо идет с ним рядом, держит его за руку и смеется. — Ну, это-то понятно, почему Фо не боится его. Ведь… Тут женщина заметила Ааку и сразу же замолчала. — Хотела бы я знать, — размышляла Аака, — потому ли мы, женщины, ненавидим Пага, что он уродлив и ненавидит нас, или потому, что он умнее, чем мы, и всегда побеждает в словесных поединках? И хотела бы я знать, почему это все считают, что он наполовину волк или волчий оборотень. Должно быть, потому, что охотится вместе с Ви. Но как может человек быть человеком и волком одновременно? Впрочем, у него что-то с волками общее есть. А может, он сам об этом нарочно рассказывает для того, чтобы все мы боялись его. Наконец она пришла на Место сборищ и стала рядом с Фо и Пагом. Племя расположилось, кто стоя, а кто сидя, кольцом вокруг ровно утрамбованной площадки, на которой иногда устраивались танцы, когда пищи бывало достаточно и погода стояла теплая. Эта же площадка служила и местом сбора совета племени. Здесь также юноши сражались и боролись за право завладеть любимой девушкой. В некотором отдалении рядом с Винни-Трясучкой, который время от времени все еще трубил в свой рог, стояли старейшины племени. Это были старый Тури-Скряга, хранитель пищи — он всегда оставался толстым и жирным, как ни тощало племя; Пито-Кити-Несчастливец, которому всегда не везло: рыба у него всегда гнила, жены его покидали, дети умирали, а сети всегда рвались, так что его кормили другие, боясь, как бы он не умер и не передал своего невезения тем, кто не заботился о нем; Уока-Злой Вещун, бледнолицый и остроскулый мужчина, который всегда грозился грядущими бедствиями; Хоу-Непостоянный, часто опровергавший то, что говорил накануне; Рахи-Богач, торговавший каменными топорами и крючками для рыболовства и благодаря этому живший хорошо не работая; Хотоа-Толстопузый, который всегда говорил медленно, но предпочитал молчать, покуда вопрос не будет разрешен, а когда вопрос решался без него, он громко выкрикивал результат решения и делал при этом умное лицо; Тарэн, которая жила с Нгаем, жрецом Ледяных богов, волшебником, гадавшим на раковинах, предсказывающим будущее и выползавшим из своей норы только тогда, когда близка была какая-нибудь беда. И, наконец, там стоял Моананга-Отважный, младший брат Ви, Великий Боец, который сражался шесть раз и добился наконец своего — завладел Таной-Прекрасной и Любящей, самой красивой женщиной племени: он также убил двоих, пытавшихся силой похитить ее у него. Это был круглоглазый человек со смеющимся лицом, вспыльчивый, но отходчивый и добродушный, первый охотник в племени после Ви. К тому же, он любил Ви и держался всегда вместе с ним, так что оба они были — одно. И вот поэтому-то Хенга-Вождь ненавидел их обоих и знал, что вдвоем они сильнее его. Все эти люди разговаривали, наклонив головы друг к другу, и перешептывались, пока не появился Ви, — рослый, мощный, молчаливый. Когда все увидели его, то сразу замолчали. Ви оглядел собравшихся, медленно всматриваясь каждому в лицо, и затем сказал: — Я хочу сказать племени слово. — Мы слушаем тебя, — ответил Моананга. — Внимайте же, — заговорил Ви. — Есть закон, по которому каждый в племени вправе вызвать вождя на смертный бой. И по этому закону, если вызвавший убьет вождя, сам становится вождем. — Такой закон существует, — заявил Урк, старый колдун, который делал для женщин талисманы и варил любовные зелья, а долгими зимними вечерами рассказывал то, что случилось давным-давно, до того, как родился дед его деда; то были рассказы диковинные и непонятные. — Такой закон существует. Дважды в моей жизни случалась смена вождя, и второй раз это было, когда Хенга вызвал и убил своего отца и сам занял пещеру. — Да, — прибавил Уока-Злой Вещун, — но если вызывающий потерпит поражение, то убивают не только его, но и всю его семью (и тут он взглянул на Ааку и Фо)… А также, возможно, и его друга и брата (и он взглянул на Моанангу). Да, таков закон, и в том нет сомнений. Пещера принадлежит только вождю, если он может защитить ее собственными своими руками. А если восстанет кто-нибудь, кто сильнее, нежели вождь, он может убить вождя и забрать себе пещеру, женщин и детей, если там есть дети, и убить их или превратить в рабов и владычествовать до тех пор, покуда силы его не начнут убывать и более сильный, чем он, не убьет его. — Я знаю это, — сказал Ви. — Внемлите же вновь. Хенга причинил мне зло: он похитил и убил дочь мою, Фою. Поэтому я хочу убить его. К тому же он правит племенем свирепо и жестоко. Наши жены, дочери, одежда, пища — все в распоряжении Хенги. Его жестокость прогневала даже богов. Вот и лето уже у нас холодное, и весна не приходит. Почему это? Я говорю, что виною тому — жестокость Хенги. Поэтому я убью его, займу пещеру и буду править справедливо, так что у каждого будет пищи вдоволь и каждый сможет спокойно спать в своей хижине. Что вы ответите мне? Первым заговорил Винни-Трясучка, дрожа всем телом: — Мы отвечаем, что ты можешь делать все, что хочешь. Ви, но мы в это дело не вмешиваемся. Если же мы вмешаемся, то, когда тебя убьют, — а я не сомневаюсь в том, что тебя убьют, ибо Хенга сильнее, чем ты, да, сильнее, ибо он буйвол лесной, ибо он рычащий медведь, — тогда он убьет нас также. Поступай как знаешь и делай что хочешь, но делай все, что ты хочешь, один. Мы поворачиваемся к тебе спинами, мы затыкаем большими пальцами себе уши, мы закрываем глаза и не видим ничего. Паг плюнул на землю и сказал низким голосом, который, казалось, выходил у него не изо рта, а из чрева: — А мне кажется, что ты еще увидишь кое-что однажды ночью, когда звезды будут ярко сиять. Я думаю, Винни-Трясучка, ты скоро увидишь нечто такое, отчего так затрясешься, что развалишься на куски. — Это Человек-Волк, — завизжал Винни, — защитите меня. Почему Человек-Волк угрожает мне, когда мы сошлись на Место сборищ и обсуждаем слова Великого Охотника Ви? Никто не отвечал, потому что многие боялись Пага, и все, вплоть до последней рабыни, презирали труса Винни-Трясучку. — Не обращай внимания на слова этого жалкого труса, брат, — сказал круглолицый Моананга, — я пойду с тобой до входа в пещеру, когда ты будешь вызывать Хенгу, и я думаю, что многие пойдут с тобой, дабы быть свидетелями вызова, ибо таков обычай и таков закон. Пускай те, кто не хочет идти, остаются на месте. Ты сам рассудишь, как поступить с ними, когда станешь вождем и будешь править нами и жить в пещере. — Благодарю тебя за смелые речи, брат, — ответил Ви, — пойдем.Глава 3
СЕКИРА, КОТОРУЮ СДЕЛАЛ ПАГ
Когда вопрос был таким образом улажен, стали судить и рядить о том, как послать вождю Хенге вызов, сделанный Ви. Престарелого Урка заставили рассказать, как поступали в таких случаях прежде, и старик стал говорить длинно и путано, то и дело противореча только что сказанному. Наконец, вскочил Хой-Непостоянный и заявил, что он-то ничего не боится и готов предводительствовать. Впрочем, он немедленно отказался от своих слов и заявил, что вспомнил: эта обязанность по праву лежит на Винни-Трубаче, который обязан трижды протрубить возле входа в пещеру и таким образом вызвать вождя. На это все согласились с криком и шумом, возможно, потому, что даже у этих дикарей было чувство юмора. Винни, как он ни протестовал, заставили идти впереди и трубить. Итак, процессия двинулась вперед. Первым шел Винни, вплотную за ним Паг, по-прежнему в окровавленной волчьей шкуре, чтобы Винни не сбился с пути. Паг время от времени покалывал его в спину острым кремневым ножом. Затем шли сам Ви и его брат Моананга, а уже позади них старейшины и все племя. Так, по крайней мере, тронулись они в путь, чтобы пройти триста шагов, отделявших их от скалы, но прежде чем дошли они до пещеры, большинство стало отставать и процессия растянулась длинным хвостом от Места сборищ до обиталища Хенги. Шли дальше только Винни, которому никак не удавалось улизнуть от Пага, Ви, Моананга и в некотором отдалении Уока-Злой Вещун, грозивший всем бедами. Рядом с ними отважно шагала Аака, с ненавистью глядя на его перекошенное лицо. Самые храбрые, гонимые любопытством, держались на расстоянии, достаточном, чтобы видеть все, что происходит, но большинство предпочло держаться в отдалении или спрятаться. — Труби! — проворчал Паг Винни. Тот заколебался, и Паг снова уколол его в спину ножом. Тогда Винни затрубил робко и нерешительно. — Труби громче! — повторил Паг. Винни приложил рог к губам, но не успел он перевести дыхание, как огромный камень выкатился из пещеры и ударил его в живот; Винни свалился, скуля и пыхтя. — Теперь, по крайней мере, у тебя есть законная причина дрожать, — сказал Паг и заковылял в сторону, чтобы не попасть под следующий камень. Но больше камней не бросали. Из пещеры с ревом выскочил дюжий волосатый темнолицый мужчина, размахивая огромной деревянной дубиной, — сам Хенга. Это был рослый, сильный, широкоплечий мужчина лет сорока, с грудью как у быка, огромной головой, с которой на плечи падали длинные черные волосы, и широким толстогубым ртом, в котором виднелись желтые клыкообразные зубы. На плечах у Хенги висела шкура пещерного тигра — одеяние, подобающее его званию, — и на шее было надето ожерелье из тигровых когтей и зубов. — Кто послал этого пса тревожить мой покой? — скорее прорычал, чем прокричал он, указывая дубиной на корчившегося на земле Винни. — Я, — ответил Ви. — Я и все племя. Я, Ви, чье дитя ты убил, — смело продолжал он, — в присутствии всего народа явился вызвать тебя, вождя, на бой, на который ты должен выйти, согласно закону. И победитель будет вождем племени. Хенга сразу притих и взглянул на него в упор. — Вот, значит, как? — спросил он шипящим от ненависти голосом. — Знай, что я надеялся довести тебя до этого, и, чтобы подбодрить тебя, убил твое отродье, убью и второго твоего детеныша. Он взглядом указал на стоявшего в отдалении Фо. — Ты уже давно надоедаешь мне, Ви, болтовней и угрозами, и я все собираюсь положить им конец. А теперь скажи мне, когда народ хочет полюбоваться на то, как я переломаю тебе кости? — За час до захода солнца мы встретимся. Мне хочется уже в эту ночь спать в пещере, как приличествует вождю племени, — спокойно ответил Ви. Хенга сверкнул на него глазами, покусывая губу, и затем сказал: — Да будет так, пес. Я явлюсь на место сборищ за час до захода солнца. Но только эту ночь проведешь в пещере не ты. Аака будет спать в пещере в эту ночь, а ты будешь спать в брюхе волков. А теперь прочь, ибо мне прислали лосося, первого пойманного в этом году лосося, и я хочу съесть его поскорее. Тогда заговорила Аака: — Ешь досыта, злой дух, убийца детей! Ешь досыта, ибо я, мать, говорю тебе, что это твоя последняя трапеза. Хенга, хрипло смеясь, вернулся в пещеру, а Ви со спутниками ушел. — Кто бы это мог послать Хенге лосося? — лениво спросил Моананга. — Я, — ответил шедший рядом с ним Паг вполголоса так, чтобы Ви не услыхал. — Я этой ночью поймал его и послал Хенге. То есть, вернее, сделал так, что лосося положили на камень возле устья пещеры. — Зачем? — спросил Моананга. — Потому что Хенга любит лососей и уж непременно съест первого лосося, который пойман в этом году. Он съест рыбу всю, без остатка, и отяжелеет перед началом боя. — Это умно. Мне бы это никогда в голову не пришло, — сказал Моананга. — Но откуда ты узнал, что Ви вызовет Хенгу? — Это не знали ни я, ни Ви. Но я догадался об этом: ведь Аака послала его просить совета у богов. Когда женщина посылает мужчину просить совета у богов, совет этот всегда будет именно тот, какого она хочет. По крайней мере, она в этом убедит мужчину, и мужчина ей поверит. — А это еще умнее, — произнес Моананга, внимательно и удивленно глядя на карлика. — Но почему это Аака хочет, чтобы Ви сразился с Хенгой? — По двум причинам. Во-первых, она хочет отомстить за убитую девочку, и, во-вторых, она считает, что Ви сильнее Хенги и что она таким образом станет женою вождя племени. Впрочем, в последнем она еще не вполне уверена; я полагаю потому, что она условилась с Ви, что в том случае, если Ви будет убит, я должен убить ее и Фо. Затем мне предстоит покончить с собой. А может быть, я с собой покончу не сразу, а только после того, как убью или, по крайней мере, попытаюсь убить Хенгу. — Значит, что же? Ты потом будешь вождем племени? — удивленно спросил Моананга. — Может быть, некоторое время буду. Хорошо, если оплеванный и униженный будет унижать тех, кто раньше издевался над ним. Но ты — брат Ви и любишь его, и тебе я могу сказать, что, если Ви будет убит, я ненамного переживу его, потому что нет на свете человека, кроме Фо, кого я любил бы так же, как люблю Ви. Я вождем не буду; вождем будешь ты, Моананга. А я исчезну, хотя, быть может, впоследствии ты будешь слышать, как зимними ночами я буду выть вокруг хижин, выть вместе с волками, моими родителями, как говорят дураки. Моананга снова удивленно уставился на мрачного карлика, чьи речи пугали его. Затем, чтобы переменить разговор, он спросил: — А кто, по-твоему, победит? Паг остановился и указал на море. На некотором расстоянии от берега шла яростная борьба между акулой и китом. Грозная акула загнала кита на мель, где кит беспомощно бился, тщетно пытаясь ускользнуть. Морской волк, — так племя называло акулу, — высоко подпрыгивал и, падая снова в воду, бил кита по голове своим ужасным мечеобразным хвостом; удары гулко разносились по побережью. Кит корчился в агонии и пенил воду громадными плавниками, но ничего не мог сделать, хотя был и сильнее и больше акулы. Вот уже он стал задыхаться и разинул огромную пасть, и тогда хищник влетел ему туда, ухватил кита за язык и вырвал его. Тогда кит перевернулся на спину и стал истекать кровью. — Взгляни, — сказал Паг. — Вот Хенга, огромный и могучий, и вот Ви, проворный и ловкий. И вот Ви одержал победу и до отвалу наестся китовым мясом и накормит им всех своих друзей. Вот тебе мой ответ. А теперь я иду готовить Ви к битве.* * *
Паг вошел в хижину и услал Ааку и Фо, чтобы остаться наедине с Ви. Затем снял плащ с Ви, уложил его и натер ему все тело тюленьим жиром. Затем острым кремнем и тонко наточенной раковиной медленно и с трудом обрезал ему волосы, покуда их не осталось так мало, что Хенге не за что было бы ухватиться, а остатки волос он натер тюленьим жиром. Затем посоветовал Ви соснуть и ушел, унося с собой каменный топор Ви, копье, которым Ви убил волка, и кремневый нож с рукоятью, сделанный из обломков зуба дельфина. На пороге хижины он встретил Ааку, которая сердито бродила у входа. Она попыталась войти в хижину. — Нет, — сказал Паг, — нельзя. — Почему? — Потому что Ви отдыхает и ему не нужно мешать. — Значит, безобразное чудище, всем ненавистный Человек-Волк, живущий только из милости, может входить в хижину к моему супругу, а я, его жена, не могу! — яростно воскликнула она. — Да, не можешь, ибо сейчас ему предстоит мужское дело — убить врага или быть убитым им, и нечего тогда женщинам подходить к нему, покуда дело не сделано. — Ты говоришь так потому, что ненавидишь женщин, которые на тебя даже взглянуть не хотят. — Я говорю это потому, что женщины ослабляют мужчин, потому что женщины жалкими словами убивают в них мужество. Она прыгнула в сторону, чтобы проскочить мимо него, но Паг занес над ней копье. Тогда Аака остановилась, потому что боялась карлика. — Слушай, — сказал он, — ты напрасно бранишь меня и упрекаешь, Аака; я — друг тебе. Но я не виню тебя в ненависти ко мне, ибо знаю причину твоей ненависти. Ты ревнуешь ко мне Ви и ревнуешь ко мне Фо; ведь оба они любят меня больше, чем тебя, хотя любят совсем по-другому. — Любят тебя, выкидыша, урода! — Да, Аака. Ты, очевидно, не знаешь, что любовь бывает различная. Бывает любовь мужчины к женщине, которая приходит и уходит, и бывает любовь мужчины к мужчине, которая никогда не изменяется. Повторяю тебе, что ты ревнуешь. Еще сегодня я сказал Ви, что если бы он не взял меня с собой на охоту, но оставил бы сторожить Фою, ее бы не украл и не убил тот зверь, живущий в пещере. И я солгал. Я мог отказаться пойти с Ви на охоту, и он не заставил бы меня идти с ним, ибо знает, что я никогда ничего не делаю без причины. Я пошел с ним из-за того, что ты сказала мне, — ты должна хорошо помнить свои слова. Я сказал, что Фоя в опасности, что Хенга хочет украсть ее и убить и лучше мне остаться сторожить ее, а ты ответила, что никогда не позволишь волчьему приемышу охранять твою дочь и будешь охранять ее сама. Не уберегла ты ее. Ты выбранила меня, и я ушел на охоту с Ви, и Хенга похитил Фою и убил ее. Аака повесила голову и ничего не ответила, так как знала, что Паг говорит правду. — Оставим это, — продолжал Паг. — Мертвецы мертвы: умерли и не встанут. Я сказал тебе мудрые и правильные слова, но можешь снова выбранить меня, пойти в хижину и разбудить Ви. Но повторяю, если ты так поступишь, ты можешь изменить исход боя и обречь почти на верную смерть и Ви, и себя, и Фо. — А Ви спит? — спросила Аака уже более сдержанным тоном. — Думаю, спит, потому что я посоветовал ему заснуть, а в таких делах он слушается меня. И прошлую ночь он спал очень мало. Но путь открыт, и я сказал все, что хотел сказать. Теперь поступай, как знаешь. Ступай, разбуди его, спроси, спит ли он, утоми его бабьей болтовней, расскажи ему, какие сны снились тебе, что ты думаешь о Фое и Ледяных богах, подготовь его этим к бою с Хенгой, силачом и великаном. — Не пойду, — ответила она, топая ногой. — Ведь не то, если Ви потерпит поражение, ты будешь своим ядовитым языком указывать на меня, как на причину его смерти. Но знай, безобразный отщепенец, помни, Человек-Волк, что если Ви победит и останется в живых, он должен будет выбрать между тобой и мною, ибо если ты будешь жить с ним в пещере, я останусь здесь в хижине. Паг рассмеялся. — Тогда-то уж наверняка будет мир и тишина. Ведь если Хенга будет убит, после него в наследство новому достанется немало красивых женщин, которые также живут в пещере и, несомненно, не сразу согласятся выселиться оттуда. А, впрочем, поступай, как знаешь; полная тебе свобода к в этом деле, и во всех других. Только говорю тебе, Аака, что ты напрасно оскорбляешь меня; быть может, в скором времени тебе понадобится моя помощь для того, чтобы покинуть этот мир. Внезапно он перестал насмехаться, перестал раскачивать огромную голову, — он всегда покачивал головой, когда издевался — посмотрел ей прямо в глаза единственным своим глазом, — народ говорил, что он видит этим глазом в темноте не хуже дикой кошки, — и сказал спокойным и ровным голосом: — Почему ты издеваешься над моим безобразием? Выбирал ли я сам свой облик или получил его от женщины? Кто выбил мне правый глаз? Я сам или женщина выбила его мне, ударив о камень? Сам я покинул племя зимою, уходя на голодную смерть, или меня выгнали женщины за то только, что я говорил им правду? Почему ты сердишься на меня за то, что я люблю Ви, который спас меня от жестокости женщин, и люблю твоего сына Фо, зачатого тобою от Ви? Почему ты не можешь понять, что я, несмотря на то, что безобразен, обладаю сердцем большим, чем у всех вас, и мудростью большей, чем мудрость всех в племени, и что эти сердце и мудрость — первые слуги Ви и всех тех, кому Ви прикажет служить? Почему ты ревнуешь меня? — Хочешь знать, Паг? Потому что ты говоришь правду. Потому что ты для Ви дороже, чем я; потому что ты и для Фо дороже, чем я. Мы с тобой станем друзьями только тогда, когда явится третий, кого Ви полюбит больше, чем тебя. Только тогда, но не раньше. — Это может случиться, — задумчиво сказал Паг, — а теперь больше не мешай мне, ибо я иду готовить оружие для этого боя и не хочу терять время понапрасну. Ступай в хижину, ступай и рассказывай Ви все, что хочешь. Аака заколебалась, но потом ответила: — Нет, я пойду с тобой помогать тебе готовить оружие, ибо мои пальцы гибче твоих. Пусть между нами на час наступит мир, а если хочешь, продолжай издеваться, но я не буду отвечать тебе. Паг снова рассмеялся и промолвил: — Женщины странны, так странны, что даже я не могу полностью понять их. Идем! Идем, ибо острия копья и топора притупились, и связки, удерживающие их в рукоятках, нужно переменить. Некоторое время Паг, Аака и мальчик Фо, который помогал им, бегая с различными поручениями, работали над простым оружием Ви, заострили копье и наточили острие топора. Когда топор был наточен как следует, Паг взвесил его на руке и с проклятием бросил на землю. — Слишком легок, — сказал он. — Как может эта игрушка устоять против дубины Хенги? Он поднялся, сбегал в свое логово позади хижины и вернулся, неся блестящий обрубок в форме секиры. — Взгляни, — сказал он, — это не намного больше топора Ви, но тяжелее втрое. Я нашел его у горы, где валялось много таких камней. Прошлой зимою я обточил и обработал его. Аака взяла этот предмет, и рука ее опустилась к земле, так он был тяжел. Тогда она потрогала край предмета, который был острее, чем край только что отточенного топора, и спросила, что же это такое. — Не знаю, — сознался Паг. — В общем, эта вещь похожа на камень, побывавший в жарком пламени. И эта вещь такая твердая, что обрабатывать ее я мог только другим куском такого же камня. Я стучал и колотил ее после того, как она полежала в огне и раскалилась докрасна, а затем оттачивал тонким песком и водой. Паг того не знал, но ясно было, что странная вещь — осколок железного метеорита. Паг, руководствуясь только догадкой, стал одним из первых на свете кузнецов. Обнаружив, что странный «камень» настолько тверд, что не поддается никакой обработке, Паг раскалил его докрасна на огне и затем обрабатывал другим подобным «камнем». Таким образом Паг научился использовать железо и открыл одно из важнейших ремесел человечества, самостоятельно сделал один из важнейших шагов вперед в истории развития человечества. — А это не сломается? — с сомнением спросила Аака. — Нет, — сказал Паг. — Я уже испытывал этот камень. Удар, который разносит в куски самый крепкий каменный топор, не оставляет на этой вещи никаких следов. Эта штука не сломается. Выдержит. Но не выдержит то, что ударят этим. Я сделал эту секиру для себя, но отдам ее Ви. А теперь помоги мне. И он вытащил рукоять. Рукоять, подобно лезвию, была совершенно особая, невиданная в племени до сих пор. Паг с бесконечным терпением и трудом сделал ее из толстой кости голени огромного оленя. Эту кость, почерневшую, полузасыпанную, он нашел однажды на берегу реки, когда рыл яму для того, чтобы добыть воду. Очевидно, кость принадлежала благородному созданию, известному у нас под названием «ирландский олень» или «cervus giganteus». Отколов часть этой кости, Паг сделал в ней глубокую щель, разделив край ее надвое, и в эту щель вставил шейку секиры. Шейка пришлась как раз и только на дюйм или два выступала из щели. С большим усердием при помощи Ааки и Фо принялся он за работу. Сухожилиями и полосками сухой оленьей кожи он прикрепил рукоять к клинку, завязав концы множеством узлов. Затем, размягчив на огне птичий клей и янтарь, который в огромном количестве находил на берегу (он нагрел их, смешав в раковине), покрыл этим клеем веревки из кожи и, когда клей высох, подровнял его острым камнем. Затем он опустил готовую секиру в ледяную воду. Вынув ее из воды, держал в дыму пылавшего рядом костра, чтобы клей совершенно засох и веревки ссохлись от жары. Затем он покрыл первый слой клея новым слоем, охладил его пригоршней снега, высушил на огне и отполировал. Наконец, он закончил свое дело. Гордость переполняла его сердце, и он поднял оружие, восклицая: — Вот лучшая секира, какую когда-либо видело племя. — А кость не разломится? — недоверчиво спросила Аака. — Нет, — возразил Паг, продолжая тереть потемневший от дыма клей. — Я испытывал крепость клинка. Никто не в силах сломить его. Взгляни! Чтобы рукоять была прочнее, я обтянул ее кожей. Ну, а теперь я пойду будить Ви.* * *
Продолжая полировать секиру и топорище куском шкуры, Паг тихонько вошел в хижину, оставив Ааку за дверями. Ви спал, как дитя. Паг осторожно положил секиру на шкуру, покрывавшую ложе, вернулся к двери и спрятался за занавеской. Затем он поскреб ногой земляной пол, и Ви проснулся. Первое, что он увидел, была секира. Он сел, взял секиру в руки и стал жадно рассматривать ее. Когда он насмотрелся на такое чудо, — а для него это была чудесная вещь, сделанная из неизвестного ему камня, втрое тяжелее обычного, с рукоятью из черной кости, тверже моржового клыка и обтянутую кожей, с острым топором, острее любого кремнего топора, — он решил, что видит сон, ибо подобным оружием сражаются одни только боги. Паг проковылял к его ложу и сказал: — Пора вставать, Ви. Но сперва скажи мне, как нравится тебе твоя новая секира? — Ее, наверное, сделали боги, — задыхаясь, сказал Ви. — С этим оружием я без страха один могу идти на белого медведя. — Да, ее сделали боги. Эта секира — дар богов. Я потом расскажу тебе, как они прислали тебе ее. Но дана она тебе не для того, чтобы убить белого зверя, который бродит во тьме, не для того, чтобы расправиться со свирепым хищником, который рыщет и убивает и днем и ночью. Говорю тебе, Ви: это — Секира Победы. Раз она у тебя — ты непобедим. Слушай, Ви, когда Хенга набросится на тебя, размахивая своей огромной дубиной, отскочи в сторону и изо всех сил ударь его по рукам. Если удар секиры обрушится на руки ему или на рукоять дубины, то начисто их отрубит. Если его руки уцелеют, он снова набросится на тебя, пытаясь схватить и раздавить в объятиях, или переломить тебе шею или позвоночник. Если успеешь, бей его по ногам. Старайся повредить сухожилия, чтобы он захромал. Но если ему все же удастся схватить тебя, старайся ускользнуть из его объятий, — ты ведь смазан жиром. И тогда, прежде чем он снова поймает тебя, бей его по шее или по голове, или по спинному хребту, — куда придется. Ведь эта секира не только не сломает то, что ты ударишь, но глубоко вопьется в тело врага и убьет его. Только не оброни секиры. Видишь: к рукоятке прикреплена петля: накинь ее на руку, тогда секира не соскочит; чтобы было верней, я привяжу ее к твоей руке вот этим сухожилием. Протяни руку. Ви протянул руку и возразил, в то время, как Паг ловко укреплял сухожилием петлю у него на кисти: — Понимаю, но не знаю, удастся ли мне сделать хотя бы часть того, что ты говоришь. И все-таки, как чудесна эта секира. Как бы то ни было, я постараюсь орудовать ею получше. Тогда Паг снова натер Ви тюленьим жиром, заново осмотрел секиру, чтобы проверить, все ли узлы как следует ссохлись и крепко ли держит клей. Затем он дал Ви кусок сушеной рыбы с тюленьим жиром, воды, набросил шкуру ему на плечи и вывел из хижины.* * *
Аака ждала снаружи вместе с Моанангой. Она взглянула на мужа и спросила: — Кто обрезал ему волосы? — Я, — ответил Паг, — и у меня были достаточные основания для этого. Она толкнула его ногой и холодно сказала: — Как смел ты коснуться его волос? Я ненавижу тебя за это! — Если тебе так хочется ссориться со мной, можешь ненавидеть меня и дальше. Но помни, Аака, что в конце концов ты будешь благодарна мне за то, что я сделал, хотя, впрочем, ненавидеть меня станешь еще больше. — Больше невозможно, — отвечала Аака. И они тронулись к Месту сборищ.* * *
Собралось все племя. Стояли кольцом, молча, потому что были настолько возбуждены, что было не до разговоров. От исхода этого боя зависела участь племени. Хенгу боялись и ненавидели, потому что он правил жестоко и убивал каждого, кто осмеливался роптать; Ви племя любило, однако никто не смел проронить ни слова, ибо не знали, каков будет исход боя, и думали, что нет на свете человека, кто устоял бы против мощи великана Хенги и спасся от яростных ударов его огромной дубины. Народ удивленно глазел на новый топор, висевший на руке Ви: люди указывали на него, подталкивая друг друга локтями, дивились тому, что волосы Ви коротко обрезаны, и не понимали, зачем; впрочем, думали, что это — жертва богам. И вот назначенный час наступил. Хотя холодный туман над морем и берегом закрывал солнце, все знали, что до захода осталось не более часа. Внезапно раздался голос: — Он идет! Хенга идет! Все обернулись к пещере. Великан вышел из тени утеса и шел к ним, тяжело ступая. Ви наклонился, поцеловал сына и сделал знак Ааке, чтобы она присмотрела за ним. Затем, в сопровождении своего брата Моананги и Пага, он вышел на открытое место в центре круга. Там стоял Урк, Престарелый Колдун, в чью обязанность входило оглашать правила и условия боя, завещанные законами племени. В то время, как Ви подходил к месту, Уока-Злой Вещун крикнул ему: — Прощай, Ви! Мы больше не увидим тебя. Жаль очень, что тебя убьют. Ведь ты хороший охотник и всегда приносишь большую добычу. Кто же заменит тебя нам? Паг обернулся, засверкал на него своим единственным глазом и сказал: — Меня-то уж, во всяком случае, ты увидишь! Ви шел, не обращая внимания ни на что. Вот он сошелся с Хенгой, одетым в тигровую шкуру и державшим в левой руке свою огромную дубину. — Очень хорошо, — прошептал Паг Ви. — Посмотри, у него живот набит плотно, он все-таки съел моего лосося. Шедшие за Хенгой рабы остановились на некотором расстоянии от места встречи врагов. Хенга заревел: — Что? Я должен биться не только с этим человеком, но и с его друзьями? — Пока еще нет, Хенга, — смело возразил Моананга. — Сперва убей человека, а затем можешь сражаться с его друзьями. — Это дело не трудное, — ухмыльнулся Хенга. Вперед вышел Урк, поднял руку и с гордым видом приказал всем замолчать.Глава 4
СМЕРТЬ ХЕНГИ
Сперва Урк, как знаток старинных обычаев племени, начал подробно пересказывать закон о сражениях, подобных сражению Ви с Хенгой. Он сообщил народу, что вождь сохраняет свое звание и пользуется своими правами и преимуществами только потому, что он сильнее всех в племени, подобно тому, как стадом повелевает сильнейший буйвол. Когда же против вождя восстает охотник моложе и сильнее, он вправе убить вождя, если это удастся ему, и занять место вождя. Но только закон требует, чтобы вождя он убил в открытом и честном бою, в присутствии всего народа, причем в бою каждый имеет право пользоваться только одним оружием. Если же вызванный победит, пещера и все живущие там принадлежат ему и все признают его вождем. Если же он будет побежден, труп его будет брошен на съедение волкам. В общем, Урк, сам того не зная, излагал учение о том, что выживают сильнейшие — закон, много тысяч лет спустя сформулированный Дарвином. Хенга начинал терять терпение. Ему казалось, что он быстро справится с таким врагом. Ему хотелось поскорее вернуться в пещеру, выслушать приветствия и хвалы своих жен и отоспаться после лосося, которого он — как справедливо предвидел Паг — обглодал всего. Но Урк не умолкал. Он, как хранитель преданий, чувствовал себя в своей стихии: он был главным жрецом и руководителем всех обрядов племени и считал малейшее отступление от традиций смертным грехом. Урк заявил возмущенно, что все, даже малейшие, обряды должны быть соблюдены. Не то он не будет иметь права на полагающиеся ему одежду и вооружение побежденного. При этом он жадно взглянул на страшную секиру, какой ему никогда не случалось видеть раньше, взглянул жадно, хотя сморщенные его руки вряд ли могли бы занести секиру для удара. Он громко заявил, что когда-то, в дни своей молодости, помогал отцу, бывшему колдуном племени до него, в подобном же деле, и что на нем и сейчас надет плащ, снятый тогда с трупа побежденного. И он указал на облезлую и лоснящуюся шкуру на своих плечах. Он добавил, что если его сейчас перебьют, он предаст нарушителя обряда самому страшному проклятию, какое только может придумать. Наверное, все прекрасно понимают, что из этого последует. Ви слушал и молчал. Но Хенга проревел: — Так поторопись, старый дурак. Я начинаю зябнуть, и скоро будет слишком темно, так что я не смогу изуродовать этого малого так, чтобы собственные псы его не узнали. Тогда Урк стал излагать причины, заставившие Ви послать Хенге вызов. Разозленный словами «старый дурак», он излагал эти причины особенно ядовито. Рассказал, что, по мнению Ви, Хенга угнетает народ, и привел немало ярких и убедительных примеров этого угнетения. Рассказал о похищении Хенгой дочери Ви Фои и об убийстве ее. Разгоряченный собственными словами, он стал выкладывать новые обвинения, уже не связанные с Ви. Тут Хенга не выдержал, подскочил к старику и ткнул его ногой в живот так, что тот отлетел на несколько шагов. Урк поднялся, прихрамывая, отошел в сторону, призывая на голову Хенги все мыслимые и немыслимые проклятия. Хенга скинул тигровую шкуру, которую унес один из рабов. Ви сбросил с плеч свой плащ. Взявший у него плащ Паг шепнул: — Поберегись! Он что-то прячет в правой руке. Он хочет сплутовать. Затем он поковылял в сторону с плащом в руке. Великан и охотник остались на расстоянии пяти шагов друг от друга. В то время, как Паг отходил, Хенга поднял руку и с силой метнул в Ви кремневый нож с рукоятью из китового уса, нож, который он до сих пор прятал в своей огромной лапе. Но Ви был настороже и отскочил с криком: «Нечисто!» Он припал к земле так, что нож просвистел у него над головой. В следующее мгновение Ви вскочил и бросился на Хенгу, который занес дубину обеими руками над его головой. Прежде чем удар упал, Ви, вспомнив совет Пага, ударил изо всей силы. Хенга подставил дубину, чтобы прикрыть голову от удара. Острая сталь пробила толстое дерево так, что большая часть дубины упала наземь. Видевший это народ закричал от удивления. Хенга швырнул рукоятью в Ви, попал ему в голову и в то время, как Ви вскочил, поднял толстый конец дубины. Ви остановился на мгновение, чтобы стереть кровь из раны на лбу, заливавшую ему глаза. Затем он вновь бросился на Хенгу и, держась на расстоянии, попытался ударить великана по колену, как советовал Паг. Но руки у Хенги были неимоверно длинные, а рукоять секиры Ви — короткой, так что задача оказалась не из легких. Наконец ему удалось попасть в цель. Правда, он не повредил ни одного сухожилия, но секира врезалась в ногу Хенги повыше колена так глубоко, что Хенга заревел от боли. Обезумевший от ярости великан решил изменить тактику боя. Отшвырнув дубину, он, в то время как Ви выпрямлялся после удара, прыгнул на противника и обхватил его могучими руками, надеясь переломать ему ребра или задушить насмерть. Они начали бороться. — Все кончено, — сказал Уока. — Человек, которого Хенгаобхватил, — мертв. Стоявший рядом с ним Паг ударил его по губам и крикнул: — Смотри, Вещун, смотри! В это время Ви выскользнул из объятий Хенги, как угорь выскальзывает из рук ребенка. Хенга схватил его за волосы, но волосы Ви были коротко обрезаны и смазаны тюленьим жиром, так что удержать их Хенге не удалось. Тогда великан ударил его кулаком с такой силой, что удар свалил Ви наземь. Хенга, не давая ему встать, навалился на него, и оба завозились на песке. Никогда до сих пор не видело племя подобного боя, и никакие предания не рассказывали ни о чем похожем. Они извивались, корчились, катались по земле, то один оказывался наверху, то другой. Хенга пытался ухватить Ви за горло, но руки его скользили по натертой тюленьим жиром коже. Охотник каждый раз ускользал от смертельных объятий и даже смог нанести Хенге удар кулаком. Но вот оба они поднялись вместе, причем руки великана все еще обхватывали Ви. Хенга боялся выпустить противника, потому что был безоружен, и секира по-прежнему висела на кисти Ви. Они боролись, двигаясь то взад, то вперед, покрытые кровью и потом. Зрители только качали головами и дивились, как может человек устоять против тяжести и силы Хенги. Но Паг, замечающий все своим единственным глазом, шепнул Ааке, которая, в тревоге и страхе, забыв свою ненависть, прижималась к нему: — Приободрись, женщина. Лосось съеден недаром. Смотри, Хенга устал. Паг не ошибался. Объятия великана ослабли, дыхание его тяжело прерывалось: более того, стала дрожать нога, на которую обрушился удар секиры Ви, так что Хенга не смел больше опираться на эту ногу. Однако, собрав все свои силы, он отбросил от себя Ви так яростно, что тот свалился наземь и лежал с мгновение неподвижно, точно был оглушен или из него вышибли дух. Тогда Моананга громко простонал, ожидая, что Хенга вскочит на неподвижно распростертое тело врага и насмерть растопчет его. Но с Хенгой случилось что-то странное. Казалось, его охватил внезапный ужас. А может быть, он решил, что его противник мертв. Как бы то ни было, он не стал ждать, повернулся и стремглав побежал к пещере. Ви пришел в себя или же попросту перевел дыхание, потом присел и взглянул ему вслед. Затем с криком вскочил на ноги и бросился вслед за Хенгой, а за ним устремилось все племя. Даже Урк-Престарелый ковылял следом, опираясь на свой жреческий посох. Между Хенгой и его преследователем лежало немалое расстояние. Но с каждым шагом раненая нога убегавшего слабела, а Ви гнался за ним с быстротой оленя. У самого входа в пещеру он догнал вождя, и сбежавшийся народ увидел, как сверкнул топор и как ударилась блестящая сталь в спину Хенги и он грохнулся наземь, и затем оба исчезли в тени пещеры, а все собравшиеся снаружи ожидали исхода боя. Вскоре из пещеры кто-то вышел. Это был Ви, в руках у него было что-то странное. Это был Ви, и окровавленный топор все еще свисал с его правой руки. Он шатаясь прошел вперед; луч заходящего солнца пробился сквозь туман и упал на него и на предмет, который он нес. То была огромная голова Хенги. С мгновение Ви стоял тихо и неподвижно, точно задумался, а собравшиеся криком приветствовали его. Неожиданно он закачался, потерял сознание и тяжело спустился на руки Пага, который, заметив, что Ви слабеет, успел пробиться сквозь толпу и подскочить к нему как раз вовремя. Ви перенесли в пещеру. Труп же павшего великана Хенги выволокли оттуда, точно это был труп собаки. Затем, по желанию Ви, труп отнесли к подножию глетчера и положили там, как жертву Ледяным богам. Но только несколько человек из племени, те, которые больше всего пострадали от Хенги и больше всех ненавидели его, завладели мертвой головой. Неподалеку стояла сухая сосна, вершина которой была сожжена молнией. Несколько человек вскарабкались на дерево и насадили отрубленную голову на один из суков покосившегося ствола. Там голова и осталась; длинные волосы ее трепал ветер и пустые глазницы смотрели вниз на хижины. Войдя в пещеру, обнаружили, что все это огромное обиталище полно женщин, которые, — хотя Ви еще был без сознания, — торопливо выражали преданность и покорность своему будущему господину и повелителю, окружив его, покуда Паг при помощи Моананги и других не выгнал их вон, говоря, что если вождь Ви захочет увидеть какую-нибудь из женщин, он пошлет за ней. — Впрочем, — добавил он, — по-моему, это маловероятно. Ведь все вы безобразны. Последнее было сущей неправдой. Женщины разошлись искать убежища и сердились на Пага. Сердились главным образом на то, что он назвал их уродливыми, а не на то, что выгнал их. Они прекрасно понимали — иначе он и не мог поступить, ведь они были женами Хенги и могли отравить Ви или постараться как-нибудь иначе прикончить его. Естественно, им нельзя было доверять. Ви опустили на ложе Хенги в боковой пещере возле ярко пылающего огня. Он скоро оправился от обморока, напился воды, поданной ему одним из рабов пещеры (их не выгнали вместе с женщинами), и в первую очередь спросил о Фо, которого нежно поцеловал. Затем позвал Пага и приказал ему привести Ааку. Но Аака, узнав, что ее муж оправился и, в общем, пострадал не сильно, ушла, сказав, что должна присмотреть за огнем у себя в хижине и вернется сюда утром. Итак, Паг и Моананга накормили Ви тем, что нашлось в пещере; в том числе и остатками лосося, которые Хенга собирался съесть после боя. Наевшись, Ви повернулся и заснул, так как был настолько утомлен, что не мог даже говорить. Фо примостился на ложе рядом с отцом и последовал его примеру.* * *
Ви проспал всю ночь и, проснувшись поутру, почувствовал, что тело его затекло и одеревенело, а на затылке ноет шишка, выскочившая после того, как он стукнулся головой оземь от удара Хенги. Вообще, все тело ломило от ужасных объятий великана. На лбу шел глубокий порез, рваная рана была от рукоятки дубины; вся кожа исцарапана длинными ногтями Хенги. Впрочем, он чувствовал, что все кости целы и особенно опасного ничего нет. И сердце его наполнила радость: ведь вчера вечером не Хенги, а его труп могли отдать волкам на съедение. Он ощущал радость и благодарность. Благодарность кому? Кому обязан он тем, что уцелел? Ледяным богам? Возможно. Если так — он благодарен им, ведь он не желал умирать и предвидел, что ему предстоит немало сделать для своего народа. Да и Ледяные боги казались ужасно далекими и страшно холодными. Правда, камень упал, но это могло произойти и случайно. Поэтому он вообще не в состоянии был разрешить вопрос о том, интересуются ли они хоть немного им и его участью. Паг считал, что богов вообще не существует: возможно, он и прав. Ясно пока было лишь только то, что не вмешайся Паг в дело, Ледяные боги не спасли бы его вчера от смерти, не дали бы ему победы над великаном Хенгой, над сильнейшим человеком, которого когда-либо знало племя. А о силе, равной силе Хенги, ничего не говорил даже Урк и те другие, которые, длинными зимними ночами складывают песни и выдумывают разные рассказы. Ведь Хенга однажды поймал дикого буйвола за рога и голыми руками свернул ему шею. Все сделал Паг. Это Паг натер ему тело тюленьим жиром и коротко обрезал волосы, чтобы Хенга не смог ухватить его. Это Паг сделал чудодейственный топор, блестящую секиру, при помощи которой ему удалось уложить Хенгу на месте (Паг уже объяснил, откуда эта секира). Паг воодушевил и вдохновил его на борьбу, внушая ему, что и в нынешний раз он одержит серьезную и большую победу. Эти слова Пага Ви помнил все время и твердил их про себя даже в те мгновения, когда казалось, что борьба проиграна. Но теперь Хенга мертв. Он не просто был сбит с ног ударом секиры, но и после этого дважды поднимался блестящий «камень», и голова Хенга полетела с толстой шеи. За Фою Ви отомстил. Фо и Аака спасены, а он, Ви, — повелитель Пещеры и Вождь племени. И поэтому Ви поклялся, что Паг, пусть его и называют карликом, уродом, отщепенцем, должен непременно всегда находится рядом с Ви. Он поклялся сделать Пага своим советником, хотя знал, что ревнивой Ааке такая дружба будет не по сердцу. Лежа и размышляя подобным образом, Ви заметил, что трое из женщин — самые молодые и самые красивые — вернулись в прежнее жилище и стояли в некотором отдалении, переговариваясь и поглядывая на Ви. Наконец, они пришли к какому-то решению и спокойно стали приближаться. Ви судорожно ухватился за секиру. Увидев, что Ви бодрствует и глаза его открыты, они стали на колени, коснулись лбами земли, назвали его господином и повелителем и сказали, что желают остаться у него, ибо он столь велик и могуч, что убил Хенгу. Ви слушал их удивленно, не зная, что сказать. Меньше всего на свете он хотел сделать этих женщин своими домочадцами, хотя бы уже по той причине, что все, к чему Хенга имел отношение, казалось ему отвратительным. Но Ви был человек мягкосердечный и не мог обидеть женщин. В то время, как он искал подходящего слова, одна из женщин, не подымаясь с колен, поползла вперед, взяла его руку, приложила ее ко лбу и поцеловала. В это мгновение появились Аака и Паг. Женщины вскочили, отбежали в сторону на несколько шагов, сбившись в кучу, а Паг хрипло расхохотался. Аака же выпрямилась во весь рост и сказала возмущенно: — Видно, ты быстро освоился в новом жилище, о, муж мой. Вот уж и наложницы Хенги с любовью целуют тебя. — С любовью! — удивленно воскликнул Ви. — Да гожусь ли я для любви? Эти женщины явились сами. Я не звал их и не посылал за ними. — О да, несомненно, они явились сюда сами, так как знали, что их приход будут приветствовать, о муж мой. А может быть, они вообще не уходили отсюда? По правде говоря, мне начинает казаться, что в пещере Вождя для меня вообще не будет места. Но этому я только рада; родной дом милее, чем эта черная дыра. — Но я не раз слыхал, как ты в зимние холодные ночи, когда ветер бушевал в хижине, говорила, что хорошо было бы лежать в теплой и уютной пещере Вождя. — Разве? Ну, значит, в таком случае, теперь я этого не думаю. Ведь я раньше не видела пещеры, так как не принадлежала к числу домочадцев Хенги. — Замолчи, женщина, — сказал Паг, — давай лучше узнаем, как себя чувствует вождь Ви. А этих рабынь я уже раз прогнал отсюда и сегодня сделаю то же. Вождь, мы принесли тебе пищу. Ты в состоянии есть? — Кажется, да, если только Аака подымет меня. Аака разгневанно взглянула на женщин и еще более сердито посмотрела на Пага, так что Ви решил, что она откажется. Но она передумала и поддержала Ви, еще слишком слабого для того, чтобы сидеть без посторонней помощи. Вернувшийся Фо кормил его, все время болтая о вчерашнем сражении. — А ты не боялся за отца? — спросил его Ви под конец. — Ведь мне пришлось бороться с великаном, с человеком, чуть ли не вдвое больше меня ростом. — Вовсе не боялся, — весело отвечал Фо. — Паг сказал мне, что ты одержишь победу, так что мне нечего было пугаться. А Паг всегда бывает прав. — Впрочем, — добавил он, покачивая головой, — когда я увидел, что ты лежишь на земле и не шевелишься и Хенга вот-вот набросится на тебя, мне показалось было на мгновение: даже Паг может ошибиться один раз. Ви рассмеялся, с трудом поднял руку и погладил курчавую голову Фо. Стоявший в отдалении Паг глухо проворчал сквозь зубы: — Никогда больше не думай, что я ошибаюсь. Бог живет только верой своих поклонников. Этих слов Фо не понял. Аака тоже ничего не поняла, но догадалась, что Паг сравнивает себя с богом, и от этого на ее нахмуренном лице появилось выражение злобы и ненависти. Она верила на свой лад так, как верили до нее ее предки и как научили верить ее, и не любила легкомысленных разговоров о богах; тем более, если боги действительно существуют, то их, по ее мнению, нужно боятся. Правда, она послала Ви молиться к Ледяным богам, которым он верил, и ожидать знака, — упавшего камня. Но послала она его потому, что пришла к убеждению: наступила пора ему сразиться с Хенгой и ответить за убитую Фою, по крайней мере, приложить к этому все усилия, пусть и рискуя жизнью. К тому же она твердо знала, что в это время года, на рассвете, почти всегда с усеянной валунами вершины глетчера падают камни. Знала она также, что Ви с места не сойдет, покуда не дождется знака, и сама позаботилась, чтобы в это утро один, а то и несколько камней упали бы с глетчера. Поэтому-то она нахмурилась и сказала Фо: — Глупо верить всем словам Пага. — Однако, — пытался протестовать мальчик, — ведь то, что говорит Паг, всегда оказывается правдой. И затем, ведь Паг сделал эту чудесную острую секиру, натер отца тюленьим жиром и срезал волосы отцу. Паг, желая прекратить разговор, вмешался: — Это мелочь и пустяки, Фо, и сделал я все только потому, что безобразный урод, вроде меня, должен думать и защищать себя и своих друзей мудростью, подобно тому, как поступают волки и другие хищные звери. Людям же красивым, вроде твоих родителей, нечего заботиться об этом, потому что они защищают себя многими другими способами. — Возможно, они думают не меньше твоего, карлик, — сердито возразила Аака. — Да, Аака, они, несомненно, думают, только с меньшим проком. Разница между нами та, что я и подобные мне думаем правильно и приходим к правильным выводам, а другие думают неправильно. И, не дожидаясь ответа, Паг быстро заковылял куда-то по своим делам. Аака посмотрела ему вслед с выражением удивления в своих прекрасных глазах и затем спросила: — Паг будет жить в пещере? — Теперь я Вождь, и этим обязан ему. Он был хорошим советчиком, он дал мне секиру и должен быть Советником Вождя. Этого требует справедливость. — В таком случае, я буду жить в хижине, — заявила она, — где ты сможешь найти меня, когда захочешь. Это место противно мне: оно пахнет Хенгой и его наложницами. Тьфу! И она ушла, хотя, правда, потом возвратилась. Впрочем, слово свое Аака сдержала: она действительно не спала в пещере… то есть, до тех пор, покуда не наступила зима.Глава 5
КЛЯТВА ВИ
Ви был очень крепок и здоров и вскоре оправился после великого боя. Правда, еще довольно долго он страдал от царапин, полученных в борьбе с Хенгой, чьи ногти, казалось, были не менее ядовиты, чем волчьи зубы. Уже на следующий день Ви вышел из пещеры и предстал перед всем племенем, которое собралось для того, чтобы приветствовать своего нового вождя. Приветствовали они его очень сердечно и затем поручили Урку-Престарелому рассказать обо всех бедах и напастях, которых набралось у них немало. Во всех этих горестях, считало племя, вождь должен им помочь. В первую очередь они пожаловались на климат: за последние годы летние сезоны были страшно холодны и бессолнечны. В ответ на это Ви посоветовал им обратиться с молитвой к Ледяным богам. Некоторые из собравшихся закричали, что если разбудить богов и растревожить их молитвой, они нашлют на страну еще больше льду, а племени и так льда, снега и инея достаточно. Это было соображение, на которое Ви не смог решительно ничего возразить. Затем они заговорили о делах домашних, достаточно щекотливых. Урк напомнил, что женщин в племени мало, значительно меньше, чем мужчин, поэтому дело доходит до того, что многие мужчины, которые охотно женились бы даже на самой безобразной и самой сварливой женщине, не могут найти себе вообще никакой невесты и вынуждены оставаться холостяками. В то же время некоторые более сильные или богатые имеют по три-четыре жены; бывший вождь, пользуясь своим положением и властью, взял себе пятнадцать, а то и целых двадцать самых молодых и красивых женщин. Племя считало: этих женщин Ви не должен оставлять себе. Ви ответил, что он не собирался оставлять их и докажет это в ближайшее время. Что же касается остального, племя, в сущности, само виновато в малочисленности женщин. Нужно только отказаться от бессмысленного обычая выбрасывать новорожденных девочек и растить их так же, как и мальчиков. Тогда Урк заговорил о других делах. Начал он с вопроса о налогах, то есть, точнее говоря, о чем-то аналогичном нашему представлению о налогах. Народ считал: вождь берет слишком много и дает слишком мало взамен. Вождь сам ничего не делает и решительно ничего не производит, и в то же время требует, чтобы его со всеми его многочисленными домочадцами племя содержало в роскоши. К тому же вождь забирал себе приглянувшихся ему женщин племени, грабил склады пищи и шкур, а по временам, случалось, и убивал. А главное, вождь покровительствовал нескольким богачам. Тут Урк внимательно и демонстративно взглянул на Тури-Скрягу, Хранителя Пищи, и на Рахи Богатого, торговавшего рыболовными крючками, шкурами и кремневыми наконечниками; их выделывали ему бедняки, которых он впроголодь кормил за это в глухое зимнее время. Племя утверждало, что богачам покровительствовал вождь, а они отдавали ему львиную долю своей нечестной наживы, за что он возвышал их, приближал к себе и возвел даже в звание советников. Таким образом, все в племени должны были низко кланяться этим двум обиралам. Ви обещал разобрать дело и постараться прекратить безобразия. Последнее, на что жаловалось племя, было то, как нарушают старинные обычаи. Если кто-нибудь убил дичь или поймал ее в капкан или ловушку, нашел убитого зверя, годного в пищу, или поймал рыбу и хочет свою добычу спрятать на зиму, на него набрасывалась шайка голодных бездельников, которые жили за счет работающих и ничего не делали. Добычу они отбирали. Ви обещал разобрать и это дело. Затем он объявил, что племя должно собраться в ближайшее полнолуние, и тогда он сообщит, до чего додумался, и предложит племени для утверждения новые законы.* * *
После собрания прошло семнадцать дней. Все это время Ви думал. Он часами ходил по берегу в сопровождении одного только Пага (Аака презрительно называла карлика «тенью Ви») и советовался только с ним. Когда назначенный срок стал приближаться, Ви призвал к себе Урка-Престарелого, своего брата Моанангу и еще двух или трех человек. Он не позвал ни одного из советников Хенги; но зато выбранные им были всем известны, как люди честные и работящие. Племя, пожираемое любопытством, пыталось узнать от участников совещания, о чем это мог с ними советоваться вождь. Но люди ничего не говорили. Тогда на них натравили жен. Женщины, любопытные от природы, из кожи вон лезли и пускали в ход всевозможные хитрости, чтобы узнать то, чего добивалось все племя. Даже нежная и любящая жена Моананги Тана приняла участие в этой охоте; она заявила мужу, что не будет ни разговаривать с ним и не посмотрит на него, покуда он ей всего не расскажет. Но он так и не сказал ей ничего, впрочем, как и остальные. Тогда племя решило, что Ви или Паг, а может быть, оба — великие волшебники, раз сумели обуздать языки мужчин настолько, что те не проболтались даже собственным женам. Но тут произошла одна очень странная вещь. С того самого дня, когда Ви сделался вождем, погода стала улучшаться. Ушли прочь холодные, сулящие снег и непогоду, облака; перестали дуть пронзительные северные и восточные ветры; наконец, хотя и с большим запозданием, пришла весна, вернее, лето, потому, что весны в этом году не было. Появились тюлени, хотя в значительно меньшем количестве, чем обычно; лосось, очевидно, затертый льдами, громадными массами шел вверх по реке, прилетели и гуси и стали вить гнезда. — Поздно пришло, рано уйдет, — сказал наблюдательный Паг. — Впрочем, лучше это, чем ничего. В назначенный для нового совета день все племя, сытое и в превосходнейшем настроении, встретило своего вождя, которого стало считать чуть ли не добрым гением. Даже Аака была в хорошем расположении духа. Когда Тана, приходившаяся ей родней и по крови, и как жена Моананги, брата Ви — спросила ее, что все-таки скажет вождь, Аака смеясь ответила: — Понятия не имею. Но, наверное, нам расскажут какую-нибудь чепуху, которую Ви придумал вместе со своим Человеком-Волком; пустая болтовня, вроде гоготания гусей. Все это наделает шуму и быстро позабудется. — Во всяком случае, — без всякой логической связи сказала ей Тана, — Ви ведет себя по отношению к тебе очень хорошо. Ведь я знаю, что он услал прочь всех рабынь Хенги. — Да, ведет он себя очень хорошо, но сколько времени это будет продолжаться? Или ты думаешь, что он, став вождем, будет непохож на других вождей? Все люди ведь на один лад, все на один покрой. И к тому же, — с кислой усмешкой добавила она, — женщин-то он отослал, а Пага оставил. — А какое тебе дело до Пага? — спросила Тана, широко рас-крыв глаза. — Большее, чем до всего остального, Тана. Постарайся только понять меня, если тебе это удастся: я ревную только ум Ви, а до всего остального мне нет дела. А этот карлик захватил именно его ум. — Вот как! — и Тана удивленно поглядела на нее. — Странная у тебя фантазия. А вот мне, например, совершенно безразлично, что будет с умом Моананги. Я ревную только его самого (а для этого у меня немало причин), но никак не его ум. — Совершенно верно, — резко оборвала ее Аака, — потому что у него нет ума. С Ви дело обстоит совершенно иначе: ум его и больше и значительнее, чем тело. И вот поэтому-то я и хочу, чтобы ум остался моим. — В таком случае, постарайся быть такой же умной, как Паг, — несколько рассердившись, возразила Тана и, отвернувшись от Ааки, заговорила с соседкой.* * *
Племя собралось на Месте сборищ, перед пещерой, на том самом месте, где Ви победил Хенгу. Собравшиеся сидели или стояли полукругом. Вот, наконец, Винни затрубил в рог, затрубил громко, спокойно и четко, потому что на этот раз он ничего не боялся, как боялся раньше каких-либо выходок со стороны прежнего вождя. Ви появился в плаще из тигровой шкуры, в том самом, который носил Хенга; плащ, как заметила Аака, был велик Ви. Ви казался озабоченным. Он вышел из пещеры в сопровождении Моананги, Урка, Пага и остальных советников и уселся в центре круга. — Все ли племя здесь? — спросил Винни-Трубач, и собравшиеся ответили, что явились все, кроме тех немногих, кто не в силах был прийти. — Так внимайте же вождю Ви, Великому охотнику, мощному воину, победителю злого Хенги… Впрочем, может быть, кто-нибудь желает оспаривать у Ви звание вождя? — и он замолчал. Никто не отозвался. Ни один человек в племени не желал иметь дело с чудодейственной секирой, расколовшей огромную голову Хенги, голову, пустые глазницы которой, как постоянное напоминание, глядели на собравшихся с обломанного ствола высохшего дерева. Итак, Ви поднялся и заговорил: — О, племя, мы верим, что нигде нет подобных нам. По крайней мере, подобных нам мы не встречали ни на побережье, ни в лесах вокруг, хотя позади Спящего, там, во льду, таится тень, которая, по всей видимости, похожа на человека. Если это человек, то он умер давно. Скорей всего, это бог. Быть может, он — родоначальник нашего племени, был окружен льдом, и в нем сохранился. Итак, раз мы — единственные люди и раз мы выше, нежели звериный народ, ибо можем думать и разговаривать, строить хижины и делать много вещей, которых звери не могут, хотя они и сильнее нас, мы должны показать им нашим поведением, нашим обращением друг с другом, что мы выше и лучше их. Никому в племени никогда не приходило в голову сравнивать себя или себе подобных с животными; таким образом, возвышенные речи Ви были встречены молчанием; к тому же, если бы соплеменник Ви стал сравнивать себя со зверем, возможно, он отдал бы зверю предпочтение. Потом, разговаривая между собой и вспоминая слова Ви, они сравнивали силу людей с силой медведя, дикого лесного буйвола, кита; результаты получались для людей плачевные. «Где человек, — спрашивали они, — который мог бы плавать, как тюлень, летать, как птица, или быть ловким, подвижным и свирепым, как полосатый тигр, живущий в пещерах; охотиться стаями, как хищные, прожорливые волки, или строить такие же искусные жилища, как муравьи, да и вообще во многом, бесконечно многом сравниться с совершенством тварей, населявших воды, небеса и землю? А, в сущности, не являются ли эти твари в своей области не менее разумными, чем человек? Правда, их язык непонятен людям, но разве из этого не следует, что они разговаривают на своем языке и поклоняются своим богам? Если кто сомневается, достаточно ему послушать, как волки и собаки воют на луну». Но все это говорили они после, во время же речи Ви никто не возражал. Изложив свою основную предпосылку, Ви продолжал речь. Он внял жалобам народа, совещался со многими из племени и решил, что наступило время издать новые законы, которые заставили бы всех повиноваться и связали бы все племя в один прочный узел. Если же кому-нибудь законы не понравятся, он должен уступить большинству, которое соглашается с законами; если он не уступит, а будет противиться, то будет наказан, как преступник. В случае согласия пусть племя выразит свое одобрение. Племя выразило свое одобрение. Во-первых, народ устал от долгого молчаливого сидения, а во-вторых, законов еще никто не слышал. Только один или два хитреца воскликнули, что им хотелось бы сначала услыхать новые законы. Но их голоса потонули в общем крике одобрения. — Во-первых, — продолжал Ви, — нужно решить вопрос о женщинах. Женщин слишком мало, и единственным средством помочь в этой беде станет обещание каждого мужчины иметь только одну жену. Я сам клянусь Ледяным богам, что не возьму себе второй жены и сдержу свою клятву. Если же я нарушу клятву, то да покарают Ледяные боги и меня и племя, которым я правлю, если племя позволит мне нарушить клятву. За этим потрясающим заявлением наступила тишина. Тана восторженно шепнула Ааке: — Что ты скажешь, сестра? Что ты скажешь о новом законе? — Я думаю, что из него в конце концов ничего не выйдет, — презрительно ответила Аака. — Ви и другие мужчины будут соблюдать закон до тех пор, покуда не встретят женщину, при виде которой им захочется преступить закон. Я думаю, что и немало женщин воспротивятся ему. Когда женщина состарится, она захочет, чтобы все работы по дому и приготовление пищи для семьи лежали на ком-нибудь, кто помоложе ее. Вот цена этому закону; он бессмыслен, как все новшества. И она показала кукиш. — А, впрочем, пускай этот закон проходит, — продолжала она, — он для нас будет оружием против наших мужей, когда они захотят преступить его. Я думаю, что первым же нарушителем станет Ви и произойдет это вскоре. Ви — просто глупый мечтатель и считает, что несколькими словами можно изменить людскую природу. А вернее всего, мысль эта не Ви, а пришла в голову Пагу. Паг же, как ты сама знаешь, не мужчина и не женщина, но просто карлик и волчий щенок. — Волчьи щенки и волки подчас бывают очень полезны, Аака, — задумчиво произнесла Тана и стала прислушиваться к разговорам своих соседей. Как только потрясающее заявление Ви было понято его слушателями, началось великое смятение. Все мужчины, у которых не было жен и все мужчины, которые желали чужих жен, кричали от радости, и их поддерживало немало женщин, бывших вторыми, третьими и четвертыми женами и, следовательно, не пользовавшихся достаточным вниманием. Но с яростью протестовали против нового закона именно многоженцы. Споры были шумные и долгие и, наконец, закончились компромиссным решением. Многоженцы согласились принять закон при условии, что им разрешат сохранить ту жену, которая им больше по сердцу, а также вообще менять жен по общему согласию всех участвующих в деле. Племя, достаточно терпимое, согласилось на это. Протестовал только Ви. Ви горел энтузиазмом реформатора и хотел показать пример: — Пускай каждый поступает, как ему заблагорассудится, но знайте все, что я, вождь, никогда не женюсь на другой женщине, покуда моя жена жива; не женюсь, даже если она будет просить об этом, что вряд ли случится. Внимай, о народ: я вновь клянусь богами, что не возьму другой жены. Если же наступит время, когда я ослабею и обезумею и явится мне искушение нарушить клятву, то да проклянут боги, если это случится, не только меня, но и весь мой народ поголовно, от мала до велика… Слушатели заволновались, и кто-то крикнул: — Почему? — Потому, — пылко заявил Ви, — что зная, сколько бед мой проступок может навлечь на ваши головы, я не поддамся безумию, ибо я вождь и защитник. Если же я обезумею, вы можете убить меня. За этим потрясающим заявлением наступила тишина. Через некоторое время Хотоа-Заика задал вопрос: — Если мы даже и убьем тебя, Ви, чем это поможет нам, раз проклятие, о котором ты просил богов, уже обрушится на наши головы? И кто же вдобавок осмелится пойти против тебя, когда ты вооружен чудодейственной секирой, которой разрубил Хенгу надвое? Прежде чем Ви успел придумать подходящий ответ, — вопрос был задан хитро и о возможности его он не подумал, — снова начался общий шум. Много женщин приняло участие в обсуждении, и кричали они во все горло. Таким образом, Ви ответить не удалось. Наконец, выступили вперед трое — весьма зловещая тройка: Пито-Кити-Несчастливый, Хоу-Непостоянный и Уока-злой Вещун. Ораторствовал за всех Уока. — Вождь Ви, — заговорил он, — народ слыхал твои речи о законах брака. Многие слова твои не пришлись нам по сердцу, ибо ты отменяешь старинные обычаи. Все мы признаем, что что-то нужно сделать, прежде чем племя погибнет. Ведь у тех, у кого много жен, детей не больше, чем у тех, у кого одна жена. Да и холостяки становятся убийцами и похищают не только жен, но и иное добро. Поэтому мы принимаем новый закон сроком на пять лет — срок достаточный, чтобы понять, что этот закон может дать нам. Мы запомнили твою клятву не жениться на другой жене, покуда Аака тебе жена, запомнили, что предашь себя проклятию богов, если нарушишь клятву. Мы не думаем, что ты сдержишь эту клятву; ведь ты вождь. Но если ты нарушишь клятву, мы уж проследим, чтобы проклятие обрушилось на тебя. Что же до того, что ты призываешь проклятие на все племя, — до этого нам вообще дела никакого нет, в это мы вообще не верим. Чего ради должен страдать народ от того, что ты нарушишь клятву? Боги отомстят злодею, а не невинным. Поэтому от имени моего народа я говорю: мы принимаем твой закон, хоть я-то лично полагаю, — из отказа от старинных обычаев ничего доброго выйти не может. Думаю, скоро на тебя обрушится проклятие и скоро ты умрешь. Так говорил Уока-Злой Вещун, оправдывая свое прозвище. Сказав это, он ушел вместе со своими спутниками и смешался с толпой. Стало уже темнеть, потому что все споры заняли немало времени: к тому же многие ускользнули, чтобы попытаться воспользоваться возможностями иного и внезапного переворота в брачном законодательстве. Поэтому Ви отложил обсуждение своего следующего закона, касающегося младенцев женского пола, на другой день. Племя разошлось.* * *
Эту ночь Ви спал в хижине, в которой жил до того, как стал вождем. За ужином он попытался поговорить с Аакой о своем великом новом законе. Она с минуту слушала, затем ответила, что с нее хватит всех разговоров за целый день, нужно поужинать и поговорить о действительно серьезном деле — как ей делать запасы на зиму теперь, когда она — жена вождя племени. А если ему так уж хочется продолжать болтовню о пустяках, — пускай обращается к своему советнику Пагу. Это возражение рассердило Ви. — Неужели ты не понимаешь, что благодаря этому закону женщины стали на голову выше, чем были, что теперь они — ровня мужчинам? — Если так, — ответила Аака, — следовало бы раньше спросить у нас, желаем ли мы становиться выше. Вот если бы ты расспросил женщин, ты, наверное, обнаружил бы, что большинство довольно своим теперешним состоянием, не желает ни вырастать, ни прибавлять себе работы и детей. А, впрочем, все это не важно, так как вообще такой закон — сплошной вздор; законы придумывают дураки, и я бы сочла тебя за самого большого из них, если бы не знала, что твоими устами говорит Паг, который ненавидит женщин и срубает старые деревья (последняя фраза значила: разрушает старинные обычаи). Мужчина есть мужчина, и женщина есть женщина, и что они делали издавна, то и будут делать всегда. Болтовней ты не изменишь их, хотя и считаешь себя умнее всех. Впрочем, мне приятно слышать, что ко мне ты не притащишь никаких нахальных девчонок. Так, по крайней мере, ты поклялся и угрожал самому себе за нарушение клятвы гневом богов: богов в присутствии многих свидетелей. А многочисленность свидетелей лишний раз доказывает, что ты — дурак. Ведь если ты нарушишь клятву, тебе немало хлопот будет от них. Ви вздохнул и замолчал. Он думал, что Аака, которую он любил и которой добился, испытав множество мучений, по-своему любила его, хотя частенько обращалась с ним грубо. Все-таки он отметил, что, поскольку ей это выгодно, она воспользовалась его законом: добилась того, чтобы сохранить Ви для себя одной. Но он никак не мог понять, почему она презирает и унижает то, что ей приносит пользу; ведь так никто на свете не поступает. Он пожал плечами и заговорил о зимних припасах.* * *
Перед рассветом их разбудил сильный шум. Женщины визжали, мужчины кричали и бранились. Фо, спавший на другом конце хижины, за занавеской из шкур, выполз, чтобы разузнать, в чем дело; и он, и его родители решили, что, очевидно, волки унесли кого-нибудь. Фо быстро возвратился и сообщил, что идет форменное сражение, но из-за чего — он узнать так и не смог. Ви хотел встать и принять участие в деле, но Аака удержала его словами: — Успокойся! Это просто действует твой новый закон. Вот и все. Утром оказалось, что она совершенно права. Несколько жен убежало от своих старых мужей к молодым любовникам; несколько мужчин, у которых не было жен, похитили или попытались захватить женщин силой. Результатом этого стали побоища и даже целое сражение, в котором один из стариков был убит и немало мужчин и женщин ранено. Аака смеялась над Ви. Но он был так опечален этим делом, что даже не пытался спорить с нею, только сказал: — Ты последнее время дурно обращаешься со мной. А я только и стараюсь сделать доброе и люблю тебя. Это я доказал уже давно, когда бился с человеком, который хотел насильно похитить тебя; помнишь, я убил его, что доставило мне много тревог и неприятностей. Тогда ты поблагодарила меня, и мы пошли вместе и много лет жили счастливо. А вот недавно Хенга, который ненавидел меня и всегда пытался забрать тебя к себе в пещеру, поймал нашу дочь Фою и убил ее. С того времени ты, любившая Фою больше, чем Фо, изменила отношение ко мне, хотя я не виноват. — Твоя вина в том, что случилось, — возразила она. — Нужно было остаться охранять Фою, а не идти охотиться для собственного удовольствия. — Ты знаешь, что я охотился не для собственного удовольствия, а для того, чтобы добыть мяса. А если бы только ты заикнулась, я бы оставил Пага сторожить Фою. — Так карлик уже успел выложить тебе свою придуманную историю? В таком случае, выслушай меня. Он сам предложил мне остаться сторожить Фою, но я вовсе не желала, чтобы это отвратительное создание охраняло мою дочь. — Паг никаких историй мне не рассказывал, но, очевидно, он только хотел выгородить тебя и потому упрекал меня за то, что я взял его с собой на охоту, когда нужно было опасаться Хенги. Слушай, Аака, ты поступила дурно. Ты ненавидишь Пага, но он любит меня и всю мою семью. Если бы ты позволила ему остаться охранять Фою, она была бы жива по сей день. Но оставим эти разговоры. Умершие мертвы, и больше мы их никогда не увидим. Слушай: по твоему совету я пошел к богам и молился им, вызвал Хенгу, убил его и отомстил, как ты того желала. Во всем этом деле мне помогал Паг своими мудрыми советами; а главное — он подарил мне секиру. Теперь я прогнал прочь всех женщин вождя, которые по праву принадлежат мне, дал новый закон, по которому у каждого мужчины может быть только одна жена. Для того, чтобы служить примером, каким должен служить вождь, я обрек себя проклятиям, себя и все племя, на случай, если моя воля ослабнет и я нарушу закон. А ты все равно настроена злобно. Или ты разлюбила меня? — Хочешь знать истину, Ви? — спросила она, — глядя ему прямо в глаза. — Хорошо, я скажу ее тебе. Я не разлюбила тебя, и не один другой мужчина мне не нравится; я люблю тебя не меньше, чем в день, когда ты из-за меня убил Ронги. Но вот в чем дело: я не люблю Пага, твоего самого близкого друга. А ты неразлучен с Пагом, а не со мною. Твой советник — Паг, а не я. Правда, с того времени, как Фоя убита, вода кажется мне горькой на вкус, мясо — точно вываленным в песке, и вместо сердца камень колотится в моей груди; мне дела нет ни до чего, и я одинаково готова жить и умереть. Но вот что я скажу тебе: выгони прочь Пага, — а ты вождь, ты на это имеешь право, — и я, как смогу, постараюсь быть для тебя тем, чем была прежде, не только твоей женой, но и твоим советником. Выбирай же между мной и Пагом. Ви закусил губу (так он поступал всегда, когда был смущен) и грустно поглядел на нее. — Женщины — странные существа и не в состоянии понять, что справедливо и что нет. Однажды я спас Пагу жизнь, и потому он любит меня; он мудр, мудрее всех в племени, я прислушиваюсь к его советам. Да, благодаря его сообразительности и его советам, а также подарку, который он сделал мне, — и Ви взглянул на висящую на стене секиру, — я убил Хенгу: не послушайся я Пага, Хенга убил бы меня. Фо любит его, и он любит Фо: с помощью Пага я создал новые законы, которые сделают легкой жизнь всему племени. А ты говоришь мне: «Выгони Пага, выгони своего друга и помощника». Ты ведь прекрасно знаешь, что, как только он лишится моего покровительства, женщины, которые его ненавидят, либо убьют его, либо же вынудят уйти прочь и жить в лесах, подобно хищному зверю. Поступи я так, я был бы подлым псом, а не человеком, и во всяком случае, не был бы достоин звания вождя, ибо долг вождя — быть справедливым ко всем. Почему ты требуешь от меня этого? Или ты ревнуешь меня к Пагу? — На это у меня есть свои собственные причины, Ви. Но раз я прошу тебя, а ты не уступаешь моим просьбам, ступай своей дорогой, а я пойду своей. Однако, нечего разглашать в народе, что мы поссорились. Что же до твоих новых законов, повторяю, они принесут тебе одни неприятности и больше из них ничего не выйдет. Ты хочешь срубить старое дерево и вместо него посадить новое и лучшее. Но если даже дерево и примется, ты умрешь прежде, чем оно разрастется настолько, чтобы защитить тебя от дождя. Ты тщеславен, ты безумен. И таким тебя сделал Паг.* * *
Вернувшись в пещеру, Ви обнаружил, что Паг ожидает его с завтраком. Пищу принес Фо, который ушел из хижины раньше, чем отец, на самой заре. Подавал еду Фо очень торжественно и таинственно. Завтракая, — это был маленький лосось, — Ви лениво заметил, что пища приготовлена как-то по-новому и ей придали особый вкус солью, устрицами и какими-то травами. — Я никогда ничего подобного не ел — сказал он. — Как приготовлен этот лосось? Тогда Фо б торжеством показал ему стоявший возле огня выдолбленный кусок дерева. В чурбан была налита вода, и она кипела. — Как это сделано? — спросил Ви. — Ведь если дерево попадает в огонь, оно загорается. Фо сдул пепел с очага и показал отцу несколько раскаленных докрасна камней. — Сделано все так, — сказал он. — Вот этот чурбан найден в болоте; я много дней подряд выжигал его сердцевину и, когда она обугливалась, вырезал ее куском такого же блестящего камня, из которого сделана твоя секира. Когда я все очистил, то налил в чурбан воды и положил туда раскаленные докрасна камни, — накладывал, покуда вода не закипела. А тогда я опустил в воду очищенную выпотрошенную рыбу, устриц и травы и продолжал бросать туда камни, чтобы вода не остыла; бросал до тех пор, покуда рыба не была готова. Вот как это сделано. Скажи, рыба вкусная? И он рассмеялся и захлопал в ладоши. — Очень вкусная, — ответил Ви, — и я с удовольствием поел бы еще, но только сыт по горло. Вообще, это очень хитрая выдумка. Чья она? — Все это выдумал Паг, но я почти все сделал сам. — Хорошо. Возьми себе остатки рыбы и можешь есть сама. А затем вымой чурбан, чтобы он не завонял. Вы с Пагом сделали больше, много больше, чем думаете, и скоро вас будет благодарить все племя. Фо ушел в полном восторге, а затем даже отнес горшок матери, ожидая, что она похвалит его. Но этого он не дождался. Как только Аака узнала, кто подал идею нового приготовления пищи, она заявила, что вполне удовлетворена старым способом готовки и убеждена, что от вареной рыбы начнутся болезни. Но никто не заболел, и скоро рыбу варили многие. Все племя занималось выжиганием деревянных чурбанов, вычищало обугленную сердцевину кремневыми орудиями и затем кипятило воду в горшках раскаленными камнями. В эту воду бросали не только рыбу, но и яйца, и мясо. Теперь даже старые и беззубые снова смогли есть и стали толстеть. Да и вообще здоровье людей улучшилось, и дети почти перестали болеть несварением желудка — результатом питания обугленным на огне мясом.Глава 6
ПАГ ЗАМАНИВАЕТ ВОЛКОВ
Ви с советниками снова собрал племя перед пещерой для того, чтобы объявить новые законы. Впрочем, на этот раз явилось не столько народу, сколько накануне, так как многие — таковы были плоды первого закона — лежали больные и раненые, а иные продолжали еще ссориться и драться из-за женщин, холостяки же строили хижины, достаточно большие, чтобы жить там вдвоем. Сразу же, прежде чем Ви успел заговорить, посыпалось множество жалоб на бесчинства последней ночи и просьбы о возмещении убытков и увечий. Выплыло немало запутанных вопросов, связанных с распределением женщин. Например, если три или четыре человека хотят жениться на одной и той же девушке, — кто должен взять ее? Ви отвечал, что выбор в данном случае принадлежит всецело девушке. Этим заявлением все были удивлены и просто ошарашены. До сих пор женщина не имела права выбора; вопросы такого рода решались ее отцом, если он был известен, а обычно же — матерью. Иногда, если у нее не было покровителя, сильнейший из поклонников убивал или избивал всех своих соперников и попросту уволакивал приглянувшуюся ему девушку за волосы. Однако Моананга и Паг вскоре указали Ви, что если он будет тратить много времени на выслушивание и разбор всех жалоб, придется долго ждать, покуда удастся объявить новые законы. Поэтому Ви отложил разбор всех споров на будущее и провозгласил народу новый закон. Согласно этому закону отныне ни один младенец женского пола не может быть брошен на съедение волкам или обречен на смерть от мороза, если только он не родится нежизнеспособным уродом. Этот законвызвал ропот. Ворчавшие возражали, что дитя принадлежит родителям, в частности, матери, которая вольна поступать со своим добром так, как ей вздумается. Для того, чтобы прекратить эти толки, Ви торопливо объявил, какое наказание полагается за нарушение закона. Наказание было ужасным: выбросившие ребенка на погибель сами должны были подвергнуться такой же участи, и никто не смел прийти к ним на помощь. — А если нам нечем будет прокормить ребенка? — спросил чей-то голос. — Если это докажут мне, я, вождь, возьму детей и буду заботиться о них так, как если бы они были мои. Или же отдам их в бездетную семью. — Семейство у нас скоро будет большое — заметила Аака. — Да, — согласилась с ней Тана, — и все-таки Ви великодушен и Ви прав. На этом собрание закончилось с общего согласия, так как племя чувствовало, что больше, чем один закон в день, оно переварить не в состоянии.* * *
На следующий день они собрались вновь, но в еще меньшем количестве, и Ви продолжал объявлять свои новые законы, законы превосходные, но слушателей они интересовали мало, то ли потому, что племя было, как выразился кто-то, «по горло полно мудрости», то ли потому, что подобно всем дикарям, они не в состоянии были долго думать о чем-либо. Кончилось тем, что все вообще перестали являться на Место сборищ и что законы пришлось объявлять Винни-Трубачу. Целыми днями ходил он от хижины к хижине, трубя в рог и выкрикивая законы в дверь, покуда все женщины не рассердились на него и не приказали детям прогонять его градом яичных скорлуп и головами сушеной рыбы. В общем же, к тому времени, когда Винни заканчивал свой обход, в хижинах, с которых он его начинал, уже начисто забывали о новых законах. Но все законы наконец были объявлены, никто против них не протестовал, и Ви считал их действующими. И незнание законов не могло считаться оправданием для нарушения их. Предполагалось, что каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок в племени уже знает законы. Но Ви вскоре убедился, что одно дело — издать закон, а другое — заставить народ исполнять его, и что первое значительно легче второго. Убедился он тогда, когда с законодательной деятельностью ему пришлось сочетать деятельность судебную. Почти каждый день вынужден он был сидеть перед пещерой или — если погода была скверной — в самой пещере, и разбирать судебные казусы и назначать наказания. Таким образом все постепенно узнали не только законы, но и наказания за нарушение их. Так, когда Тури-Хранитель Пищи ухитрился захватить себе еды больше, чем ему полагалось, из запасов вяленой рыбы (он попросту явился на то место, где рыба вялилась, раньше, чем другие), его хранилище было разгромлено, и запасы распределены между нуждающимися. С тех пор он стал значительно осторожнее прятать свои обманным путем приобретенные блага. Так, когда удалось доказать, что Рахи нажился на торговле нечестно, в обмен на данные ему вперед шкуры вручая скверные рыболовные крючки, — либо недостаточно острые, либо с обломанными кончиками, — к нему в хижину явился Моананга в сопровождении нескольких человек, разрыл земляной пол, нашел завернутые в шкуру крючки, забрал их и распределил между тремя членами племени, у которых крючков не было. Рахи рвал и метал по этому поводу, но на его сторону не встал никто, потому что всем было приятно видеть как человек, нажившийся на бедняках, наказан за свое стяжательство. В общем же, Ви — хотя многие и стали роптать и даже плести интриги против него — приобрел за свои новые, хорошие законы большую популярность в племени. Теперь народ знал, что в пещере живет не убийца и не грабитель, вроде Хенги и прежних вождей, но человек честный, который берет с племени возможно меньшие поборы и стремится принести пользу всему народу, хотя и является, как считало большинство, безумцем. Поэтому племя постепенно стало подчиняться его законам, одни больше, другие меньше, и народ начал хвалить Ви и желать, чтобы он правил племенем подольше. Так говорили люди, хотя изредка и бунтовали против него. Но однажды произошли большие неприятности. Одна сварливая и скверная женщина по имени Эйджи родила девочку и, не желая возиться с ней, заставила мужа снести ребенка на опушку леса, где его должны были съесть рыскавшие там по ночам волки. Но за женщиной следили другие женщины, которым Паг поручил это дело (Паг хорошо знал ее натуру и подозревал ее). Мужа увидели в то самое мгновение, когда он положил ребенка на камень у опушки леса, и подслушали, как он рассказывал жене о том, что сделал, и как она благодарила его. На следующее утро их обоих привели к Ви, сидевшему возле входа в пещеру и вершившему правосудие. Ви спросил их, что стало с девочкой, которая родилась у них месяц тому назад. Эйджи смело ответила, что девочка умерла и что труп ее, согласно обычаю, выброшен. Тогда Ви подал знак, и из пещеры вышла повивальная бабка с той самой девочкой на руках: девочку взяли в пещеру, как обещал Ви, издавая закон. Эйджи заявила, что это не ее дочь. Тогда девочку показали отцу. Тот взял ее на руки и заявил, что это его ребенок. Его стали расспрашивать, и он сознался, что отнес девочку на съедение волкам против собственной воли, только ради того, чтобы избежать шума и ссор в доме. Итак, когда преступление было доказано, Ви, напомнив закон, объявил решение. Так как родители богаты и отнюдь не нужда привела их к преступлению, они подлежат следующему наказанию: на закате солнца их отведут к опушке леса, привяжут к деревьям у того же камня, на который они положили девочку, и оставят там, чтобы волки сожрали их. При этом строгом приговоре в народе раздались крики, так как многие в свое время выбрасывали новорожденных девочек. Послышались даже угрозы в адрес Ви. Но Ви не изменил своего решения. При наступлении ночи Эйджи и ее мужа под плач и завывания родных и друзей вывели из хижины и привязали к деревьям в назначенном месте. Там их оставили как преступников. Всю ночь с места казни раздавались вой и крики, и племя считало этот шум знаком того, что Эйджи и ее муж растерзаны волками. Волки всегда блуждали на некотором расстоянии от хижин, но в зимние месяцы, когда бывали очень голодны, врывались в поселение; обычно же они не осмеливались приближаться к хижинам, так как боялись волчьих ям. Смерть преступников разъярила народ; многие бросились к пещере с протестами, негодуя и угрожая Ви, по чьему приказу погибли Эйджи и ее муж. Народ кричал, что не потерпит, чтобы мужчин и женщин убивали за то, что они хотят отделаться от бесполезного ребенка. Сбежавшиеся немало изумились, когда увидели у входа в пещеру трех убитых волков и стоящих позади них Эйджи и ее мужа со связанными руками и ногами. Тогда вперед проковылял Паг с окровавленным копьем в руке и заговорил: — Слушайте! Эти двое справедливо были приговорены к той же смерти, на какую они обрекли своего ребенка. Но вот вышли Ви-Вождь и Моананга, брат его, и я, Паг, и с ними пошли собаки. Мы в ночи притаились рядом с приговоренными, но так, чтобы они нас не видели. Пришли волки, шесть или восемь штук, и набросились на обреченных. Тогда мы отвязали собак и, не щадя собственных жизней, обрушились на зверей, трех убили, остальных так изранили, что они убежали. А затем отвязали Эйджи и ее мужа от деревьев и принесли их сюда, так как они были настолько перепуганы, что не могли ходить. А теперь, по приказу Ви, я освобождаю их и объявляю всем, что если еще кто-нибудь выбросит новорожденную девочку, то его приговорят к смерти и оставят умирать, и никто не пойдет к нему на помощь. Так Эйджи и ее муж были освобождены и ушли восвояси, покрытые позором; слава Ви после всего этого происшествия сильно увеличилась, как и слава Моананги и даже слава Пага. С той поры больше не выбрасывали девочек на съедение хищным зверям. Но множество девочек принесли к Ви родители, заявлявшие, что не в состоянии прокормить их. Этих детей Ви — как и обещал — поселил в пещере и отвел для них несколько закоулков, расположенных недалеко от света и от огня. Сюда приходили матери кормить их грудью, покуда девочки не подростали настолько, что их можно было поручить уходу специально назначенных для этого женщин. Естественно, что все эти перемены вызвали много разговоров в племени, так что даже создались две партии, из которых одна стояла за нововведения, а другая была против них. Как бы то ни было, до сих пор никто еще не ссорился с Ви, которого все признавали лучшим и мудрейшим из всех вождей, существовавших когда-либо в племени. К тому же у народа не было времени для размышлений, ибо в летние месяцы все были заняты тем, что собирали запасы еды для долгой и свирепой зимы. Ви и его совет распределяли работу, считаясь с силой каждого человека в племени. Даже детям поручили собирать яйца морских птиц, потрошить треску и другую рыбу, вялить ее на солнце и круглые сутки охранять в отгороженном месте, куда не могли забраться ни волки, ни лисицы. Десятая часть всей собранной пищи шла вождю на прокорм его и всех, кого он содержал. Половина остального количества пищи складывалась про запас на зиму. Хранили и в пещере, но главные склады для пищи вырубались глубоко во льду, у подножия глетчера и заваливались огромными камнями для того, чтобы ни волки, ни другие хищники не могли растащить запасы. Так Ви работал с утра до ночи. Паг помогал ему. Ви занимался проблемами жизни племени и уставал настолько, что засыпал, едва добравшись до ложа, — тот самый Ви, который прежде без устали целыми днями охотился. Ночи ему случалось проводить иногда в хижине Ааки, но Аака держала слово и не оставалась на ночь в пещере, потому что там жил Паг. Так Ви с женой жили мирно на первый взгляд и разговаривали о повседневных житейских мелочах, но оба ни слова не говорили о том, из-за чего однажды рассорились. Фо было приказано спать в хижине матери. Но там он проводил только ночи, а все дни бывал с отцом, который его встречал с каждым днем все более радостно. Аака стала ревновать мужа даже к Фо. Мальчик вскоре это почувствовал.* * *
Зима наступила очень рано, в сущности, в этом году вообще не было осени. Был спокойный день, и солнце светило, совершенно не грея. Ви ходил по берегу с Урком-Престарелым, Моанангой и Пагом. Он был так занят, что совещался только во время работы, на ходу. Внезапно раздался звук, подобный грому: утки на побережье поднялись, — их были тысячи. Они взметнулись столбом и улетели на юг. — Что могло испугать их? — спросил Ви. — Ничего, — ответил Урк. — Лет семьдесят тому назад, когда я был еще ребенком, помню, они вели себя точно так же в это самое время года. И после их отлета наступила самая жестокая и самая долгая зима, какую мы когда-либо знали. Было так холодно, что умерло много народу. Впрочем, может быть, птицы испуганы каким-нибудь шумом, например, треском льда. Если их испугал шум, они вернутся. Если же не вернутся, мы их не увидим до следующей весны. Птицы не вернулись. И улетели они так поспешно, что на берегу остались сотни еще не оперившихся птенцов, которые едва-едва умели летать. За ними гонялись дети, убивали их и складывали про запас во льду. Прочь от берега ушли также и тюлени; исчезла и рыба. На следующую же ночь начались свирепые заморозки. Ви совершенно правильно оценил их, как начало зимы. Поэтому он послал людей за дровами на опушку леса, где валялось много сломанных деревьев. Работа эта была медленная и мучительная. Племя не знало пилы и очищало деревья от сучьев и рубило на части с большим трудом кремневыми топорами. Долгий опыт показал, что здесь было на добрый месяц работы, прежде чем пойдет снег, который укроет палые деревья. Сбор дров обычно бывал последней, перед наступлением зимы, работой племени. Но в этом году снег пошел уже на шестой день. Правда, он шел не густо, но небо было закрыто тяжелыми тучами. Ви отправил все племя на работу, перестал обращать внимание на нарушения законов и следил лишь за тем, чтобы каждый трудился изо всех сил. Благодаря этому в две недели удалось набрать больший запас дров, чем когда-либо случалось видеть Урку за всю его жизнь. Был сделан запас не только дров, но и мха для фитилей светильников, сложили также огромные груды оставленных приливами водорослей, которые горели, может быть, еще даже лучше, чем дерево. Народ ворчал из-за бесконечной работы в метель и на холоде. Но Ви не обращал внимания на жалобы, так как был испуган чем-то, чего сам толком не мог понять. Он заставлял народ работать в продолжение всего дня и даже ночи. И он оказался прав. Едва успели сволочь в селение последние стволы, едва успели свести и сложить в кучи обрубленные ветки и спрятать в подземные хранилища груды водорослей, как пошел густой снег. Он шел непрерывно много дней и покрыл землю на высоту чуть ли не человеческого роста. Оказалось, что — не поторопи Ви с работой — ни к палым деревьям, ни к моху, ни к водорослям добраться было бы нельзя. А вслед за снегом наступили морозы, великие морозы, которые продолжались много дней. Подобной зимы никто еще не помнил. Ужас ее состоял, может быть, даже не в количестве снега и в холодах, а в том, что день стал намного короче, чем день прошлых зим. Он был короток так, что его почти не успевали замечать. Солнце не светило — оно только рассеивало слабый свет сквозь густые свинцово-серые тяжелые снежные тучи. Толком морозы еще не успели начаться — но самый злой ворчун в племени уже благословлял Ви за то, что тот приказал собрать такое количество топлива и пищи; только эти запасы и спасли племя от голодной и холодной смерти. Но даже при наличии всех этих огромных запасов умерло немало стариков, больных и детей. Земля промерзла, и схоронить их было невозможно. Трупы уносили из селения и забрасывали снегом. Вскоре их вырыли и съели волки. Этой зимой волки стали особенно свирепыми. Пищу они себе найти не могли и, обнаглев от голода, блуждали вокруг селения; случалось, что по ночам они врывались в хижину и набрасывались на ее обитателей, а днем лежали в засадах и ловили детей. Ви приказал соорудить вокруг селения валы из снега; в проходах между валами круглые сутки горели костры, чтобы отпугивать зверей. Принесенные плавучими льдами, на побережье появились белые медведи, блуждали по холмам, ревели и пугали людей. Впрочем, белые медведи не убили ни одного человека. Очевидно, эти звери боялись людей. Однако, они причинили племени другой ущерб, не менее значительный: они нашли несколько складов пищи, разрыли их и сожрали все припасы. В конце концов нападения волков и других хищников стали настолько наглыми, что жить в беспрестанном страхе больше было нельзя. Ви, посоветовавшись с Моанангой и Пагом, решил приняться за беспощадное истребление зверей, прежде чем они успеют причинить еще больший вред. В покрытых льдом холмах, между которыми стояло селение, было узкое и высокое ущелье, в сущности, тупик; из ущелья шел только один выход, да и тот в одном месте сужался до двух с половиной шагов. Ви — искусный и опытный охотник — решил загнать всех волков в этот горный тупик и построить у входа в него каменную стену такой высоты, чтобы волки не могли перебраться через нее; таким образом, ему удастся навсегда отделаться от них. Но в первую очередь нужно было заманить их в ущелье. За это он принялся следующим образом: в начале зимы к берегу прибило умирающего кита. Племя, пользуясь тем, что кит погиб на мели, принялось вырезать у него жир и мясо. Вырезанные куски раскладывали на камнях. Рассчитывали, что когда наступит зима и вода замерзнет, мясо и жир легко можно будет унести по льду. Однако эту работу не довели до конца, так как срочно пришлось собирать дрова, а затем наступили морозы, снежные бури и метели, и к скалам подойти никак не удавалось. Когда, наконец, установилась морозная погода, Ви отправился на берег и обнаружил, что во время одной из оттепелей (чередовавшихся со снежными бурями), мясо совершенно сгнило. Когда же все замерзло, Ви решил пустить это мясо в ход в качестве приманки для волков. Он призвал старейшин племени и изложил им свой план. Слушали они его недоверчиво. Особенно недовольны были Пито-Кити Несчастливый и Уока-Злой Вещун. Они заявили, что волки часто нападают на людей, но никогда еще не случалось, чтобы люди нападали на волчью стаю, а особенно зимой, когда волки особенно свирепы и ужасны. — Послушайте, — возразил Ви, — что вы предпочитаете: убить волков или чтобы они сожрали ваших жен и детей? На этот вопрос они ответа дать не смогли и попытались вывернуться. Словом, дело кончилось тем, что обсуждение отложили до следующего дня. В ту же самую ночь волки в огромном количестве — не меньше сотни — напали на селение. Они перелезли через снеговые валы, промчались мимо сторожевых костров, и прежде чем волков успели отогнать, в клочья оказались разодранными женщина и двое детей и к тому же немало народу было покусано. После этого старейшины приняли план Ви, потому что никакого другого не могли придумать. Несколько самых сильных мужчин послали к устью ущелья натащить побольше камней. Из этих камней сложили широкую стену вдвое выше человеческого роста. Промежутки между камнями заполнили снегом. В стене был оставлен узкий проход для волков и рядом навалили про запас камней для того, чтобы немедленно закрыть отверстие, когда понадобится. Затем направились на берег за китовым мясом. Тут их постигла неудача. Оказалось, что несмотря на обильный снег, мясо и жир примерзли так крепко, что отодрать их оказалось невозможным. Таким образом, все их труды пропали даром. На обратном пути Уока громогласно заявил, что он с самого начала знал, что так и будет. Всю ночь Ви и Паг совещались, но не могли ничего придумать. Ви предложил было зажечь костры, чтобы мясо оттаяло. Паг возразил на это, что в таком случае жир загорится и все пойдет к черту. Тогда Ви обратился к Ааке. — Значит, когда Паг не может помочь тебе, ты идешь ко мне за советом? — сказала она. — Я помочь ничем не могу. Помог случай. Под утро с берега раздались странные звуки: слышалось рычание, скрежет и рев. При первых лучах зари Ви разглядел целую стаю белых медведей, крадущихся сквозь туман. Когда медведи ушли, Ви, захватив с собой Пага, пошел посмотреть, что они натворили. Оказалось, что медведь, учуяв мясо (благо, снег с него сошел), отодрали его своими острыми когтями от камней. Они съели немало, но оставалось еще достаточно. Тогда Ви сказал Пагу: — Я думал, что все наши планы рухнули и нам придется оставить ловушку без приманки и попытаться силой загнать туда волков. Но боги, оказывается, помогли нам. — Да, — сказал Паг, — медведи помогли нам. Не знаю я только, боги ли стали медведями или медведи богами. Срочно созвали племя. Люди собрались почти все; одни с веревками, которыми привязывали огромные куски мяса, другие с грубо сплетенными корзинками. Прежде чем наступила ночь, они снесли почти все мясо в ущелье, где бросили его, чтобы оно примерзло и чтобы волки не смогли бы ни утащить его, ни сожрать. Ночью они увидели при свете луны множество волков, которые собрались у входа в ущелье и рыскали взад и вперед, не решаясь войти и опасаясь ловушки. Наконец, несколько волков вошли, и наблюдавшие за ними люди дали им возможность нажраться и вернуться восвояси. На следующую ночь волков явилось больше. Каждую ночь их собиралось все больше, хотя замерзшее мясо с трудом поддавалось даже их крепким челюстям. На четвертую ночь Ви созвал племя и перед самым заходом солнца послал всю молодежь под предводительством Моананги в леса. Им было дано поручение полукругом оцепить волчьи логова и не шевелиться, покуда на высокой скале не вспыхнет сигнальный костер. Тогда они с криками должны броситься вперед и гнать волков ко входу в ущелье. Люди пошли за Моанангой, зная, что предстоит решительная схватка, теперь либо они должны погибнуть, либо волки. Ви заметил, что Паг держит себя как-то странно. Как только молодежь ушла, Паг сказал: — Это бесполезно, Ви. Ведь если волков испугать криками, они побегут не к ущелью, а постараются либо прорваться через линию загонщиков, либо обогнуть их. Словом, они поодиночке или парами, но скроются. — Почему ты раньше не сказал этого? — Были причины. Послушай, Ви! Все женщины называют меня человеком-волком. Считают меня оборотнем, думают, что я по ночам превращаюсь в волка и охочусь в стае. Это, понятно, вздор, но в этой лжи есть доля правды. Ты знаешь, что вскоре после моего рождения мать бросила меня в лесу, рассчитывая, что я погибну, но вскоре отец нашел меня и принес назад. Но ты, наверное, не знаешь, что в лесу я пробыл десять дней. Я был грудным младенцем, так что ничего не помню о том времени, но нужно полагать, что меня выкормила какая-нибудь волчица. — О подобных вещах я слышал, но, по-моему, все это бабьи россказни, — ответил Ви. — И твоя история — чепуха. Отец, наверное, нашел тебя в тот же день. — А я думаю, это правда. Моя мать, умирая рассказала, что отец (его вскоре разорвали волки) сам говорил ей обо всем этом под секретом. Он рассказывал, что пошел искать мой труп, хотя бы кости, а нашел меня в гнезде, какое волки устраивали для своих детенышей. Надо мной стояла огромная серая волчица, и ее сосок был у меня во рту. Очевидно, она лишилась детенышей. Волчица зарычала на него, но убежала. А он схватил меня и побежал домой. Мать клялась мне в этом. — Бред умирающей, — проворчал Ви. — Не думаю, — возразил Паг, — и у меня есть на то основания. Когда меня выгнали из племени, мне пришлось уйти в лес, потому что никто не хотел помочь мне. Я пошел в лес для того, чтобы волки растерзали меня. Вечерело, и я видел за деревьями собравшихся волков: они дожидались ночи, чтобы наброситься на меня. Я нехотя следил за ними, ожидая конца. Волки все приближались, и внезапно на меня кинулась большая серая волчица, прыгнула, остановилась и принюхалась. Она трижды обнюхала меня, лизнула и зарычала на других волков. Самцы побежали прочь, но две волчицы остались. Она схватилась с ними, перегрызла одной горло, а другую так искусала, что та убежала прочь. Тогда она убежала также. Я изумленно глядел ей вслед, но потом вспомнил рассказ матери и больше не удивлялся. Очевидно, это была та волчица, которая выкормила меня. — А тебе случалось еще ее видеть, Паг? — Да. Она возвращалась дважды. Один раз через пять дней, а второй — через шесть после первого ее возвращения. Каждый раз она приносила мясо — гнилую падаль, очевидно, выкопанную из-под снега, но я не сомневаюсь, что это было лучшее мясо, какое она могла найти. Она совершенно отощала от голода, но я уверен, что она приносила мне свою долю. — И ты ел это мясо? — Нет. Ведь я хотел умереть. И, вдобавок, меня рвало от одного вида его. А затем ты нашел меня и привел к себе, и с тех пор я больше не встречался со своей кормилицей. Но она еще жива; я несколько раз видал ее. Последний раз — недавно. Теперь она водит стаю. — Странная история, — сказал Ви, удивленно глядя на него. — Если только тебе все это не приснилось, ты должен был бы быть поласковее к волкам. А ты ведь их убил немало. — С чего мне быть ласковым с ними? Разве они не разорвали моего отца? Разве они не сожрали бы меня? Но к этой волчице я испытываю нежность. Поэтому и прошу в награду за то, что я сделаю, пощадить ее жизнь. — А что ты сделаешь? — Вот что. Перед тем, как зажгут сигнальный костер, я отправлюсь в лес и разыщу эту волчицу. Она узнает меня и придет ко мне. Я поведу ее, и все волки пойдут за ней. И я приведу их в ловушку. Я спасу только ее — вот плата, которую я требую. — Ты с ума сошел! — Называй меня сумасшедшим, если я не вернусь или мой замысел провалится. Если же я сделаю то, что собираюсь, назови меня мудрым. Паг рассмеялся: — Подожди немного, и ты все сам поймешь, — сказал он. Не дожидаясь ответа, Паг соскользнул со скалы и скрылся во тьме. — Он сошел с ума, — пробормотал Ви. — Вот пришел конец нашей дружбе. Впрочем, все вскоре выяснится. Прошло еще немного времени, и Ви взглянул на луну. Звезда уже исчезла за краем ее диска. Подходил условленный час. Он нагнулся к Фо, сидевшему у его ног, и шепнул ему что-то. Фо кивнул и через несколько мгновений вернулся к отцу, держа в руках дымящуюся головню, которую принес из маленького костра, горевшего за горой. Ви взял головню, подошел к сложенному на скале сухому хворосту и ткнул ее в кучу измельченных водорослей, лежавшую внизу. Высушенные водоросли запылали синим огнем, и вскоре пламя взметнулось в небо. Ви приказал Фо вернуться в пещеру. Фо отошел в сторонку, якобы направляясь домой, но спрятался за утесом, так как больше всего на свете ему хотелось посмотреть на эту великую охоту на волков. Ви был уверен, что Фо ушел, и спустился вниз, где между камнями прятались старики. Их было человек пятьдесят, и руководил ими Хотоа-Заика. Они укрылись так, чтобы волки не учуяли их. Ви приказал им быть наготове и дождаться, покуда волки все не зайдут в ловушку, и тогда только, по его приказу, но не ранее, броситься вперед с камнями в руках и заложить отверстие, чтобы волки не могли выйти обратно. Пока же они должны были все время ворошить камни, чтобы те не примерзли. Старики дрожали от холода и страха и выслушали его угрюмо. Уока сказал: — Я предчувствую, что ничего хорошего не выйдет. Хоу-Непостоянный спросил: — Нельзя ли отказаться от всего этого и пойти домой? Нгай-Волшебник заявил: — Я молился Ледяным богам и видел сон. Мне снилось, что Пито-Кити спит в брюхе у волка. Понятно, это значит, что всех нас сожрут волки. Пито-Кити застонал и стал ломать руки. Урк-Престарелый покачал головой и заявил: — Никогда не выдумывали такой вещи. Никогда; не то бы я слыхал это от деда. А то, чего не делали раньше, незачем делать и теперь. Только Хотоа, человек мужественный, хотя и глупый, заявил: — Камни готовы, и я буду закладывать вход в ущелье, даже если мне придется работать одному. Ви рассердился. — Слушайте! Луна светит ярко, и я вижу всех. Если хоть один человек побежит, я разгляжу его и вышибу из него мозги. Да, первый же, кто побежит, умрет. Он взмахнул секирой и многозначительно взглянул на Хотоа и Уоку. После этого все замолчали, зная, что Ви держит свое слово.* * *
Начали собираться волки. На снегу они казались темными тенями. По двое и по трое бегали они, высунув языки, и скрывались в ущелье. — Не шевелитесь, — шепнул Ви. — Волки пришли, чтобы насытиться. Он оказался прав. Вскоре из глубины ущелья раздались рычание и лязг зубов. Волки ссорились из-за мяса. Наконец, издалека донеслись крики. Загонщики увидали огонь и принялись за дело. Прошло некоторое время. И внезапно сидевшие в засаде увидали ужасное зрелище: снежная тропинка внизу почернела от волков. Волков было больше, чем они могли сосчитать. Их были сотни, и шли они медленно, молча и нехотя, как упирающийся гость. А впереди них рысцой трусила огромная, тощая серая волчица. Рядом с нею бежал, держась за ее гриву, — или ехал на ней верхом, — при неверном лунном свете люди толком не могли разобрать, — кто-то похожий на человека. Это был Паг. Сидевшие в засаде задрожали от ужаса, а некоторые закрыли глаза руками. Даже Ви вздрогнул. Значит, Паг говорил правду. Значит, в его жилах текла всосанная с молоком волчья кровь. Серая волчица вбежала в проход. Ви разглядел ее сверкающие глаза и стертые желтые клыки. Рядом с ней шел Паг. Они вошли в проход у каменной, покрытой снегом стены. Вошли, и волчица подняла морду и громко завыла. Следовавшая за ней стая волков колебалась. Но на призывный вой все волки вскинули морды и завыли в ответ. Подобных звуков никто в племени никогда не слыхал; эти звуки были так ужасны, что многие попадали наземь, чуть не лишившись сознания. Вожак стаи позвал, и стая должна была повиноваться ему. Волки бросились ко входу, давя друг друга, карабкаясь друг другу на спину, торопясь. Все они вошли в ловушку. Ни один не остался снаружи. Настало время заваливать проход. Ви открыл уже рот, чтобы дать сигнал, и заколебался. Ведь там внутри в ловушке остался Паг. Когда волки обнаружат, что они попались, они разорвут его и волчицу насмерть. Нужно подать сигнал, но Паг в ловушке. В состоянии ли он отдать приказ, который обрекает Пага на смерть? Паг один, а в племени народу много. Если волки вернутся, обезумев от ярости, — ни один из людей не уцелеет. — К стене! — хрипло сказал Ви. Схватив огромный камень, он бросился вперед. Из расщелины вышла огромная серая волчица и с нею целый и невредимый Паг. Он наклонился, что-то шепнул ей на ухо, и присутствующим показалось, что она прислушалась к его словам и облизала ему лицо. Затем она отпрянула прочь, точно камень из пращи. На пути ее стоял Пито-Кити Несчастливый; он повернулся, чтобы бежать. Она с рычанием бросилась на него, укусила в бедро, помчалась дальше и скрылась из виду. — Стройте! — кричал Ви. — Стройте! — Стройте! — повторил за ним Паг. — Стройте поскорей, если хотите увидеть солнце. Я ухожу. Мое дело сделано. И он проковылял мимо людей, которые с ужасом отшатывались от него.* * *
Ви бросился ко входу и положил свой камень. За ним кинулись другие. Над растущей стеной показалась волчья морда. Ви взмахнул секирой, и волк свалился с рассеченным черепом. Послышался лязг зубов: загнанные волки поедали убитого. Это дало людям короткую передышку. Груда камней росла, но теперь на них волки наваливались всей своей тяжестью. Одних убивали, других отгоняли. Даже самые робкие отчаянно дрались каменными топорами, копьями и дубинами, ибо каждый помнил, что если не удастся перелезть через стену или проломить ее, ни один человек живым не уйдет. Итак, одни строили, другие сражались, а третьи носили корзины с сырой глиной или снегом и затыкали щели между камнями. Снег мгновенно замерзал, и каменная кладка становилась крепкой, как крепостная стена. Нескольким волкам удалось взобраться на спину к другим и прыгнуть оттуда на гребень стены. Большинство из этих волков убежало, но самые свирепые сражались с людьми до последнего издыхания. Вдруг посреди шума и смятения Ви услыхал призыв помощи; он обернулся, так как голос показался ему знакомым. На ослепительно блестевшем под луной снегу его сын Фо бился с огромным волком. Зверь взревел и прыгнул. Фо пригнулся и выставил вперед острие кремневого копья. Потом мальчик упал, и волк упал на него. Ви бросился вперед, думая, что запоздает и найдет сына с перегрызенным горлом. Он пришел действительно слишком поздно, и Фо и волк лежали недвижно. Собрав все свои силы, он оттащил труп волка. Под ним лежал покрытый кровью Фо. Думая, что мальчик мертв, Ви с болью в сердце поднял его, так как любил сына больше всего на свете. Внезапно Фо выскользнул из его объятий, подскочил, потянулся и глубоко вздохнул. — А ведь я убил волка! Посмотри: копье сломалось, но конец его торчит из спины. Он уже разинул пасть, чтобы перегрызть мне горло, но задрожал и умер. — Ступай домой! — резко приказал ему Ви. В душе же он радовался чудесному спасению сына. И он бросился назад к стене и не отходил от нее, она же выросла так, что ни один волк на свете не смог бы перескочить через нее. Перелезть через стену тоже было невозможно, потому что верхние ряды камней выступали над нижними и шли уступами внутрь. Ви, стоя возле стены, дождался, покуда не замерзнут окончательно снег, песок и серая глина. Шел домой он в твердой уверенности, что до весны стена не рухнет. Работа была закончена, и на востоке уже занялась заря короткого зимнего дня. Ви вскарабкался на стену и заглянул в ущелье. Оно еще было во тьме, так как луна уже села, а солнечные лучи не проникали сюда. Во мгле разглядел он сотни свирепых глаз; окрестные холмы откликались эхом на вой побежденных хитростью волков. Они выли так много дней. Более сильные пожирали тех, кто слабел. Наконец, в темной котловине наступила тишина. Все волки передохли.Глава 7
ВИ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ТИГРОМ
Этот великий бой с волками утомил Ви до смерти. Впрочем, потрясен он был главным образом не сражением, но изумлением, испытанным при виде ужасной дружбы Пага с серой волчицей и боязнью, когда увидел, что волк обрушился на Фо. После всех этих событий Ви отсыпался в течение нескольких дней. Он подчас просыпался, и Аака бывала с ним нежна, нежнее, чем когда-либо с того самого времени, как Хенга убил Фою. Дело в том, что Аака гордилась великими делами Ви и тем, что слава о нем росла с каждым днем. Видя, что он поправляется, она приносила ему пищу и говорила с ним ласково; Ви это радовало — он по-прежнему юношеской любовью любил Ааку, хотя в последнее время она и была холодна к нему. Он сидел на кровати, и Аака подавала ему еду (таков был обычай племени); в пещеру вошел Моананга и весело, как всегда, стал рассказывать об ужасной ночи. — В сущности, работал-то только ты один, Ви, — заметил он. — А мы только шлялись по лесу, расцарапали себе ноги и изодрали лицо о полузанесённые снегом деревья и сучья. И все это совершенно без толку. — А волков вы не видали? — Ни единого. Вою-то в отдалении мы наслушались досыта. Выходит так, что они все ушли, не дожидаясь нас, что их увел один наш общий приятель, который, как говорят, умеет околдовывать волков. Впрочем, наверно, эти россказни — чепуха. Он пожал плечами. — Но зато мы видели кое-что иное, — таинственно сказал Моананга. — Что именно? — Того самого великого полосатого зверя, о котором рассказывают старики; тигра с саблевидными зубами. Знаешь, ты носишь шкуру такого же тигра. Это и есть плащ вождя. Уже много поколений подряд вожди племени носили тигровую шкуру; происхождение этой шкуры оставалось загадкой для племени — считалось, что она была «всегда». Вообще же предания рассказывали об огромном тигре, грозе племени, но этого тигра не видел никто. Люди считали, что либо хищники вымерли, либо покинули их местность. — А что делал тигр? — спросил Ви. В нем проснулся охотник. — Он вышел из-за деревьев, смело прошел вперед, прыгнул на скалу и остановился, уставившись на нас и помахивая хвостом. Это был огромный зверь, ростом с оленя. Мы закричали, думая испугать его, но он не обратил никакого внимания на шум, стоял, мурлыкал, как дикая лесная кошка, и глядел на нас горящими глазами. Впереди стоял человек по имени Фин; тигр прыгнул на него. Фин заметил движение тигра и бросился бежать. Но тигр прыгнул так, как никто не прыгает. Он перескочил через наши головы и обрушился на Фина. Схватил его и ускакал прочь, неся Фина в зубах, как дикая кошка несет пойманную птицу. Больше мы не видали ни его, ни Фина. Народ говорит, что тигр — это Хенга, и потому он и выбрал Фина, которого при жизни ненавидел. — В таком случае, я должен быть настороже, ведь Хенга ненавидел меня намного сильнее, чем Фина. Хенгу я убил и клянусь, что убью тигра, если он еще будет рыскать в этих краях. Но хотел бы я узнать, откуда пришел этот зверь. В это мгновение в пещеру вошел Паг. Аака, слушавшая рассказ о смерти Фина, поднялась и ушла, бросив на ходу: — Вот идет человек, который, наверное, сможет научить вас, как поймать тигра в ловушку. Ведь что такое тигр? Только большой полосатый волк. При приближении Пага все в пещере расступились и отошли подальше: правда, они были благодарны Пагу, но после истории с волками боялись его еще больше, чем прежде. Даже Моананга задрожал и уступил карлику место. — Нечего вам меня бояться, — насмешливо приветствовал их Паг, — серая волчица убежала, и ее родичи не последуют ни за мною, ни за нею. Я только что видел их. Они дерутся и пожирают друг друга. Вскоре они все передохнут. Ведь эту стену им не одолеть и не подкопать. — Скажи, Паг, — смело спросил Моананга, — кто ты: человек или волк в образе карлика? — Ты знал моего отца и мою мать, Моананга, и потому можешь сам ответить на свой вопрос. А впрочем, в каждом человеке есть кое-что волчье, а во мне несколько больше, чем в остальных. Ви знает, почему я это говорю. — Если в каждом человеке есть нечто волчье, значит, и в тигре может быть что-то человеческое, — задумчиво пробормотал Моананга и повторил Пагу историю о тигре и Фине. Паг внимательно выслушал его. — Стоит пройти одной туче, как за нею вслед идет другая, — задумчиво сказал он. — С волками расправились, а теперь им на смену тигр. Не знаю, живет ли в нем Хенга. Но если Хенга и вправду вселился в тифа, то его нужно прикончить как можно скорее. И он взглянул на Ви и на Фо, который стоял рядом с отцом, прижавшись к нему. Затем Паг отправился добыть что-нибудь поесть. Начиная с этого дня тигр стал не меньшим бедствием для племени, чем были волки. Тигр рыскал вокруг деревни в ночной темноте, а когда рассветало и люди выходили из хижин, он врывался в селение, хватал кого попало и убегал, унося добычу в зубах. Его не останавливали никакие изгороди, он не попадался ни в какие ловушки и был так ловок, что никто не мог ранить его копьем. Ви уже начал бояться; впрочем, больше за Фо, чем за самого себя. Несомненно, рано или поздно мальчик попадется в когти хищника, а может быть, первым попадется сам Ви. Народ жил в постоянном страхе, и теперь никто не решался выходить из хижины, покуда совсем не рассветет, и уж во всяком случае никто не осмеливался выходить из селения в одиночку. Весна наступила, наконец, с большим опозданием. Снега растаяли, и в лесах снова появились олени. Ви надеялся, что теперь тигр перестанет убивать людей и начнет охотиться на дичь, а может быть, уйдет туда, откуда явился, уйдет, чтобы найти своих сородичей. Но эти предположения оказались неверными. Тигр, очевидно, был последним из породы саблезубых. Он появлялся то в одном месте, то в другом; на людей он нападал по-прежнему, не обращая никакого внимания на дичь: тигр уволок еще несколько человек. Кончилось дело тем, что ни один человек уже не решался ходить на охоту, так как каждый боялся, что чудовище набросится на него. Никто не знал, где логово тигра. Тигр, казалось, одновременно находился повсюду, постоянно следил за людьми и знал, куда они пойдут. В конце концов все племя собралось на Место сборищ и послало Винни-Трясучку позвать Ви. Ви явился в сопровождении Пага. Урк-Престарелый заговорил от имени племени: — Тигр с большими зубами убивает нас. По нашему — это Хенга. Ты убил Хенгу и превратил его в тигра. Ты — великий охотник и наш вождь по праву победы. Мы хотим, чтобы ты убил тигра, как убил Хенгу. — А если я не могу или не хочу, что тогда? — Тогда, если нам удастся, мы убьем тебя и Пага и изберем другого вождя, — ответил за собравшихся Винни. — А если не удастся, то мы перестанем подчиняться тебе и твоим законам и уйдем прочь отсюда с места, где жили испокон веков, и постараемся найти себе иное пристанище, подальше от тигра. — А может быть, тигр пойдет за вами? — мрачно ухмыляясь, заметил Паг. Эти слова произвели на собравшихся самое тяжелое впечатление: о такой возможности они не думали. Но Ви, не давая никому ответить, начал медленно, грустным голосом: — Видно, среди вас у меня немало врагов. Этому я не удивляюсь: последняя зима оказалась суровой, намного суровее, чем предыдущая, холода были жестоки и снега больше, чем когда-либо до сей поры, и поэтому — смерти и болезни в племени. Одних из нас убили волки, других тигр. Боги, которые живут во льду, не помогли нам, хотя жертв приносили мы немало. Вы велите мне убить тигра, а не то вы убьете меня сами и изберете иного вождя, на что вы — согласно старинным обычаям — имеете право. И вы собираетесь, если я окажусь сильнее вас, покинуть меня и уйти прочь — искать новые места для становищ вдали от мест, где вы родились. — Внимай же, о племя! — громко выкрикнул Ви. — По-моему, вам нечего уходить отсюда в иные места, где вы, может быть, встретите опасности большие, чем те, от которых убегаете. Я отправлюсь сам на этого тигра и постараюсь одолеть его, как одолел Хенгу. Возможно, я убью тигра, но значительно более вероятно, что он прикончит меня. В таком случае, вам предстоит либо бороться с хищником, либо бежать отсюда. Как бы то ни было, вам решительно незачем пытаться убить меня, ибо знайте, что мне надоело быть вождем. Недавно еще я освободил вас от угнетателя, который безжалостно убивал своих единоплеменников, и с того времени, трудясь день и ночь, я заботился только о том, чтобы всем было хорошо, и изо всех сил старался улучшить жизнь племени. Вы считаете, что я не справился со своей задачей, и я совершенно согласен с вами; ведь иначе вы бы были больше привязаны ко мне. Поэтому я слагаю с себя звание вождя. Если же обычай не позволяет этого, я встану здесь безоружный и буду ждать, когда тот, которого вы выберете, дубиной или копьем прикончит меня. — Итак, — закончил он, — выбирайте человека, и я подчинюсь ему. Но, как вождь племени, я даю вам последний совет; скажите ему, чтобы он дал мне возможность пойти на тигра. Если тигр не убьет меня, я возвращусь, и тогда вы будете вольны поступать со мной, как вам будет угодно. Народ услышал эту речь, оценил ее благородство и устыдился, но помимо стыда всех охватило смущение и замешательство, потому что племя не знало, кого выбрать вождем вместо Ви. И, в довершение всех неприятностей, Паг громко заявил, что не успеют они выбрать вождя, как Паг вызовет его на бой. При этих словах все, кто уже начал было поглядывать в сторону пещеры, торопливо опустили глаза. Кто-то выкрикнул имя Моананги, но тот заявил: — Ну, нет. Я на стороне моего брата Ви. Если вы изгоните его или предадите смерти, значит, сошли с ума. Где вы найдете человека, более отважного, мудрого и честного, чем он? Почему вы сами не пойдете на тигра? Не потому ли, что трусите? Никто не отвечал. Некоторое время все сконфуженно перешептывались, затем кто-то выкрикнул: — Ви наш вождь! Мы не хотим другого. Так закончилась эта смута.* * *
В ту же ночь Ви и Паг совещались о том, как убить тигра. Рассуждали они долго и серьезно, но никак не могли найти никакого разумного решения. Уже были обдуманы все способы. Тигр не попадался ни в какие, даже самые искусные, ловушки; он не ел отвратительного мяса, не боялся огня и вообще его ничем нельзя было прогнать или испугать. Дважды племя, вооружившись отправлялось на охоту за ним, но один раз он укрылся от них, а в другой — сам напал, убилодного человека и скрылся. С тех пор племя оставило попытки расправиться с хищником. — Мы с тобой должны одни идти на него, — сказал Ви. Паг покачал головой: — Нашей силы не хватит на это. Прежде чем ты успеешь ударить его секирой, он прикончит нас обоих. Тут нужно применить другой способ. Тигр, должно быть, очень одинок. Дай мне на время плащ вождя, Ви. Если он пропадет, я отдам тебе лучший. — Зачем? — Я скажу потом. Ты мне дашь плащ и ожерелье из тигровых когтей? — Бери, если хочешь, — устало уступил Ви, зная, что бесполезно стараться выпытывать у Пага тайну, которую тот хочет хранить. — Возьми их и возьми с ними вместе и звание вождя, если хочешь, — также устало предложил Ви. — Хватит с меня всего. О, как бы я хотел снова быть просто охотником, и больше никем! — Ты и будешь охотником, — медленно ответил ему Паг, — величайшим охотником, какой когда-либо существовал на свете. А теперь давай некоторое время больше не будем говорить о тиграх, а не то они мне будут сниться по ночам.* * *
Потом Паг несколько дней подряд пропадал где-то целыми часами и возвращался поздно ночью всегда очень усталый. Ви заметил, что таинственно исчезли не только плащ из тигровой шкуры и ожерелье из тигровых костей, но и высушенная ветром голова Хенги, торчавшая на дереве. Однажды Аака спросила Ви, почему он не носит плаща. — Потому что зима прошла и становится жарко, — ответил Ви. — По-моему, вовсе не жарко. А почему ты не носишь ожерелья? — Потому что кожа у меня стала нежной, и когти царапают ее. — Паг здорово научил тебя врать. Он бы сам не смог ответить ловчее. А куда это он все время ходит так таинственно? — Не знаю. Я сам собирался спросить у тебя об этом. Ведь ты так бдительно следишь за каждым его поступком. — Думаю, что могу ответить на твой вопрос. По-моему, он ходит на охоту со старой волчицей. Потому-то он такой усталый и приходит домой. Я слыхала, что совсем недавно несколько наших мертвецов выкопали из-под снега и съели. — Об этом мне никто ничего не говорил. — Даже вождю племени сообщают не все, а особенно о тех, кого он любит, — бросила Аака и ушла, рассмеявшись. Две ночи спустя Паг подошел ко входу пещеры, послюнил палец, выставил его наружу и озабоченно проверил направление ветра. Затем подошел к Ви и прошептал: — Ты готов подняться за час до рассвета и пойти со мной убивать тигра? — Не лучше бы взять с собой кого-нибудь еще? — нерешительно произнес Ви. — Нет. Только дураки делятся добычей с другими. Пускай вся слава будет нашей. А теперь больше не спрашивай меня ни о чем. Здесь слишком много ушей. — Хорошо, — согласился Ви, — я пойду с тобой, убью тигра или погибну.* * *
Часа за полтора до рассвета они выскользнули из пещеры, подобно теням. Но Ви, перед тем как уйти, поцеловал Фо, спавшего рядом с его ложем: Ви думал, что больше не увидит сына. Он взглянул на спящую Ааку и грустно вздохнул. Он был в полном вооружении: захватил с собой тяжелую секиру из блестящего камня, два кремневых копья и кремневый нож. Паг захватил с собой также два копья и нож. Они вышли из селения и пробирались лесом при свете заходящей луны и блестевших звезд. Паг заметил, что разгулявшийся ночью ураган утих. — Вот посмотри, как ярко светят звезды. Это предвещает хорошую погоду. Ви рассердился и закричал: — Да перестань ты болтать о погоде и звездах. Скажи мне лучше, куда мы идем и зачем? Что я, по-твоему, младенец, чтобы меня держать в неведении? — Да, — хладнокровно ответил Паг. — Ты младенец, у которого любая женщина может выпытать тайны. Обо мне уж во всяком случае этого сказать нельзя. — Я возвращаюсь домой, — сказал Ви и остановился. — Но, впрочем, если хочешь, — спокойно продолжал Паг, — теперь я могу рассказать тебе, в чем дело. Только не стой на месте, как девушка, ожидающая возлюбленного. Поторопись. Времени у нас осталось мало. — А терпения у меня еще того меньше, — проворчал Ви и двинулся вперед. — Так вот в чем дело. Ты знаешь, там на опушке леса, две скалы, которые народ называет Муж и Жена, потому что они так близко друг от друга и все-таки разделены. Я обнаружил, что по тропинке между ними и ходит этот самый тигр. Для того, чтобы отпугнуть его на некоторое время, я развесил там человеческие одежды. Затем я принялся за работу и вырыл яму; яма, доложу тебе, замечательная. Она узка, как могила, и вся утыкана острыми копьями. На дне ее я разжег костер для того, чтобы уничтожить человеческий запах. Яму скрыл сосновыми ветвями, которые пахнут так сильно, что запах человека не слышится, а их я усыпал тонким песком, совершенно схожим с песком всей местности. Этот песок я принес туда в мешке из только что снятой и невыдубленной шкуры, а насыпал в мешок раковиной; так что я ни к одной песчинке не прикоснулся. Словом, тигр будет обманут. — Этого тигра ничем не обманешь, — хмуро пробурчал Ви в ответ. — Ведь он хитер, как человек. Мало мы делали ловушек? А ведь он ни разу не попадался ни в одну. — Да, Ви, тигр очень хитер, но только он одинок, и, если он увидит, что другой тигр прошел по этому мосту и поджидает его на той стороне ямы, он почти наверняка пойдет туда. На этом и построен весь мой замысел. — Другой тигр? Что ты хочешь этим сказать? — Скоро узнаешь. И вот что, Ви. Забудь, что ты хороший вождь. Помни только, что ты значительно лучший охотник, и молчи. Если мы подойдем тихо, нам бояться нечего, так как мы стоим по ветру у тигра, и учуять нас он не может. Наконец, они добрались до места. Невдалеке от ямы лежала груда камней. Паг шепнул Ви: — Скорее прячься здесь. Рассвет близок, и тигр должен вскоре пройти. Держи секиру наготове. — Что ты будешь делать? — Увидишь. Не удивляйся ничему. Не двигайся, покуда я не позову тебя на помощь или покуда на тебя не нападут. Паг скрылся где-то в темноте, а Ви, став на колени, смотрел в щелку между камней. Он с юности привык к охоте и почти не хуже зверя видел в темноте. Он заметил на снегу (здесь, в тени между утесами, снег еще не растаял) следы тигровых лап и подумал, что Паг опоздал и тигр уже прошел. Затем он сообразил, что это невозможно: ведь тигр должен был в таком случае свалиться в яму. Откуда же взялись эти следы? Его удивление усилилось, когда он увидал в тени утеса тигра. Да, да, тигра. Тигра — по эту сторону ямы. Как мог тигр попасть сюда? Они только что прошли по открытому месту, где деревьев не было, и тигру здесь негде было укрыться. А ведь это был тигр. Ясно видна была его полосатая шкура. Тигр ворчал и грыз что-то лежавшее на самом краю прикрытой ямы. — Если, — подумал Ви, — я внезапно прыгну на него с камнем и ударю изо всей силы, быть может, мне удастся переломить ему шею или размозжить голову, прежде чем он набросится на меня. Тут он вспомнил, что Паг приказал ему не шевелится, разве только в случае, если на него нападут или Паг позовет на помощь. Вспомнил он также, что Паг вполне заслуженно гордился тем, что никогда не говорит попусту. Поэтому Ви остался на месте и продолжал ждать. Уже пробивались сквозь тучи первые серые лучи рассвета. Они упали и в тень, скрывавшую тигра, и Ви увидел, что тот грыз. То была голова Хенги! Ви понял все. Тигром был Паг. Да, в этой шкуре, сделанной из плаща вождя, скрывался Паг, и он держал голову Хенги, делая вид, что пожирает ее. И подумать только, что Ви несколько мгновений тому назад собирался наброситься на это чучело! Значит, он убил бы Пага! От одной мысли об этом вся кровь у него похолодела. Затем он забыл обо всем. На другой стороне расщелины, медленно подползая, помахивая хвостом, волоча брюхо по земле, оскалив зубы и взъерошив шерсть, появился чудовищный зверь, которого они преследовали. Вот он поднялся во весь рост. Тигр был ростом не ниже оленя! Он стоял, подозрительно оглядываясь и всматриваясь вперед горящими глазами. Тигр внизу, или, вернее, Паг в тигровой шкуре зарычал еще свирепее и яростно затеребил голову Хенги. Чудовище прижало уши и зарычало в ответ, но дружелюбно. Затем, очевидно, оно почуяло запах головы Хенги и взглянуло на нее. Тигр сделал несколько шагов, выгнул спину и подпрыгнул, как прыгает играющий котенок. Он высоко взлетел в воздух и всеми четырьмя лапами опустился на ветви, скрывавшие яму, и сучья провалились под его тяжестью. Он свалился в яму, а за ним покатилась голова Хенги. Рев потряс воздух, потому что острые колья, которые Паг поставил на дне ямы, глубоко вонзились в тигра. Ви выскочил из прикрытия и побежал к Пагу. Тот уже успел скинуть с себя шкуру и стоял у края ямы, держа копье в руке и гладя вниз. Ви посмотрел в направлении его взгляда и увидел, как огромный тигр (глаза его сверкали, как раскаленные угли) корчится на кольях. Внезапно зверь замолчал, и они подумали было, что он умер. Вдруг Паг крикнул: — Берегись! Зверь идет! В то же самое мгновение когти тигра показались на краю ямы, а за ними вслед потянулась его огромная плоская морда. Тигр соскочил с кольев и вылезал из ловушки. Паг ударил его копьем, вонзив глубоко в горло. Зверь схватил рукоять зубами и перегрыз ее. — Бей! — крикнул Паг. И Ви, изо всех сил обрушив свою секиру на тигра, мощным ударом разбил ему череп. Но и это не убило тигра. Ви ударил вновь и раздробил ему одну переднюю лапу. Тигр поднялся и выскользнул из ямы. Встал на дыбы и взмахнул неповрежденной лапой. Ви отбежал назад и пригнулся так, что удар пришелся поверх него, а Паг отскочил в сторону. Тигр бросился на Ви, навис над ним, стоя на задних лапах. Он был так изранен, что прыгать не мог. Ви схватил секиру обеими руками, ударил, и острое лезвие глубоко вонзилось в брюхо зверя. Он попытался выдернуть секиру, но не успел, и тигр обрушился на него всей тяжестью. Паг подбежал и вонзил зверю в бок свое второе копье. Тогда тигр, уже разинув пасть, чтобы сомкнуть ее на голове Ви, жалобно простонал. Челюсти его сжались, когти судорожно дернулись, голова опустилась на лицо Ви, дрожь пробежала по всему его телу, и тигр утих. Паг снова навалился на копье, вгоняя его все глубже и глубже, покуда не убедился окончательно, что острие пробило сердце тигра. Тогда, схватив зверя за лапы, карлик напряг все свои силы и перевернул тигра. Мертвый зверь перекатился на спину. Под ним лежал весь красный от крови Ви. Паг решил, что Ви мертв, и тихо всхлипнул от горя. Но Ви присел и стал тяжело переводить дух; он чуть не задохнулся под тяжестью тигровой туши. — Ты ранен? — наклонился к нему Паг. — Кажется, нет, — пробурчал Ви. — Когти миновали меня. — У тебя будет изумительный новый плащ, — сказал Паг. — Он твой, по заслугам, — отвечал Ви.Глава 8
ЛОДКА И ЕЕ СОДЕРЖИМОЕ
Ни Ви, ни Паг не были даже поцарапаны. Однако, в пещеру они возвратились, прислоняясь друг к другу, — так они устали. С мертвым зверем они ничего не могли сделать и потому оставили его на месте. Прежде чем уйти, Паг вытряс из плаща водоросли и мох и набросил себе на плечи. Но голову Хенги он оставил на месте. Она свое дело сделала, и Паг поклялся, что никогда больше не подойдет к ней. — Вдоволь нанюхался, — заметил он. До селения они добрались на рассвете, так что никто еще не вышел из хижин. Народ, зная, что тигр нападает в этот час, по утрам не выходил. Поэтому Ви и Паг добрались до устья пещеры незамеченными. Но в пещере их уже ждали. Фо спозаранку разбудил Ааку и сказал, что отец куда-то ушел. Аака же, жестокая на словах, всегда тревожилась, если он уходил куда-нибудь и она не знала, куда. Сегодня же утром она тревожилась больше обыкновенного, так как Ви ушел из пещеры не один, а вместе с Пагом. Не в силах совладать с тревогой, она послала Фо (хотя ему и грозила опасность попасться в лапы зверю) за Моанангой. Итак, в пещере оказались и Моананга, и Тана, которую он не хотел оставлять одну в хижине, и еще несколько человек, которых он позвал, потому что никто не выходил один в этот час, когда тигр рыскал возле поселения. Войдя в пещеру, Моананга спросил, в чем дело. Аака ответила, что хочет знать, не видели ли они Ви. Она не может найти ни Ви, ни Пага, который, несомненно, ушел вместе с ним. Так вот, не знают ли они, куда ушли ее муж и его слуга. Моананга сказал, что не знает, и пытался успокоить ее, напомнив, что у Ви немало забот, о которых он не говорит никому; несомненно, он ушел по одному из таких дел. Но Фо прервал его жестом. Мальчик только указал пальцем вперед, и все, обернувшись, поглядели в том же направлении: из утреннего тумана вынырнул Ви, с головы до пят залитый кровью. Он шел, опираясь на плечо Пага, как хромой опирается на палку. — Я не напрасно тревожилась, — сказала Аака, — Ви ранен, и ранен сильно. — Однако, он идет легко, и секира его не менее красна, чем он сам, — возразил Моананга. Ви подошел к пещере, и Аака спросила. — Чьей кровью ты покрыт? Своей или какого-нибудь другого человека? — Не человеческой. Это кровь тигра, которого убили мы с Пагом. — Паг бел, а ты красен от крови. Но что стало с тигром? — Убит. Все удивленно уставились на него, и Аака спросила: — Ты убил его? — Нет. Я только бился с ним, но убил его Паг. Паг придумал хитрый план. Паг приготовил ловушку. Паг сделал приманку и Паг пронзил копьем сердце тигра, прежде чем зверь успел разгрызть мне череп. — Поглядите на череп тигра, — сказал Паг. — Да измерьте, секира ли Ви пробила дыру в голове тигра. Взгляните на переднюю лапу тигра; чье оружие раздробило ее? — Паг! Вечно Паг! Неужели без Пага ты ничего не можешь делать сам, муж мой? — Могу, — с горечью возразил Ви. — Могу, например, поцеловать женщину, если она красива и добра. Потом Ви прошел мимо них в пещеру и приказал дать ему воды, чтобы умыться. А Паг сел у входа в пещеру и стал рассказывать всем желающим слушать его о том, как Ви убил тигра. О своем участии в этом он не сказал ни слова. Человек двадцать или более того, под предводительством Моананги, отправились за трупом тигра, принесли его и положили на видное место. В тот день каждый, кто мог, и стар и млад приходили смотреть на мертвое чудовище, причинившее племени столько зла. Паг сидел рядом с трупом, ухмылялся и показывал, где ударила секира Ви, раздробившая череп тигру, и как Ви сломал тигру лапу. — А кто пробил ему сердце? — спросил кто-то. — Ну, понятно, Ви, — весело ответил Паг. — Когда тигр набросился на него, он отскочил в сторону и ударил его копьем, а затем тигр упал на него, хотел отгрызть ему голову, но уже было поздно. — А ты что делал в это время? — вмешалась Тана, жена Моананги. — Я? А я смотрел. Нет, забыл. Я стал на колени и молился богам, чтобы Ви одолел тигра. — Ты лжешь, человек-волк, — возразила Тана. — Ведь оба твои копья глубоко сидят в теле тигра. — А может, я лгу, — не смущаясь, продолжал Паг. — А если и лгу, то этому я научился от женщин. Если тебе, Тана, никогда не случалось врать с хорошей или дурной целью, тогда можешь упрекнуть меня. Но если и ты врала, то лучше молчи. На это Тана ничего не могла возразить, ибо всем было известно, что она не всегда говорила правду, хотя вообще отличалась хорошим честным нравом.* * *
Когда Ви, наконец, оправился от усталости и нервной дрожи, когда его помятые бока перестали болеть, весь народ собрался и стал восхвалять его. Племя славило Ви, который избавил его от тигра так же, как избавил от волков. Племя славило Ви, говоря, что он, наверное, один из богов и вышел изо льда для того, чтобы спасти племя. — Так вы говорите, когда все идет хорошо и когда опасность уже миновала. Но когда дела принимают дурной оборот и опасности грозят вам, тогда вы поете совсем другие песни, — грустно улыбаясь, возразил Ви. — Это у вас старая привычка: когда нужно хвалить, вы молчите, но зато распинаетесь, когда похвала не нужна. Для того, чтобы отделаться от восхвалений, он ускользнул с Места сборищ и отправился один гулять на побережье. Паг остался на месте и принялся свежевать тигра, а потом дубить шкуру. И наступило время, когда каждый мужчина, каждая женщина и даже ребенок могли в одиночку гулять по берегу, ничего не опасаясь, ибо убийца Хенга был мертв, волки были мертвы, и тигр был мертв тоже. И всех их убил Ви. А несколько месяцев тому назад и медведи покинули эту местность. Впрочем, неизвестно было, ушли ли они от страха перед тигром или от недостатка пищи.* * *
Великий ураган с юга, дувший в эту весну много дней подряд почти до той самой ночи, когда Ви отправился на тигра, к этому времени улегся. Небо было совершенно чистое, но солнца этой весной стало, кажется, еще меньше, нежели в прошлом году. Воздух продолжал оставаться холодным, очень холодным, таким, какой бывает перед тем, как пойдет снег, а время было совсем не подходящее для того, чтобы шел снег. Цветы, обычно украшавшие леса и склоны холмов в это время года, еще не расцвели. Тюлени и птицы появились в значительно меньшем количестве, чем обычно. Ураган уже не дул, но море еще волновалось, и на берег то и дело с глухим шумом порывисто набегали большие волны, на которых колыхались глыбы льда. Ви шел на восток. Он дошел до ледника и упал на колени для того, чтобы помолиться богам. Он хотел сказать им, что готов стать жертвой за свое племя. Что-то оборвало ход его мыслей. Это было следующее соображение; ведь ледник надвигается на долину, в которой живет племя. Он встал, чтобы измерить, намного ли продвинулся ледник, насколько свирепы боги и как скоро собираются они поглотить племя. Он смотрел и не верил своим глазам. Он помнил, что в глубине льда всегда была видна фигура Спящего с длинным носом и круглыми зубами. Позади него виднелась тень, словно преследующая его. Тень, смутно похожая на человека. Теперь все изменилось: Спящий стоял на месте, но смутный образ каким-то чудом оказался впереди него, совсем близко от Ви. Это был человек. В том, что это человек, не могло быть никаких сомнений. Но такого человека Ви никогда еще не видал. Все члены его были покрыты шерстью, лоб отступал назад, и огромная нижняя челюсть выдавалась из-под плоского носа. Руки этого человека были длинны, непомерно длинны, ноги сведены полукругом, и в руке человек держал короткий, грубый деревянный обрубок. Глубоко сидевшие открытые глаза были малы, зубы огромны и выступали вперед, на голове росла грубая шерсть, а с плеч свисал плащ — шкура какого-то животного, — скрепленный на шее когтями. На лице этого странного и безобразного создания было написано выражение величайшего ужаса. Ви сразу увидал, что этот человек умер внезапно, чем-то испуганный. Чего он испугался? Вряд ли Спящего. Ведь все время видно было, что не Спящий гонялся за ним, но он за Спящим. Он испугался чего-то другого. Внезапно Ви понял, чего испугался этот человек. В прошлые времена этот праотец племени (Ви не подозревал о существовании других людей, кроме его народа, и считал человека во льду своим предком) тысячи зим тому назад бежал ото льда и снега, и они обрушились на него, поглотили его, и он задохнулся и умер. Он не был богом. Он был только несчастным человеком, которого застала внезапная смерть и которого лед сохранил, как сохранил на его лице всю историю его кончины. Но если это не бог, то бог ли Спящий? Может быть, Спящий просто дикий зверь, который погиб вместе с человеком, погиб в ту минуту, когда широко открыл рот и взывал к небесам о помощи? Нет, это не боги. Им он молиться не будет. Ви вернулся на побережье. Он задумчиво продолжал идти на восток по холмикам и обледеневшим долинами. Он шел к небольшому заливу, где обычно собирались тюлени. Он надеялся, что увидит тюленей, прибывших с юга выкармливать детенышей. Тюлени были всегда в центре внимания племени: их мясо шло в пищу, шкуры на одежду, их жир в светильники. Ви шел, огибая утесы, и, наконец, добрался до берега. Мысли о Спящем и о человеке уже исчезли из его головы. Ви осматривал побережье проницательным взором охотника. Он оглядывал воду залива, низкие скалы, на которых обычно ползали тюлени (скалы эти были расположены приблизительно в четырех полетах копья от берега). Тюленей не было видно нигде. — Этой весной они запаздывают еще больше, чем в прошлом году, — подумал Ви.* * *
Он уже собирался вернуться домой, когда заметил на другой стороне скал, среди морского прибоя, какой-то странный предмет, что-то длинное и заостренное с обеих кондов. Сперва он решил, что это какое-нибудь неизвестное ему животное, выброшенное волнами, и уже собрался идти назад, как внезапно понял, что странная эта вещь — полая, и в ней лежит нечто похожее на человека. Тут у Ви проснулось любопытство; он решил подойти поближе. Но, однако, добраться туда можно было только вплавь. Правда, Ви — прекрасный пловец, но вода еще оставалась необычайно холодной (по ней плавало немало глыб льда). Поэтому он решил, что лучше почти домой, тем более, что и плыть далеко. Незачем больше ломать себе голову над чем-то, что лежит в незнакомом полом предмете. Но тут он почувствовал, что уйти не может. Что если там лежит человек? Нет, это невозможно: ведь кроме его племени на свете нет других людей. Видел же он, наверное, какой-нибудь свалившийся в море ствол или труп большой рыбы. А верно ли, что на свете, кроме его племени, больше нет людей? Ведь он только что видел тело человека, жившего, должно быть, тысячи лет тому назад, — в те времена, когда настигший его ледник еще лежал в дальних горах. С чего же взял Ви, что он и его племя — единственные двуногие создания на земле? Он решил посмотреть, чего бы это ему не стоило. Пускай он потонет в ледяной воде, пускай его оглушит льдина — что из этого? Вождем станет Паг или Моананга. Во всяком случае, кто бы ни стал вождем, за Фо будет присмотр, тем более, если Ви погибнет, Аака перестанет ревновать к нему мальчика. Так думал Ви. Он скинул плащ и положил его на скалу, а под ним спрятал секиру. Если он не вернется, Паг и все остальные узнают по этим приметам, что море поглотило его. Итак, Ви бросился в воду. Сперва это обожгло холодом, но он плыл большими бросками, время от времени останавливаясь, чтобы отогнать льдины или ощупать их под водой, нет ли на них острых углов, о которые можно порезаться. По мере того, как он плыл, он согрелся. Его согревало не только движение. Кровь его текла в жилах быстрее от радости поиска, от надежды на приключение. Холодно было только на берегу, когда в голове его теснилось столько печальных мыслей, когда его преследовало воспоминание о человеке, увиденном в леднике. А теперь он чувствовал себя, точно мальчик, добравшийся до орлиного гнезда. Это он сделал однажды; он сползал с горы, неся в корзине на спине птенцов в то время, как орлы — их родители — носились вокруг него. Да, он снова был бесстрашным мальчиком, свободным от воспоминаний о вчерашнем, свободный от страхов о завтрашнем. Мальчиком, живущим только в настоящем. Наконец, Ви благополучно добрался до скал. Влез на них, по-собачьи отряхнулся и стал осторожно пробираться между камней. Дошел до того места, где с берега заметил тот странный, заостренный предмет, в котором кто-то лежал. Предмет этот исчез. Нет, он здесь! Здесь, под ним, на волнах. Что это за предмет — неизвестно. Но ясно, что сделан он рукой человека для того, чтобы в нем плыть по воде. Предмет оказался много больше, чем он предполагал: в нем могло поместиться пять или шесть человек. Предмет, очевидно, выдолблен из дерева: на нем еще видны были следы топора. Глаза не обманули его. В выдолбленном дереве лежал кто-то, накрытый белым меховым плащом; плащ закрывал все тело, даже голову. Из-под края плаща виднелась коса — длинная, как болотные весенние цветы; виднелась также и рука, державшая какой-то кусок дерева, который, судя по форме, служил для того, чтобы управлять большим выдолбленным стволом. Ви долго и изумленно глядел; наконец, он заметил, что рука эта тонка и мала, как у женщины. Рука эта принадлежала не мертвой женщине; правда, она посинела от холода, но вот пальчики шевельнулись. Ви подумал с мгновение. Что ему делать? Плыть к берегу с женщиной невозможно. К тому же, ледяная вода убьет ее. К берегу ее можно доставить только в том предмете, в котором она лежит. Но перетащить этот огромный ствол ему не под силу. Значит, имеется только один выход. Ви заметил, что ствол находится почти рядом с западным протоком, по которому приходят приливы и отливы. Сейчас как раз прилив. Если толкнуть эту штуку в поток воды — прилив донесет ее до берега. Он спрыгнул в воду и толкнул ствол. Легкое сооружение послушно поддалось толчку, правда, немножко зачерпнуло воды, и пошло по волнам прилива. Ви остановился на мгновение. Он решил было плыть позади ствола и подталкивать его, если нужно, направляя рукой. Затем вспомнил, что вода чудовищно холодна, путь далек и судорога может схватить его. Понятно, если он утонет, беды особенной в том нет; но что будет с женщиной? Ее, наверное, и так нелегко вернуть к жизни, а если его не будет, она наверняка умрет. Место было пустынное, сюда приходили только охотиться на тюленей. Но если даже охотник придет, то, увидав женщину в выдолбленном стволе дерева, либо убежит со страху, либо убьет ее. В племени ходили предания о колдуньях с моря, носительницах несчастья. Тогда Ви пришло в голову, что он может сам вскочить в этот ствол и направлять его при помощи той вещи, которая была в руке у чужестранки. Не раз случалось ему при спокойном море и тихой воде (да и не ему одному!) садиться на кусок дерева и, гребя суком, переплывать на отмель в заливе, где рыба кишмя кишела. Словом, с веслом, находившемся в руке у чужестранки, Ви был знаком. Он взял весло у нее, взобрался в лодку, уселся у ног лежавшей и несколькими ударами направил челнок в прилив. Течение подхватило лодку и понесло ее вперед; Ви оставалось только удерживать правильный курс. Он ловко погружал весло в воду то с одной, то с другой стороны, и искусно ускользал от плавающих льдин. Так обнаженный дикарь и закрытая плащом женщина (он не решился открыть ее лицо потому, что был наг и боялся, как бы морская колдунья не утащила его на дно) благополучно добрались до берега.Глава 9
ЛАЛИЛА
Ви выскочил на берег, взялся за свисавшие с носа лодки канаты из шкуры и вытащил челн на песок, выше того места, куда доходил прилив. Затем побежал к скале, быстро оделся, взял секиру, — кто может знать, что скрывается под этим плащом? Но помимо секиры он захватил также и мешок, который брал с собой в путешествия. В мешке хранились запасы еды дня на два и приспособления для добывания огня. Затем он вернулся к лодке и с дрожью (подобно всем дикарям, он боялся неведомого) откинул покрывало с лица женщины. В то же мгновение он отшатнулся. Он никогда не видел подобной красоты. Она была молода, высока ростом и всю ее покрывал поток русых волос. Лицо ее посинело от холода и обветрилось, но было овально и черты его — тонки и правильны. Глаза были закрыты, чему он обрадовался: будь глаза открыты, он знал бы, что она мертва. На щеки опускались длинные ресницы, но не русые, как волосы, а темные, почти черные. Женщина была одета, но одета странно и необычно для Ви. На перевязях держалось длинное синее платье неизвестно из чего сделанное и перетянутое меховым поясом с блестящими камушками и поблескивающими ракушками. На шее висело янтарное ожерелье. Ноги обуты в вышитые сандалии. Поверх платья — темно-синий плащ, к плащу был прикреплен расшитый мешок. Ви отшатнулся, бормоча: — Морская колдунья! Носительница Зла! Это не женщина. Старики говорят, что их нужно выбрасывать в море, чтобы они не навлекли проклятия на племя. Сейчас я брошу ее в море. Он подошел к ней вплотную, прикоснулся к ее лицу кончиками пальцев, думая, что это мираж и он ощутит пустоту. — У нее тело, как у женщины! А какое тело у колдуний? В это мгновение Морская Колдунья вздрогнула и застонала. — Колдуньи живут во льду. Разве они дрожат? Я сперва отогрею ее и оживлю. Если она не женщина, а колдунья, я убью ее, прежде чем она убьет меня. Он огляделся. На берегу стоял утес из мягкого камня с пещерой, образовавшейся в результате приливов. Рядом журчал ручей. Ви поднял Морскую Колдунью на руки, отнес ее в пещеру и положил на ложе из сухих водорослей, на котором он спал в прошлом году, когда в последний раз охотился на тюленей. Затем он стал приводить женщину в чувство: растирал ей руки и ноги. Она все не приходила в себя. Он снова поднял ее и прижал к груди, чтобы согреть, но тщетно. Обморок продолжался. Ви опустил ее на ложе и накрыл своим плащом. В пещере, приготовленная охотниками, лежала куча дров. Ви вынул из мешка палочки для добывания огня, одну зажал между ног, насыпал на нее трут, а другую палочку — из твердого дерева и заостренную на конце — быстро завертел между ладонями. Завертел быстрее, чем обычно. Мелькнула искра, и трут воспламенился. Ви раздул его, подбрасывая в огонь растертые водоросли; наконец, показался настоящий огонь. Ви разжег костер, и веселое пламя запылало. Ви остановился, восхищаясь собственной работой и смутно дивясь тому, как от трения двух кусков дерева появляется огонь; ведь если выпустить этот огонь на свободу, он может сжечь целый лес. Ви каждый день дивился многим вещам, которых не понимал. Но нужно было думать о другом. Он перенес меховой плащ к самому огню и положил на него Морскую Колдунью, предварительно заботливо убрав ее волосы в сторону, чтобы они не загорелись. Так она лежала, и жар бил ей в лицо, освещая его, а Ви, как зачарованный, глядел на это лицо, гадая, выживет Колдунья или умрет. Он надеялся, что выживет, и смутно чувствовал, что, если бы она умерла, было бы лучше; он предвидел в будущем немало тревог и забот из-за нее. Но Морская Колдунья умирать не собиралась. Тепло благотворно подействовало на нее. Она открыла глаза, и Ви увидал, что они большие и очень нежные. Затем она села, опираясь на руку, взглянула на огонь, пробормотала что-то мягким голосом и протянула к огню вторую руку. Затем стала озираться: взглянула на море, осмотрела пещеру. Потом ее взгляд упал на Ви. Она увидела широкоплечего смуглолицего мужчину, стоявшего перед ней на коленях с протянутыми руками, стоявшего молча и неподвижно. Она вздрогнула и стала внимательно разглядывать его. Ее взгляд медленно заскользил по фигуре Ви и ненадолго задержался на его лице. Затем упал на секиру и стал испуганным. От секиры — снова к лицу; на лице Ви она прочитала, что бояться нечего, что лицо дикое, но не злое, серьезное и доброе. Она покачала головой и улыбнулась. Он медленно и неловко улыбнулся ей в ответ. Тогда она коснулась пальцами губ и горла. Ви смотрел, недоумевая. Затем понял. Он выскочил из пещеры и принес воду в пригоршнях — никакого другого сосуда у него не было. Она вновь улыбнулась, кивнула и выпила принесенную воду. Трижды ходил он за водой, покуда колдунья не утолила жажды. Тогда она показала на зубы, и Ви понял снова. Он раскрыл мешок, вынул оттуда сушеную рыбу и в знак того, что еда съедобна и не отравлена, отломил кусок, разжевал и проглотил. Морская Колдунья смотрела недоверчиво; видно было, что к такой пище она не привыкла. Но она все же отломила кусочек и попробовала. Пища, очевидно, ей понравилась. Она попросила еще и съела довольно много, затем знаками попросила снова принести воды. К тому времени уже стемнело. Женщина показала на небо и задала какой-то вопрос. Ви не понял ничего и попытался что-то ответить. Он был в большом затруднении. Наступала ночь, до селения было не близко, и ночной путь туда был опасен. К тому же, Морская Колдунья, должно быть, сильно устала и нуждается в отдыхе, если только колдуньи вообще отдыхают. Он приготовил ей ложе из водорослей возле костра и знаками посоветовал лечь. Взяв другую охапку водорослей, пошел к устью пещеры, ткнул пальцем в себя, затем на водоросли, дал ей понять, что ляжет здесь. Она утвердительно кивнула в ответ, и Ви вышел из пещеры, чтобы посмотреть, не явился ли за ним Паг. Но Паг свежевал тигра и думал что Ви вернется ночью. Ви, войдя в пещеру, увидел, что Морская Колдунья легла и, очевидно, спит — глаза ее закрыты. Он улегся, зарывшись в водоросли, но не мог заснуть. Не мог спать Ви не от холода и не потому, что лег на пустой желудок (он не притронулся к пище, потому что хранил ее для Морской Колдуньи). Любой дикарь легко обходится без пищи день или два, и холод ему не в диковину. Спать ему мешала мысль о найденной им женщине и о том, что может произойти из-за нее. Он знал, что бы ни случилось, даже если она исчезнет так же мгновенно и неожиданно, как появилась, — он никогда не забудет Морскую Колдунью. А если она не исчезнет? Какими глазами посмотрит на нее народ? Как примет ее Аака? Где она будет жить? Раньше все было просто — он смог бы жениться на ней. Но он сам издал новый закон и дал клятву, а несоблюдение клятвы навлечет на него насмешки и позор. Так думал Ви, стараясь разрешить неразрешимую задачу. Наконец, он оставил эти мысли и дважды вставал и подбрасывал дров в огонь. Делал он это, отворачиваясь от спящей, ибо, по обычаям племени, мужчина не должен глядеть на спящую женщину. Но хотя он не видал ее, он чувствовал на себе ее взгляд. Наконец, ему удалось ненадолго забыться сном. Шорох разбудил его. Ви открыл глаза и увидел: Морская Колдунья стоит над ним и внимательно рассматривает его. Он лежал не шевелясь, прикидываясь спящим. Его вид обманул ее, и она вышла из пещеры. Глядя на луну, она встала на колени и тихо запела. Затем поднялась, подошла к лодке и задумчиво остановилась возле нее. Нагнулась и попыталась столкнуть ее в воду, но киль глубоко погрузился в морской песок, и лодка не шевельнулась. — Она хочет вернуться в море. Пусть. Так будет лучше. Я помогу ей, — подумал Ви и подошел лодке. Женщина взглянула на него удивленно, но без страха. Видно было, что она уже не боится его. Он знаками объяснил ей, что, если она захочет, он поможет столкнуть лодку в воду. Очевидно, она удивилась; очень серьезно всмотрелась в его лицо, разглядела печальное выражение глаз и поняла, что предлагает ей это вовсе не для того, чтобы отделаться от нее. Тогда она пробормотала несколько слов, махнула руками, снова посмотрела на луну и, наконец, решилась. Покачала головой, улыбнулась, тихо взяла Ви за руку и повела его к пещере. «Колдунья хочет остаться, — подумал Ви. — Что поделать? Я, во всяком случае, помог ей, когда она хотела уехать отсюда». Наконец, настал день. Серый и хмурый, но не дождливый. Колдунья вышла из пещеры и поманила Ви. Он некоторое время колебался, затем вошел. Она подложила дров в огонь, и костер ярко запылал. Она, очевидно, уже умылась, и плащ и одежда ее были сухи и казались ему великолепными. Она провела по своим волосам чем-то острозубым, сделанным из рога. Ви никогда этой вещи не видел, но, поняв ее назначение, был страшно удивлен, как это племя само не додумалось до такого гребня. Ви подумал, что женщина, должно быть, голодна. Раскрыл мешок и вытащил оттуда еду. Колдунья принялась есть, затем остановилась и протянула кусок рыбы Ви, знаками показывая, чтобы он ел тоже. Он отказывался, но она настаивала на своем, объясняя ему, что не будет есть, пока он не поест. Дело кончилось тем, что они дружно уничтожили все запасы Ви. В то самое мгновение, когда Ви протягивал Морской Колдунье последний кусок рыбы, Паг появился у входа в пещеру и остановился, глядя на резко очерченные огнем фигуры, точно это были привидения. Морская Колдунья увидала его, неуклюжего, кривоногого, большеголового, одноглазого, и впервые испугалась. Она схватила Ви за руку и вопросительно посмотрела на него. Ви, не зная, что делать, улыбнулся, погладил ее по руке и сказал Пагу повелительным тоном, который она поняла: — Что ты здесь делаешь? — Сам не знаю, — задумчиво сказал Паг. — Я вижу, что здесь мне не место. Я шел по твоим следам, боясь, не случилось ли с тобой чего дурного, а оно-то и случилось. И он уставился своим единственным глазом на Морскую Колдунью. — Есть у тебя какая-нибудь еда? — спросил Ви, который, по правде говоря, хотел оттянуть объяснение. — Если есть, давай; эта девушка долго не ела и еще голодна. Паг ехидно улыбнулся. — Откуда ты знаешь, что она не замужем и что долго не ела? Ты понимаешь ее язык? — Нет! Ви ухватился за последний вопрос и сделал вид, что не заметил первого. — Я нашел ее плавающей в выдолбленном стволе и оживил. — Находка эта заслуживает внимания: она красавица. Но не знаю, что скажет Аака по этому поводу. — Я тоже не знаю. — Может быть, она — колдунья, которую лучше всего убить? — Может быть, но убивать ее я не собираюсь. — Понимаю тебя, Ви. Кто может убить этакую красавицу? Взгляни на ее тело, лицо, волосы, глаза. — Уже видел, — раздраженно оборвал его Ви. — Перестань болтать глупости и скажи лучше, что мне делать. — Я думаю, что лучше всего жениться на ней и сказать племени, что ее послали тебе Ледяные боги или Морские, или еще какие-нибудь там боги, — посоветовал Паг. — А новый закон? — Гм… — произнес Паг. — Мне этот закон никогда не нравился. Ну, словом, если ты не собираешься убивать ее и не хочешь на ней жениться, остается только привести ее в селение. С Аакой жить она не сможет, в пещере также, значит, нужно дать ей отдельную хижину. Возле самого устья пещеры стоит пустая прекрасная хижина, так что тебе даже в гости придется ходить недалеко. Ви рассеянно спросил, чья же это хижина пустует. — А помнишь, Рахи-Скряга умер на прошлой неделе то ли от страха перед тигром, то ли с горя, что ты приказал ему поделить рыболовные крючки и кремневые ножи между теми, у кого их нет? — Помню. А кстати, ты нашел эти крючки? — Пока нет. Я думаю, что старуха Рахи, которая после его смерти убежала из хижины, запрятала их к нему в могилу. Но этим я еще займусь. Словом, есть хижина, и вполне пригодная для жилья. — Да. К тому же женщины, которые присматривают за детьми в пещере, могут присматривать и за Морской Колдуньей. Паг с сомнением покачал головой и заметил, что не думает, чтобы какая-нибудь женщина согласилась присматривать за Морской Колдуньей, так как молодые женщины будут ревновать, а старые бояться ее. — Особенно потому, — добавил он, — что ты сказал, что она — колдунья. — Ничего подобного я не говорил, — рассердился Ви. — Я назвал ее Морской Колдуньей, потому что она явилась с моря. — А может быть, потому, что она колдунья, — вставил Паг. — Во всяком случае, нужно узнать, как ее зовут. — Верно. Ведь если женщины откажутся смотреть за ней, я поручу ее тебе. Паг повернулся к Морской Колдунье, которая все время внимательно вслушивалась в разговор, догадываясь, что речь идет о ней. Он ткнул Ви в грудь и сказал: «Ви», затем ткнул в грудь себя и сказал: «Паг». Он повторил это несколько раз, затем указал на нее пальцем и посмотрел вопросительно. Сначала она ничего не понимала, но потом догадалась, улыбнулась и повторила их имена. Затем прикоснулась пальцем к своей груди и сказала: «Лалила». Они кивнули и воскликнули «Лалила»! Она кивнула в ответ, снова улыбнулась и повторила: «Лалила». Затем Паг и Ви заговорили о лодке, повели Лалилу к ней и знаками показали, что хотят спрятать лодку в пещере. Они вылили воду из лодки и втащили в пещеру. Паг внимательно осмотрел ее (он понимал, что эта вещь может пригодиться), и затем лодку засыпали водорослями, а весла зарыли в песке. Затем Ви взял Лалилу за руку и знаками показал ей, чтобы она шла за ними. Сначала она испугалась и противилась, но затем пожала плечами, вздохнула, умоляюще посмотрела на Ви и покорно пошла следом. Час с лишним спустя Аака, Моананга, Тана и Фо, ожидавшие на краю селения, испуганно думали о том, почему Ви так долго не возвращается. — Смотрите! — закричал Фо, показывая на появившихся людей. Вот идут отец, Паг и какая-то красавица. — Она действительно прекрасна, — согласился Моананга. Тана смотрела, широко раскрыв глаза. Аака воскликнула: — Она действительно прекрасна, но она колдунья и принесет нам зло. Тана внимательно смотрела на то, как высокая чужестранка легко скользила по песку. Разглядела ее синий плащ, янтарное ожерелье и русые волосы. Увидала — когда Лалила подошла ближе — темные глаза. — Ты права, Аака. Это колдунья, но такая, какой мы с тобою хотели бы быть, — сказала Тана. — То есть? — Она влюбит в себя всех мужчин, и ее возненавидят все женщины. Каждая из нас хотела бы добиться того же. — Ты, но не я. — Можешь говорить, что хочешь. Это просто слова. Ты не ласкова с Ви. Но стоит только ему уйти, как ты следишь за ним жадными глазами. Тана никогда не любила Ааку и очень почитала Ви. Аака, понятно, в долгу не осталась, но в это мгновение Ви, Паг и женщина уже подошли. Фо повис на шее у отца. Моананга пробормотал радостное приветствие. Тана двусмысленно улыбалась, разглядывая одежду и ожерелье чужестранки. Ви обратился к Ааке, но та перебила: — Привет, о муж мой. Мы боялись за тебя и рады вновь увидеть тебя и твою тень. Она взглянула на Пага. — А это кто с тобой — высокий юноша или женщина? — с усмешкой спросила она. — Кажется, женщина. Осмотри ее, и сама увидишь. — Не к чему. Ведь ты, наверное, сам все хорошо знаешь. Но где ты нашел ее? — Это длинная история. Суть в том, что нашел я ее в выдолбленном древесном стволе в Тюленьем заливе. — Да? А где ты провел ночь? — У пещеры. Лалила спала в пещере, а я — снаружи. — А откуда ты знаешь ее имя? — Спроси у Пага. Он узнал его, а не я. — Значит, в этом деле замешан Паг? Надеюсь, по крайней мере, эта колдунья — не волк, превратившийся в женщину. — Я уже сказал, что нашел ее я. Паг увидел женщину только сегодня утром. Смейся, если хочешь. Паг подтвердит тебе мои слова. — Паг подтвердит любые твои слова. Однако… Ви рассердился и воскликнул: — Хватит! И я и Лалила нуждаемся в пище и отдыхе. Он с Лалилой и Пагом пошел вперед, а за ними последовали остальные. Только Тана уже успела убежать в селение, чтобы рассказать новости.Глава 10
МАТЬ ВЫБРОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Новость быстро разнеслась по селению. Когда они пришли домой, им навстречу уже бежали даже из самых отдаленных хижин. Все хотели посмотреть наМорскую Колдунью, которую нашел Ви. И вот она появилась. Она шла между Ви и Пагом — спокойная, стройная, на голову выше всех женщин племени, кроме Ааки. Все увидели ее длинные русые волосы, белую кожу, чудесную синюю одежду, расшитые сандалии и янтарное ожерелье. Ни у кого больше не осталось сомнений: это — колдунья. Сперва народ молчал. Но вот Лалила прошла и вместе с нею исчез страх перед проклятием, которое она может навлечь одним взглядом. За спиною ушедших начались перешептывания. — Что за безобразная колдунья! — сказала какая-то женщина. — Ее волосы цвета солнца и руки такие длинные. — Хотел бы я, чтобы ты была так безобразна! — возразил ее муж. Так начал разгораться спор. Все женщины и несколько стариков утверждали, что она уродина, а мужчины и дети кричали, что красавица. В дело вмешался Урк-Престарелый, который тут же выдумал историю о том, как в дни его прапрадеда точно такая же ведьма (возможно — та же, ведь ведьмы не стареют) приплыла сюда на льдине, которую везли белые медведи. Народ пытался забросать ее камнями, но камни обрушивались на бросавших их. Колдунья сошла на берег, поселилась в пещере и шесть дней пела там. Наконец, сын вождя влюбился в нее и попытался поцеловать. Она обратила его в медведя, села верхом и уехала. Одни поверили рассказу, другие нет. Во всяком случае, все твердо решили не пытаться ни забрасывать Лалилу камнями, ни целовать, чтобы не приключилось беды. Тем временем Ви, Паг и Колдунья подошли к пещере, где к ним присоединились Аака, Моананга и Тана. — Что ты собираешься делать с колдуньей? — косясь на Лалилу, спросила Аака. — Не знаю. Быть может, отведем ее в нашу старую хижину? Ведь ты спишь в пещере и бываешь в старой хижине только днем. — Ни за что! У меня и так хлопот достаточно. К тому же зима прошла, и я вновь переселяюсь в хижину. Ви закусил губу. — У меня, — вмешался Моананга, — две хижины рядом, и одна из них служит кладовой. Если поселить ее… Тана перебила его: — Ну что ты говоришь? В кладовой нет места. И, кроме того, я в ней стряпаю. Ви пошел дальше, оставив Моанангу и Тану спорить дальше на эту тему. Возле входа в пещеру стояли женщины, которые присматривали за девочками, жившими у Ви согласно новому закону. Ви обратился к женщинам, чтобы они выбрали кого-нибудь, кто помог бы освоиться в племени чужестранке с моря. Женщины, услыхав это, посмотрели на Лалилу и разбежались. — Все случилось так, как ты сказал, — обратился Ви к Пагу. — Что же теперь делать? Паг сплюнул и поглядел на Лалилу и Ви. Затем он заметил: — Если узел никак нельзя распутать, его приходиться разрезать. Раз никто не желает приглядывать за Колдуньей, а ты не хочешь, чтобы она умерла с голоду, — возьми ее в пещеру и смотри за ней сам. А если это тебе не нравится, убей ее. — Я не сделаю ни того, ни другого. Я дал клятву, и в мою пещеру она не войдет. Умереть с голоду я и собаке не дам. Убивать ее я тоже не хочу. Это будет такое ужасное преступление, что небеса обрушатся на нас. — Будь она стара и безобразна, небеса остались бы на месте. Но, все-таки, что же делать? — заботливо заметил Паг. — Вот что, Паг. Сведи ее в хижину Рахи. Прикажи кому-нибудь из моих служителей — только мужчине, не женщине, — убрать хижину, развести огонь и принести для Лалилы пищу. А сам ты поселишься в пристройке к хижине, там, где Рахи держал свои товары. — Словом, я должен стать нянькой колдуньи. Собственно, я мог ожидать, что этим все кончится, — сказал Паг.* * *
Таким образом Лалила, пришедшая с моря, стала жить в хижине Рахи, и прислуживал ей Паг, ненавидевший женщин. Лалила безропотно подчинялась ему, чего и хотел Ви. Паг также не протестовал против странной и неожиданной своей обязанности. Делал он это не только для того, чтобы угодить Ви. Он был умнее всех в племени, кроме, может быть, только Ви, и сразу понял, что женщина эта не колдунья и принадлежит к какому-то другому племени. Паг заметил также, что народ Лалилы знает много ремесел, ему незнакомых, и старался научиться им. Странная была жизнь у Лалилы. Она сидела в хижине и готовила пищу, готовила незнакомыми ему способами. Она гуляла в сопровождении Пага и наблюдала обычаи племени или подходила к морю и долго глядела на юг. Однажды в пасмурный день она знаками попросила у Пага выдубленные шкуры, жилы и осколки моржовых клыков. Из осколков при помощи острого и раскаленного кремня она сделала иглы и стала шить одной ей известным способом. Паг рассказал о ее шитье женщинам племени, и они стали через него просить у Лалилы игл. Та с охотой делала их, покуда больше не осталось осколков. Ее языку Пагу научиться не удалось. Поэтому он стал учить ее языку племени. Учение пошло быстро, особенно с тех пор, как Ви стал бывать на уроках. Научившись языку племени, она рассказала Ви и Пагу кое-что о себе. Рассказала, что она — дочь вождя племени, обитающего далеко на юге. Народ там живет в домах, построенных на сваях, стоящих посреди озера. Питаются они рыбой и дичью. Выращивают некоторые травы и их зерна растирают между камнями, смешивают с водой и готовят в глиняной посуде. Оружие делают из кремня, слоновых и моржовых клыков и рога. Одежда же у них из шерсти домашних животных и окрашена соком одной травы, но не той, которая идет в пищу. Там, где она раньше жила, часто идут дожди, но солнце светит ярче и воздух теплее, чем здесь. Ви и Паг с удивлением слушали ее рассказы. Наконец, Ви спросил: — Почему же, о Лалила, ты покинула страну, в которой была в таком почете? — Из-за одного мужчины, которого я ненавидела. — Почему ты ненавидела его? Она помолчала и затем медленно заговорила: — То был брат моего отца. Отец мой умер, и брат его хотел жениться на мне и стать вождем. Я ненавижу его. Я нагрузила лодку едой и выплыла в море. — А ты смогла бы найти путь назад? — Думаю, что да. Я все время плыла у берега и запомнила очертания прибрежных гор. Думаю, что если мне удастся выбраться изо льдов, я без труда доберусь до дому. Я заснула только тогда, когда проехала последнюю горную вершину и попала во льды. — Значит, горы недалеко, — заметил Ви. — не то ты успела бы замерзнуть прежде, чем попала сюда. На этом разговор закончился, но Ви с Пагом много раз еще обсуждали услышанное от Лалилы.* * *
Некоторое время спустя Лалила сказала, что ей скучно и она просит дать ей какую-нибудь работу. Паг долго обдумывал ее просьбу, затем однажды, когда Ви ушел по какому-то делу, сводил ее в пещеру и показал ей, как воспитывают там девочек. Заодно он объяснил ей, как они туда попали. — У твоего народа жестокие нравы, — заметила она. — У меня на родине выгнали бы из племени мать, которая выбросила своего ребенка. Она подошла к детям и стала вглядываться в них, затем заявила, что за ними смотрят плохо и что две девочки, очевидно, скоро умрут. — Несколько уже умерло, — отвечал Паг. Ви, незамеченный ими, вернулся в пещеру и стоял в отдалении, слушая их. После слов Пага он подошел и тихо сказал: — Ты права, Лалила. За детьми плохо смотрят. Матери перестают обращать на них внимание через несколько недель после рождения, словно для того, чтобы показать, что дети все равно обречены на смерть. Что же я могу сделать? Хочешь помочь мне, Лалила? — Да. Но только женщины племени станут ненавидеть меня еще больше прежнего. А почему твоя жена Аака не смотрит за детьми? — Мы с Аакой никогда не договоримся, Лалила. Я назначаю тебя главной нянькой этих детей. Всякий, кто ослушается тебя, будет наказан. Так Морская Колдунья Лалила стала матерью выброшенных детей. Целыми днями сидела она у огня, окруженная девочками, кормила их и низким голосом пела им песни своей родины. Ви нравились эти песни, он часто приходил в пещеру и, сидя в тени, смотрел и слушал, думая, что Лалила его не замечает. Наконец, когда он обнаружил, что она знает о его посещениях, стал садиться у огня и разговаривать с ней. Она рассказывала ему о своей родине, о племенах, живших рядом с ее народом, и это удивляло соплеменников Ви, считавших себя единственным народом на свете; она рассказывала о простых ремеслах, которые знали ее соотечественники, и Паг жадно слушал. Но о своем путешествии она не говорила ничего и на вопрос, захочет ли вернуться на родину, отвечала, что не знает. Вскоре Ви стал доверять ей свои тревоги и дела. Об Ааке, правда, он ничего ей не говорил. Лалила долго слушала Ви и, наконец, сказала, что горести его неизлечимы. — Хотя ты здесь родился, о, вождь, ты не похож на своих соплеменников. Тебе нужно было жить среди моего народа. — Когда люди идут в горы, всегда один обгоняет других, — возразил Ви. — И тогда он оказывается один. — Нет: он возвращается и ведет остальных. — И тогда прежде, чем вершина будет достигнута, наступит ночь, — сказала Лалила. — А что же сделает человек, если он один достигнет вершины? — Взглянет на новые земли и умрет. По крайней мере, он первый увидит их, и когда-нибудь те, кто придет потом, найдут его кости.* * *
С того самого дня, как Ви услыхал эти речи, он полюбил Лалилу не только за ее красоту, но и за ум. Аака вскоре все поняла и стала смеяться над ним. — Почему ты не женишься на колдунье? Кто видел когда-нибудь вождя с одной женой? Я ревновать не стану, а у тебя всего один ребенок. — Я дал клятву. — Вот ей цена, — сказала Аака, показывая кукиш. Но Аака была неискренна. Как женщина, она не ревновала Ви, так как была воспитана в обычаях многоженства. Но она ревновала его по другому поводу: раньше она была единственным его советчиком. Затем Ви подружился с Пагом, и Аака стала ненавидеть Пага. А теперь появилась эта колдунья, и Ви слушает ее. Ненависть Ааки к Лалиле была сильнее ненависти ее к Пагу. Паг тоже ненавидел Лалилу по той же причине, что и Аака. Ви, несмотря на все свои недостатки, относился к числу тех людей, которых любят тем больше, чем лучше узнают их. Ревность Пага была естественной, но Ви даже не подозревал о ней. Ви стал близким другом Лалилы, делился с ней своими горестями, и все меньше значили для него Аака и Паг. Лалила слушала, давала советы и утешала Ви. Но в глубине души она, как женщина, не могла понять, почему он не делает попыток сблизиться с ней еще больше. Но она сама не знала, обрадовалась бы его попыткам. Затем она вспомнила о новых законах племени и стала еще больше уважать Ви. Как уже было сказано, в тот год племени пришлось особенно тяжело. Весны так и не дождались, и лето стало холоднее. Тюленей пришло в этот год очень немного, так что их не хватило ни на пищу, ни одежду. Мало было также птиц и лососей. Народ спасся от голода только тем, что ураган случайно загнал в залив четырех китов, которые не смогли выбраться обратно в море. Их мясо заготовили впрок. Ви работал не покладая рук, добывая пищу для племени. Но народ, привыкший к летнему изобилию, ворчал и хмурился. Затем прошел слух, что всему виной Морская Колдунья, которая угнала солнце с небес. Народ говорил, что если прогнать Лалилу, солнце снова начнет светить, звери и птицы вернутся и все будет хорошо. Почему же колдунья не возвращается опять в море в своем выдолбленном дереве? А если она не хочет, ее можно выбросить туда живой или мертвой. Так говорил народ, но до Ви эти толки еще не доходили.Глава 11
УРОК МАТЕРИ-ВОЛЧИЦЫ
Однажды Паг проходил мимо хижины Ааки. — Он грустен, — подумала Аака, — к я знаю почему. Ви покинул его ради этой желтоволосой колдуньи. И она позвала Пага и предложила ему целое блюдо жареных ракушек. Паг жадными глазами поглядел на еду и спросил: — А они не отравлены? — Почему ты спрашиваешь? — Причины вполне основательные. Во-первых, я не помню случая, чтобы ты по доброй воле предложила мне поесть. Во-вторых, я знаю, что ты меня ненавидишь. — И то и другое верно, Паг. Я ненавижу тебя и поэтому никогда не кормила. Но меньшая ненависть уступает место большей. Ешь! Паг набросился на ракушки и съел их все до единой, потому что любил хорошо поесть, а год был голодный, и по приказу Ви на зиму откладывали запасов как можно больше. Аака внимательно следила за тем, как он ест; когда он кончил, наконец, сказала: — Теперь поговорим. — Жаль, что больше не осталось, — ответил Паг, облизывая блюдо. — Но раз ракушки съедены, говори о Лалиле. — Я знала, что ты умен, Паг. — Да, я умен. Будь я глуп, я б давно умер. Ну, чего ты хочешь? — Ничего, кроме того, — она наклонилась и стала шептать ему на ухо, — чтобы ты убил ее или устроил так, чтобы ее убили. Ты — мужчина и можешь это сделать. Если же женщина убьет ее, то скажут, что это из ревности. — Понимаю. Но почему я должен убивать Лалилу, с которой мы друзья и которая знает больше, чем все наше племя вместе взятое? — Потому что она навлекла проклятие на племя, — сказала Аака. Паг остановил ее движением руки. — Можешь думать так, Аака, или говорить, что ты это думаешь, но незачем убеждать меня в том, что я считаю вздором. Виноваты в наших бедах небеса и климат, а не эта красавица с моря. — То, во что верит народ, всегда правда, — хмуро возразила Аака, — или, по крайней мере, народ считает, что это правда. Слушая, если эту колдунью не убьют или не изгонят назад в море, народ убьет Ви. — С Ви может случиться кое-что и похуже; например, он останется в живых, преследуемый всеобщей ненавистью, и увидит, что замыслы его рушатся и все его друзья отвернутся от него. Впрочем, некоторые, кажется, уже начали бунтовать против него, — печально сказал Паг. — Ну, говори дальше, — пристально поглядел он на Ааку. — Ты все знаешь сам, — сказала Аака, опуская взгляд. — Да, знаю, что ты ревнуешь к Лалиле и хочешь отделаться от нее. Но новый закон стоит стеной между Ви и Лалилой, так что тебе бояться нечего. — Не говори мне о дурацких законах Ви. Если Ви хочет взять себе еще жену, пускай берет. Таков наш обычай, это я понимаю. Но я не могу понять, как смеет он дружить с этой колдуньей, сидеть с ней у огня и беседовать, а я, жена, должна оставаться на морозе снаружи. И ты тоже, — медленно сказала она. — Прекрасно понимаю. Ви мудр, а сейчас ему приходится трудно. Он ищет себе помощника. Вот он нашел светильник и поднял его в руке, чтобы рассеять тьму. — Да, а пока он смотрит на свет, ноги его провалятся в яму. Слушай, Паг. Когда-то я была советчиком Ви. Потом ты заменил меня. А теперь пришла эта колдунья и отняла его у нас обоих: поэтому мы, бывшие враги, должны стать друзьями и избавиться от Лалилы. — Для того, чтобы стать врагами вновь? Понимаю тебя. Словом, ты хочешь избавиться от Лалилы? Так? — Да. — Хочешь, чтобы я прикончил ее — не сам, но возмутив против нее народ? — Возможно, это — самый лучший выход, — тревожно согласилась Аака. — Ведь на народ-то она и навлекла проклятие. — Ты в этом уверена? А может быть, если ее оставить в покое, она принесет много пользы? Ведь мудрость полезна, а она мудра. — Я убеждена, что лучше всего будет убрать ее, — вспыхнула Аака, — и ты думал бы так же, если бы ты был женою, у которой отнимают любимого мужа. — А как жена показывает свою любовь к мужу? Я не был женат и не знаю. Скажи, тем ли, что резка с ним, осуждает все, что он делает, и ненавидит его друзей, или же тем, что заботится о нем и помогает ему? Я знаю только, что такое дружба. — Ведь даже собака предана своему хозяину, — подумав, продолжал Паг. — Но любовь и ее пути мне неведомы. Однако я, как и ты, ревную к Лалиле и не огорчусь, если она уедет отсюда. Словом, я обдумаю то, что ты мне сказала, если у тебя нет больше ракушек, Аака. Ракушек больше не оказалось, и Паг ушел. Аака все-таки не поняла намерений Пага. Она знала только, что Паг ревнует Ви к Лалиле, и потому должен желать ее погибели. Но Паг — человек странный и непонятный.* * *
Паг ушел в леса, так как Ви теперь советовался во всем с Лалилой и в нем не нуждался. Он забрался в самую глушь, куда никто из людей никогда не заходил, бросился ничком наземь и стал думать. Он думал до тех пор, пока его голова не пошла кругом и думать больше стало невмоготу. И тогда в нем сразу проснулся зверь: ему надоели бесконечные размышления, захотелось стать просто зверем, какие живут в лесах. Он приложил руки ко рту и протяжно завыл. Он выл трижды и, наконец, вдали раздался ответный вой. Паг замолчал и стал ожидать. Солнце тем временем село, и наступили сумерки. Раздался шорох: кто-то ступал по сухим сосновым иглам. Затем между стволами деревьев появилась огромная волчья морда и подозрительно огляделась. Паг завыл снова, потихоньку, но волк все еще колебался. Он отошел и стал кружить, покуда не почуял запах Пага. Тогда волк прыгнул, и за ним следом затрусил волчонок. Серая волчица подбежала к Пагу, положила ему передние лапы на плечи и облизала его лицо. Паг погладил ее по голове, волчица уселась у его ног, как собака, и тихим ворчанием подозвала волчонка, точно для того, чтобы познакомить его с Пагом. Но волчонок не хотел подходить к человеку. Паг и волчица сидели одни. И Паг стал говорить с волчицей, которая много лет тому назад кормила его. Он говорил, а она сидела, будто слушала и понимала его. Но понимала она только, что с нею говорит человек, которого она когда-то кормила. — Я убил всех твоих родичей, Серая Мать, — говорил Паг волчице. — Почти всех. Но ты простила мне, ты пришла на мой зов, как прежде приходила. А ведь ты — только зверь, а я — человек. Если ты, зверь, можешь простить, то почему я, человек, должен ненавидеть того, кто причинил мне значительно меньше обид, чем я тебе? Почему должен я убивать Лалилу за то только, что она похитила у меня человека, которого я люблю? А ведь она мудрее меня и красавица! Серая Мать, ты — хищный зверь, и ты простила меня и пришла на мой зов; потому что когда-то вскормила меня! А я человек! Волчица поняла, что вскормленный ею человек чем-то взволнован. Она облизала ему лицо и прижалась к ногам того, кто уничтожил всех ее сородичей и воспользовался ее любовью в своих целях. — Я не убью Лалилу и не буду бунтовать народ, — сказал, наконец, Паг. — Я прощу, как Серая Мать простила меня. Если Аака хочет погубить Лалилу, пусть строит козни, но я предупрежу Морскую Колдунью. Да, я предупрежу ее и Ви. Спасибо тебе за урок, Серая Мать. Волчица убежала вместе с волчонком, а Паг вернулся в селение.* * *
Утром на следующий день Паг сидел возле пещеры и наблюдал, как Лалила возится с девочками, переходит от одной к другой, няньчится с ними, успокаивает и дает указания своим помощницам. Наконец, она покончила с работой и уселась возле Пага. Она посмотрела на небо, завернулась плотнее в плащ и вздрогнула. — Почему ты остаешься в этой холодной стране, Лалила? Ведь ты из края, где светит солнце и где тепло. Почему ты не возвращаешся на родину? — Я не уверена, что доберусь обратно. Море велико, и я боюсь. — Почему же ты переплыла его и приплыла сюда, Лалила? Ведь ты была дочерью и наследницей вождя? — Женщина не может править одна. Всегда кто-нибудь правит ею, Паг, а я ненавижу того, кто хотел править мной. И я отправилась искать смерти во льду. Но во льду я нашла не смерть, а это место. — И снова стала править. Ведь ты правишь тем, кто правит нами. Кстати, где Ви? — Кажется, пошел кого-то мирить. Твой народ вечно ссорится. — Голод и холод тому виной. К тому же, народ боится. — Чего, Паг? — Небес без солнца, недостатка еды, будущих зимних холодов, проклятия, обрушившегося на племя. — Какого проклятия? — Принесенного Морской Колдуньей. — Я принесла проклятие? — она обернулась к нему и широко раскрыла глаза. — По-моему, твои взгляды могут принести только добро, а не проклятие. Но народ думает, что кроме нас на свете нет людей, и потому считает тебя колдуньей, рожденной морем. С тех пор, как ты появилась у нас, происходят одни несчастья. Тюлени исчезли, нет птиц и рыбы. Сейчас ранняя осень, а холодно почти как зимой. — Могу ли я повелевать солнцем? — грустно спросила Лалила. — Я ли виновата в том, что тюлени, птицы и рыба не вернулись сюда, а дождь превращается в снег? — Так думает народ, особенно с тех пор, как ты вместо меня стала советчицей Ви. — Паг, ты ревнуешь ко мне. — Да. Но мне кажется, что я сужу справедливо. Меня просили убить тебя или подговорить народ на это. Я не согласился, ибо ты прекраснее и мудрее всех в племени и научила нас многим вещам. Не согласился я и потому, что не хорошо убивать чужестранку. Ты не колдунья, а просто чужестранка. — Убить меня! — воскликнула она, глядя на него большими испуганными глазами. — Я уже сказал, что отказался сделать это. Но другой может согласиться. Выслушай меня. Я дам тебе совет, а ты вольна воспользоваться им или отвергнуть его. — Ворон сидел в клетке, а лиса посоветовала ему открыть клетку. Ворон послушался, да только забыл, что голодная лиса караулит снаружи. Такая есть басня у меня на родине, — заметила Лалила, — подозрительно глядя на Пага. — А, впрочем, говори, — решила она. — Можешь не бояться, — хмуро возразил Паг. — Если ты последуешь моему совету, лиса останется еще более голодной, чем была до сих пор. Слушай! Тебе грозит большая опасность. Спастись ты можешь только одним путем: стать женою Ви. Ведь все знают, что, хотя Ви только и думает о тебе, ты не жена ему. Никто не осмелится прикоснуться к Ви. Правда, на Ви ропщут, но его любят. И к тому же племя знает, что Ви дни и ночи думает только о других; все помнят, что Ви могуч; он убил Хенгу и тигра с саблевидными зубами. Никто не осмелится коснуться человека, на которого Ви набросил свой плащ; но если плащ на тебя не наброшен — берегись. Итак, стань женою Ви, и ты будешь в полной безопасности. Я советую тебе поступить так, хотя знаю, что если Ви возьмет тебя в жены, то я, Паг, который любит Ви больше, нежели ты его любишь (если ты вообще любишь его), буду изгнан прочь из пещеры в леса. Впрочем, там у меня есть еще друзья. — Стать женою Ви! — воскликнула Лалила. — Я не знаю, хочу ли я этого. Я об этом не думала. И он никогда не говорил, что хочет взять меня в жены. Если бы он хотел этого, он бы сказал мне. — Мужчины не всегда говорят о том, чего хотят, Лалила. Кажется, женщины также. Ви рассказывал тебе о своих новых законах? — Да, часто. — А помнишь такой закон: так как женщин в племени мало, то никто не должен иметь больше одной жены? — Да. Лалила покраснела и опустила глаза. — Значит, он рассказал тебе о том, что призывал проклятие богов на свою голову и на голову всего племени в том случае, если нарушит этот закон. — Да, — повторила она еще тише. — Возможно, Ви именно поэтому не говорил о том, что хочет взять тебя в жены. — Но он ведь дал клятву не нарушать закон. В ответ Паг только хрипло рассмеялся. — Клятвы бывают различные. Одни клятвы даются для того, чтобы соблюдать их, другие же — чтобы нарушать. — Да, но эта клятва связана с проклятием. — В том-то все и дело, — сказал Паг. — В этом и беда. Тебе предстоит выбирать. Ты прекрасна и мудра, и стоит тебе захотеть — и Ви женится на тебе. Но в таком случае ты не должна бояться, что проклятие за нарушенную клятву упадет и на его голову, и на все наши тоже. Но покуда проклятие не обрушится, ты будешь счастлива. А может быть, проклятие вообще не сбудется. Если же ты не станешь его женой, продолжай быть его советницей, и твоя рука будет в его руке, но никогда не обовьется вокруг его шеи. И так будет продолжаться, покуда не восстанет на тебя все племя, возбужденное твоими врагами. А из них, может быть, я — самый жестокий и самый непримиримый твой враг. Лалила улыбнулась. — Ярость народа обрушится на тебя, — продолжал Паг, — и тебя изгонят или убьют. А может быть, ты предпочитаешь вернуться к своему народу в твоей волшебной лодке? Урк-Престарелый утверждает, что ты можешь сделать это. Он говорит, что так поступила твоя прапрабабка, которую он знал и которая во всем была похожа на тебя. Лалила слушала, хмуря высокий лоб, затем заговорила: — Я должна подумать. Не знаю, какую дорогу я выберу, ибо не знаю, какая лучше для Ви и для всего вашего племени. Во всяком случае, Паг, благодарю тебя за твое доброе отношение ко мне. Если нам больше не придется говорить с тобой, прошу, запомни, что Лалила, которая пришла с моря, благодарит тебя за всю твою доброту к ней, бедной страннице, и будет благодарна всю жизнь. — За что? — проворчал Паг. — За то, что я ненавижу тебя, лишившую меня общества и дружбы Ви — единственного человека на земле, которого я люблю? За то ли, что одним ухом я внимаю Ааке, которая мне советовала убить тебя? За это ты меня благодаришь? — Нет, Паг, — спокойно и ласково ответила она. — Как могу я благодарить тебя за то, чего не было? Я знаю, что Аака ненавидит меня, и знаю, что ненависть ее ко мне вполне естественна, и потому вовсе не осуждаю эту женщину. Но знаю я также, что ты меня вовсе не ненавидишь, а даже любишь по-своему, несмотря на то, что я стала между тобой и Ви, как тебе кажется. В действительности я между вами не становилась. Быть может, одним ухом ты и внимал Ааке, но при этом крепко зажал второе ухо. Ты сам лучше, чем я, знаешь, что никогда не собирался ни убить меня, ни каким-нибудь образом способствовать моей смерти; но по доброте своей пришел предупредить меня об опасности. Услыхав эти ласковые слова, Паг встал и долго глядел в нежное и прекрасное лицо Лалилы. Затем схватил ее ручку и прижал к своим толстым губам. Волосатой лапой вытер единственный глаз, плюнул наземь, бормоча слова, которые могли быть и проклятием, и благодарностью, и заковылял прочь. Лалила глядела ему вслед, по-прежнему ласково улыбаясь. Но, когда он ушел и она осталась совсем одна, Лалила перестала улыбаться, закрыла лицо руками и заплакала.* * *
Вечером, когда Ви вернулся, она отдала ему, как всегда, отчет о детях, за которыми смотрела, и обратила его внимание на двух больных девочек, нуждающихся в особом уходе. — Зачем мне знать это? — улыбаясь спросил Ви. — Ведь ты смотришь за ними. — А так. Хорошо, чтобы обо всем знало не меньше двух человек. Ведь один может заболеть или забыть. А это, кстати, напоминает мне о Паге. — То есть? Ви был очень удивлен. — Сама не знаю почему. Напоминает… Должно быть, потому, что зашла речь о двоих. Ты и Паг когда-то были одно, а теперь вы разделились: по крайней мере, так ему кажется. Ви, будь поласковей с Пагом, больше бывай с ним. Вообще, верни прежние отношения с ним. Слышишь? Больная девочка кричит. Бегу к ней. Спокойной ночи, Ви. Она ушла. Он удивленно глядел ей вслед; в голосе ее и поведении он почувствовал что-то, чего не мог понять до конца.Глава 12
РЫЖИЕ БОРОДЫ
Утром Лалилы нигде не оказалось. Ви заметил это сразу. Он расспросил о ней у одной из женщин. — Лалила позвала меня, — сказала та, — и сообщив, что пища для детей уже готова, а самой ей нужно немножко отдохнуть, заявила, что идет в лес и там проведет целый день, чтобы о ней не тревожились и не искали ее, — она вернется к ночи. — Она больше ничего не говорила? — тревожно осведомился Ви. — Сказала, когда и какую пищу давать обеим больным девочкам в том случае, если ей захочется провести ночь в лесу. Впрочем, в лесу она, наверное, на ночь не останется. Ви отправился по своим делам, которых у него было немало, и больше не задавал вопросов, должно быть, потому, что в пещеру вошла Аака и могла бы услышать их. Но день для него тянулся медленно, и к вечеру он поторопился в пещеру, надеясь найти там Лалилу. Он собирался серьезно поговорить с ней, объяснить, как она его встревожила своим уходом без предупреждения, и растолковать что, блуждая одна, она подвергается большим опасностям. Когда он вошел в пещеру, уже наступила ночь. Лалилы в пещере не оказалось. Он немного подождал, делая вид, что ужинает, но к пище даже не притронулся. Затем послал за Пагом. Паг вошел в пещеру, поглядел на Ви в упор и спросил: — Зачем вождь посылал за мной в первый раз за долгое время? Твой приказ еще немного и запоздал бы. Я теперь никому не нужен и как раз собирался отправиться в лес. — Ты тоже хочешь погулять в лесу? — подозрительно спросил его Ви. — В чем дело? Ви все рассказал ему. Выслушав рассказ, Паг вспомнил свой разговор с Лалилой и смутился; но он не обмолвился ни словом об этом разговоре. — Решительно нечего бояться, — сказал Паг, — Лалила, как тебе известно, поклоняется Луне. Наверное, она отправилась молиться, приносить жертвы и вообще справляет обычаи своих соплеменников. — Возможно, что и так, — согласился Ви. — Но я в этом совсем не уверен. — Если ты боишься за нее, — продолжал Паг, — я могу отправиться поискать ее. Ви быстро глянул на Пага и сказал: — Мне приходит на ум, Паг, что ты испуган исчезновением Лалилы больше, чем я, и что у тебя есть основательные причины бояться. Но, как бы то ни было, нынче ночью никто не сможет отправиться искать Лалилу. Ведь луна скрыта тяжелыми облаками и идет сильный дождь. Кто же может найти женщину в темном лесу? Паг подошел к выходу из пещеры, поглядел на небо, вернулся и сказал: — Ты совершенно прав. Небо совсем черное, и дождь идет сплошной стеной. Не видно ничего на расстоянии вытянутой руки. Наверное, Лалила забралась в какое-нибудь дупло или спряталась под развесистым деревом и вернется сюда на заре. — Боюсь, что она убита. Он помолчал. — А может быть, она уехала прочь отсюда на родину. И я думаю, виной этому ты или Аака, а может быть, вы оба. Во всяком случае, вы-то уж должны знать, где она и почему она скрылась. Ви говорил гневным, сдавленным голосом. — Я ничего не знаю, — ответил Паг. — Возможно, она в хижине у Моананги. Сейчас пойду и погляжу. Он ушел и возвратился через некоторое время с сообщением, что ее нет ни в хижине Моананги, ни где-либо еще и что ее сегодня никто не видел. Всю ночь Ви и Паг просидели у огня, даже не пытаясь сделать вид, что спят, и не сводили взгляда со входа в пещеру. Наконец, наступил рассвет. Рассвет серый и холодный. Дождь прекратился. С первыми же лучами зари Паг, никому не говоря ни слова, выскользнул из пещеры. Ви последовал за ним, думая догнать его, но Паг скрылся. Тогда Ви сам стал расспрашивать о Лалиле и разослал повсюду людей искать ее. Посланные вернулись с сообщением, что никого не нашли. Тогда Ви разослал весь народ на поиски, и сам также отправился искать Лалилу. Когда он уходил из пещеры, Аака спросила его: — Почему ты так тревожишься о колдунье? Она исчезла, как исчезают все колдуньи после того, как натворят приютившему их племени бед. — Если Лалила и колдунья, во всяком случае, нам она принесла добро, а не зло, — ответил Ви, глядя на играющих детей. Он отправился в лес, захватив с собой Моанангу. Весь народ и он сам искали целый день, но напрасно. Возвратились они в селение только к ночи, усталые до смерти. Ви был грустен, ибо ему казалось, что Лалила вырвала у него сердце и унесла с собой. В ту же ночь одна из больных девочек умерла: ребенок не хотел брать пищу ни от кого, кроме Лалилы. Ви осведомился о Паге, но оказалось, что Пага тоже никто не видал; Паг исчез также бесследно, как и Лалила. — Наверное, он скрылся вместе с Лалилой. Ведь они были большими друзьями, хотя он и утверждал обратное, — предположила Аака. Ви не отвечал ей, но подумал, что, должно быть, Паг отправился хоронить Лалилу.* * *
Вскоре после рассвета на следующий день в пещеру вполз отощавший Паг. Вид у него был как у лягушки, которая весной выползает из зимнего логова. — Где Лалила? — спросил Ви. — Не знаю. Но лодка ее исчезла. Должно быть, она вытащила лодку из пещеры и спустила ее на море — немалый труд для женщины. — Что ты наговорил ей? — Кто может помнить, что говорил несколько дней тому назад? — возразил Паг. — Дай мне есть, потому что я пуст, как выеденная раковина.* * *
Покуда Паг ел, Ви пошел на берег. Он сам не знал, зачем идет туда. Должно быть, потому, что море взяло у него Лалилу так же, как море дало ему ее. Поэтому хотел увидать море еще раз. Он стоял, глядя на серые, ровные волны и внезапно у самого края спустившегося над водой тумана заметил что-то движущееся. «Должно быть, рыба, — подумал он. — Но хотел бы я знать, что это за рыба. Только киту удается стоять на воде, а эта рыба намного меньше кита». Он лениво и равнодушно смотрел на странную рыбу, почти не видя ее, и вдруг понял, что это вовсе не рыба. И тут он узнал: незнакомый предмет — это был тот самый выдолбленный древесный ствол, в котором Лалилу прибило к здешнему берегу. Но теперь ствол кто-то гнал, — очевидно, гребец, и гнал быстро, изо всех сил. Рассвело еще больше, и, наконец, солнечные лучи высветили светлые волосы гребущего. Тут только Ви узнал Лалилу и бросился ей навстречу, по пояс вбежав в воду. Лалила приближалась, не замечая его, покуда он ее не окликнул. Тогда она, задыхаясь, перестала грести, и лодка скользя, подошла к нему. — Где ты была? — сердито спросил он. — Знаешь ли ты, что я очень тревожился о тебе? — Разве? — и она как-то странно поглядела на него. — Ну, об этом поговорим потом. Дело в том, Ви, что сюда приближается много народу. Они едут в лодках, таких же, как эта, только значительно больших. Я умчалась от них для того, чтобы предупредить тебя. — Много народу? — спросил Ви. — Кто же это может быть? Кроме моего племени, существуют ведь только твои сородичи. Должно быть, ты привела их с собой. — Да нет же, нет! Этих людей я никогда не видела. К тому же, они едут с севера, а не с юга, не с моей родины. Скорее побежим в селение: это — свирепый, яростный народ. Они вышли на берег, где уже собралось несколько человек, издали увидевших лодку, в том числе Моананга и Паг. Лодку вытащили на песок, и Лалила с трудом выбралась из нее, и то при помощи Ви. Едва ступив на землю, она сразу же упала: видно было, что она устала до смерти. — Рассказывай, — сказал Ви, глядя на нее в упор, точно боялся, как бы она не исчезла снова. — Рассказывать мне нечего, вождь, — ответила она. — Мне надоела земля, и я решила поплавать немножко по морю. Я вывела лодку и так, для развлечения, выехала в открытое море. — Ты лжешь, Лалила! — грубо оборвал ее Ви. — Но все равно, продолжай! — Я выехала в открытое море. Оно было спокойно, и я легко добралась до оконечности горной цепи, которая лежит за краями залива. Впрочем, вы, наверное, никогда ее не видали. И она слабо улыбнулась. — Так вот, вчера вечером, на самом заходе солнца я внезапно увидела большое количество лодок; они шли с севера и в то мгновение, когда я их заметила, огибали мыс. Видно было, что они идут вдоль берега. Это большие лодки, и в каждой из них сидело много мужчин, мужчин волосатых и ужасного вида. Они заметили меня и окликнули грубыми голосами на каком-то языке, которого я не поняла. Я повернула и помчалась прочь от них. Они погнались за мной, но наступила ночь и спасла меня. Иногда луна пробивалась между облаков, и тогда они замечали мою лодку. Наконец, тучи окончательно скрыли луну, а я успела заметить здешние холмы и знала таким образом дорогу. Гребла, не переставая, сквозь туман и тьму. Думаю, эти люди ненамного отстали от меня. Они, конечно, нападут на вас, и вы должны немедленно начать готовиться к битве. Вот все, что я хотела сказать. — А зачем они явились? — ошарашенно спросил Ви. — Не знаю, — ответила Лалила, — но, судя по их виду, они очень голодны. Наверное, явились в поисках пищи. — Что же делать? — Я думаю, нужно дать им отпор! Встретить их с боем и отогнать прочь. Ви задумался, потому что не мог себе представить, как это люди могут драться с другими людьми. До появления Лалилы и до ее рассказов о том, что ее соотечественники сражаются со своими соседями, подобная мысль ему и в голову не приходила. И соплеменники его совсем не умели сражаться с людьми, так как племя считало себя единственным на земле. Паг прервал ход размышлений Ви: — Ты сражался с хищными зверями и убивал их. Ты сражался с Хенгой и убил его. Мне кажется, что ты точно также должен поступить и с этим народом, который хочет напасть на нас. Если Лалила не ошибается, то либо они убьют нас, либо же нам придется убить их. — Да, да, ты прав, так оно и должно быть, — все еще недоумевая, согласился Ви и добавил: — Пускай Винни созовет племя, и все явятся вооруженными как нельзя лучше. И пусть он идет не один созывать народ, а ему помогут, чтобы было быстрее. Несколько человек помчались исполнять приказ вождя; они пустились бежать изо всех сил. Когда они ушли, Ви обернулся к Пагу и спросил: — Что же теперь делать, Паг? — Ты спрашиваешь совета у меня, когда Лалила рядом? — горько усмехнулся Паг. — Лалила — женщина и сделала все, что может сделать женщина. Теперь очередь за нами, мужчинами. — Этим всегда дело кончается. — Так все-таки что же нам делать? — Не знаю, — ответил Паг. — А, впрочем, сейчас начнется отлив. Ты сам знаешь, что во время отлива в наш залив есть только один ход — в расщелине между скал. А ведь в расщелине омут. Чужеземцы-то ведь этого не знают и пойдут сквозь расщелину, где их и затянет в омут. Наверное, только немногим удастся пробраться в залив. С ними мы и должны биться и уничтожить как их, так и всех тех, кто останется по ту сторону скал. Но откуда мне знать что-нибудь о сражениях? Ведь я только карлик. Вот брат твой, Моананга… Он могуч, высок и отважен. Сделай его начальником. Пускай он руководит боем. Но помни, ты должен стоять сзади сражающихся, потому что твое присутствие подбодрит народ. А если понадобится, ты и сам должен принять участие в сражении. — Да будет так, — сказал Ви. — Моананга, я назначаю тебя главным в бою. Сделай, что можешь, а я поддержу тебя. — Подчиняюсь, — просто и мужественно отвечал Моананга. — Если меня убьют, а ты останешься жив, присмотри за тем, чтобы Тана не умерла с голоду без меня. Как раз в это мгновение сбежался взбудораженный новостями, переходившими из уст в уста, народ. Винни, увидав, что все собрались, перестал трубить. Народ стал кругом. Каждый был чем-то вооружен: одни каменными топорами, другие — кремневыми ножами и копьями с кремневыми наконечниками, третьи — закаленными на огне дубинами, четвертые — арканами. Ви обратился к народу с речью о том, что с севера плывут сюда чужеземцы, которые собираются напасть на их племя. Чужеземцы эти, наверное, хотят перебить всех в племени, — мужчин, женщин и детей. Единственный способ спастись от смерти — это сражаться с ними и перебить чужестранцев всех до единого. Командовать в бою будет Моананга. Вместе с мужчинами на яростные звуки труб Винни сбежались и женщины. Услыхав эту речь, они стали выть, плакать и цепляться за мужей. Наконец, удалось их отогнать. Вслед за этим Хоу-Непостоянный стал громко доказывать, что Лалила просто врет, что никто вовсе не плывет сюда и что вообще нет никакой надобности готовиться к бою. Уока Злой-Вещун заявил, что если кто и плывет сюда, то незачем пытаться оказывать им сопротивление. Люди, которые плывут в лодках, должны быть мудрыми и сильными и перебьют всех, кто выступит против них. Словом, единственное, что остается, — бежать и спрятаться в лесу. Этот совет, очевидно, многим пришелся по сердцу. Несколько человек сразу пустились наутек. Увидев это, Ви подошел к Уоке и ударом кулака сбил его с ног. Затем он двинулся к Хоу, но Хоу догадался, зачем Ви подходит к нему, и убежал. Тогда Ви заявил, что первому же, кто попытается бежать, он размозжит череп. Эта угроза подействовала: больше никто не шевельнулся. Хоу, стоя в отдалении, все еще продолжал говорить, что никто к ним не приближается. Внезапно раздался крик. Несколько человек заметили, как из тумана выплыло много больших лодок. Лодки были огромные. В некоторых сидело по восемь, а то и до десяти гребцов. Лодки направлялись к заливу, и гребцы, не подозревая об омуте и подводных скалах, не обращали внимания на то, что начинается отлив. В результате шесть или восемь лодок, проходя буруны, наткнулись на подводные камни. Лодки треснули, сидевшие в них люди упали в воду. Несколько человек утонули. Но многие доплыли до скал с другой стороны и оттуда что-то кричали своим товарищам, которые отвечали им. На остальных лодках стали грести осторожно, и так как море было спокойно, им, в общем, удалось благополучно добраться до скал, на которые высадились их товарищи. Лодки пристали, и приплывшие люди вылезли из них, оставив в каждом челноке по одному или по двое гребцов. На скале их набралось уже человек около ста или даже больше. Они все говорили разом, размахивая руками, и указывали на берег длинными копьями с наконечниками из моржового клыка или какого-то белого камня. Ви долго смотрел на них с берега и наконец сказал Пагу: — Действительно, эти чужеземцы страшны с виду. Смотри, как они высоки и сильны. Они покрыты шерстью, почти как звери, а волосы и бороды у них рыжие. По-моему, это вовсе не люди, а черти. Только у чертей может быть такой вид и только черти могут путешествовать одни без женщин и детей. — В таком случае, — возразил Паг, — это очень голодные черти. Смотри, тот рослый детина, очевидно, их начальник, раскрывает рот и тычет пальцем на него, показывает на свой желудок и потом машет рукой по направлению к нам, что, дескать, здесь они найдут себе достаточно пищи. Он помолчал. В это время волны прибили почти к самым ногам Ви два трупа из утонувших лодок. — Черти-то, оказывается, тонут, смотри. А что до жен, — добавил он после некоторой паузы, — жен всегда можно украсть. Он посмотрел на женщин племени, которые стояли невдалеке маленькими кучками, говорили все одновременно и били себя в грудь. Перепуганные насмерть дети цеплялись за их платья. — Ты совершенно прав, — сказал Ви. Слова Пага подействовали на него, и он, подумав несколько мгновений, подозвал к себе двух человек из племени: — Ступайте к Урку-Престарелому и передайте ему мой приказ. Я приказываю, чтобы он увел всех женщин, детей и стариков и спрятал их. Я не знаю, чем окончится наша встреча с этими Рыжими Бородами, и лучше, чтобы женщины и дети спрятались. Посланные ушли, и началось смятение и вопли. Одни женщины бросились бежать к лесу, другие не двигались с места, а третьи обнимали своих мужей ипытались тащить их за собой. — Если эти вопли не прекратятся, сердца мужчин растают, как жир на огне, — сказал Паг. — Смотри, уже кое-кто из них следует за женщинами. — Ступай сам и прогони их в лес. — Ну, нет, — возразил Паг. — Я никогда не отличался особенной любовью к женщинам и не желаю с ними связываться теперь. Я лучше останусь на месте. Тогда Ви в голову пришла одна мысль. Он заметил, что Аака стоит на полдороге между женщинами и мужчинами, вернее, между женщинами и большинством мужчин, которых Моананга уговаривает уйти. Ви подозвал Ааку к себе. Она услыхала его и приблизилась, так как мужества у нее было достаточно. — Жена, — сказал Ви. — Эти рыжие черти собираются напасть на нас, и нам предстоит либо убить их, либо быть убитыми самим. — Знаю, — спокойно отвечала Аака. — В таком случае, — продолжал Ви, опустив глаза и говоря торопливо, — лучше всего, чтобы женщины не видели боя. Поэтому я прошу тебя увести их в лес и спрятать там всех женщин, стариков и детей. Потом, после того, как сражение окончится, вы можете вернуться. — Какой смысл возвращаться после боя? Не лучше ли нам остаться здесь и умереть вместе с мужчинами? — Женщин, очевидно, не убьют, Аака. Наверное, этим рыжим чужеземцам нужна не только пища, но и жены. Во всяком случае, вы умрете не сразу, хотя под конец они, наверное, убьют и съедят вас. Поэтому я приказываю вам уходить. — Морская Колдунья, которая привела этих чужеземцев, понятно, также должна уйти с нами, покуда не натворила еще зла, — заметила Аака. — Не она привела их. Она сама бежала от них! — сердито воскликнул Ви. — Во всяком случае, можешь захватить ее с собой, а Фо забери непременно. Но только пришли назад всех мужчин, которые попрятались в лесу. А теперь ступай, я тебе приказываю. — Повинуюсь, — сказала Аака, — но знай, о, муж мой, что хотя мы с тобой и разошлись за последние годы, если ты умрешь, то умру и я, ибо когда-то, в прошлые времена, мы были одно. — Благодарю тебя, — сказал Ви. — Но если мне случится быть убитым, то мой совет тебе: оставайся жить, правь племенем, возроди его и сделай сильным. — Какая польза от одних женщин без мужчин? — возразила Аака, пожимая плечами. Затем она повернулась и ушла, и Ви заметил, что, уходя, она рукой утирала глаза. Аака подошла к женщинам и что-то крикнула им свирепым голосом. Она без устали повторяла свое приказание до тех пор, пока женщины не стали медленно и поодиночке двигаться к лесу. Женщины уводили стариков, тащили за собой детей, несли их на плечах. Шум понемногу стих, и печальная процессия скрылась за деревьями. Все это время Рыжие Бороды, стоя на скалах, болтали друг с другом, очевидно, разрабатывая план нападения. Наконец, они на что-то решились. Большинство уселось в лодки, пересекло узкий пролив и высадилось на скалах по левую сторону. Теперь, при полном отливе, скалы эти также были обнажены. Остальные уселись в лодки и решительно направились к тому месту, где стоял Ви. Паг заметил это и с восторгом закричал: — А это им не удастся! Их лодки наткнутся на подводные скалы и пойдут ко дну, а они сами попадут в омут и потонут, как вот эти. И он указал копьем на качающиеся на волнах тела утопленников. Но ему вскоре пришлось убедиться, что Рыжие Бороды собирались сделать совсем не то, что он думал. В то время, как Паг говорил, Ви услыхал легкое потрескивание ракушек на приморском песке: он обернулся, чтобы посмотреть, кто идет. То была Лалила! Синий плащ прикрывал ее плечи, и в руке она держала копье. — Почему ты здесь? — сердито набросился он на нее. — Почему не ушла в лес? Всем женщинам было приказано спрятаться в лесу! — Твой приказ относился к племени, — спокойным голосом возразила она, — а я не принадлежу к нему. Я спряталась в хижине и дождалась, чтобы все ушли. Не гневайся, о, вождь, — продолжала она тихим и ласковым голосом, — но я видала много народов, знаю, как они сражаются, и думаю, что могу дать вам добрый совет. Он стал кричать на нее, браниться и приказал уйти. Она стояла рядом с ним, не слушая его, и только смотрела на море. Затем внезапно воскликнула: — Так я и думала! Она прыгнула вперед, заслонив собой Ви, который стоял, глядя на море, затем зашаталась и упала ему на руки. И он и Паг удивленно посмотрели на нее и увидали, что в плаще ее торчит маленькое копье с перьями. — Вытащи его, Паг, — сказала она, выпрямившись. — Не одни только Рыжие Бороды умеют пускать стрелы. Счастье, что мой плащ толст и прочен. — Если б ты не заслонила меня, эта копье пробило бы мне грудь! — воскликнул Ви, глядя на нее. — Это случайность, — улыбаясь, ответила Лалила. — Ты лжешь! — возразил Ви. Лалила ничего не сказала, только улыбнулась снова и плотнее закуталась в плащ. Покуда Паг вытаскивал стрелу, Лалила продолжала улыбаться, но он заметил, что губы ее побледнели и дрожат. Наконец карлик выдернул стрелу и обнаружил, что на костяном ее наконечнике кровь и кусочек мяса. Паг видел это, но промолчал. — Ложись, о, вождь, — сказала Лалила. — Ложись здесь, за скалой, и ты ложись, Паг. Вы тогда будете в безопасности. Я также лягу. Когда все укрылись за камнями, Лалила продолжала: — Слушайте, вот в чем дело. Эти Рыжие Бороды вооружены луками и стрелами и, очевидно, они задумали перестрелять всех вас или, по крайней мере, отпугивать до тех пор, пока окончательно не прекратится отлив, а тогда они хотят пройти по скалам и напасть на вас. В это мгновение подошел Моананга. Его также заставили лечь. — В таком случае, — сказал Ви, — может быть, нам лучше всего отойти на такое расстояние, где нас не смогут достать их маленькие копья. — Вот этого они и добиваются, — объявила ему Лалила. — Если вы отойдете от берега, им никто не помешает взобраться по скалам, спуститься на землю. У меня есть кое-какие мысли и, если ты позволишь, вождь, я выскажу их. — Говори, — сказали Ви и Моананга в один голос. — Вот в чем дело, вождь. И ты и весь твой народ знаете эти скалы до мельчайшего камушка. Ведь вы с детства собирали здесь ракушки, так что вам известны все оползни на них и все омуты. Раздели своих людей на два отряда, поручи один Моананге, а другим руководи сам. С двух сторон окружите эти скалы и нападите на Рыжие Бороды. Ручаюсь вам, что если вы приблизитесь смело и решительно, то часть чужеземцев немедленно спрячется в лодки. Оставшихся вам легко будет перебить. А сидящие в лодках не осмелятся стрелять в вас, чтобы не ранить своих же товарищей. Сделайте это, но только поскорее. — Совет разумен, — сказал Ви. — Моананга, возьми себе половину людей и наступай слева, а я с остальными зайду справа. Ты, Лалила, либо оставайся здесь на месте, либо же уходи и спрячься в лесу. — Я останусь здесь, — слабым голосом ответила Лалила и отвернулась, чтобы Ви не заметил крови, просочившейся сквозь плащ. Мужчины двинулись вперед, и она крикнула им вслед: — Пускай все люди наберут камней и швыряют ими в лодки Рыжих Бород, да камни подбирают потяжелее, тогда удастся пробить дно лодок и затопить их. Мужчины племени стояли кучками, и вид у всех был несчастный и перепуганный. Они опасливо поглядывали на волосатых врагов в лодках и на скалах. Ви обратился к племени резко и решительно: — Эти Рыжие Бороды явились сюда неизвестно откуда. Они голодны и потому будут сражаться отчаянно. Они хотят убить нас, перебить всех до единого и затем забрать сперва наши запасы пищи, а затем и женщин, если только найдут их. А может быть, и детей съедят. У нас народу не меньше, чем у них, а, может быть, даже и больше. Великий позор будет нам, если они нас одолеют, перебьют стариков, заберут себе наших жен и съедят наших детей. Так я говорю? На этот вопрос толпа ответила утвердительно, но ответ был не слишком дружный и бодрый. Большинство людей косилось на лес, в котором укрылись женщины. Тогда заговорил Моананга: — Здесь я начальник. И я объявляю, что если кто-нибудь убежит, постараюсь убить его на месте. А если это мне не удастся, я уж непременно убью его потом, после сражения. — А у меня память хорошая, — добавил Паг, — и я замечу каждого и уж запомню, кто что делал. И о трусах расскажу женщинам. Так что тому, кто убежал, потом проходу от насмешек не будет. Тогда Ви разделил племя на два отряда, и в каждом храбрейшие стояли сзади, чтобы помешать остальным спастись бегством. После того, как был наведен порядок, оба отряда стали взбираться по скалам. Люди шли ловко и осторожно, то обходя ямы с водой, то смело ступая по ним, потому что каждый чуть ли не с младенчества знал, где яма глубокая, а где мелкая. Когда Рыжие Бороды увидели приближающееся племя, они завыли, стали качать головами так, что длинные их бороды затряслись, и принялись бить себя в грудь кулаками. Затем каждый взмахнул копьем и, не дожидаясь нападения, бросился вперед, карабкаясь по камням. Сидевшие в лодках принялись яростно стрелять из луков, но так как люди Ви двигались быстро, в цель попало только несколько стрел. Но они все-таки ранили некоторых из защищавшихся. Увидав кровь, племя обезумело. В одно мгновение все забыли о своих страхах. Сомнения и нерешительность исчезли. Казалось, к людям племени вернулось нечто, о чем забыли даже их далекие предки. Они махали каменными топорами и кремневыми копьями, кричали все вместе; они рычали, как медведи, выли, как волки, скрежетали зубами; они высоко подпрыгивали, и в конце концов пустились вперед бегом. Но Ви и Моананга остановили своих воинов, потому что оба начальника знали, что должно случиться с Рыжими Бородами. А случилось с Рыжими Бородами вот что: они бросились вперед, забыв обо всем на свете. Некоторые из них поскользнулись на заросших мокрыми водорослями камнях и скатились в ямы с водой. Другие, не желая следовать примеру первых, осторожно обходили каждую яму, не зная, глубока она или мелка и также скользили и падали. Немало народу утонуло, но многие вынырнули из воды. Тогда Ви и Моананга повели свои отряды в бой. Племя бросилось вперед, перескакивая с камня на камень и ни разу не оступившись, так как каждый привык к таким переходам. Они проходили возле ям, из которых Рыжие Бороды пытались выбраться, и камнями или ударом топора разбивали головы врагов. Так они перебили много людей, а сами не понесли при этом никаких потерь. Рыжие Бороды вскарабкались на самые оконечности скалистых мысов и, стоя там, встретили решительный бой предводительствуемых Ви и Моананга отрядов. Бой был жестокий и беспощадный. Рыжие Бороды были сильны и свирепы, и немало соплеменников Ви пало под ударами их копий с костяными наконечниками. Дело начало принимать дурной оборот для племени, но Ви своей ослепительной секирой, которой убил Хенгу, разрубил надвое череп вождя Рыжих Бород. Рыжие Бороды, увидав, что предводитель их убит, взвыли, поддавшись внезапной панике, бросились к лодкам и торопливо стали забираться в них. Ви и Моананга, вспомнив советы Лалилы, приказали своим людям бросать в лодки врагов самые тяжелые камни, какие только в состоянии были поднять. Таким образом немало лодок проломили камнями. Вода врывалась в пробоины, и лодки шли ко дну. Люди, сидевшие в тонущих лодках, пытались уплыть прочь, но в ледяной воде их схватывали судороги, и Рыжие Бороды тонули. Иные стремились выбраться на берег, но там их встречали копьями или камнями, так что ни один из них не уцелел. Кончилось дело тем, что из всех Рыжих Бород только пяти лодкам удалось уйти. Лодки шли торопливо, на полном ходу вышли в море и больше не возвращались. В ту ночь дул свирепый ветер, так что, возможно, лодки затонули, а может быть, Рыжие Бороды — и так достаточно истощенные — погибли в море голодной смертью. Главное же было в том, что Рыжих Бород племя больше никогда не видело. Рыжие Бороды пришли неизвестно откуда и ушли неизвестно куда. Только большинство из них осталось здесь в заливе — в ямах между камнями или на две морском. Так закончилась первая битва, которую когда-либо испытало племя.Глава 13
ВИ ЦЕЛУЕТ ЛАЛИЛУ
Когда Рыжие Бороды ушли, оба отряда вернулись на берег, неся с собой раненых. Выяснилось, что в общей сложности убито было всего двенадцать человек и двадцать один ранен. В числе раненых оказался также и Моананга, в бок которого вонзилась стрела; но рана Моананга была легкой. Рыжих же Бород погибло не меньше шестидесяти. На следующее утро прилив выбросил на берег именно такое количество трупов. Помимо того, немало убитых, должно быть, унесло в открытое море. — То была великая победа, — сказал Моананга Ви, который промывал его раны морской водой, — и племя билось мужественно. — Да, — согласился с ним Ви. — Племя сражалось как нельзя лучше. — И все-таки, — вмешался Паг, — мы одни ничего не добились бы. Сражение выиграно только благодаря совету Морской Колдуньи. Если бы мы дожидались на берегу нападения Рыжих Бород, мы бы сейчас, наверное, не рассуждали. И камни в лодки мы бросали тоже по совету Лалилы. — Ты прав, — сказал Ви. — Мы должны поблагодарить ее. Все трое пошли к камням, за которыми прятались в начале битвы. Лалила лежала на том же месте, уткнувшись лицом в землю. — Она, должно быть, заснула; ведь она устала, когда убегала от Рыжих Бород, — заметил Моананга шепотом, чтобы не разбудить Лалилу. — Но все-таки как-то странно спать, когда кругом рыщет смерть. И Ви с сомнением поглядел на Морскую Колдунью. Паг ничего не сказал. Он встал на колени, обхватил Лалилу своими длинными руками и перевернул на спину. Тогда они увидели, что песок, на котором она лежала, красен от крови и что синяя ее одежда также красна. Ви издал вопль, задрожал и упал бы, но Моананга схватил его за руку. — Лалила мертва, — сказал Ви глухим, сдавленным голосом, — мертва. Та, которая спасла нас, мертва. — Ну, я знаю, кто этому обрадуется, — проворчал Паг, — а впрочем, еще нужно проверить. Он распахнул ее плащ, и они увидели ранку под грудью; ранка еще кровоточила. Паг, искусный во врачевании ран, стал внимательно ее разглядывать. — Понимаешь, брат, ведь она раненая давала нам советы, как биться, и никому не обмолвилась, что стрела поразила ее! — сказал Моананга, обращаясь к Ви. Ви кивнул. Видно было, что он сдерживается и говорить ему трудно. — Я знал об этом, — буркнул Паг. — Ведь я выдернул стрелу. — Почему же ты ничего не сказал? — спросил Моананга. — Если бы Ви знал, что Морская Колдунья ранена, он бы лишился мужества. Лучше было бы одной Лалиле умереть, чем погибнуть всему народу. — Что с Лалилой? — спросил Ви, не обращая внимания на эти слова. — Успокойся, — ответил Паг. — Она потеряла много крови, но рана, очевидно, неглубокая. Плащ задержал стрелу. Если только острие не отравлено, Лалила выживет. Постойте оба здесь и последите за ней. Он торопливо заковылял к росшим на берегу кустам и стал шарить в них. Наконец он нашел нужное ему растение, сорвал с него несколько листьев и принялся жевать их. Вернулся, вынул зеленую массу изо рта и часть положил на рану Лалилы, а часть на рану Моананга. — Жжет! — вскрикнул Моананга. — Да, выжигает яд и останавливает кровь, — пояснил Паг и накрыл Лалилу плащом. Тут Ви, очевидно, пришел в себя. Он наклонился, поднял Лалилу на руки, точно ребенка, и понес ее к пещере, сопровождаемый Пагом, Моанангой и многими другими, которые размахивали копьями и радостно кричали. В то же время женщины стали выходить из лесу. Спрятавшись, самые молодые и энергичные женщины немедленно залезли на деревья и издали следили за ходом боя. Как только выяснилось, что Рыжие Бороды убрались, все женщины бросились к хижинам, оставив стариков и детей позади. Первым бежал Фо. — Отец! — сердито закричал он. — Разве я ребенок, чтобы женщины тащили меня в лес в то время, когда ты сражаешься? — Тише, — сказал Ви, кивком головы указывая на свою ношу. — Тише, сын мой. Об этом мы поговорим потом. Затем появилась Аака. Лицо ее было спокойно и надменно. Впрочем, если говорить правду, она бежала не медленнее всех остальных. — Привет, о, муж мой, — сказала она. — Говорят, ты победил врагов. Правда ли это? — Кажется, да. Во всяком случае, они побеждены. Подробности я расскажу тебе позже. Он хотел пройти, но она заступила ему дорогу. — Если Морская Колдунья убита за измену, почему же ты несешь ее на руках? — спросила она. Ви не отвечал, потому что гнев сковал ему язык. Вместо него, хрипло рассмеявшись, ответил Паг. — Ты метила в ястреба, а попала в голубку, Аака Морская Колдунья спасла жизнь Ви, заслонив его от копья, которое убило бы его. — Этого можно было ожидать, раз она вечно бывает там, где не требуется. Что она делала среди мужчин, когда должна была быть с нами? — Не знаю. Знаю только, что она отдала свою жизнь для того, чтобы спасти жизнь Ви. — Так ли это, Паг? В таком случае, он должен постараться спасти ее жизнь. Ну, я отправляюсь ухаживать за ранеными нашего племени. Идем, Тана. Рана Моананги перевязана, и мы здесь не нужны. И она медленно ушла. Но Тана за ней не последовала, так как хотела узнать все подробности о Лалиле, а также убедиться в том, что Моананга в полной безопасности.* * *
Ви отнес Лалилу в пещеру и уложил там. Тана увела с собой Моанангу, а Паг ушел, чтобы приготовить подкрепляющее питье для Лалилы. Ви подумал, что он остался с Лалилой один. В действительности же смотревшие за девочками женщины попрятались по темным углам пещеры. Ви накрыл Лалилу мехами, взял за руку и стал растирать ее. Лалила пришла в себя от тепла и стала говорить точно в бреду: — Как раз вовремя! Вот летела стрела, и я загородила ей дорогу. Если я спасла его, все хорошо! Кому нужна жизнь чужеземки? Даже ему не нужна она. Лалила открыла глаза и при свете костра увидала глядевшего на нее Ви. — Я жива еще? — пробормотала она. — Ты жив, Ви? Ви не отвечал. Он только наклонился и поцеловал ее в губы. Она ответила на его поцелуй, затем отвернулась и хотела заснуть, но Ви продолжал целовать ее, покуда не вошел Паг с питьем, а следом за ним появились из темных углов женщины и дети. Лалила выпила подкрепляющее питье и заснула глубоким и ровным сном. Ви следил за ней и внезапно обернулся: у огня стояла Аака и внимательно разглядывала мужа. — Значит, колдунья жива, — произнесла она тихо и медленно. — Какая у нее прекрасная сиделка! — воскликнула она. — Когда ты возьмешь ее себе в жены, Ви? Ви поднялся, подошел к ней и сказал: — С чего ты взяла, что я возьму ее себе в жены? Я дал клятву. — По глазам твоим видно! Что клятвы перед услугой, которую она тебе оказала? Хотя не думала я услышать, что Ви прикрывается в сражении женщиной. — Ты знаешь, как это произошло, — возразил он. — Я знаю только то, что видела и что говорит мне сердце. — А что говорит тебе сердце? — Что проклятие, принесенное этой колдуньей, только начало хвое действие. Она выплыла в море и вернулась, ведя за собой целое войско Рыжих Бород. Ты победил пришельцев и на время избавил племя от них. Но немало наших убито и ранено. Не знаю, что она сделает теперь, но думаю, принесет еще много несчастий. Повторяю тебе, она колдунья, и лучше всего было бы, если бы ты оставил ее умирать на побережье, хотя, наверное, она никогда не умрет. — Я думаю, что любая жена сказала бы, что так не говорят о женщине, спасшей мужа, — сдерживаясь, возразил Ви. — Впрочем, раз ты считаешь ее колдуньей, убей ее, Аака. Она сопротивляться не может. — Убить ее? И навлечь проклятия на мою голову? Нет, Ви, я этого не сделаю. Ви, не в силах больше сдерживаться, покинул пещеру.* * *
На Месте сборищ было шумно. Сюда снесли трупы убитых и собралось все племя. Женщины и дети, лишившиеся в сражении мужей и отцов, выли. Раненые расхаживали, хвастаясь своими ранами, и все мужчины племени расхваливали собственные доблести в великом сражении с морскими дьяволами. Народ собрался вокруг хвастунов. В центре толпы Уока-Злой Вещун разглагольствовал о том, что побежденные Рыжие Бороды — только первые люди великого войска, которое вскоре обрушится на племя. Рядом Хоу Непостоянный уверял, что победа — символ счастья, которое долго длится не может, и потому лучше немедленно бежать в леса, покуда на племя не обрушились новые беды. В это время Винни-Трясучка в сопровождении плакальщиков переходил от трупа к трупу. Возле каждого убитого он останавливался, трубил в рог и объявлял количество ран. После этого все плакальщики начинали выть хором. Но большинство народа собралось вокруг Урка-Престарелого. Тот бормотал, тряся седой бородой, что теперь вспомнил давно забытое: — Мой прапрадед рассказывал моему прадеду, что его прапрапрадед слышал от своих предков: когда-то в давние времена в племени появилась колдунья, во всем подобная Лалиле, а вслед затем произошло нашествие точно таких же Рыжих Бород. И беда еще больше оттого, что наш вождь Ви любит эту колдунью: вот женщины расскажут, что он ее поцеловал. — А что случилось потом? — раздался чей-то голос. — Не помню точно, — ответил Урк. — Кажется, колдунью принесли в жертву Ледяным богам, и после этого Рыжие Бороды уже больше не появлялись. — Значит, Лалилу нужно принести в жертву Ледяным богам? — настаивал тот же голос. Урк покачал головой, затем заявил, что не уверен, так ли это, но что неплохо было бы ее принести в жертву, если Ви согласится. — Почему? — не унимался голос. — Ведь она предупредила нас о нашествии Рыжих Бород и собственной грудью приняла копье, которое должно было пронзить Ви. — Потому, — ответил Урк, — что после каждого великого события боги требуют жертв. Рыжие Бороды все перебиты, ни одного не осталось в живых. Лучше принести в жертву чужестранку Лалилу, нежели кого-нибудь из племени. В толпе был Моананга. Услыхав эти слова, он подошел к Урку, схватил одной рукой его за бороду, а другой ударил по лицу. — Слушай, ты, старый дурак, если кого-нибудь и принесут в жертву, то скорее всего тебя, потому что ты — враль и рассказываешь народу небылицы и вздор. Ты прекрасно знаешь, что Лалила, против которой ты восстанавливаешь народ, спасла жизнь Ви и всем нам. Уже раненая, она дала нам совет, как победить врагов. Если бы не она — никого из нас не осталось бы в живых. Ты паршивая собака! Моананга еще раз ударил Урка по лицу, опрокинул старика на песок и ушел. А слушавшие приветствовали его речь одобрительными криками, точно такими же, какими раньше одобряли слова Урка. Такова была психология первобытного человека. В это мгновение появился Ви. Урк поднялся и начал славить Ви, говоря, что такого вождя не бывало у племени с самого начала его дней. Народ сбежался и подхватил хвалебную песнь Урка. К песне присоединились даже раненые, ибо знали, что если бы не Ви, то им и их женам пришлось бы еще хуже. Да, как бы они ни ворчали, они твердо помнили, что спас их Ви. И еще все помнили, что сам Ви обязан жизнью Лалиле. Ви слушал их, но не отвечал. Он оттолкнул от себя женщин, пытавшихся поцеловать ему руку, и подошел к трупам. Посмотрел на них, приказал похоронить и, не говоря больше ни слова, стал осматривать раненых. Ви был грустен, слова Ааки причинили ему боль. Он хотел быть верным клятве и не знал, как ему поступить.* * *
Начиная с этого дня, Ви стал молчаливым, ибо на душе у него было тяжело и он боялся говорить, чтобы не выдать своей грусти. Он сторонился людей и бродил все время один или с Фо. Ви часто отправлялся на охоту, как и в те времена, когда еще не был вождем. Он говорил, что сидение в пещере портит ему здоровье и настроение и что он, как лучший охотник племени, должен помогать народу, раз им грозит голод. Охота бывала по большей части неудачной: олени, очевидно, из-за холодной погоды, ушли из лесов. Однажды Ви гонялся за ланью, но она скрылась от него, и он повернул домой. Путь его шел мимо небольшого ущелья. Ущелье это было глубиной и шириной не больше, чем в тридцать шагов. Его окружали отвесные скалы, и устье его было узко — шага в три. Снаружи высилась скала высотой в четыре копья. Под скалой — болото, посреди которого бил ключ. Проходя мимо ущелья, Ви услыхал храп и ворчанье. Он остановился и спрятался за дерево, чтобы посмотреть, что за зверь издает эти звуки. Из ущелья вышел огромный зубр. Зубр был так высок, что если бы человек стал рядом с ним, взглянуть через зубра человеку не удалось бы. Зубр остановился на скале, оглянулся и стал принюхиваться. Ви испугался, не учуял ли его зубр. Но ветер дул от зубра к Ви. Ви глядел на зубра внимательно; он слыхал предания о зубрах, но до сих пор ему случалось видеть только молодую самку. Перед ним же стоял рослый самец. Рога его были кривыми, тело покрыто темной шерстью, а по спинному хребту шли пучки шерсти посветлее. Глаза зубра излучали злобу, короткие ноги заканчивались огромными копытами. Ви страшно хотелось напасть на этого зверя, но он удержался, зная, что зубр затопчет его насмерть. Пока он смотрел, животное повернулось и прошло мимо него, продираясь между деревьями. Когда зубр ушел, Ви с опаской подобрался к устью расщелины и заглянул внутрь. Он ничего не увидел и вынужден был войти. Расщелина была пуста, и только в глубине росло несколько деревьев. По целому ряду признаков Ви установил, что здесь логово зубра: на стволах висели клочья шерсти — это зубр чесался; земля была утоптана копытами, а кое-где взрыта — зубр чистил и точил рога. Ви выбрался из расщелины и стал размышлять. Он посмотрел вниз со скалы на болото. Затем спустился к болоту, положил на край его ствол дерева и начал копьем измерять глубину трясины. Она была глубока. Для того, чтобы наконечник уперся в твердую почву, нужно было погрузить копье и руку до самого локтя. Он трижды измерял глубину, и каждый раз дно оказывалось на одном уровне. Тогда Ви снова взобрался на скалу возле входа расщелины и принялся размышлять. Зубр спит в этом логове днем. По вечерам выходит пастись. Если вечером, выходя, он наткнется на человека, который метнет в него копье, что сделает зубр? Очевидно, набросится на этого человека. А если человек отскочит в сторону? Очевидно, зубр свалится в трясину и увязнет там, и тогда человек спустится со скалы и более или менее легко одолеет зубра. Так рассчитывал Ви. Ноздри его раздулись, и глаза заблестели: он представил себе великий бой между зубром и охотником там, внизу, в трясине. Затем ему пришли в голову иные мысли: «Но зубр может поднять человека на рога, может оказаться достаточно хитрым и не свалиться со скалы; наконец, зубр может выбраться из трясины и раздавить человека». Во всех трех случаях — верная смерть. Ви стал размышлять дальше: «Так ли я уж счастлив, чтобы дорожить жизнью? Сколько раз я думал о том, что хорошо было бы мне оступиться в лесу и напороться на собственное копье. Если бы не Фо, я давно «оступился» бы… Что может быть лучше для охотника, нежели умереть славной смертью в бою с великим зубром, которого никто в племени даже не видал? Племя сложит обо мне песни, и много веков подряд будет прославлять мое имя». Так Ви и решил сделать и в сумерках заторопился домой. Путь был далек, и прежде чем он добрался до пещеры, уже стемнело.* * *
Приближаясь в темноте к пещере, он увидел, что Аака стоит у огня и озабоченно выглядывает наружу. Возле нее сидит Паг, и Фо что-то шепчет на ухо карлику. Лалила укладывает детей. Моананга что-то нашептывает ей; она улыбается, но глаза ее тревожно обращены ко входу в пещеру. И вот Ви появился из темноты. Аака увидала его, и сразу же лицо ее приняли прежнее высокомерное выражение. — Ты запоздал, о, муж мой. И так как ты один, — она взглянула на Лалилу и на Пага, — я стала уже бояться, не встретил ли ты еще каких-нибудь чужеземцев. — Я думаю, жена, что чужеземцы больше у нас не появятся. Я ранил лань и преследовал ее, но она от меня убежала. Я устал и голоден. — А лань унесла твое копье, отец? — спросил Фо. — Да, — рассеянно ответил Ви. — Почему же оно у тебя в руке? — Оно выпало из раны, и я потом нашел его в горах. — Почему же оно покрыто грязью? Ви даже не слышал этого вопроса. Паг, наблюдавший все это своим единственным глазом, встал, взял копье и принялся счищать с него грязь. Карлик заметил, что на наконечнике нет следов крови. Аака последнее время снова спала у себя в хижине, так как, по ее словам, дети слишком много кричали по ночам. Однако, прежде чем уйти, Аака подала Ви еду, чтобы этого не сделала Лалила, ибо мужчине, по обычаям племени, пищу подавала жена. Весь следующий день Ви провел дома, занимаясь делами племени. С племенем было немало хлопот. Наступила осень, и стояли холода. Еды было в обрез, и по приказанию Ви ее откладывали на зиму. И тут случилась беда: рыба, которую разложили вялить, не провялилась, так как солнца почти не было, и сгнила. Женщины, чьи мужья и сыновья были убиты в сражении с Рыжими Бородами, успели забыть о том, каких опасностей они избежали. Эти женщины стали ворчать, и к ним присоединились жены и матери умерших от ран. Стоял сплошной крик: — Лалила, Морская Колдунья, возлюбленная Ви, навлекла на племя все эти беды: голод, холод и нашествие Рыжих Бород. Лалилу нужно убить или изгнать. Но никто не смел поднять руку на Лалилу. Во-первых, все были убеждены, что Лалила — жена Ви, а Ви боялись и почитали. Во-вторых, далеко не все придерживались того же мнения, что роптавшие. Немало мужчин встало на сторону Лалилы; одни — из-за того, что она была красавицей, другие — потому, что знали, — Лалила спасла жизнь Ви. Лалилу защищали также многие женщины. Во-первых, матери выброшенных детей. Материнское чувство сохранилось в их сердцах, и они восхваляли Ви, спасающего девочек от смерти, и Лалилу, которая смотрит за ними. Но удивительнее всего было то, что на стороне Лалилы стояла Аака, хотя в прошлом она и подбивала Пага убить чужеземку и до сих пор ревновала Ви к Морской Колдунье. Аака защищала Лалилу не только потому, что та спасла жизнь Ви. Аака твердо знала, что стоит Лалиле захотеть, и Ви забудет свою клятву, а Лалила этого не делала! Итак, Аака, хотя и ссорилась с Лалилой, втайне ей покровительствовала. Одним из вернейших друзей Лалилы был Моананга, который пользовался в племени почти такими же любовью и почетом, как Ви, особенно после сражения с Рыжими Бородами. С той минуты, когда Моананга увидал, что Лалила ценой собственной жизнь спасла Ви, он влюбился в нее. Это стало причиной многих его ссор с женой. Но он не сдавался и открыто говорил, что любит Лалилу. Он даже объяснился ей в любви и сказал, что он не связан никакой клятвой. Но Лалила мягко отказала ему, и Тана потом долго издевалась над мужем. Но Лалила отказала ему так мягко, что он остался ее верным другом; возможно, впрочем, и в силу того, что знала: Лалила любит Ви. В результате же всей этой истории Тана также стала сторонницей Лалилы, ибо была ей благодарна за урок, который та дала Моананге.Глава 14
ЗУБР
На следующее утро Ви встал, когда еще было темно. Он поцеловал Фо, и осторожно выскользнул из пещеры, вооруженный тремя копьями и железной секирой. Уходя, он при свете костра увидел спящую Лалилу, остановился, долго смотрел на ее прекрасное лицо, вздохнул и ушел, думая, что она его не видит. Но как только он вышел из пещеры, Лалила присела и долго глядела ему вслед. У входа в пещеру сидел на привязи его пес Ио, который не подпускал к себе никого, кроме Ви. Этот пес часто ходил с хозяином на охоту и был обучен загонять дичь в засаду. Ви спустил собаку с привязи, и та радостно затявкала. Но Ви ударил собаку по голове, пес понял приказ и немедленно замолчал. Возле хижины Ааки Ви остановился. Он чуть было не вошел туда, но вспомнил, что время слишком позднее для того, чтобы идти ночевать домой, и к тому же он вооружен. Аака пристала бы к нему с вопросами, и дело кончилось бы ссорой или, в лучшем случае, размолвкой. Он снова вздохнул и пустился в путь. Наконец, Ви вошел в лес. Он дошел до какого-то холма, следуя своему охотничьему инстинкту, добрался до болота и спрятался в колючих кустах, так как не знал, когда зубр возвращается в свое логово. Он неподвижно сидел, наблюдая за птицами, которые на ветвях соседнего дерева готовились к отлету. Они о чем-то ссорились некоторое время, затем вспорхнули и унеслись. Ви следил за ними, удивляясь причине их отлета и не зная, что птицы бегут от холодов в более теплые южные страны. Затем мимо него прошмыгнул кролик. Пробежал, испуганно пискнул и забился под камень. Через мгновение Ви понял, чего испугался кролик: за ним гналась гибкая куница. Она метнулась и забилась под камень, под которым спрятался кролик. Раздался шум борьбы, послышался писк, и затем кролик снова выбежал, но куница следовала за ним, и зубы ее впились в шею кролика. Внезапно Ио, не обративший внимания на кролика, так как был обучен охоте на крупную дичь, приподнялся. Он осторожно выбрался из кустов, прижался к ногам хозяина, принюхался — ветер дул от логова зубра — и тихо зарычал. Рычание было так тихо, что Ви еле услышал его. Ви взглянул в том же направлении, что и собака, и увидал, на кого рычит Ио. Всего на несколько шагов выше их проходил огромный зубр. Он возвращался к себе в логово с пастбища, и слабый утренний свет играл на его рогах. Ви взглянул и ужаснулся. Снизу зверь казался совершенно необъятных размеров, особенно благодаря тени, отбрасываемой им. Зубр шел, покачивая головой и ударяя хвостом себя по бокам. Вид у зверя был такой страшный, что Ви решил оставить всякую мысль о единоборстве с ним и вернуться восвояси, пока не поздно. Тогда он вспомнил, какой великой славой покроет себя, если одолеет этого грозного самца. Он уселся и снова стал ждать, чтобы зубр улегся и заснул. Ви собирался напустить Ио на спящего зверя. Кроме того, Ви ждал, чтобы поднялось солнце и его лучи ослепили выбежавшего зубра. Но вот наступило долгожданное мгновение. Нужно было решаться: либо вернуться домой и выслушивать насмешки Пага и Ааки, которая будет издеваться над ним, либо убить зверя. Ви встал, потянулся, выпрямился и влез на скалу, закрывавшую вход в расщелину. Он снял меховой плащ и повесил его на сук. Теперь на нем оставалась только одежда из очищенной от волос кожи, доходившая ему до колен. Секиру он повесил на левую руку. В левую же руку взял два коротких тяжелых кремневых копья, а третье сжал правой рукой, готовый в любое мгновение метнуть его. Он посмотрел в расщелину, но зубра не было видно. Очевидно, зверь укрылся за деревьями. Собака почуяла зубра: шерсть ее поднялась дыбом, Ви погладил пса по голове и сделал движение рукой. Ио понял и метнулся в расщелину с быстротой брошенного камня. Ви не успел сосчитать до десяти, как услыхал яростный лай, треск сучьев, и понял, что зубр разбужен и набросился на Ио. Лай и треск приближались и, наконец, появился зубр. Ио прыгал перед ним на безопасном расстоянии и задорно тявкал. Зубр пригибал морду, взрывал землю рогами, рыл ее копытами и яростно набрасывался на пса. Ио отскакивал и все ближе и ближе подводил зверя к Ви. Наконец, когда зубр был у самого входа расщелины, Ио прыгнул и вцепился ему в нос. Зубр замотал головой и бросился вперед, пытаясь сбросить собаку. Но та висела, не разжимая хватки. Вот уже зубр был рядом с Ви, который стоял неподвижно, зажав копье в поднятой руке. Зубр опустил морду, пытаясь раздавить собаку. «Пора!» — подумал Ви. Он прыгнул, изо всей силы вогнал копье в правый глаз зубра и навалился на древко всей своей тяжестью. Наконечник копья глубоко вонзился в тело зверя и ударился о глазную кость. Зубр взревел от ярости и боли и так замотал головой, что древко копья отломилось и Ио был далеко отброшен в сторону, хотя пес не разжимал зубов. Зубр учуял человека и набросился на него. Ви прижался к скале, и зубр, не увидев его, пронесся мимо, только рогом задев охотника. Потом зверь повернулся и бросился вновь на человека. Но Ви предупредил его. Он взобрался по скале и остановился на высоте вдвое большей человеческого роста. Ноги его опирались на выступ, а левый локоть на какой-то торчащий корень. Теперь зубр заметил его. Поднявшись на задние ноги, зверь попытался достать охотника рогами. Ви взял копье в правую руку, другое копье ири этом упало, и левой свободной рукой уцепился за корень. Голова зубра показалась у самого края выступа. Но именно этот выступ и мешал зубру достать Ви. Зубр заревел от ярости, широко раскрывая пасть. Ви наклонился вперед и метнул второе копье в глотку зверя. Кровь потекла с его морды, и зубр рванулся и ударил по выступу, на котором стоял Ви. Рога ударились под самый выступ, известняк поддался и выступ обрушился. Ви повис на левой руке. Тут он заметил, что Ио снова появился рядом и рычит. Затем рычание смолкло: Ио вцепился в зубра. Зубр сразу стал на все четыре ноги и брыкаясь побежал по тропинке. Корень не выдержал, Ви упал. Он упал на ноги, покачнулся и в нескольких шагах от себя заметил зубра, который чуть ли не свернулся в клубок, стараясь достать собаку. Ви подобрал свое последнее копье, валявшееся на тропинке. В это мгновение зубр оставшимся глазом увидел охотника. Зверь бросился на человека, Ви метнул в него копье, которое попало в шею, и отскочил. Зубр мчался, вплотную прижимаясь к правой стене расщелины, повернул и снова набросился на человека. Ви ухватил его за рога и повис на них. Зубр затряс головой, силясь сбросить охотника, прыгнул, и все трое — Ви, пес и зубр — свалились в болото.* * *
Вскоре после того, как Ви покинул пещеру, Паг проснулся: кто-то прикоснулся к его плечу. Раскрыл глаза и при слабом свете костра увидел Лалилу. Ее глаза были широко открыты, и лицо побледнело от страха. — Проснись, Паг, — сказала она. — Слушай. Я внезапно проснулась и увидела, что Ви выходит из пещеры вооруженный. Затем послышался лай Ио. Я долго думала, и мне стало почему-то страшно. Мне чудится что-то недоброе. Паг вскочил, схватил копье и топор. — Идем, — сказал он и быстро заковылял вон из пещеры. — Собаки нет. Очевидно, Ви пошел охотиться. Бояться нечего, впрочем, если ты так тревожишься, пойдем его искать. Они быстрым шагом направились к лесу. Проходя мимо хижины Моананги, они увидели, что хозяин уже проснулся и вышел посмотреть, какая погода. — Бери топор и копье и беги за нами, — крикнул Паг. — Поскорей, объясню все на ходу. Моананга бросился в хижину, взял копье и бегом нагнал остальных. Идя быстрым шагом, Паг объяснил в чем дело. — Бабьи причуды, — буркнул Моананга. — С кем это будет Ви сражаться? Тигр убит, волков осталось мало, а олени ушли из лесу. — А ты никогда ничего не слышал о зубре? Я-то видел следы, но Ви ничего не сказал об этом. Очевидно, Ви сам наткнулся на него, — сообщил Паг шепотом, чтобы не тратить зря силы. Светало. Внезапно Паг указал копьем на землю. — Вот следы Ви и Ио. Они прошли здесь совсем недавно. Он пригнулся к земле и пошел по следу. Остальные не отставали от него. Шли они быстро, потому что уже светало, и след был ясно виден Пагу, который — как говорило племя — мог идти за добычей по одному запаху. По следам они добрались, наконец, до болота у скалы. Они хотели обогнуть его, но Лалила вдруг вскрикнула и указала пальцем на воду. Посреди болота слабо бился зубр. На его шее сидел Ви, держась за рога одной рукой, а другой из последних сил рубил своей секирой. Из-под туловища зубра виднелись задние лапы раздавленного пса. Подошедшие рванулись вперед, но в это мгновение зубр сделал последнее усилие. Он выпрямился, встал на дыбы и рухнул на спину, придавив собой Ви. Зубр издал стон, дрожь пробежала по телу, единственный оставшийся глаз закрылся. Паг и Моананга обежали болото и добрались до подножия скалы. Отсюда было уже недалеко до того места, где увязли Ви и зубр. Они прыгнули на бесчувственное тело зверя. Паг напряг все свои силы и оттащил в сторону огромную голову. Под ней лежал Ви! Подошла Лалила. Она и Моананга, стоя по пояс в тине, стали тащить тело вождя. Они тянули, пыхтели, и, наконец, выволокли его из-под туши зубра. Его перенесли на твердую землю и положили ничком. Он шевельнулся. Кашлянул. Красная тина хлынула изо рта. Они пришли вовремя: Ви ожил!* * *
В племени было великое смятение. Лалила, Паг и Моананга доставили Ви в селение, неся его на руках. Народ узнал, что случилось. Все кинулись к болоту, выволокли оттуда убитого зубра и мертвого Ио. Они смыли с зубра тину и обнаружили копья Ви в глазу, в горле и шее зверя. Увидали следы ударов секиры. Ви старался отрубить зубру голову, но грива и шкура животного были слишком толсты. Отрубить голову не удалось, но оглушенный ударами зубр, наконец, был побежден. Народ дивился огромным рогам зверя. Один рог был раздроблен — им зубр обломил известняковый выступ, на котором стоял Ви. Тушу приволокли к Урку-Престарелому. У того хватило совести не говорить ничего о себе. Однако «премудрый» старец не преминул сказать, что в дни прадеда его прадеда зубр, еще больший, был убит вождем племени. Вождь поймал его в сеть и забросал насмерть камнями. Кто-то спросил Урка, откуда он это знает, а тот, нимало не смущаясь, ответил, что об этом его прабабке рассказала ее прабабка. А сам он слышал это от своей прабабки, когда был совсем мальчишкой. Зубра освежевали, мясо его поделили между всеми членами племени, а шкуру принесли в пещеру. Голову волокли четыре человека на шестах и водрузили ее на то дерево, на котором раньше торчала голова Хенги. Народ приходил поглазеть на голову. Даже Ви, оправившись после боя, уселся у входа пещеры, смотрел на голову и сам не мог понять, откуда у него взялось столько силы и решимости бороться с этим чудовищем. Аака обратилась к нему: — Ты великий охотник, муж мой, и давно уже мог бы прикончить Хенгу; ты мог бы его прикончить прежде, чем погибла наша дочь. Я горжусь тем, что носила твоих детей. Но скажи мне, как это случилось, что Паг и Моананга вытащили тебя из-под туши зубра? — Не знаю. Кажется, Лалила имеет какое-то отношение к этому делу. Она что-то сказала Пагу и Моананге, и те побежали искать меня. Спроси Лалилу. Я не видал ее с тех пор, как пришел в себя. — Я уже искала ее, и нигде не нашла, но я не сомневаюсь в том, что и здесь не обошлось без ее колдовства. — Даже если быэто было и так, кажется, тебе не на что сердиться. — Я не сержусь. Я благодарна ей за то, что она сохранила жизнь величайшего человека в нашем племени. Я думаю даже, что ты должен жениться на ней, Ви, — она этого заслужила. Только сперва найди ее. — Я издал закон о браке, — возразил Ви. — Неужели тот, кто издает законы, должен их нарушать? — А почему бы нет? И кто посмеет что-нибудь поставить в вину человеку, который один на один одолел этого зубра? Я-то уж во всяком случае не посмею. — Я был не один. Мы одолели его вдвоем с Ио. Не будь собаки, зубр прикончил бы меня. — В таком случае, слава Ио. Если бы я придумывала законы, как ты, Ви, я бы сделала Ио богом. Она улыбнулась и ушла поговорить с Пагом и Моанангой. Она хотела узнать все подробности дела. Ви сидел у пещеры, ел и рассказывал о схватке с зубром. Фо слушал его, разинув рот. Затем Ви отправил мальчика помогать свежевать зверя, а сам ушел искать Лалилу.* * *
Не зная, где найти ее, он наугад отправился к Тюленьему заливу. Лодку Лалилы после боя с Рыжими Бородами вытащили на прежнее место и, очевидно, сама Лалила могла уйти только сюда. День близился к концу, когда Ви добрался до маленькой пещеры. Лалила сидела у огня и чего-то ждала — то ли захода солнца, то ли восхода луны. Она вздрогнула, увидав его, затем опустила глаза и промолчала. — Зачем ты здесь? — Чтобы поблагодарить Луну за то, что моя тревога о тебе оказалась не напрасной. — Только поэтому? — он взглянул на стоявшую в углу лодку. — Не знаю. Я сама еще не решила. — Слушай, — сказал он дрожащим от ярости голосом. — Если ты не поклянешься мне, что не будешь пытаться бежать вторично, я сейчас же секирой изрублю твою лодку или сожгу ее. — Зачем? Если я ищу смерти — мне много путей открыто. Если заперт один путь, остается сотня других… — Почему же ты ищешь смерти? Ты несчастна? Разве ты ненавидишь меня настолько, что хочешь умереть? Лалила наклонила голову и, глядя на него, ответила: — Ты знаешь, что ненависти к тебе у меня нет, Ви. Скорее, ты слишком дорог мне. И из-за этого будет великая беда. — Так давай встретим ее вместе. — Мы ничего не можем встретить вместе. Ты дал клятву и ее не нарушишь. Слушай. Я не согласна жить, если ты будешь покрыт позором, как человек, нарушивший клятву ради женщины. — Значит, все кончено, — простонал Ви. — Слушай, Ви. Когда ты уходил сегодня утром, я прочла по твоему лицу, что ты уходишь с надеждой больше не вернуться. — Да. Ибо я несчастен. — А кто из нас счастлив? Клянусь, что не покину тебя, до конца буду стоять рядом с тобой. Но женой твоей не стану. Мы будем только рядом. Дай мне такую же клятву, Ви. — Клянусь!Глава 15
ВИ БРОСАЕТ ВЫЗОВ БОГАМ
С некоторого времени в племени началась смута. Зима была ужасная. Даже Урк-Престарелый заявил, что такой зимы не было со времени прадеда его прадеда. С севера и востока дули постоянные ветры. В немногие тихие дни снег падал так густо, что хижины совершенно засыпало. Ежедневно нужно было прокапывать тропинки для того, чтобы выйти наружу. Море замерзло больше, чем обычно. Сквозь сплошной лед шли огромные — величиной с целую гору — айсберги. Все побережье кишело свирепыми белыми медведями. Племя питалось пищей, собранной летом по приказу Ви. Но время от времени народу приходилось выходить на бой с белыми медведями, которые обнаглели до такой степени, что пытались даже врываться в жилища людей. В этих схватках погибло немало народу — от ран и от холода. Много стариков и детей замерзло, особенно в тех хижинах, где, несмотря на приказы Ви, не собрали достаточного количества дров. Наконец, зима кончилась. Но весна не наступила. Снег перестал падать, и лед у берегов стал тоньше. Забурлили реки, но они несли глину, а не воду. Деревья освободились из-под снежных покровов, но стояли безлиственные, мертвые. Трава и цветы не росли, тюленей не было, и птицы не прилетели. Холод стоял такой, какой обычно бывал зимой лет двадцать пять или тридцать тому назад. Племя роптало. Из уст в уста передавались слухи: — На нас обрушилось проклятие! Проклятие принесла Морская Колдунья! Народ посовещался и, наконец, выслал к пещере своих представителей для переговоров с Ви. То были Нгай-колдун и жрец Ледяных богов, Пито-Кити, Хоу, Уока, Хотоа-Заика и Урк-Престарелый. Винни затрубил в рог. Ви вышел из пещеры, одетый в плащ из шкуры убитого им тигра. Представители племени стояли перед ним, смущенно повесив головы. В отдалении на Месте сборищ толпился народ. — Чего вы хотите от меня? — Вождь, — забормотал Урк. — Племя послало нас сказать, что больше не в силах сносить гнев Ледяных богов. — Ледяных богов нет. В леднике живут огромный зверь и человек. В ледник они попали уже мертвые. От этих слов посланные задрожали, а Нгай замахал руками и забормотал молитву. Но Урк продолжал: — То, что ты говоришь, вождь, великий грех. Слушай. От предков моих я знаю, что когда-то, когда народу угрожали те же беды, что и теперь, тогдашний вождь принес в жертву Ледяным богам своего сына, и тепло вернулось. — Значит, вы требуете, чтобы я принес в жертву Фо? — Вождь! Нгай, жрец богов, и Тарен, его жена, пророчица, молились богам, и боги дали им ответ. — Какой же это ответ? — спросил Ви, опираясь на секиру и глядя на Нгая. Тощий, с жестоким лицом Нгай медленно ответил тонким голосом: — О, вождь, голос богов сказал: «Боги требуют жертвы, и жертва должна быть на двух ногах!» — А голос назвал имя жертвы? — Нет. Но голос сказал, что вождь должен сам выбрать эту жертву из своей семьи и собственной рукой убить ее в святом месте перед лицом богов. — Кто же входит в мою семью? — Только трое, о, вождь. Твоя жена Аака, твой сын Фо и твоя вторая жена Морская Колдунья. — У меня нет второй жены, — возразил Ви. — Я сдержал клятву, данную племени. — Мы считаем, что она твоя вторая жена и что она навлекла на нас и гнев богов и чужеземцев, с которыми мы сражались, — упрямо твердил Нгай, а все остальные утвердительно кивали головами. — Мы требуем, — продолжал он, — чтобы ты выбрал кого-нибудь из этих троих, и обреченного принес в жертву богам на солнечном закате, перед полнолунием, в час, когда солнце и луна смотрят друг на друга в небесах. — А если я откажусь? Голос Ви был совершенно спокоен. Нгай взглянул на Урка, и Урк заявил: — Если ты откажешься, о, вождь, — народ об этом уже думал и вот что говорит тебе, — народ убьет всех троих, — и твою жену Ааку, и твоего сына Фо, и твою вторую жену Морскую Колдунью. Народ убьет их там, где сможет настичь. Бодрствующими или спящими. Убьет и снесет их трупы Ледяным богам в знак того, что жертва принесена. — А почему бы не убить и меня? — спросил Ви. — Ибо ты вождь, а вождя может убить только тот, кто одолеет тебя в единоборстве. А кто посмеет выступить против тебя? — Итак, подобно волкам, вы убьете слабых, а сильных оставите в живых? Хорошо, о, посланники! Хорошо, о, уста народа! Вернитесь к племени и скажите, что Ви, вождь, обдумает ваши слова. Завтра в этот же час вернитесь сюда, и я сообщу вам свою волю. Завтра вечером — если я решу принести жертву — жертва будет принесена в час, когда солнце и полная луна глядят друг на друга в небесах. И они ушли, не решаясь взглянуть ему в глаза, ибо взор его жег пламенем.* * *
Об этом разговоре Ви не сказал ни слова никому, — ни Ааке, ни Пагу, ни Лалиле, хотя, наверное, все трое знали, в чем дело; все они, и даже Фо, как-то странно глядели на него. Вечером, подойдя ко входу в пещеру, Ви увидел, что между хижин горит большой костер, и народ собрался вокруг огня. «Может быть, им посчастливилось найти мертвого тюленя?» — подумал Ви. В это мгновение из селения пришли Паг и Моананга. Моананга был исцарапан, точно сражался. — Что происходит там? — спросил Ви. — Ужасные вещи, брат мой. Кое-кто уже съел все свои запасы. А ты приказал новых не давать никому до полнолуния. Эти люди с голоду убили двух девочек и пожирают их мясо. Я пытался остановить их, но они набросились на меня с дубинами. Они свирепы, как волки. — Не может быть! — произнес Ви сдавленным голосом. — Я предлагаю собрать людей и напасть на них, — сказал Моананга. — К чему проливать кровь? — возразил Ви. — Звери, если голодают, должны нажраться досыта. Я ухожу. Мне нужно подумать. Не бойтесь, я вернусь. Сторожите девочек. Должно быть, еще немало народа голодает.* * *
Ви ушел. Холмы, мимо которых он проходил, были покрыты толстым слоем льда, чего никогда не бывало раньше. Лед этот сполз с главного ледника и нависал на высоте трех копий. — Что будет, если он двинется дальше? — подумал Ви и ужаснулся. Вождь дошел до долины Ледяных богов. Главный ледник также сдвинулся вперед: последняя поставленная Ви веха была погребена подо льдом и внизу лежала огромная груда принесенных глетчером камней. Эти валуны делили долину на две части. Если стать лицом к лицу со Спящим человеком, то слева оказывалось большое открытое пространство, а справа, где лед был не так крут, — небольшой закоулок. Ви взглянул на Спящего и на охотника, и ему показалось, что оба они сдвинулись с места: хотя сейчас они находились выше, он ясно различал их очертания. — Эти боги путешествуют, — прошептал он и уселся на скалу, чтобы подумать. Через некоторое время он выпрямился и громко расхохотался. Он вскочил на груду валунов. Ви казался крохотной букашкой на фоне необъятного глетчера. Он потряс секирой по направлению к Спящему и человеку, за которым Спящий гнался, и взмахнул секирой, точно поражая бесформенные тени, расползавшиеся внутри ледника, тени, которые народ считал образами меньших богов. — Я бросаю вам вызов! — крикнул он, и ему ответило странное эхо глетчера. — Я бросаю вам вызов! Вы получите жертву! Моя кровь потечет перед вами! Жрите мою смерть! И когда нажретесь, перед вами и перед вашими поклонниками встанет сила большая, чем вы. Да, ненасытные! Пред вами встанет сила Человека! Так кричал Ви. Он сам не знал, что говорит и откуда пришли к нему такие слова. Но Ледяные боги не отвечали. Спящий и охотник глядели на Ви. Мороз хрустел и стояла глубокая тишина. Луна сияла. Ви полузамерзший пошел домой.* * *
Войдя в пещеру, он наткнулся на что-то бесформенное и закутанное в меха. То был Паг. — Ну что же сказали обитатели ледника? — Ничего особенного. А что ты делаешь? — Охраняю тех, кто внутри. Слушай. Я все знаю. Они, — он указал на пещеру, — знают тоже. Пусть Ледяные боги молчат — у меня есть совет. Что если мы втроем — ты, Моананга и я — нападем на тех, кто говорил с тобой, и убьем их? Если мы прикончим вожаков, остальные замолчат и повесят головы. Они трусы. — Я не хочу проливать кровь. Даже кровь тех, кто ненавидит меня. Они обезумели от голода. — Тогда потечет кровь тех, кого ты любишь. — Не думаю. Во всяком случае, охраняй их. Их окружают голодные волки. Он вошел в пещеру и улегся между Фо и Аакой. Ааке он еще раньше приказал бросить хижину и переселиться сюда.Глава 16
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
В полдень появился Винни и затрубил в рог. Ви вышел. Перед пещерой стояли вчерашние ораторы. — Что ты скажешь о жертвоприношении? — спросил Урк. — Вождь, мы ждем твоего слова. — Кажется, вчера была уже принесена жертва там, между хижинами. Они смутились и стали совещаться. Тогда заговорил Хотоа-Заика: — Вождь, мы умираем с голоду. Старые боги, которых ты отрицаешь, также голодают. Нам нужна пища, им — кровь. Назови обреченного на жертву, а не то мы убьем всех твоих близких. — Я ведь тоже вхожу в семью вождя. Уверены ли вы в том, что боги требуют не меня? Может быть, вам убить меня? Я один, вас много. Убейте же меня, вот и будет жертва богам. Тогда кто-то выскочил из темноты пещеры и встал рядом с ним. То была Аака. — Убейте меня также, ибо я последую за своим мужем. Мы, столько лет спавшие рядом, и после смерти не должны разлучаться. Посланные народа отшатнулись. Хоу и Уока просто бросились бежать — они были трусы. — Слушайте, собаки, — загремел Ви, — ступайте к народу и скажите, что на заходе солнца я буду ждать всех в обиталище богов. Мы вместе предстанем перед нашими богами; с одной стороны встану я со своей семьей, а с другой вы все. Быть может, там будет названа жертва. А до тех пор я не скажу ни слова. Прочь, собаки! С мгновение они стояли, растерянно глядя на него, а он горящими глазами сверкал на них. Ви опирался на секиру, и тигровая шкура скрывала его мощный стан. Они задрожали и бросились бежать, как лисицы от волка. Аака взглянула на мужа, и глаза ее выражали гордость. — Скажи мне, Ви, той ли ты крови, что эти двуногие звери, или тебя зачал какой-нибудь бог? Скажи мне, что ты задумал? — Я ничего не задумал. — Значит, Морская Колдунья знает твои замыслы? Ведь всем известно, что она мудрее меня. — Я не совещался с Лалилой. — Значит, Паг нашептал тебе эти мысли? Паг, твой друг и мой враг, который учит тебя волчьему искусству? — Нет! — сказал Паг, который стоял рядом. — Я вчера давал Ви советы, которые пришлись бы тебе по сердцу, Аака, но Ви отказался последовать им. — Какие советы? — Советы секиры и копья. Советы оставить собак убитыми у их дверей, чтобы стая знала волчьи советы, Аака. — Не ожидала я найти у тебя мудрость. Паг не успел ответить. Ви топнул ногой и крикнул: — Довольно! На восходе луны все узнают, кто мудр и кто глуп. А пока оставьте меня в покое. Ви вошел в пещеру, ел, пил, смеялся и рассказывал Фо о диких зверях и о том, как убивал их, — эти рассказы мальчик очень любил. Но ни Ааке, ни Лалиле, ни Пагу, ни Моананге он не сказал ни слова. Наевшись, Ви улегся и заснул. Паг и Моананга охраняли вход.* * *
Наступил вечер. Ви, Лалила, Аака, Паг, Моананга и Тана оделись потеплей, и мужчины вооружились. Все вышли из пещеры. На Месте сборищ их ожидало племя. Молча прошли они мимо собравшихся, и молча последовало племя за ними, покуда все не добрались до обиталища богов. Ви со своей семьей прошел направо и встал несколько выше народа, собравшегося в левой, большей части долины. — Здесь тесно, — сказала Аака, — нам трудно будет стоять. — Нас мало, а их много. К тому же, когда мы здесь, нас видят и слышат все, — пояснил Ви. Он повернулся и громко объявил: — Я, Ви, вождь, со всей своей семьей, здесь. Голос его глухо отдавался от каменных и ледяных глыб. — Скажи мне, о народ, чего ты требуешь от нас? В ответ раздался тонкий голос жреца Нгая: — Мы хотим, о, вождь, чтобы кто-нибудь из твоей семьи был принесен в жертву богам, дабы снять с племени проклятие, навлеченное на него Лалилой, Морской Колдуньей. — Пусть боги назовут мне, кого принести в жертву. Нгай запел длинную молитву, которую подхватил народ. Высокие голоса странно звенели в морозном воздухе и наконец смолкли. Наступила тишина. Снова заговорил Ви: — О вы, живущие во льду, которых я когда-то считал богами, но которых теперь считаю выдумкой дураков, внемлите мне. Правда, что на племя обрушилась беда, что зимы стали дольше и холоднее и что пищи не хватает. Но беды эти пришли к нам еще до того, как появилась здесь Лалила, которую называют Морской Колдуньей. Но раз племя требует, чтобы кого-нибудь из моей семьи принесли в жертву, и считают, что кровь убитого вернет всем остальным тепло и пищу — я готов на смерть. Он замолчал и взглянул вниз. Смутный лунный свет не скрывал выражения лиц. Племя было смущено. Люди начали перешептываться, лица у всех стали грустными. Кое-где раздавался женский плач. Ви услышал обрывки речей: «Он всегда был добр к нам. Он делал все, что в состоянии сделать человек. Он не властен повелевать временами года. Он не может приказать птицам лететь и тюленям плыть. И ведь он, если бы захотел, мог взять себе вторую жену. Значит, клятвы он не нарушил. Боги не могут требовать его крови. Его не нужно приносить в жертву. Ведь мы останемся тогда без вождя». «Добро побеждает», — подумал Ви. Но Нгай, ненавидевший его, также заметил перемену в настроении. Жрец выбежал вперед и, стоя спиной к леднику, закричал высоким и пронзительным голосом: — Вы хотите умереть с голоду? Хотите поедать собственных детей? Посмеете ли вы оставить богов без пищи? — Нет! — закричало племя, перепуганное таинственным светом и старой верой в могущество богов Нгая. — Да свершится жертвоприношение! Пусть течет красная кровь! Пусть боги утолят свой голод красной кровью! — Вот тебе ответ, Ви, — закричал Нгай в гробовой тишине. — Прими же смерть, если смеешь, или отдай нам кого-нибудь из своей семьи! Аака, Фо, Лалила, Паг и Моананга сбились в кучу. Ви уже был готов броситься со скалы или упасть на собственное копье.* * *
В это мгновение вдруг что-то произошло. Еще не ясно было что, но все застыли на месте, точно окаменевшие. Высоко с вершины гор донесся стон, точно одновременный крик многих сотен тысяч птиц. Стало еще холоднее. Тени во льду сместились и исчезли. Потом снова возникли и рванулись вперед, понеслись назад и вновь появились — выше, чем были раньше. Волосатый человек впереди Спящего шевельнулся. Земля задрожала, точно от ужаса. Тишина стала еще глубже, и внезапно ее нарушил ужасный треск. Когда он смолк, из самых недр льда рванулся вперед Спящий, преследуя волосатого охотника. Да, Спящий с белыми клыками рванулся вперед, точно разъяренный бык. Он летел как камень из пращи. Волосатый охотник пронесся в воздухе и исчез, но Спящий упал всей тушей на жреца Нгая, растер его в порошок и двинулся дальше, прокладывая себе в толпе кровавую тропинку. Снова наступила тишина. — Похоже на то, что Ледяные боги приняли свою жертву, — сказал Ви. Не успел он замолчать, как Великий Ледник тронулся с места. Глетчер двинулся по долине, круша перед собой скалы, пучась, как взволнованное море. Племя еще не успело в ужасе разбежаться, как ледник заполнил всю левую часть долины. Ви соскочил со скалы. Он со всей своей семьей забрался подальше в горы и с ужасом наблюдал, как ледяная река со скрежетом несется мимо него. Сколько времени стояли они там? Этого никто не знал. Они наблюдали, как движется лед. Видели, как он падает в море и как громоздится там ледяными холмами. Внезапно — так же внезапно, как и начал двигаться, — он остановился, и наступила тишина.* * *
Когда все кончилось, они выбрались по горам к селению. Но с нависающих скал они увидели, что долина, в которой жило племя, загромождена сплошным потоком льда. Они посмотрели дальше и в ужасе остолбенели: от побережья также ничего не осталось. Глетчер сровнял холмы, и от гор до моря простирался поток льда, похоронивший под собой все. Аака, прислонившись к Ви, в холодном лунном свете глядела на место, где жила, и сказала: — Проклятие, которое принесла нам твоя ведьма, исполнилось уж, наверное, до конца. Что бы еще смогла она придумать? — Дурно, по-моему, говорить это после того, что случилось. Где народ, который взывал к живущим во льду? Он сам оказался во льду, а я, назначенный в жертву, уцелел со всем моим домом. Время ли теперь для ссор, жена? Тогда заговорил Паг. — Ты знаешь, Ви, я никогда не верил в Ледяных богов. Теперь я верю еще меньше: ведь верившие в них погибли, а неверившие спаслись. Верившие сами попали в лед, и, может быть, когда-нибудь другой народ будет считать их богами. Но скажи, что нам делать теперь? Ви закрыл лицо руками и не ответил. Тогда впервые за весь день заговорила Лалила: — Лед покрыл всю долину и дошел до залива. Но по ту сторону залива открытое море, и там, в пещере, спрятана моя лодка и запас пищи. — Идем туда, — сказал Паг, — оставаться здесь — значит погибнуть. Первыми к пещере добрались Паг и Моананга. Паг заглянул внутрь, увидал во мраке чьи-то глаза и отскочил: — Осторожней! — крикнул он Моананге. — Здесь спрятались медведи или волки. Звук его голоса испугал укрывшихся в пещере. На берег вышла тюленья самка со своим детенышем. Прежде чем неуклюжие животные успели убежать, Паг и Моананга прикончили их топорами. — Ну, едой мы теперь обеспечены на долгое время, — сказал Паг. — Нужно только их освежевать, покуда они не промерзли. Втроем — при помощи Фо — они справились с этой работой прежде, чем Ви подошел с женщинами. Тана была так испугана всеми событиями этой ночи, что Лаке и Лалиле пришлось нести ее на руках. Затем они обыскали пещеру, убедились, что в ней никого нет, развели костер и уселись вокруг него, молча и все еще дрожа от страха.Глава 17
КОТОРАЯ?
Перед рассветом Ви вышел из пещеры, чтобы посмотреть при солнечном свете на местность. Кроме того, он хотел побыть один и поразмыслить о случившемся. Следом за ним вышла Лалила и окликнула его. — Странные вещи произошли, Лалила, — сказал Ви, — и сердце мое сжимается при мысли, что из моего народа никого не осталось в живых. Я охотно предложил бы себя в жертву. Но я жив, а они мертвы, и скорбь душит меня. И в первый раз с тех пор, как умерла Фоя, Ви заплакал. Лалила взяла его за руку и стала утешать, утирая ему слезы своими волосами. — Я причинила тебе много бед, Ви. Я охотно предложила бы себя в жертву, но я верила в то, что ты победишь, и предчувствовала еще большие беды. — Очевидно, у всех у нас было это предчувствие, Лалила. Смерть висела в воздухе. Но что бы ты подумала обо мне, если бы я сказал: «Возьмите эту женщину, Лалилу, которую вы считаете колдуньей, и принесите ее в жертву»? — Сочла бы более мудрым, чем ты есть на самом деле, — грустно улыбнулась она. — Но, поверь, я благодарна тебе и никогда не забуду твоего благородства. Рассвело. Странная и чудесная была эта ярко-красная заря! Казалось, природа платила пережившим ужасную ночь тем, что открывала людям все чудеса своей красоты. Но что увидели они при дневном свете! На месте, где стояло селение, лед высился огромной горой. Горы были обнажены. Лес, в котором Ви убил зубра, был вырван с корнем. И впереди, так далеко, как только хватало глаз, лежал толстый слой льда. Лед на море был покрыт валунами и свалившимися с берега ледяными глыбами и казался неподвижным, как скала. Окрестность производила такое впечатление, будто весь мир превратился в ледяную пустыню. — Что же произошло? Земля умирает? — спросил Ви, озираясь. — Не думаю. По-моему, лед движется к югу и здесь больше жить нельзя. — Значит, мы должны погибнуть, Лалила? — Вовсе нет. Моя лодка цела и может выдержать нас всех. И у нас есть запас пищи. — Но лодка ведь не поплывет по льду? — Нет. Но мы можем толкать ее перед собой, покуда не доберемся до воды, и тогда поплывем. — Куда? — Ко мне на родину. Там зимой бывает тепло. Туда, бывало, доплывали льдины, но они таяли у самых берегов. Мой народ дружелюбен и миролюбив. — Но ведь ты бежала от него! — Да. Но думаю, что, если вернусь, меня встретят с почтением и не тронут моих спутников. Но как хочешь. Мы можем остаться. — Это невозможно! Берег, леса и море покрыты льдом, и когда у нас кончатся запасы еды и топлива, мы умрем от голода и холода. Впрочем, давай посоветуемся с другими. У входа в пещеру стояла Аака. — Наговорились? — спросила она. — Быть может, хозяйка этих запасов разрешит нам притронуться к пище, которую она здесь собрала в то время, как наше племя умирало с голоду? Услыхав эти слова, Ви закусил губу. — Аака, здесь все принадлежит тебе, а не мне, а запасы собраны из той пищи, которую давали мне. Я сложила их еще тогда, когда собиралась покинуть этот край, — грустно и спокойно сказала Лалила. Паг ухмыльнулся, но Ви сказал: — Бросьте глупые толки и давайте есть. Они наелись, затем Ви обратился ко всем со следующими словами: — Наша родина похоронена подо льдом. Что нам делать? Запасов у нас мало. Медведи и волки скоро разыщут нас здесь. По-моему, нужно идти к югу, таща с собой лодку Лалилы. Когда мы доберемся до открытой воды, сядем в лодку и поплывем. Туда, куда лед еще не добрался. — Ты — вождь, — сказала Аака, — и мы должны подчиняться тебе. Но думаю, что путешествие в лодке Лалилы кончится бедой для нас. Не давая разгореться ссоре, вмешался Паг. — Нет ничего хуже худшего. Здесь мы умрем. Там мы, может быть, выживем, в конце концов хуже смерти ничего нет. — Я согласен с Пагом, — сказал Моананга. Тана молчала. Она еще не оправилась от потрясений. Фо топнул ногой и закричал: — Мой отец — вождь, и он приказал. Кто может спорить с ним? Никто не ответил. Все поднялись, нагрузили лодку пищей и накрыли ее шкурами убитых вчера тюленей. Поверх шкур они положили весла и куски дерева, которые могли бы заменить весла. По просьбе Лалилы они положили в лодку также и ствол, — из него собирались сделать мачту. Впрочем, что такое мачта — никто, кроме Лалилы, не знал. В свои мешки они набили топлива, водорослей и уложили шкуры, лежавшие в пещере. Таща за собой лодку по снегу и толкая ее по льду, они пустились в путь. Впереди шла Лалила с шестом в руках и проверяла крепость льда. Так Ви, Аака, Фо, Моананга, Тана и Паг покинули родину. Несколько часов подряд волокли они лодку и двигались вперед медленно. С берега лед казался сплошным и ровным, в действительности же был весь изрыт. Они присели отдохнуть и подкрепиться. Поев, встали, чтобы тронуться в путь, хотя начинали считать свой труд напрасным и замыслы неосуществимыми. — Отец, лед движется! — неожиданно закричал Фо. — Когда мы остановились, вот эти скалы были впереди нас, а теперь они сзади. — Кажется, это так, но я не уверен, — сказал Ви. Они заспорили. В это время Паг куда-то исчез. Через некоторое время он вернулся и сказал: — Лед движется. Я ходил назад. Лед разломился позади нас, и трещина полна льдинами. К берегу нет возврата. Они поняли, что морское течение несет их к югу. — Можно только радоваться. Так мы быстрее доберемся до цели, — сказал Ви. Они продолжали тащить и толкать лодку по льду. Делали они это для того, чтобы согреться. Они трудились целый день и к вечеру пришли к такому месту, где лежал глубокий снег. Снова началась метель. Они были вынуждены остановиться, так как сквозь хлопья не стало видно дороги. Соорудили себе хижину из снега и заползли в нее на ночь. Утром снег перестал падать. Выйдя из хижины, путешественники обнаружили, что только в отдалении, на востоке, видны снежные вершины гор, окружавших их родной залив. Они вышли из хижины и потащили лодку дальше. Снег окончательно затвердел, и острый киль лодки легко скользил по нему, так что двигались они на этот раз быстро. Так шли они целый день, время от времени отдыхая. Устав за день, они остановились, снова сделали хижину из снега, развели перед ней костер, приготовили пищу и поели. Утром оказалось, что снег стал мягче, чем накануне. Что стоит ступить на него, как проваливаешься по щиколотку. Лодку волочить по этому снегу было невозможно. — Мы не можем двигаться ни вперед, ни назад, — сказал Ви. — Значит, нам остается только одно: не сходить с места. Но где мы находимся — я сказать не могу, — гор не видно. Тана заплакала, Моананга смотрел с грустью. — Да, будем сидеть на месте, покуда не умрем. Ничего хорошего и не могло выйти из этого путешествия. Разве только Лалила научит нас летать, подобно птицам, — сказала Аака. — Этого я не могу сделать, — сказала Лалила. — И ведь мы все вместе решили отправиться в это путешествие. Смерть от нас еще далека. От холода мы можем укрыться в этой снеговой хижине, тюленьего мяса нам хватит надолго, а для питья мы можем брать талый снег. Я надеюсь, что лед несет нас к югу, и мне кажется, что сегодня теплее, чем вчера. — Разумно сказано, — заметил Паг. — Нужно сидеть в хижине и ждать, что произойдет дальше. Так они и поступили.* * *
После того, как работа была закончена, Паг и Моананга принялись выспрашивать у Лалилы все подробности ее поездки на север и допытываться о том, где ее родина и каково там живется. Она отвечала на их вопросы, как умела. Но Ви с ней почти не разговаривал, потому что Аака следила за ними ревнивыми глазами. Так прошло четыре дня и четыре ночи. За все это время произошло только одно: воздух с каждым часом становился все теплее и теплее. Снег таял, и со стен их хижины капало. К концу четвертого дня они заметили позади, на западе, огромную ледяную гору. Айсберг все приближался. Казалось, его гонит на них или их гонит к айсбергу. Из этого они заключили, что лед по-прежнему движется, хотя движение его они ощутить не могли. Всю ночь раздавался ужасный шум, а лед под ними трещал и двигался. Никто не решался выйти из хижины и посмотреть, откуда доносится шум. К тому же с севера дул сильный ветер и луна скрылась за густыми тучами. К утру ветер стих, и солнце встало на чистом безоблачном небе. Паг отодвинул закрывавшую вход снежную глыбу и вышел. Он немедленно возвратился, молча взял Ви за руку, вытащил его наружу и закрыл выход. — Смотри, — сказал он, указывая на север. Ви взглянул, зашатался и упал бы, если бы Паг его не подхватил. Не дальше, чем в ста шагах от их хижины, возвышался тот самый айсберг, за которым они вчера следили. То был высокий ледяной шпиль. Наверху его, сжатый ледяными глыбами и огромными валунами, вздымался Великий Спящий! Сомнений не могло быть. Солнце ярко освещало чудовище. Спящий стоял такой же, каким Ви знал его всю свою жизнь, только левая передняя лапа была обломана под самым коленом. Но Спящий стоял не один: вокруг него, между ледяными и каменными глыбами, лежали засыпанные снегом тела. — Взгляни, вот наши старые друзья, — сказал Паг. — Узнаешь? Нгая здесь нет. Нгая Спящий растер в порошок. Но вон, видишь: Урк-Престарелый, рядом с ним Пито-Кити, а там Хотоа и Уока. Как тебе нравится? — Отвратительно! Позади него раздался голос Ааки: — Вы думали, что ушли от старых богов, но они гонятся за вами. Я думаю, о, муж мой, что эта ледяная гора не сулит нам ничего доброго. — Меня мало интересует, что значит появление этой ледяной горы, — спокойно отвечал ей Ви. — Вид, во всяком случае, омерзительный. В это время и остальные вышли из пещеры. Моананга молчал, Тана закричала и торопливо закрыла лицо руками. Лалила медленно произнесла: — Гора эта грозит нам. Грозит тем, что обрушится. Но, кажется, мы плывем быстрее, чем она. — Это еще неизвестно, — сказал Паг. В это мгновение ледяной пик, на который они смотрели, подтаяв, очевидно, в теплой воде, задрожал и стал клониться к ним. Трижды наклонялся шпиль, и, наконец, медленно и плавно перевернулся. Он скрылся под водой, и с ним вместе Спящий и все люди племени. На месте же, где поднимался раньше шпиль, показалось его подножие — лед, усеянный громадными черными валунами. — Прощайте, Ледяные боги! — улыбнулась им Лалила. Вдруг Ви крикнул: — Назад! Назад! Волна! Он схватил Ааку за руку и отбежал. Остальные бросились за ним. Они едва успели отскочить, как место, на котором они стояли, залила волна. Волна дошла до самой хижины и стала отступать. Но весь лед, на котором они безмолвно стояли, затрясся, задрожал. Фо, убегая от волны, проскочил дальше остальных и вернулся с криком: — Льда впереди нет, и вдалеке видна земля. Отец, смотри, там берег. Все побежали за Фо по мягкому снегу и увидали: между двумя ледяными берегами несся поток воды. Он стремительно мчался, гоня перед собой большие глыбы льда. Поток впадал в большое открытое синее море, где льда не было видно. И в отдалении, за этим морем, видна была земля, о которой говорил Фо. Между зелеными холмами змеилась впадающая в море река. Лесистые долины подымались к холмам. Эту чудесную землю они видели несколько мгновений, затем ветер принес туман с того места, где затонул преследовавший их айсберг, и видение скрылось. — Здесь моя родина. Эта река и эти холмы я хорошо знаю, — сказала Лалила. — В таком случае, нам нужно добраться туда как можно скорее, — заметил Паг. — Эта льдина верой и правдой служила нам достаточно долго. Она уже трещит и тает. Лед действительно таял. Его со всех сторон подмывало теплое море, на берегу которого родилась Лалила. Лед таял на глазах, и в нем уже появились трещины. Внезапно льдина треснула посередине, и хижина исчезла под водой. — В лодку! — крикнул Ви. Они бросились к лодке и потащили ее к самому краю льдины, где лед уже расходился. Женщины и Фо сели в лодку, затем уселись Моананга и Паг. Ви держал корму, направляя нос по течению, а Лалила и Моананга доставали весла. Ви взглянул на лодку. Она была перегружена. Вода почти перехлестывала через борт. Ви понял, что если еще один человек сядет в лодку, а ветер хоть немножко усилится и какая-нибудь льдина заденет челнок, лодка неминуемо перевернется, и все потонут. — Прыгай скорее, Ви! — крикнула Аака. — Прыгаю! — отвечал Ви и изо всех сил толкнул корму, так что лодка соскользнула с подводной льдины. Быстрое течение подхватило ее, и она понеслась. Ви отступил на несколько шагов назад и уселся на льдине, следя за челноком. Внезапно раздался плеск воды. Он опустил глаза и увидал, что Паг подплывает к нему. Ви помог карлику выбраться на лед и спросил: — Почему ты вернулся? — А там слишком много женщин. Их болтовня мне надоела. Ви взглянул на Пага, Паг на него — и оба больше не проронили ни слова. Они сидели на льду и следили, как челнок несется по течению. Туман начал скрывать его. Но прежде чем туман окончательно сгустился, они успели заметить, что высокая женщина выпрямилась в лодке и прыгнула в воду. — Кто это? Аака или Лалила? — простонал Ви. — Это мы скоро узнаем, — ответил ему Паг спокойно. Он улегся на льду и закрыл глаза, точно собираясь заснуть.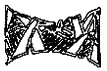
ОНА И АЛЛАН

I. РОМАН О ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Герой романа, молодой охотник Квотермейн (будущий участник похода к копям царя Соломона) вместе с сыном короля Чаки отправляется на встречу с таинственной белой женщиной, сумевшей подчинить своей воле одно из самых жестоких племен Южной Африки.
Вместо предисловия
Я должен кое-что сказать тебе, мой друг, в чьи руки однажды, надеюсь, попадут все мои записи. Давным-давно я вкратце изложил историю, которая в деталях выглядит более или менее законченной. Сделал я это исключительно для собственного удовлетворения. Память подводит нас с годами; мы вспоминаем с почти болезненной точностью то, что пережили и увидели в юности, но то, что случилось в середине жизни, бледнеет, как равнинный пейзаж, покрытый серой туманной дымкой. Эти обстоятельства восприятия прошлого привели меня к более тщательному исследованию отдельных эпизодов моего краткого знакомства со странным и прелестным созданием, которое я знал под именем Айша, или Хейя, или Та, чье слово закон. У меня не было ни малейшего желания публиковать мои заметки, но перед тем, как я раз и навсегда забуду эту историю, я хотел бы вновь перечитать их в старости, которая, увы, не за горами. Итак, я записал основные факты, касающиеся этой экспедиции; эти записки, простые и точные, насколько я мог это сделать, я тогда отложил в сторону. Не могу сказать, что никогда не вспоминал о них, поскольку в них было нечто, что вкупе с проблемами, которые они повлекли за собой, не могло стереться из памяти. Кроме того, когда бы ни вспоминались мне эпизоды из истории Айши, которые не были зафиксированы на этих страницах, я записывал их и вставлял в свой манускрипт. Так, среди этих заметок ты найдешь историю города Кор, которую она рассказала мне. Сказать по правде, мне немного стыдно за то, что я сыграл в изложенной истории столь малозначительную роль. Для меня совершенно очевидно, хотя моя природная честность вынуждает меня излагать все события максимально точно, ничего не прибавляя и не убавляя, что эта необычная женщина, которую я встретил на развалинах древнего города Кор, без сомнения, очаровала меня и почти заставила поверить в то, что казалось невероятным. Она рассказывала мне странные истории, например о своих беседах с языческими богинями, — правда, иногда позднее она меняла свои рассказы или вовсе от них отрекалась. Айша высказывала предположение, что ее жизнь продолжится гораздо дольше нашего земного существования, на много сотен лет, что, по мнению Евклида[365], является абсурдом. Кроме того, она намекала на свои сверхъестественные способности, что является еще большей нелепостью. Более того, умело используя гипноз, она притворялась, что может переместить меня в разные места вне Земли, а в горах Гадеса[366] могла показать то, что скрыто от глаз человека, причем не только мне, но и жестокому воину Умхлопекази, которого еще называли Умслопогас, вождь племени топора. Он вместе с готтентотом Хансом был моим компаньоном в этом приключении. Были вещи совершенно невероятные, например появление Айши в битве с похожим на тролля Резу, когда у нас, казалось, шансов уже не было. И я хотел бы взглянуть на того, кто, окажись он в таком положении, как я, с честью вышел бы из него. Свои бумаги я спрятал в дальнем ящике буфета, и вот однажды некто, а именно капитан Гуд, обожающий романтические истории, принес в мой дом книгу, которую я по его настоянию должен был прочесть. Признаюсь, что я не любитель романтики. Мне нравятся факты в правдивом изложении. Сначала книга мне понравилась, но это и все. Я изучаю Библию, особенно Ветхий Завет, из-за самого смысла Священного Писания и благородства языка, о которых напомнил мне прекрасный арабский Айши. Из поэзии я предпочитаю Шекспира, но, с другой стороны, знаю наизусть многие из легенд Инголдсби[367]. О текущих же делах я предпочитаю узнавать из газет. Мне нравится перечитывать истории о Древнем Египте, поскольку я искренне восхищаюсь этой землей и ее историей. Возможно, корни этих сказаний лежат в легендах и снах. Я снова и снова перечитывал латинских и греческих авторов, но лишь в переводах, поскольку с сожалением вынужден признать, что не владею этими языками. А вот современные книги меня не привлекают, хотя время от времени я читаю их в поезде. Так получилось, что чем больше Гуд настаивал на том, чтобы я прочел эту книгу, тем больше я считал, что не хочу иметь ничего общего с подобной литературой. Однако, проявив настойчивость, он однажды пришел в десять часов вечера и сел рядом со мной. Я отвлекся от своего любимого занятия — изучения египетских иероглифов в уютном уголке комнаты. Мой друг пытался привлечь мое внимание с помощью краткого и таинственного слова — «Она». Я открыл книгу, и первое, что увидел, был рисунок женщины в вуали. Ее вид заставил мое сердце замереть — так болезненно он напомнил мне о даме в вуали, которую однажды мне посчастливилось встретить на своем пути. Я перевел взгляд с рисунка на подпись. Это был город Кор. Сколько бы женщин на земле ни носило вуаль, двух городов Кор быть не могло. Затем я вернулся к первой странице и начал читать. Это случилось осенью, когда солнце восходит около шести утра, но миновал целый день, прежде чем я закончил или, лучше сказать, проглотил всю эту книгу… Что случилось со мной? На страницах этой книги (не говоря о старом Билали, который часто врет — например, твердит мистеру Холли, что в течение многих поколений ни один белый человек не был в его стране и об этих мрачных людоедах, подлецах-амахаггерах) я снова столкнулся лицом к лицу с Той, чье слово закон — или Той, кому подчиняются, что в данном случае одно и то же. Да, это была Айша, любимая, таинственная, переменчивая и властная! Эта история описывает, как обогатило мой скудный опыт общение с таинственным, наполовину божественным созданием — в то же время, я полагаю, довольно злым, во всяком случае безнравственным, хотя ее с полным правом можно было назвать настоящей женщиной, — и проливает свет на истинную натуру Айши. В основе ее характера — или характеров, поскольку в ней сочеталось несколько личностей, — было свойство, которое она сама определила: «Не одна, но много, не здесь, но повсюду». Далее я нашел историю Калликратеса (вернее, Калликрата[368]), которую поместил здесь как простую выдумку, изобретенную моим воображением. Мне Айша говорила о нем без энтузиазма, как о достойном человеке, которому была предана с юности и чьего возвращения, к ее огорчению, она вынуждена ожидать. К моменту нашего прощания она призналась, что «любила только его одного» и «была предназначена ему священным выбором». В книге я нашел еще кое-что, о чем и понятия не имел, — например, об Огне жизни с его фатальным даром «неопределенного существования», хотя я помню, что, подобно гиганту Резу, с которым боролся Умслопогас, она говорила о Чаше жизни, из которой отпила. Этот напиток мог быть предложен и мне, если бы я был политиком, преклонил колени и больше бы поверил ей в ее сверхъестественные возможности… В конце я прочел историю ее ухода. Признаюсь, я плакал, когда читал книгу, и все время ждал, что она еще вернется. Теперь я понял, почему она вздрогнула и затрепетала, когда в нашем последнем с ней разговоре я сказал ей, что, несмотря на всю ее силу, судьба может нанести ей один из самых страшных ударов. Дар предвидения предсказывал ей, что правда говорит моими устами, хотя, и это самое ужасное, она не ведала, какое именно оружие может нанести этот роковой удар и когда и где настигнет ее судьба… Я был восхищен и одновременно подавлен. Как только я закрыл книгу, я тут же решил хранить молчание об Айше и наших с ней отношениях, поскольку был связан клятвой. И еще я понял, что не имею права уничтожать свой манускрипт — в свете того, что уже было опубликовано. Наступит ли день, когда придется солгать, или нет, знает только судьба. Я отдал книгу капитану Гуду без комментариев и купил другой экземпляр! В своих воспоминаниях я не открыл даже и частитого, что представляет собой настоящая Айша. Я не смог постичь всей глубины ее натуры, так как она злила и обманывала меня множеством способов. Может быть, в этом есть и моя вина, ведь с нашей первой встречи я чувствовал, что не верю ей, и она платила мне тем же. Хотя, возможно, у нее были свои причины хранить тайну. Конечно, та сторона ее характера, которую она открыла мне, не похожа на ту, какой она обернулась к мистеру Холли, или Лео Винчи, или Калликратесу. Он, кажется, был единственным, кому она открылась всеми своими страстными чувствами. Она рассказала мне ровно столько, сколько я должен был знать, — и не более!Аллан Квотермейн Грэнж, Йоркшир
Глава 1
ТАЛИСМАН
Я верю в то, что египтяне — очень мудрые люди, гораздо мудрее, чем мы думаем, поскольку за долгие столетия у них было время поразмыслить над многими вещами. Именно они объявили, что каждый человек создан из шести или семи различных элементов, хотя в Библии говорится только о трех. Тело мужчины или женщины, если я правильно понимаю их теорию, всего лишь мешок плоти, который поддерживают эти элементы. А может быть, наше тело и не содержит всего этого, а является лишь домом, в котором они появляются время от времени и очень редко все вместе, хотя один или несколько элементов присутствуют в теле постоянно, чтобы согревать его. Однако кто я такой, чтобы с моими скудными познаниями обсуждать теории древних египтян? Они своими текстами убеждают меня в том, что человек многолик, и это подтверждается Библией, говорящей о том, что человек — убежище демонов. Что далеко ходить, сами зулусы говорят о том, что их знахари населены «множеством демонов»! Единственное, в чем я уверен, — это в том, что мы не всегда одни и те же. Разные личности просыпаются в нас при различных обстоятельствах. Иногда в нас господствует та или иная страсть, в другой же ситуации мы вполне оказываемся способны владеть собой… Подчас мы слепо следуем влекущим нас страстям, в иное время мы ненавидим их, и наш дух пробивается сквозь завесу мрака и светит нам, как звезда. То мы готовы убить кого-нибудь, то наполнены святым состраданием даже по отношению к насекомому или змее и готовы прощать, подобно Богу. Наконец мы начинаем сомневаться, а способны ли мы вообще чем-то управлять, если сами настолько управляемы? Цель этой сентенции — показать, что я, Аллан, практичный и не склонный к рефлексии человек, простой малообразованный охотник и торговец. И мне выпал шанс в какой-то период своей жизни стать участником духовной жизни. Повторяю, я — простой человек, который пережил в своей жизни тяжелые утраты, иссушившие мою душу, поэтому мои привязанности достаточно сильны, возможно, оттого, что у меня довольно примитивная натура. Ни днем ни ночью я никогда не забываю людей, которых я любил и которые, как я верил, любили меня. В своем тщеславии мы подчас полагаем, что люди, с которыми мы были близки на земле, по-настоящему заботились о нас. Но иногда нам кажется, что они продолжают заботиться о нас, уйдя в мир иной, — не сумасшествие ли это? Временами, однако, нас одолевают сомнения, потому что мы хотим знать правду. Позади нас — еще большая темнота, чем впереди, независимо от того, живы эти люди или нет. Всего несколько лет назад эти соображения волновали меня изо дня в день, пока я не захотел узнать обо всем подробно и оставить сомнения в прошлом. Однажды в Дурбане я встретил человека, медиума, которому сообщил о некоторых моих проблемах. Он рассмеялся и сказал, что их можно легко решить. Все, что мне нужно сделать, — это сходить к местному колдуну, который за гинею или две расскажет мне все, что я хочу знать. И хотя мне было очень жаль тратить гинею, которая в тот момент была нужна мне как никогда, я сходил к этому человеку, но о результатах моего визита я умолчу. Я поговорил со священником, хорошим духовником, но он лишь пожал плечами и отослал меня к Библии, сказав, что я все делаю верно. Я прочел некоторые мистические книги, которые мне рекомендовали. Там было множество слов, которых я не мог понять даже с помощью словаря, и они не продвинули меня вперед, поскольку в них я не нашел ничего, до чего бы не добрался сам. Я даже принимался за Сведенборга[369] и его последователей, но не получил удовлетворительных результатов. Несколько месяцев спустя я оказался в стране зулусов, где остановился возле Черного ущелья. Я нанес визит моему старому знакомому, о котором писал ранее, замечательному карлику Зикали, которого называли «Тот, кому не следовало родиться» или «Открыватель дорог» — это более известное его имя у зулусов. Мы поговорили о многих вещах, связанных со страной зулусов, и я встал, чтобы отправиться в свой фургон, потому что никогда не ночую у Черного ущелья, если этого можно избежать. — Есть что-то еще, что ты хочешь спросить у меня, Макумазан? — спросил карлик, откинув волосы со лба и посмотрев на (я чуть не написал «сквозь») меня. Я покачал головой. — Это странно, Макумазан, потому что я вижу нечто у тебя в голове, связанное с духами. Я вспомнил о проблемах, которые меня тревожили, хотя, по правде говоря, я никогда не думал обсуждать их с Зикали. — Ага, что-то есть! — воскликнул Зикали, прочитав мои мысли. — Говори, Макумазан, пока у меня есть настроение отвечать. Ты мой старый друг и останешься им до конца. Если я могу помочь тебе, я помогу. Я набил трубку и снова сел на табурет из красного дерева. — Тебя называют Открывателем дорог, не так ли, Зикали? — спросил я. — Да, зулусы всегда называли меня так, еще до того времени, как пришел Чака. Но что такое имя, которое часто ничего не значит? — Только то, что я собираюсь открыть дорогу, которая проходит через Долину смерти, Зикали. — О, — засмеялся он, — это очень легко! — И, схватив маленький ассегай, который лежал перед ним, протянул его мне, добавив: — Смело бросай его. Не успею я досчитать до шестидесяти, как дорога будет открыта. Правда, я не могу сказать, увидишь ли ты что-нибудь. Я снова покачал головой и сказал: — Это против наших законов. К тому же я очень хочу знать, встречу ли я кого-нибудь на этой дороге, когда придет мое время пересечь Реку. Ты имеешь дело с духами, можешь ли ты сделать для меня то, что никто другой не сможет сделать? — Что я слышу! Ты просишь меня, бедного зулусского шарлатана, как ты однажды назвал меня, Макумазан, показать тебе то, что неведомо великому белому человеку? Я упрекнул его: — Вопрос не в том, что тебя просят сделать, а в том, сможешь ли ты это совершить. — Я не знаю. Каких ты хочешь увидеть духов? Одна из них — женщина по имени Мамина, которая меня любила… [370] — Она не одна из них, Зикали. Она же тебя любила, а ты отплатил ей за любовь смертью. — Может быть, это лучшее, что я мог сделать для нее. О причинах ты можешь догадаться, Макумазан. Есть и другие вещи, которыми я не хочу тебя беспокоить. Но если это не она — то о ком ты говоришь? Дай-ка мне посмотреть. Кажется, я вижу двух женщин, хотя белому человеку можно иметь только одну жену. Лица других женщин скользят в водах твоего разума. Старый человек с седыми волосами и маленькие дети — возможно, это братья и сестры, какие-то друзья. А вот и в самом деле Мамина, которую ты не хочешь видеть. Но, Макумазан, она — единственная, кого я могу показать тебе и к кому показать дорогу. Если только ты не думаешь о других кафрских женщинах… — Что ты имеешь в виду? — Я думаю, что лишь ноги черного человека способны идти по дороге, которую я могу открыть. А над теми, в ком течет кровь белого человека, у меня нет власти. — Значит, разговор окончен. — Я встал и сделал пару шагов к воротам. — Вернись и сядь, Макумазан. Разве я единственный маг в Африке? Я вернулся, поскольку во мне проснулось любопытство. — Спасибо, Зикали, — сказал я. — Но я не имею дел с вашими шаманами. — Потому что ты боишься их. Ты считаешь, что все они болтуны, кроме меня. Я — последнее дитя мудрости, остальные, от пяток до макушки, забиты ложью. Великий Чака сказал, что убьет каждого, кого сумеет поймать. Но возможно, есть белые шаманы, которые могут управлять белыми духами. — Если ты имеешь в виду миссионеров… — начал я. — Я не имею в виду ваших священников, которые измеряют все одинаково и говорят только то, что их научили говорить, не думая о великом. — Некоторые думают, Зикали. — Ну да, и тогда на них нападают с большими палками. Настоящий священник тот, к кому приходит дух, а не тот, кто отгородился от людских бед и говорит сквозь маску, которую носили отцы его отца. Я — такой, за что мои соплеменники меня ненавидят. — Если так, то ты достаточно отплатил им за их ненависть, Зикали. Но перестань ходить вокруг да около, как робкая гончая, и объясни, о ком ты говоришь? — В этом вся проблема, Макумазан. Я не знаю. Эта львица прячется в пещере, которая находится высоко в горах, и я никогда ее не видел. — Как же ты можешь говорить о том, кого никогда не видел? — Точно так же, как ваши священники вещают о том, кого никогда не видели, потому что они знают о нем. Все пророки, если они действительно великие, общаются друг с другом, потому что они родственники и их духи встречаются во сне или в мечтах. Поэтому я знаю, что королева нашего ремесла, львица среди шакалов, которая много тысячелетий спала в северных пещерах, тоже знает обо мне. — Может, и так, — промолвил я. — Но может быть, Зикали, ты дойдешь до сути дела? Кто она? Как ее зовут и, если она существует, поможет ли она мне? — Я отвечу на твои вопросы, Макумазан. Я думаю, что она окажет тебе услугу, если ты поможешь ей. Правда, я не знаю, каким образом, потому что хотя белые знахари и работают иногда бесплатно, но знахарки — нет. А что до ее имени, знаю только, что в нашем кругу ее зовут Королева, потому что она первая из всех и самая красивая из женщин. Об остальном я ничего не могу тебе сказать, кроме того, что она всегда выступала в разных обличьях и будет всегда, пока существует мир, потому что ей открыт секрет бессмертия. — Ты хочешь сказать, что она бессмертна, Зикали? — улыбнулся я. — Я этого не говорю, Макумазан, потому что мой слабый ум не может вынести мысль о бессмертии. Но когда я был младенцем, она уже жила так долго, что едва ли знала разницу между «сейчас» и «тогда», и в ее груди была собрана вся мудрость этого мира. Я знаю это, потому что, несмотря на то что никогда не видел ее, временами мы разговариваем с ней в наших снах. Она разделила со мной свое одиночество, и прошлой ночью во сне она приказала мне отправить тебя к ней, чтобы ответить на некоторые вопросы, которые ты задал мне сегодня. Мне кажется, что она хочет, чтобы ты кое-что сделал для нее. Хотя я не знаю, что именно. Я спросил его сердито: — Зикали, тебе нравится дурачить меня такими историями? Если в этом есть хоть капля правды, покажи мне, где живет женщина, которую зовут Королева, и как мне попасть к ней. Старый мудрец взял ассегай, который предлагал мне, и его лезвием выгреб пепел из огня, горевшего перед нами. Проделывая все это, он рассказывал — может, для того, чтобы отвлечь мое внимание, — о некоем белом человеке, которого я встречу в пути, и о своих делах, ни одно из которых не интересовало меня в тот момент. Пепел он разбросал прямо перед собой ровным слоем и нарисовал карту кончиком этого ассегая — с реками, кустарниками и лесами, начертив плавные линии для обозначения воды и болот и насыпав маленькие кучки, означающие высокие холмы. Когда он закончил, то обошел со мной вокруг костра, чтобы я изучил нарисованную картину, а в самом конце провел борозду кончиком ассегая, чтобы показать реку, и собрал пепел в комок на северном конце, чтобы обозначить большую гору. — Смотри хорошенько, Макумазан, — сказал он, — и запоминай, потому что, если ты, начав путешествие, позабудешь эту карту, ты умрешь. Я сделаю так, что карта останется в твоей голове. Внезапно он собрал весь пепел в руки и бросил мне в лицо, что-то повторяя про себя и громко добавив: — Теперь ты запомнишь. — Конечно запомню, — откашлялся я. — И прошу тебя — больше не повторяй подобных штучек. По правде говоря, какой бы ни была причина, я никогда не забуду ни одной детали этой замысловатой карты. — Эта большая река — Замбези, очевидно, — предположил я. — А если гора твоей Королевы так далеко, как я могу попасть туда один? — Я не знаю, Макумазан. Ты должен найти себе спутников. По крайней мере, в старые времена люди посещали это место, поскольку раньше там стоял огромный город, который был сердцем могущественной империи. Тут я насторожился, потому что хотя и не верил в историю Зикали о прекрасной Королеве, но всегда интересовался древними цивилизациями. А еще я знал, что у этого старого мудреца были обширные познания, и я не думал, что он будет меня обманывать в таких делах. По правде говоря, у меня были мысли при первой же возможности предпринять такое путешествие. — Зикали, как люди добирались в этот город? — Я думаю, что морем, но мне кажется, что ты должен быть мудрей и выбрать другую дорогу. Морем сейчас трудно плыть, и на суше тебе будет безопасней. — Зикали, ты хочешь, чтобы я отправился в это путешествие. Почему? Я знаю, что ты никогда ничего не делаешь просто так. — О Макумазан, ты видишь глубже, чем все остальные. Да, я хочу, чтобы ты пошел туда по трем причинам. Первая — ты сможешь успокоить свою душу в мучающих тебя вопросах, и я помогу тебе сделать это. Во-вторых, я хочу сам себя успокоить. А в-третьих, я знаю, что ты вернешься из этого путешествия целым и невредимым и поведаешь мне о том, что случится в будущем. Я не буду рассказывать тебе всю историю, кроме того, что тебе действительно необходимо остаться в живых. — Понятно. Так чего ты хочешь? — Много чего. Но в основном две вещи. Остальными же я не стану тебя беспокоить. Во-первых, я хотел бы знать, были ли мои сны об этой прекрасной Белой колдунье или ведьме больше чем снами. И еще я хочу знать, исполнятся ли некоторые мои планы. — Какие планы, Зикали? И как смогут результаты моего длительного путешествия ответить на твои вопросы? — Ты хорошо знаешь, Макумазан, что эти планы связаны со свержением королевского дома, который действует все губительнее для живущих в стране. А твое путешествие сможет помочь мне. Обещай мне спросить Королеву, будет ли Зикали, Открыватель дорог, на коне или окажется сброшенным с него. — Если ты так хорошо знаком с Королевой, почему же сам не спросишь ее? — Спросить — одно. Получить ответ — другое. Я спрашивал в ночные часы, ответ был коротким: «Приходи сюда, и, может быть, я скажу тебе». — «Королева, — ответил я, — как я могу воплотиться в духе, в котором древний карлик едва ли может подняться на ноги?» — «Отправь гонца, мудрец! Только убедись, что у него белая кожа, потому что черных воинов я видела предостаточно. Надень на него какой-нибудь знак, что он пришел именно от тебя, и расскажи мне об этом в своем сне. Кроме того, сделай так, чтобы этот знак имел магическую силу, которая защитила бы его в пути». Вот такой ответ, Макумазан, приходил ко мне в моих снах. — Какой же знак ты мне дашь? Он порылся в своем одеянии и вытащил оттуда кусок слоновой кости размером с шахматную фигурку с отверстием, в которое был вдет шнурок из волоса слоновьего хвоста коричневого цвета. Мудрец подышал на него, пошептал над ним и протянул мне. Я взял талисман, подержал его на свету, чтобы осмотреть, и хотел было вернуть его несколько небрежно, так что чуть не уронил. Не знаю почему, но что-то остановило меня. Зикали заворчал: — Осторожнее, Макумазан. Я уже не так молод, чтобы копаться в земле. Я посмотрел на вещицу, которая была похожа на самого карлика, когда он возник передо мной, склонившись к земле. У фигурки были большие глаза, огромная голова, похожая на жабью, длинные волосы… — Неплохая вещичка, а? Я умею их делать — ты знаешь, поэтому могу оценить резную фигурку. — Да, я знаю, — ответил я, потому что помнил о другой статуэтке, которую он дал мне на следующий день после смерти той, кто была ее моделью. — Но что это за вещь? — Макумазан, это пришло ко мне сквозь века. Ты, может быть, слышал, что все великие колдуны перед смертью передают свои знания другому знахарю или духу, который остается на земле, так что ничего не может быть утеряно, даже малая часть знаний. Таким образом они передают свою силу тому, кто остался. Слушая карлика, я вспомнил о старых египтянах и их статуях Ка[371], о которых я читал. Эти статуи ставились на могилы ушедших, и те наделялись такой властью, которая не снилась им при жизни. Но ничего этого я Зикали не сказал, думая, что придется слишком много объяснять, хотя мне казалось, что он и сам все понимает. — Пока этот Талисман висит у тебя над сердцем, он даст тебе силу Зикали. Твоя мысль будет его мыслью. Мудрость будет его мудростью. Он будет на твоей стороне и будет охранять тебя от опасности. Помни, что ты должен все время носить его. На севере и юге, на западе и востоке этот образ известен всем зулусам, они будут подчиняться тебе и слушаться тебя, открывая дорогу тому, кто носит знак Открывателя дорог. — В самом деле? — засмеялся я. — Какого цвета статуэтка? Я что-то не разглядел. — Макумазан, она досталась мне от предков отца, который был таким же старым, как и я. Выглядит как кровь, не так ли? С этими словами он повесил шнурок с амулетом мне на шею. — Ты предложил мне начать это путешествие, — сказал я. — И не в одиночку. Пока что в качестве компаньона ты дал мне этот уродливый кусок кости. От одного взгляда на него, погруженного в кровь, мне стало очень неприятно. Я собирался выбросить его в огонь. Итак, кого я возьму с собой? — Не делай этого, Макумазан, не выбрасывай Талисман в огонь — поскольку у меня нет желания умереть раньше положенного тебе срока. А если ты это сделаешь — я умру. Конечно, и ты умрешь вместе с магической вещью и овладеешь знаниями быстрее, чем желаешь. Нет-нет, не снимай его с шеи! Или сними, если хочешь… Я попытался это сделать, но что-то остановило меня от желания вернуть резную фигурку знахарю. Сначала моя трубка выпала из рук, потом волосы слона попали в воротник моей куртки, затем приступ ревматизма, от которого я страдал после одной схватки со львом, внезапно скрутил мне руку. В конце концов я устал от всего этого. Зикали, который наблюдал за моими телодвижениями, засмеялся своим ужасным смехом, который, казалось, заполнил ущелье и теперь отражался эхом от его стен. Он исчезал и появлялся независимо от талисмана. — Ты спрашивал, кого можешь взять с собой, Макумазан? Я скажу тебе. Раб, принеси мои вещи! — крикнул он громко. Из тени появилась высокая фигура. В одной руке зулус нес огромное копье, в другой — чемодан из кошачьей кожи, который почтительно положил у ног хозяина. Зикали открыл чемодан и достал оттуда кости. — Обычный способ гадания, — сказал он. — Его использует любой колдун, но способ этот очень быстрый и действенный. Давай-ка посмотрим, кого ты возьмешь с собой. Он подышал на кости немного, потряс их в руках, затем быстрым движением подбросил в воздух и проводил их падение в золу костра долгим пристальным взглядом. — Ты знаешь человека по имени Умслопогас, вождя одного из племен, которое называется племя топора, его еще зовут Булалио, или Убийца, или Дятел? Последнее прозвище, кстати, дано от того, как он держит древний топор. Это жестокий, но смелый воин, великий боец, он не предаст тебя, предпочтет славную смерть — я думаю, в твоей компании, Макумазан. — Он еще некоторое время изучал кости. — Да, я уверен: в твоей компании, но не в этом путешествии. — Я слышал о нем, — осторожно сказал я. — Говорят, что он сын Чаки, великого короля зулусов. — Неужели? Говорили еще, что он убил брата Чаки, Дингаана, любовника самой прекрасной женщины, которую когда-либо видели зулусы, ее звали Нада Лилия. Разве Мамина, которая, насколько я знаю, была твоим другом, была более прекрасной? — Я ничего не знаю про Наду Лилию, — ответил я. — Нет-нет, Мамина, Завывающий ветер, развеяла ее славу. Зачем тебе знать о том, кто умер так давно? Макумазан, почему ты втягиваешь женщин во все свои дела? Я начинаю верить, что, несмотря на всю свою суровость, ты любишь всех их. Это слабость, которая губит любого мужчину. Мне кажется, что Умслопогас, этот человек-волк, человек-топор, будет хорошим приятелем в твоем путешествии к Белой ведьме, Королеве, другой женщине, о которой ты должен позаботиться. Я почти уверен, что он пойдет с тобой, поэтому продолжай задавать вопросы. — Кто-нибудь еще? — спросил я. Зикали снова посмотрел на кости, бросил их в пепел, затем снова поднял их. — У тебя на службе есть маленький желтый человек, мудрая змея, которая знает, как пройти сквозь траву, когда сражаться с врагом, когда убегать. На твоем месте я бы взял его с собой. — Да, у меня имеется такой человек, готтентот по имени Ханс, умный, но пьяница, очень верный, поскольку служил еще моему отцу. Он сейчас готовит мне ужин в фургоне. Кто-нибудь еще есть на примете? — Нет, я думаю, что трех человек вполне достаточно. Кроме того, с вами будут люди из племени топора, поскольку тебе придется защищаться, и парочка привидений. Рядом с Умслопогасом всегда была Нада, возможно, кто-то будет и у тебя. Например, Мамина, которая всегда будет с тобой, Макумазан. Ветер поднимается, что очень странно по вечерам. Послушай, как он воет и шевелит твои волосы, хотя мои не трогает. Вот почему я говорю о привидениях, зная, что ты идешь к другим привидениям — белым привидениям. Они выше моего понимания, ведь я могу общаться только с черными! — продолжал бормотать Зикали. — Спокойной ночи, Макумазан, спокойной ночи. Когда ты вернешься от Белой королевы, самой великой из всех, кого я знаю, приходи ко мне с ответом на мой вопрос. И еще — всегда носи тот маленький амулет, который я тебе дал, как молодой любовник носит локон девушки, которая, как ему кажется, влюблена в него. Это принесет удачу, которая значит для тебя гораздо больше, чем локон для любовника. Наш странный мир полон парадоксов для тех, кто способен видеть связь между событиями. Я один из таких людей, и, возможно, ты тоже. Или будешь им — пока все не закончится или не начнется… Спокойной ночи и удачи в твоем путешествии! И несмотря на то что ты обожаешь женщин, пожалуйста, не влюбляйся в Белую королеву, потому что другие могут ревновать. Я имею в виду тех, кто давно потерял тебя из виду. А еще я предполагаю, что она не та женщина, которую ты можешь поймать в свои сети. Эй, раб, принеси мое одеяло, становится холодно, и мои снадобья, которые защитят меня от привидений, что часто являются по ночам. Я повернулся, чтобы уйти, но не успел сделать и пару шагов, как Зикали снова позвал меня и очень громко сказал: — Когда ты встретишь Умслопогаса, Дятла, а это непременно случится, скажи ему следующее: «Летучая мышь кружит над головой Открывателя дорог, и в его ушах раздаются имена Лоусты и Монази — так зовут женщину. Крутится еще одно имя, которое нельзя произнести, — имя слона, который сотрясает землю, и говорят, что этот слон втягивает воздух своим хоботом, и злится, и затачивает свои бивни, чтобы вытащить некоего Дятла из его дупла в дереве, что растет около Ведьминой горы. Скажи также, что Открыватель дорог считает Дятла достаточно мудрым, чтобы отправиться на север в компании того, кто будет бодрствовать в ночи. Не надо вредить птице, которая клюет корм у подножия горы и щебечет в гнезде». На прощание Зикали помахал мне рукой, и я ушел, думая о том, во что пять минут назад ввязался.Глава 2
ПОСЛАННИКИ
Я не отдохнул этой ночью, впрочем никто не сможет спать, находясь в окрестностях Черного ущелья. Думаю, что постоянные разговоры Зикали о привидениях, с его намеками, касающимися тех, кто уже умер, взволновали меня до такой степени, что я начал верить в то, что эти вещи существуют на самом деле. Многие люди подвержены внушению, и боюсь, что я из их числа. Взошло солнце и положило конец думам о привидениях гораздо быстрее, чем я это мог предположить. С рассветом дьявольские фантазии словно испарились. Проснувшись, я лишь посмеялся над ночными кошмарами. Подойдя к источнику, около которого мы остановились, я снял рубашку, чтобы хорошенько умыться, все еще вспоминая предсказания моего друга, Открывателя дорог. Занимаясь нехитрыми манипуляциями с мылом и гребешком, я случайно задел что-то на груди и посмотрел, что попалось мне под руку. Оказалось, это был странный костяной амулет Зикали, который он повесил мне на шею. Его вид и вчерашние воспоминания, тот разговор, вызвавший в памяти малоприятные образы, да еще схожесть талисмана с самим Зикали настолько разозлили меня, что я решил снять его и выбросить прямо в источник. Когда я собрался это сделать, из зарослей тростника рядом со мной вдруг раздалось шипение и показалась голова огромной черной мамбы, одной из опаснейших змей Африки. Меня предупреждали, что она единственная атакует человека внезапно. Бросив мыло, я отпрыгнул в ту сторону, где лежало мое ружье. Змея мгновенно исчезла, и мне показалось, что она уползла в свою нору, которая находилась где-то поблизости. Я вернулся к источнику и опять принялся снимать талисман, чтобы бросить его на дно ручья. Несмотря ни на что, я решил, что не могу, подобно любовнику, который прячет в медальоне волосы своей любимой, носить на шее странное украшение цвета крови. Как только это пришло мне в голову, тут же с другой стороны зарослей тростника я заметил какое-то движение. И снова раздалось шипение змеи. Мне хватило нескольких секунд, чтобы схватить ружье, которое лежало передо мной, и выпустить в мамбу пару зарядов картечи. Они разорвали змею на две части, что забились в конвульсиях на земле. Услышав выстрел, Ханс выбежал из фургона, чтобы посмотреть, что случилось. Это был тот самый готтентот, который являлся спутником в большинстве моих приключений. Он был со мной, когда я, еще совсем молодым человеком, сопровождал Питера Ретифа в крааль Дингаана, и, так же как и я, избежал кровавой резни, учиненной этим зулусским вождем над бурами. Вместе мы пережили множество приключений, включая и путешествие в страну Дитяти из слоновой кости, где он уничтожил огромного слона Джану. Но о таком приключении, как это, мы в те дни даже не мечтали. Если честно, Ханс был совершенно безнравственным человеком, но, как говорят буры, «умный, как стадо обезьян». К тому же он безудержно напивался, когда представлялась такая возможность. Однако более преданного человека, чем он, найти было трудно. И совершенно точно не было ни одного человека — ни мужчины, ни женщины, — который бы любил меня больше. Внешне он походил на древнего, состарившегося не по годам бабуина, его лицо, как высохший орех, было покрыто сетью морщин, а быстрые маленькие глазки были налиты кровью. Я не знал, сколько ему лет, но, думаю, больше, чем он сам себе приписывал. Годы лишь закалили его и сделали неутомимым. Двужильный Ханс лучше всех шел по следу и стрелял с расстояния ста пятидесяти ярдов из особенного одноствольного ружья, заряжающегося с дула, изготовленного Парди. Он называл его Интомби, что означает «девушка». Об этом ружье я уже писал в романе «Священный цветок». — Что случилось, баас? — спросил он. — Здесь нет ни львов, ни другой дичи. — Взгляни в те заросли, Ханс. Сделав широкий круг, он скользнул туда и увидел змею, которая, я думаю, была самой крупной мамбой, убитой мной. Внезапно он замер, напомнив мне пойнтера, выслеживавшего дичь. Убедившись, что змея мертва, он кивнул и сказал: — Черная мамба, или как вы там ее называете. Хотя я думаю, что это кое-что похуже. — Что еще, Ханс? — Один из тех духов, которых старый Зикали присылает к входу в ущелье, чтобы те предупреждали его о том, кто приходит или уходит. Я хорошо это знаю, другие тоже. Я слышал ваш разговор вчера, когда стоял за камнем. — Значит, Зикали лишился духа, — засмеялся я. — Думаю, что у него их больше нет. Он послал всех духов ко мне. — Именно так, баас. Он очень рассердится. Интересно, почему он это сделал? — добавил он с подозрением. — Вы же вроде друзья. — Он не делал этого, Ханс. Здесь просто очень много змей, и они часто нападают. Ханс не обратил внимания на мою реплику, решив, что только белый человек может быть таким легкомысленным. Его желтые, налитые кровью глазки забегали туда-сюда в поисках объяснений. Внезапно его взгляд остановился на слоновой кости, которая висела у меня на шее. Ханс вздрогнул: — Зачем вы носите на шее этот амулет? Такие носили когда-то женщины. Вы знаете, что это Великий талисман Зикали? Это известно всякому, проходящему по земле. Когда Зикали отправляется куда-нибудь, то всегда берет его с собой. Каждый, кто получает его, должен подчиниться Зикали или умереть. И каждый посланник знает, что ему не причинят никакого вреда, если он не будет снимать амулет, потому что этот образ и есть Зикали. Это одно и то же! И еще — это образ отца его отца, или как он там еще говорит. — Какая странная история, — промолвил я и рассказал Хансу, каким образом стал обладателем этого таинственного маленького талисмана. Тот кивнул, не выразив ни малейшего удивления. — Значит, мы отправляемся в долгое путешествие, — продолжил он. — Я думаю, что пришло время для чего-то более серьезного, чем скитание по этим малоинтересным местам. Более того, Зикали не желает причинять баасу вред, потому что хочет, чтобы мы вернулись целыми и невредимыми, — теперь об этом можно говорить, когда дух отправился за другой змеей. А что баас собирался делать с Талисманом, когда мамба напала? — Хотел бросить его в ручей, Ханс, потому что не люблю подобных штучек. Я пытался сделать это дважды, но каждый раз мамба нападала на меня. — Конечно, баас, она нападала. Если выбросите Талисман, то погибнете, потому что мамба убьет вас. Зикали хотел, чтобы баас понял это, поэтому и послал змею. — Ты старый суеверный дурак, Ханс. — Да, баас, но мой отец слышал о Великом талисмане, поскольку он был немного доктором и знал всех мудрецов и ведьм на многие тысячи миль вокруг. Это известно каждому, хотя говорить об этом нельзя, даже королю. Говорю не как пьяница Ханс, но как преподобный отец бааса, предикант. Он, кстати, сделал из меня хорошего христианина и вещает мне это с Небес. Я умоляю не выбрасывать этот амулет. Иначе я никуда не пойду с баасом. Потому что я, может, и не так хорош, как ангелы с крылышками на картинках, но мне кажется, что нужно пожить еще немного, перед тем как я предстану с отчетом перед нашим Отцом, перед Господом Богом. Думая о том, как ужаснулся бы мой отец, услышав такую нелепую цепочку рассуждений, и зная результат его моральных и религиозных уроков, которые вынес этот несчастный готтентот, я рассмеялся. Но Ханс твердо стоял на своем, выступая передо мной, словно судья: — Пусть баас наденет Великий талисман и разделит его силу с человеком, который внутри. Может быть, Талисман не так прекрасен и не так хорошо пахнет, как волосы женщины в маленькой золотой коробочке, но он явно гораздо полезнее. Волосы любимой женщины могут вызвать зубную боль и заставить помнить многие вещи, которые хотелось бы забыть, а Великий талисман, или Зикали, который в нем находится, защитит бааса от ассегаев и слабости и направит плохую магию на тех, кто послал ее. Он всегда принесет нам много еды, а если повезет, то и выпивки. — Иди отсюда. Я хочу умыться, — попросил я. — Да, баас. Но когда баас уйдет, я сяду на другом конце болота с ружьем — не для того, чтобы посмотреть на голого бааса, потому что белые люди так страшны, что мне неприятно видеть их без одежды, и потому что они пахнут, да простит меня баас. Я буду сидеть и смотреть, чтобы не приползла другая змея. — Уйди с дороги, грязный маленький негодяй, и перестань наглеть, — потребовал я, предупреждающе поднимая ногу. Он перебрался, приглушенно ворча, на другую сторону зарослей, откуда наблюдал за мной, чтобы быть уверенным, что я не попытаюсь снова выбросить Талисман. Что касается амулета, то я не очень верю в него и в его значительное воздействие на мою судьбу. И хотя он иногда был действительно полезен, я уже и не знаю, было бы лучше или хуже, если бы я выбросил его в ручей. Однако правда состоит в том, что в конце нашего путешествия, когда возникла необходимость спасать другого, я больше не предпринимал попыток снять его с шеи, даже когда от него на коже появился натертый рубец, потому что не хотел задевать предрассудки и самолюбие Ханса. Слава о Великом талисмане простиралась очень далеко от того места, где он был создан, к нему с почтением относились многие люди, даже племя амахаггеров, чему я сам был свидетелем. Первый пример такого поклонения я увидел немного позднее, когда встретил великого воина Умслопогаса, вождя племени топора. По причинам, которые я изложу в свое время, я не хотел идти к этому человеку, но в конце концов сделал это, хотя оставил уже идею перейти через Замбези, чтобы увидеться с таинственной и мистической женщиной-знахаркой, с которой советовал встретиться Зикали. Разговор был пустяковый, но суть его в том, что Открыватель дорог очень хотел, чтобы я проложил для него тропинку, по которой он мог бы ходить по ту сторону добра и зла. К тому времени я убедился, что все же скучаю по ушедшим в мир иной и хочу узнать об их существовании. Любопытно, многие ли понимают, как я, насколько меняются наши настроения, которые ведут нас по жизни, в тот или иной ее момент. То мы лиричны и романтичны, то грубы и действуем силой, иногда мы уверены, что наша жизнь — это сон и тень и настоящее состояние лежит где-то еще, а иногда мы думаем, что жизнь — это бизнес, из которого мы должны извлечь выгоду. Сегодня мы уверены, что наша любовь бессмертна, даже более, чем звезды. А завтра мы понимаем, что это просто тени, которые отбрасывает солнце желания над текущими водами жизни, которые бегут из ниоткуда в никуда. Иной раз наши сердца полны веры, а в другой раз наши надежды и мечты закрыты стеной небытия и бесконечности, точно принадлежат притворщикам или людям глупым, которые только делают вид, что всегда постоянны, и совершенно не меняются… Я решил не только не идти на север, туда, где не найти ни одного живого человека, чтобы показать мою независимость от Зикали, но и не ходить к его вождю, Умслопогасу. Пожалуй, я продам все товары и, когда выручу приличные деньги, вернусь в Наталь, чтобы отдохнуть в моем маленьком домике в Дурбане, о чем я и сообщил Хансу. — Очень хорошо, баас, — ответил он. — Я тоже отправлюсь в Дурбан, тем более что здесь мы все равно не достанем всего, что нам нужно. — И он скосил глаза на пустую бутылку из-под джина, которая была наполнена водой, потому что джин был давно выпит. — Да, баас, мы не увидим Береа очень долго. — Почему ты так говоришь? — спросил я резко. — О, разве баас не ходил к Открывателю дорог и разве тот не велел отправиться на север и не повесил для этого баасу на шею Великий талисман? Говоря это, Ханс набивал трубку золой из костра, все это время глядя на мою грудь, где висел Талисман. — Правильно, Ханс, но мне хочется показать Зикали, что я не его посланник на севере, на юге, на западе или востоке. Значит, завтра утром мы пересечем реку и отправимся в Наталь. — Да, баас, но почему не сейчас? Еще светло. — Мы пойдем завтра утром, — сказал я с той твердостью, которая всегда выдает человека с характером. — И я не изменю своему слову. — Но, баас, иногда поступки живут отдельно от слов. Может быть, у бааса есть нога быка на ужин или другая еда в банке с вмятиной, которую мы купили два года назад? Мухи доели ногу быка, но я выбросил их личинок и доел мясо сам. Ханс был прав, все меняется, особенно погода. Этой ночью внезапно небо посуровело, начался ужасный дождь, задолго до того, как ожидался, и лил три полных дня. Стоит ли говорить о том, что река, которую обычно можно было легко пересечь, к утру превратилась в стремительный поток. И длилось это несколько недель. В отчаянии я отправился на юг, где был брод у реки, который оказался непроходимым. Я попробовал в другом месте, дальше, но и там пройти было сложно из-за болотистой местности. Наконец нашли удачное место у переправы, и мы благополучно перебрались на другой берег, когда внезапно одно колесо застряло в никем не замеченной яме. Мы безнадежно завязли. Я решил оставить фургон по соседству с бродом. Мне пришлось взять быков, принадлежащих кафрам-христианам, и с их помощью вытащить фургон на тот берег, где мы начали свое путешествие. Мы все сделали вовремя, потому что сразу же началась новая буря и новое страшное наводнение. В Англии, где я сейчас нахожусь, везде есть мосты, и никто этого не ценит. Если бы люди об этом задумались, то перестали считать, сколько тратится на их содержание. О, как мне хотелось бы, чтобы они на собственных шкурах почувствовали, что означает отсутствие моста в дикой стране во время проливного дождя! То же самое касается и дорог. Вы должны больше молиться, друзья мои, сказала одна старая женщина своей дочери, у которой родилась двойня. Это могли быть тройняшки! В свете всего этого я признал себя побежденным и отступил, чтобы позволить Провидению прекратить дождь. Перебравшись на другой берег реки, которая раздражала меня своим постоянным бульканьем, я нашел относительно сухое место на степной полянке. Сквозь облака проглянуло солнце, и я увидел на расстоянии одной-двух миль огромную гору, на нижних склонах которой рос густой лес. Верхняя часть горы, голая скала, была похожа на огромную фигуру сидящего человека, подбородок которого как бы упал на грудь. Имелись голова, руки, колени. Вся фигура очень сильно напомнила мне изображение Зикали, которое висело на моей шее, или даже самого Зикали. — Как это называется? — спросил я у Ханса, указывая на этот странный холм, сияющий в отражении злого закатного солнца, которое садилось между штормовых облаков и делало этот образ еще более зловещим. — Это Ведьмина гора, баас, где вождь Умслопогас и его родной брат охотились на волков. Там обитают привидения, а в пещере на вершине горы лежат кости Нады Лилии, самой прекрасной женщины, чье имя звучит как песня. Ее любил Умслопогас[372]. — Ерунда, — сказал я, хотя слышал кое-что об этой истории и помнил, что Зикали, упоминая Наду, сравнивал ее красоту с красотой женщины, которую я знал когда-то. — Где живет вождь Умслопогас? — спросил я. — Говорят, что его город вон там, на равнине, баас. Он называется Место Топора, его окружает река, там живет племя топора. Это сильные люди, и вся страна вокруг не заселена, потому что Умслопогас очистил эти земли от племен, которые раньше жили на ней, сначала с помощью волков, потом — средствами войны. Он такой сильный воин и настолько свиреп в бою, что даже сам Чака боялся его. Говорят, что он убил Дингаана из-за Нады. Кечвайо, нынешний король, тоже оставил его в покое, и тот не платит королю дань. Только я собрался спросить Ханса, откуда у него такая информация, как внезапно раздались какие-то звуки. Подняв голову, я увидел трех высоких мужчин, одетых с ног до головы в одежды гонцов. Они быстро приближались к нам. — Это люди из племени топора, — сказал Ханс и стремительно метнулся к фургону. Я не мог этого сделать, поскольку поспешное бегство грозило потерей достоинства. Хотя я и предпочел бы, чтобы мое ружье было со мной, мне пришлось остаться на скамейке. Я пытался зажечь свою трубку, не обращая ни малейшего внимания на трех грозно выглядевших парней. В их руках вместо ассегаев были топоры. Эти люди подбежали прямо ко мне, подняв их над головой таким образом, что любой человек, не знакомый с привычками зулусов старой школы, мог бы подумать, что они намереваются совершить убийство. Однако, как я и ожидал, они резко остановились в шести футах от меня и встали как статуи. Я продолжал разжигать трубку, как будто вовсе не видел их, и, выдержав положенную паузу, поднял голову и уставился на них, притворившись равнодушным. Затем достал из кармана небольшую книгу — это был экземпляр моих любимых легенд Инголдсби — и принялся читать. Тот абзац в книге, где «топор» был заменен на «нож», был вполне подходящим. Это была «История няньки»: «О, что же это — видеть нож в руке врага, без надежды на сопротивление или отражение удара!» Трое с топорами стояли пораженные, лишившись дара речи. Наконец тот, что был в центре, спросил: — Эй, белый человек, ты слепой? — Нет, чернокожий приятель, — ответил я. — Но я близорук. Не будешь ли ты так добр повернуться лицом к свету? Эта фраза настолько изумила их, что все трое отошли на несколько шагов назад. Тогда я стал читать дальше: «Понятно, что жизнь никогда не вернется в убитое тело, если нож прошел по его венам». В моем положении это уже был намек, поэтому я закрыл книгу и встал: — Если вы бродяги и ищете еду, что заметно по вашей худобе, то мои слуги дадут вам все, что можно, хотя мне очень жаль, что мяса у нас мало. — О, — произнес один из них, — он назвал нас бродягами! Это или очень великий, или очень глупый человек! — Вы правы, я великий человек, — ответил я, зевая. — А если вы будете и дальше беспокоить меня, то увидите, что я могу быть и сумасшедшим. Что вам надо? — Мы посланцы великого вождя Умслопогаса, вождя племени топора. И мы пришли за данью, — ответил человек изменившимся тоном. — Неужели? Но вы не получите ее. Я думал, что лишь один король зулусов может собирать дань. А вашего вождя, случаем, зовут не Кечвайо? — Наш вождь — король, — ответил человек еще более неуверенно. — В самом деле? Тогда возвращайтесь к нему и скажите своему королю, о котором я никогда не слышал, что у меня есть сообщение для некоего Умслопогаса. О том, что Макумазан, Бодрствующий в ночи, хочет посетить его завтра, если он даст проводника, чтобы показать лучшую дорогу для фургона. — Слушайте, — сказал воин своим товарищам, — а ведь это не кто иной, как Макумазан. Кто бы еще осмелился… Затем они отсалютовали мне своими топорами, прокричали «Господин!» и другие почетные имена, а затем ушли так же, как пришли, сообщив, что мои слова будут переданы кому следует и, без сомнения,Умслопогас вышлет проводника. Вот таким образом, вопреки моим намерениям, обстоятельства привели меня в лагерь Умслопогаса. Видит бог, я не хотел идти туда до последнего, но, когда с меня потребовали дань, я понял, что это лучший выход. Дав однажды слово, я не мог отменить его. На самом деле я чувствовал, что у меня будут проблемы и мои быки будут украдены или случится что-то худшее. Да, судьба распорядилась именно так. По мнению Ханса, во всем виноват был Зикали. Или его Великий талисман. Я пожал плечами и стал ждать.Глава 3
ИЗ ПЛЕМЕНИ ТОПОРА
На следующее утро на поляне появились гонцы, приведя с собой запряженных быков, что означало, что их вождь действительно хотел встретиться со мной. Что же, мы запрягли их в наш фургон и пошли, а гонцы вели нас по диковатой, но удобной дороге вниз к холмам, к долине, похожей на блюдце, которая лежала под нами. Я увидел там большое стадо пасущихся животных. Пройдя несколько миль по этой долине, мы добрались до неширокой реки, которая окружала кафрский город с трех сторон, а четвертая была защищена небольшой полосой холмов. Кроме того, место было ограждено частоколом с висящими на нем человеческими головами. С помощью быков мы пересекли реку вброд, хотя вода местами доходила до шеи. На другой стороне реки нас ожидала группа высоких, похожих на солдат мужчин, вооруженных топорами, как и гонцы. Они привели нас к загону для скота в центре города. Он не только охранял животных в случае опасности, но и служил для сбора населения, являясь общественной площадью. Здесь как раз проходила некая церемония, поскольку солдаты оцепили крааль, в то время как глашатаи что-то выкрикивали с важным видом. Перед главным домом вождя стояла небольшая группа людей, в которой выделялся огромный человек, сидевший на троне. На нем была одежда воина с огромным и очень длинным топором с ручкой из рога носорога, свисавшей до его колен. Наши провожатые подвели меня к трону, в то время как Ханс крался за мной через крааль, как унылый невоспитанный пес (поскольку наш фургон остался за воротами), где кричали глашатаи и зевал большой человек. Это был видный мужчина, высокий и широкоплечий, с длинными крепкими руками и мужественным лицом, которое напомнило мне последнего короля зулусов Дингаана. На голове у него был виден большой шрам над виском. Его острые глаза смотрели повелительно, по-королевски. Он увидел меня и, не отрывая пристального взгляда, начал кричать: — О! Белый человек пришел побороться со мной за место вождя племени топора? О, какой он маленький! — Нет, — ответил я тихо. — Я — Макумазан, Бодрствующий в ночи, пришел к тебе в ответ на твою просьбу, о Умслопогас. Я — Макумазан, чье имя было известно на этой земле, когда о тебе еще не говорили, о Умслопогас. Вождь услышал и встал со своего трона, салютуя топором. — Я приветствую тебя, о Макумазан, — сказал он. — Хоть ты и невысок ростом, ты очень известен. Разве я не слышал, как ты победил Бангу, хотя Садуко уничтожил его, а как ты забрал шестьсот голов скота у Тшозы и людей амангвана, которые дрались с тобой, а скот это был твой собственный? Разве я не слышал, как ты повел Тулвану против Усуту и растоптал три полка Кечвайо в дни Панды? К счастью, я был связан клятвой и не принимал участия в этой битве — не имею ничего общего с теми, в ком течет кровь Сензангаконы[373]. О да, я слышал эти и другие истории о тебе, хотя никогда не видел тебя, о Бодрствующий в ночи. Так что приветствую тебя, отважный, хитроумный, честный друг черных людей. — Спасибо, — ответил я. — Но ты сказал что-то о борьбе. Если ты хочешь бороться, я готов! — И я достал ружье, которое носил с собой. Грозный вождь засмеялся и сказал: — Послушай… По древним законам любой мужчина в этот день каждый год может побороться со мной за трон вождя. Так я победил предыдущего претендента. Он может забрать у меня мою жизнь и мой топор, хотя в последнее время этого не случалось. Но закон был придуман до того, как появились ружья или люди, подобные Макумазану, который, как я слышал, может попасть в ящерицу на стене с расстояния в пятьдесят шагов. Если ты хочешь победить меня из ружья, я уступлю, и ты станешь вождем. — И он снова зловеще засмеялся. — Я думаю, что сейчас слишком жарко для битвы на топорах или с ружьями, а трон вождя — это мед, в котором много пчел, — ответил я. Затем я сел на скамейку, поставленную передо мной рядом с Умслопогасом, после чего церемония продолжилась. Глашатаи начали созывать вместе всех, кто хотел побороться за звание Владыки топора, но безрезультатно, поскольку никто не хотел драться. Затем, после паузы, Умслопогас встал, взмахнул своим огромным топором над головой и провозгласил себя вождем племени на текущий год, что было встречено всеми без особого удивления. Теперь глашатаи стали созывать всех, кто имел какие-либо жалобы, чтобы они подошли, высказали их и получили достойный ответ или компенсацию. После небольшой паузы появилась очень красивая женщина с огромными глазами. Было видно, что она кого-то искала в толпе. Она была прекрасно одета, и по орнаменту на ее одеянии я понял, что это жена вождя. — Я — Монази, я хочу пожаловаться, — сказала она. — Поскольку сегодня имею на это скромное право. После Зиниты, которую Дингаан бросил с детьми, я твоя главная жена, о Умслопогас. — Я это знаю, — ответил тот. — А в чем дело? — В том, что ты предпочитаешь мне других женщин, как ты предпочел Зините Наду Прекрасную, Наду-ведьму. Я бесплодна, как и все твои жены, из-за того проклятия, которое Нада наложила на нас. Я требую, чтобы это проклятие было снято. Ради тебя я покинула вождя Лоусту, с которым была обручена, и вот к чему это привело: я бесплодна и ты предпочитаешь других. — Клянусь Небесами, как я могу заставить тебя родить, женщина? — спросил Умслопогас с недоумением. — Ты можешь вернуться к Лоусте, моему брату и другу, по которому ты так горюешь, и оставить меня в покое. — У меня был бы шанс, если бы ко мне так не относились, — отвечала Монази, блеснув глазами. — Ты выгонишь свою новую жену и вернешь меня на мое место, а также снимешь с меня проклятие Нады. Или нет? — Во-первых, — ответил Умслопогас, — знай, Монази, что я не брошу мою новую жену, которая, по крайней мере, воспитана лучше, чем ты, и обладает более чистым сердцем. Во-вторых, ты просишь того, чего я выполнить не в силах, это могут только Небеса, и бесплодие — их наказание. Кроме того, ты напрасно назвала имя той, кто мертва и которая была самой прекрасной и самой невинной из всех женщин. И последнее: я предупреждаю тебя, пока люди не пострадали из-за твоих козней и заговоров с Лоустой — как бы не пострадал он, хотя он и мой брат. А может быть, ты или вы оба. — Заговоры! — вскричала Монази пронзительным злым голосом. — Умслопогас говорит о заговорах? Да, я слышала, что Лев Чака оставил сына и этот сын расставил ловушки тому, кто сидит на троне Чаки. Может быть, король тоже слышал об этом? Может, у племени топора скоро будет новый вождь? — И что? — тихо спросил Умслопогас. — Его будут звать Лоуста? Затем его затаенный гнев выплеснулся наружу, и он прокричал громоподобным страшным голосом: — Что мне делать с женами, которые предают меня и приводят к смерти? Зинита предала меня ради Дингаана и в награду за это была убита моими врагами вместе с детьми. Теперь ты, Монази, предаешь меня ради Кечвайо — хотя предаешь напрасно. Подумай, и пусть Лоуста тоже подумает о том, что случилось с Зинитой и что ожидает тех, кто встанет перед топором Умслопогаса. Что я сделал такого, что женщины спорят из-за меня? — То, — ответила Монази со зловещим смехом, — что ты слишком любил одну из них. Тот живет спокойно, кто относится ко всем женам одинаково. Меньше всего он должен оплакивать постоянно ту, которой уже нет и которая оставила после себя проклятие и сделала ужасной жизнь всех остальных. Кроме того, он должен быть мудрым, уделяя внимание своему племени, и должен беречься от желаний, которые могут заставить его взять в руки ассегай. — Я услышал твой совет, жена, теперь уходи! — сказал Умслопогас, бросив на нее очень странный взгляд, в котором, как мне показалось, таился испуг. — У тебя есть жены, Макумазан? — спросил он меня низким голосом, когда его жена ушла. — Только среди духов, — ответил я. — Тебе повезло. В этом мы похожи: у меня тоже была одна верная жена и она тоже сейчас находится среди духов. Иди отдыхай, потом поговорим. Итак, я ушел, оставив вождя наедине с его проблемами, думая о том сообщении, которое я должен был ему передать, и о том, что в этом сообщении были имена, которые я только что слышал: о мужчине по имени Лоуста и женщине по имени Монази. Также я подумал о тех намеках Монази, которая из-за своей ревности и разочарования от невозможности иметь детей плела заговор против того, кто сидел на троне Чаки. Я отправился в гостевой дом, удобный и чистый, где нашел разнообразную еду для себя и своих слуг. После обеда я немного поспал, как делал всегда, когда у меня не было особых дел, поскольку не знал, как долго придется бодрствовать ночью. В самом деле, не успело солнце опуститься, как появился гонец, сказав, что вождь желает меня видеть, если я уже отдохнул. Я отправился в его большую хижину, окруженную оградой, которая стояла на некотором расстоянии, чтобы никто не мог войти и подслушать, о чем там говорят. В доме была даже дверь, что, вообще-то, несвойственно жилищам зулусов. Я обнаружил, что вокруг ограды хижины время от времени прохаживался охранник с топором. Вождь сидел на скамейке около двери, также с топором в руках, который был привязан к его правому запястью узким ремнем. С его широких плеч свисала волчья шкура. Лицо его, на котором лежал красный отсвет заходящего солнца, выглядело очень суровым и злым. Он поприветствовал меня и предложил сесть на другую скамейку. Внезапно он посмотрел мне в глаза и заговорил: — Я вижу, что, подобно другим созданиям, которые передвигаются по ночам, леопардам и гиенам, ты обращаешь внимание на все, даже на воина, который охраняет это место, на ограду и ворота. — Если бы я не делал этого, то был бы давно мертв, о вождь. — Да, и поскольку я не привык так делать, я скоро умру. В этой битве недостаточно быть сильным и все предвидеть, Макумазан. Тот, кто хочет спать спокойно и о ком после его смерти будут говорить «Он съел» (то есть прожил свою жизнь), должен сделать нечто большее. Он должен не только хранить в тайне свои мысли и уметь держать язык за зубами, но и слышать шуршание крыс в высоком тростнике и видеть змей в траве, он должен доверять всего лишь нескольким людям, и меньше всего самым близким. Но тот, в ком течет кровь льва, или те, кто склонен нападать на врага подобно буйволу, презирают эти условности и в конце концов попадают в западню. — Да, — ответил я. — Особенно те, в ком течет кровь льва. И не важно, кто этот лев — человек или зверь. Я сказал так потому, что слышал сплетни, что в действительности этот убийца был сыном Чаки. Не зная, отреагирует он или нет на слово «лев», которое было титулом Чаки, я хотел откровенного разговора, особенно потому, что видел в нем сходство с братом Чаки Дингааном, которого, как поговаривали, этот Умслопогас и убил. Но я потерпел неудачу, потому что после паузы он спросил меня: — Зачем ты пришел ко мне, Макумазан? — Я не сам пришел к тебе, Умслопогас. Я не хотел этого делать. Ты привел меня, или течение реки и ты вместе привели меня. Я хотел отправиться в Наталь, я не хотел пересекать поток. — Да, я думаю, что у тебя, наверное, есть для меня послание, белый человек, потому что не так давно один белый знахарь пришел ко мне и сказал, чтобы я ожидал тебя и что у тебя есть что мне передать. — Правда, Умслопогас? У меня действительно есть сообщение для тебя, хотя я очень не хотел доставлять его тебе. — Теперь ты здесь, значит ты доставил его, Макумазан, потому что, если тот, у кого есть сообщение, не говорит об этом, он легко может попасть в неприятное положение. — Да, находясь уже здесь, я доставлю его, хотя мне кажется, что это судьба. Скажи мне, ты знаешь маленького человека, некоего старика, чей мозг молод, доктора, которого называют Открывателем дорог? — Я слышал о нем, как слышало много поколений до меня. — Если тебя не затруднит, Умслопогас, не скажешь ли ты имена предков, которые слышали об этом докторе? — Ты не можешь их знать, — ответил Умслопогас коротко. — Поскольку о них нельзя говорить с живущими на этой земле. — Неужели? Я думал, что это правило распространяется только на имена королей, но, конечно, я всего лишь белый человек, который может не знать обычаев зулусов. — Да, Макумазан, ты можешь ошибаться или нет. Это не имеет значения. Но что за послание ты должен мне передать? — Оно будет в конце долгой истории, о Булалио. Но перед тем как ты все узнаешь, ты должен услышать слова именно так, как я их запомнил. Затем предложение за предложением я повторил все, что сказал мне Зикали после того, как заставил вернуться к себе. Без сомнения, он сделал это специально, чтобы я хорошенько все запомнил. Умслопогас слушал внимательно каждое мое слово с огромным любопытством, потом попросил повторить, что я и сделал. — Лоуста, Монази! — громко сказал он. — Ты слышал сегодня эти имена, не так ли, белый человек? Сегодня ты слышал некие слова из уст Монази, которая была очень рассержена. Мне кажется, — добавил он, быстро оглядываясь и говоря очень тихо, — я подозреваю, что это правда. Без сомнения, меня предали. — Я не совсем понимаю, — ответил я равнодушно. — Весь этот разговор для меня — темный лес, как и послание Открывателя дорог, что бы оно ни значило. Кто и в чем тебя предал? — Пусть змея пока спит. Не трогай ее. Для тебя важно знать, что моя жизнь зависит от этого. Я как крыса на вилах. Один удар сильной рукой — и где эта крыса? — Я знаю, где все крысы, если они не настолько умны, чтобы укусить руку, которая держит вилы, прежде чем нажать на них. — Где же предыдущая история, Макумазан, которая была еще до того, как Открыватель дорог передал тебе это послание? Не мог бы ты повторить, чтобы мои уши смогли услышать и оценить ее? — Конечно могу, — ответил я, — но с одним условием. То, что слышит ухо, остается лишь в одном сердце. Умслопогас встал и, положив руку на широкое лезвие своего оружия, лежавшего перед ним, сказал: — Клянусь топором! Если я нарушу клятву, то приму смерть от моего топора. Тогда я рассказал ему историю, как уже сделал до этого, думая о том, что простой воин толком не поймет ее. Однако я ошибался, поскольку он, кажется, многое понял, потому что такие необразованные существа находятся гораздо ближе к природе и ее секретам, чем мы себе это представляем. А может быть, тому были и другие причины, о которых я узнал позднее. — Так и есть, — сказал он, когда я закончил, — или я так думаю. Ты, Макумазан, ищешь каких-то женщин, которые уже умерли, чтобы узнать, живы ли они или действительно исчезли, но ты не смог найти их. Ища их, ты спросил совета Зикали, Открывателя дорог, который, помимо прочих своих титулов, также зовется Повелителем духов. Он ответил, что не сможет удовлетворить твою просьбу, поскольку дерево слишком высоко, чтобы залезть на него, но далеко на севере живет белая ведьма, чьей власти хватит на то, чтобы взлететь на вершину любого дерева, и к этой женщине он направил тебя. Пока правильно? Я согласился с его рассуждениями. — Хорошо! Тогда Зикали предложил выбрать компаньонов для твоего путешествия, но только двоих, оставив охрану или слуг. Я, Умхлопекази, называемый Булалио, или Убийца, называемый также Дятел, был одним из них, а эта маленькая желтая обезьяна, которую я видел сегодня с тобой, по имени Ханс, — другим. Тогда ты захотел посмеяться над Зикали, решив не идти ко мне, Умхлопекази, и не отправиться на север в поисках Белой королевы по его приказу, а вернуться в Наталь. Верно? Я снова с ним согласился. — Но внезапно пошел дождь, подули ветры, и река разлилась настолько, что ты не смог вернуться в Наталь. И по воле судьбы, или случайно, или по воле Зикали, мудреца и колдуна, ты прибыл сюда, в крааль Умхлопекази, и рассказал мне эту историю. — Все именно так, — ответил я. — Итак, белый человек, как я могу быть уверен в том, что это не ловушка для меня или не петля, которая может затянуться вокруг моей шеи? Какой знак ты принес мне? Как я могу поверить, что Открыватель дорог действительно прислал мне это послание, доставленное столь странным способом посланником, который хотел отправиться в другую сторону? Маленький знахарь сказал, что тот, кто придет ко мне, несет на себе некий знак. — Я не могу объяснить, — ответил я, — по крайней мере словами. Но, — добавил я после паузы, — поскольку ты спросил про знак, возможно, я могу показать тебе нечто, что будет для тебя доказательством. Если здесь есть потайное место… Умслопогас подошел к воротам ограды и увидел, что стража на своем посту. Затем он обошел вокруг хижины, поднимая глаза на крышу, и прошептал, когда вернулся: — Однажды меня поймали таким образом. Здесь жила одна из моих жен, которая подслушивала около дымохода. И это привело к смерти множества людей, в том числе к смерти ее и наших детей. Заходи. Здесь безопасно. И если ты будешь говорить, то сделай это как можно тише. Мы вошли в хижину, поставили наши скамейки и сели у горящего огня, в который Умслопогас бросил поленья какого-то смолистого дерева. — Итак, приступим, — сказал он. Я расстегнул рубашку и при ярком свете огня показал ему изображение Зикали, висевшее на моей шее. Он уставился, глядя на него и как бы сквозь изображение. Затем встал и, подняв над головой топор, отсалютовал Талисману, сказав: «Макози!» Таким словом приветствуют великих мудрецов, поскольку считается, что они являются прибежищем духов. — Это Великий талисман, — сказал он. — Он был известен на земле со времен Сензангаконы, основателя династии зулусов, и даже до него. — Как это может быть? — спросил я. — Если это изображение Зикали, Открывателя дорог, старого человека, а Сензангакона умер много лет назад? — Я не знаю, — ответил вождь племени топора. — Но это так. Был некий Мопо, или, как его называли, Амбопа, который был телохранителем Чаки и моим приемным отцом. Он поведал мне, что дважды этот Талисман, — и указал мне на него, — был отправлен к Чаке, и каждый раз Лев подчинялся тем сообщениям, которые передавались вместе с ним. В третий раз он не подчинился — и где теперь Чака? Умслопогас поднес руку к своему рту — это прощальный жест у зулусов. — Мопо… — задумчиво произнес я. — Мне известна история про Мопо, а также и то, что тело Чаки стало его слугой в конце концов, когда Мопо убил его с помощью принцев Дингаана и Умлангаана. А еще я слышал, что этот Мопо до сих пор жив, хотя и скрывается не в стране зулусов. — Неужели это все тебе известно, Макумазан? — спросил вождь, взяв нюхательный табак из коробочки и пристально глядя не меня. — Мне кажется, что ты слишком много знаешь, Макумазан, слишком много — так могут подумать другие люди. — Да, — ответил я. — Может быть, я действительно много знаю, даже больше, чем хочу знать. Например, о приемный сын Мопо и сын женщины по имени Балека, я знаю некоторые интересные вещи о тебе. Умслопогас привстал, грозно взглянул на меня, потом положил руку на топор, вытащив его наполовину. Затем он снова сел. — Я думаю, что это, — я указал на изображение Зикали на своей груди, — остановит даже лезвие топора, прекращающее жизнь. Поскольку дальше ничего не случилось, я продолжал: — Например, как я мог узнать, что Балека, мать некоего вождя, не была сестрой Чаки? Просто состоялся заговор против сына Панды, который сидит на троне, и этот заговор был раскрыт, а его жизнь в опасности… — Макумазан, — грубовато прервал меня Умслопогас. — Я скажу тебе, что, если бы не Великий талисман, висящий на твоей шее, я бы убил тебя прямо здесь и похоронил бы под этим самым полом, так как твои домыслы переходят все границы. — Это было бы твоей ошибкой, Умслопогас, одной из многих. Но поскольку на мне Талисман, этот вопрос не встает, не так ли? Умслопогас поднялся со скамьи и медленно вышел из хижины, очевидно, чтобы что-то проверить. Некоторое время спустя он вернулся и заметил, что ночь сегодня ясная, хотя на горизонте видны тяжелые облака. Это была зулусская метафора, означавшая, что мы можем говорить безопасно, однако опасность все-таки была неподалеку. — Макумазан, — сказал он, — мы беседуем под охраной Открывателя дорог, который находится у тебя на сердце и чей знак ты принес мне, как будто он прислал мне свое слово, не так ли? — Думаю, да, — ответил я. — В любом случае мы говорим как мужчина с мужчиной, и до сих пор честь Макумазана не была опорочена в стране зулусов. И если тебе есть что сказать, вождь Булалио, говори сейчас, потому что я утомился и хочу есть и спать. — Хорошо, Макумазан, я скажу. Я — сын того, кто более велик и занял трон страны зулусов с помощью заговора. Это правда. Потому что я устал от образа вождя-бездельника. Более того, я мог бы преуспеть с помощью Зикали, который ненавидит династию Сензангаконы, хотя меня, в котором течет их кровь, он уважает. Но из его сообщения и из тех слов, которые произнесла злая женщина, я понимаю, что меня предали. И что сегодня ночью, или завтра утром, или к следующей луне меня могут убить, нанесут смертельный удар еще до того, как я смогу защититься. — Кто предал тебя, Умслопогас? — Я думаю, что моя жена. И Лоуста, мой кровный брат, вокруг которого она сплела свою сеть и обманула меня. Он надеется получить ее, потому что всегда любил, а вместе с ней — трон вождя племени. И что я могу сделать? Ответь мне ты, человек, чьи глаза видят в темноте. Я подумал немного и сказал: — Я думаю, что, если бы я был на твоем месте, я оставил бы Лоусту на троне вождя племени, а сам отправился на север. Если проблема возникнет в Большом доме, где сидит король, Лоуста сможет доказать, что его племя невинно, а ты далеко. — Это стоит внимания. Это говорит Великий талисман. Действительно, если я уйду на север, кто сможет доказать, что я принимал участие в заговоре? Если я оставлю предателя на моем месте, кто скажет, что я предатель, который оставил на своем месте другого и покинул свою землю по личным делам? А теперь поведай мне о своем путешествии. И я рассказал ему все, хотя до этого момента не собирался отправляться в путешествие. Я пришел в этот крааль случайно и случайно доставил сообщение. Или мне казалось, что случайно. — Ты хочешь посоветоваться с Белой колдуньей, которая, по словам Зикали, живет далеко на севере? Я тоже хочу встретиться с мертвыми. Мне интересно, что случилось с одной из жен моей юности, которая была и моей сестрой, и другом, и женой, которую я любил больше всех на свете. Также я хочу узнать о брате, чье имя я никогда не произношу, который командовал волками вместе со мной и умер на моей стороне у той Ведьминой горы, в великой и славной битве. О нем и той любимой женщине я думаю днем и ночью и могу увидеться с ними снова, если погибну как воин. Ты понимаешь меня, Бодрствующий в ночи? Я ответил, что сочувствую и понимаю его, этот случай похож на мой. — Возможно, — продолжал Умслопогас, — что весь этот разговор о мертвых, которые живут после своей смерти, всего лишь звук ветра в камышах по ночам, который уходит в никуда, приходит ниоткуда и не значит ничего. Но это будет наше великое путешествие, в котором найдется место борьбе и приключениям, поскольку хорошо известно, что там, где Макумазан, довольно и того и другого. Кроме того, как говорил Зикали, я должен покинуть страну зулусов на некоторое время, поскольку хочу погибнуть как мужчина, а не попасть в западню, как шакал. И мы должны согласиться, что, хотя я и жесток временами, никто из нас не оставит другого в беде, хотя в маленькой желтой собаке я не очень уверен. — Я отвечаю за него, — ответил я. — Ханс — хитрый человек, хотя и пьет иногда. Затем мы обсудили планы нашего путешествия, о том, когда и где мы можем встретиться. Мы говорили до темноты, после чего я отправился спать в свой домик для гостей.Глава 4
ЛЕВ И ТОПОР
На следующий день рано утром я покинул город племени топора, формально попрощавшись с Умслопогасом, сказав так, чтобы все слышали, что, покуда реки полноводны, я отправляюсь на север страны зулусов, чтобы поохотиться там, пока погода не улучшится. Однако при личной беседе мы договорились, что в ночь следующей полной луны, которая наступит через четыре недели, мы встретимся у восточного подножия одной известной лишь нам горы. Она находится на севере страны зулусов, но вне ее границ. Итак, я отправился на север, стараясь беречь быков и охотясь по дороге. Подробности не имеют значения, но могу сказать, что такой удачи у меня не было уже долгие годы. Я провел несколько удачных сделок со скотом и в довершение всего купил огромное количество слоновой кости так дешево, что заподозрил, что она была украдена. Хотя я покупал в кредит, пока не продал все свои товары, но моя репутация в стране зулусов помогла мне. Скот и кость я отправил в Наталь одному белому приятелю, которому я мог доверять. Все было продано, и деньги, полученные на мой счет, были переданы местным торговцам. Я оказался настолько удачлив, что если бы имел такие же предрассудки, как Ханс, то приписал бы это действию Великого талисмана. Хотя это был всего лишь шанс, который изредка выпадает в жизни торговца, я принимал его как должное, поскольку равно привык и к поражениям, и к победам. Но однажды со мной случилось странное происшествие. Внезапно мой фургон атаковали воины короля под командой известного индуны. Он настаивал на обыске моего фургона в связи, я думаю, с моей покупкой дешевой слоновой кости, которая уже отправилась в Наталь. Однако ни слова упрека сказано не было, и ни одна моя вещь не пропала. Я был очень возмущен и взволнован действиями индуны. Со своей стороны, он все время извинялся и говорил, что вынужден подчиняться приказам короля. Он также сообщил, что ищет некоего «злодея», который может находиться рядом со мной, а я при этом ничего о нем не знаю. Этот «злодей», чье имя нельзя произносить, как сказал индуна, очень опасный человек, и с ним надо быть настороже. Я подумал об Умслопогасе, но лишь пожал плечами и недоуменно посмотрел на него, промолвив, что не имею привычки общаться со «злодеями». Тогда индуна, все еще неудовлетворенный, начал расспрашивать меня, где я бывал во время своего путешествия в стране зулусов. Со всей учтивостью и прямотой я упомянул — поскольку понимал, что он и так все знает, — о городе племени топора. Затем он спросил меня, не видел ли я вождя, некоего Умслопогаса. Я ответил, что да, я встретил его впервые и нашел, что он весьма выдающийся человек. С этим индуна решительно согласился, сказав, что я, возможно, не знаю, насколько тот известный человек. Потом он осведомился у меня, где Умслопогас сейчас, на что я ответил, что не имею ни малейшего представления, но думаю, что в краале, где я встречался с ним. Индуна объяснил, что в краале его нет, что он ушел, оставив Лоусту и свою собственную жену Монази осуществлять руководство племенем, поскольку, как он им объявил, хочет отправиться в путешествие. Я сделал вид, что устал от разговоров об этом вожде и о его делах. Затем индуна объявил, что я должен отправиться к королю и повторить тому все, что я сказал ему. Я ответил, что, к сожалению, не могу, поскольку, закончив торговлю, собирался отправиться на север пострелять слонов. На что индуна ответил, что слоны живут долго и подождут, пока я посещу короля. Но тут в дело вступил аргумент, который прекратил всякие препирательства по поводу похода к королю, даже если бы меня пришлось вести силой. Я молча сидел, думая, как поступить, и нагнулся к костру, чтобы взять горящую головешку и зажечь свою трубку. Моя рубашка была расстегнута, открывая амулет с изображением Зикали, который висел у меня на шее. Индуна увидел его, и его глаза наполнились страхом. — Спрячь его! — прошептал он. — Спрячь его, пока он не заколдовал меня. Я чувствую себя так, как будто уже нахожусь в его власти. Это же Великий талисман! — Это определенно случится с тобой, если ты будешь настаивать на моем визите к королю или встанешь на моем пути, куда бы я ни двинулся! — И я потянулся к Талисману, глядя в лицо индуны. — Наверное, совершенно нет необходимости в твоем визите к королю, — сказал он неуверенно. — Я доложу ему, что ты ничего не знаешь о злодее. И он отправился восвояси в такой спешке, что даже не стал со мной прощаться. На следующее утро я также тронулся в путь и двигался неуклонно вперед, пока не покинул страну зулусов. Без особых приключений, поскольку влажная и дождливая погода сменилась сухой, мы добрались до огромной горы с плоской вершиной, которую я упоминал. Саванна, по которой мы ехали, оказалась почти непроходимой для нашего фургона. Холм, известный местным жителям как Гора с плоской крышей, был окружен лесом, поскольку в этой влажной местности леса быстро росли. Я достиг его восточного подножия, мы разбили там лагерь и стали ждать. Осталось ждать пять дней до того момента, когда мы должны были встретиться с Умслопогасом. Я не был уверен, что повстречаюсь с ним, потому что, во-первых, в последний момент он мог просто поменять планы, а во-вторых, потому, что он мог отправиться к королю против собственной воли, как мне и сказал индуна. Мне было ясно, что индуна хотел открыть ему глаза на серьезный заговор против Кечвайо, в котором он был партнером старого карлика Зикали или, скорее, его орудием. Также Умслопогас понял, что заговор был раскрыт, в результате чего он опасался преследования. У него было мало шансов успешно пройти через территорию страны зулусов безопасно. Связав это воедино, я подумал, что видел его суровое лицо и древний топор в последний раз. По правде говоря, я был счастлив. Хотя сначала эта идея и приходила мне в голову, но я не хотел брать этого неудобного спутника в поход сквозь неизвестные земли в поисках слишком известной персоны, которая обитает в стране Замбези. Я оказался вовлечен в опасное мероприятие. Но если бы Умслопогас не появился, моя миссия подошла бы к концу и я мог бы вернуться в Наталь и наслаждаться там бездельничаньем. Главное, я хотел поохотиться, поскольку нашел огромное стадо слонов в лесу. Я очень хотел поохотиться, но Ханс предупредил меня, что, если мы отправимся на север, тащить слоновую кость не хватит сил, особенно если мы хотим оставить фургон. Я как охотник был слишком стар, чтобы получать удовольствие от простого убийства животных. Я решил отдохнуть, оставив быков пастись в высокой траве, которая росла на склонах горы, где мы разбили лагерь не более чем в ста ярдах от леса. Когда-то здесь была деревня, возможно, зулусы ушли отсюда много лет назад. Я нашел человеческие кости, почерневшие от долгого лежания в траве. Однако крааль для скота остался нетронутым и в таком хорошем состоянии, что, установив несколько камней и закрыв входы, мы могли использовать его, чтобы запереть наших быков на ночь, ведь вокруг могли быть львы, хотя я не видел и не слышал их. Дни протекали незаметно, еды было достаточно. Если возникала потребность в мясе, мне нужно было пройти всего лишь несколько ярдов, чтобы пристрелить дикого быка, потому что они приходили на водопой каждый вечер, а в те дни стояла полная луна. Этому я тоже радовался, потому что, по правде говоря, начинал скучать. Отдых — это хорошо, но для человека, который привык вести активный образ жизни, слишком много отдыхать тоже плохо, поскольку это вызывает депрессию. От Умслопогаса не было ни слуху ни духу, поэтому я решил, что завтра утром отправлюсь охотиться на слонов и когда пристрелю нескольких или промахнусь, то вернусь в Наталь. Я чувствовал, что не смогу больше валять дурака, я никогда не умел этого делать, может быть, поэтому так наслаждаюсь жизнью в Англии, записывая свои воспоминания. В серебряном небе появилась полная луна, и я решил собираться в путь. Час или два спустя меня разбудил странный шум, доносившийся из крааля, где находился скот. Поскольку шум не повторялся, я снова лег спать. Затем мне в голову пришла странная мысль: я не мог вспомнить, видел ли ворота крааля закрытыми, поскольку привык делать это машинально. Именно такие ощущения испытывает человек, живущий в городе, когда среди ночи внезапно просыпается, вылезает из кровати и идет проверять, погасил ли он свет. Всегда оказывается, что света нет, но в следующую ночь представление повторяется. Я подумал, что, может быть, шум вызван тем, что быки смогли открыть плохо запертый вход в крааль. В любом случае это надо было проверить. Я не стал будить Ханса и других людей, надел ботинки и накидку и вышел. Взял с собой только заряженное одноствольное ружье, которое использовал для выстрелов в маленьких быков, не перезаряжая. Перед воротами, ведущими в крааль, стояло большое фиговое дерево. Встав под ним, я увидел, что ворота плотно закрыты. Значит, я закрыл их перед заходом солнца. Я отошел назад, но не сделал и двух-трех шагов, как в ярком свете луны увидел, как голова моего самого маленького быка зулусской породы внезапно появилась на верхушке стены. В этом не было бы ничего странного, если бы не тот факт, что голова принадлежала мертвому быку, о чем я мог судить по его закрытым глазам и высунутому языку. — Ради всего святого… — начал бормотать я и тут же заметил еще одну голову. Но теперь это был самый большой лев, которого я когда-либо видел. Он схватил быка за горло и с огромной силой, которой обладают эти существа, перекинул через стену, чтобы полакомиться в свое удовольствие. Это чудовище находилось в двадцати футах от меня, более того, лев видел меня так, как я видел его. Он замер, все еще держа быка за горло. Какой шанс для охотника Аллана Квотермейна! Конечно, он выстрелит, мог бы подумать любой человек, знающий мою репутацию и то, что мой выстрел — это дар Божий. В самом деле, я мог бы выстрелить даже из той игрушки, которую держал в руках. Пуля должна была пройти через мягкие ткани его горла и попасть в мозг, что убило бы льва, как убило бы и Юлия Цезаря. Теоретически это было достаточно легко, хотя я и немного испугался зверя в первый момент. Но когда сжал в руках ружье, страха уже не было. Но вышла осечка, и ошарашенное чудовище застыло. Затем случилось нечто неожиданное, как это обычно бывает в жизни, особенно на охоте, что в моем случае — часть жизни. Я выстрелил снова, но, к сожалению, пуля попала в кончик рога проклятого быка, голова которого находилась в этот момент напротив горла льва, куда я бессознательно целился. Итог: пуля отскочила вбок, слегка задев шею льва, хотя достаточно глубоко, чтобы причинить боль, что привело его в дикое бешенство. Отбросив быка, лев издал ужасный рев, и я помню лишь, что всего несколько ярдов отделяло меня от похожей на пещеру пасти, полной острых блестящих зубов. Я отскочил назад и немного в сторону, потому что больше ничего сделать было нельзя. Великий талисман Зикали не смог бы меня спасти. Лев уже был на моей стороне стены. Находясь немного выше меня слева, он встал на задние лапы. И тут случилось странное. Внезапно позади меня возникла тень огромного поднятого топора. Тень исчезла, затем появилась другая тень — это была лапа льва, которая упала на землю. Затем раздался ужасный рев, и началась такая схватка, которой я не мог себе даже вообразить. Высокий и мощный черный воин боролся с громадным львом, который, потеряв переднюю лапу, встал на задние лапы, продолжая драться. Мужчина в полном молчании сделал выпад, отскочил назад и нанес зверю удар такой силы, что тот стал заваливаться в сторону. Топор снова мелькнул в воздухе и, прежде чем лев смог подняться или сделать что-то еще, обрушился на его череп, войдя глубоко в кость. Все было кончено — голова льва раскололась на две части. — Я пришел вовремя, Макумазан, — сказал, отдышавшись, Умслопогас, а это был именно он, с трудом вытаскивая топор из черепа льва, — чтобы увидеть, как ты разгуливаешь по ночам. — Нет, — возразил я, поскольку его тон раздражал меня. — Ты опоздал, Булалио, луна взошла несколько часов назад. — Я сказал, Макумазан, что появлюсь в ночь полной луны, а не в ночь, когда она взойдет. — Верно, — ответил я, успокоившись. — В любом случае ты пришел кстати. — Да, — ответил он. — Хотя в такую ясную ночь ни у кого, кто носит топор, проблем бы не было. Если было бы темней, все могло бы кончиться по-другому. Но, Макумазан, я считал тебя опытней, не думал, что ты выйдешь на льва с такой игрушкой. — И он показал на маленькое ружье в моей руке. — Умслопогас, я не знал, что это лев. — Вот почему ты не такой умный, каким я тебя считал. Так или иначе, здесь встречаются львы, и мудрый человек должен быть готов к встрече с ними, Макумазан. — Ты прав; действительно, я был не готов, — сказал я. В этот момент на сцене появился Ханс, сохраняя дистанцию и наблюдая за нами со стороны. — Великий талисман Открывателя дорог сработал на совесть, — вот все, что он сказал. — Великий талисман Открывателя дорог мог бы сработать лучше, — ответил Умслопогас, едва улыбнувшись и показав на красное лезвие топора. — Никогда до этого Инкози-каас, — (или Охотник, как называли это страшное оружие), — не падал так низко, чтобы напиться кровью чудовищ. Но битва была хороша, ничего не скажешь. Однако, желтый человек, скажи, пожалуйста, как случилось, что ты, такой хитрый, оставил своего хозяина? — Я спал, — возмущенно ответил Ханс. — Тот, кто служит господину, никогда не спит, — ответил Умслопогас жестко. Затем он обернулся и присвистнул. Из высокой травы, которая росла на некотором расстоянии, возникло двенадцать высоких мужчин, которые несли топоры и были одеты в одежду из шкуры гиены. Они салютовали мне поднятыми топорами. — Установите охрану и снимите шкуру с этого чудовища до заката. Это будет наш коврик, — сказал Умслопогас, и охранники, снова отсалютовав, ушли. — Кто это? — спросил я. — Несколько отборных воинов, которых я взял с собой, Макумазан. Была еще пара человек, но они потерялись в пути. Затем мы вошли в фургон и больше этой ночью уже не беседовали. На следующее утро я рассказал Умслопогасу про визит, который нанес мне индуна, желавший, чтобы я отправился в королевский крааль. Он кивнул и сказал: — Несколько грабителей пытались напасть на меня в дороге. Вот почему два человека уже никогда не продолжат со мной путешествие. У нас была схватка с этими людьми, ни один из них не остался в живых, — добавил он зловеще. — Их тела мы сбросили в реку, где водится множество крокодилов. Но их копья я выбросил. Мне кажется, что именно такие копья использует охрана короля. Если это так, они будут долго их искать, поскольку в том месте, где была битва, никто не живет, а щиты и их личные вещи мы сожгли. О, он подумает, что их забрали призраки. В то утро мы быстро пошли вперед, боясь, что регулярные войска, которые будут искать этих «грабителей», найдут нас по нашим следам и нанесут удар. К счастью, тот бык, которого убил лев, был одним из самых маленьких, которых я взял с собой, поэтому мы не почувствовали особого неудобства от его потери. Пока мы шли, Умслопогас рассказал мне, что официально назначил Лоусту и свою жену Монази управлять племенем во время его отсутствия. Они приняли его сомнительное предложение: Монази стала вождем племени, а Лоуста — индуной, или советником. Я спросил Умслопогаса, насколько мудро это решение в сложившихся обстоятельствах, поскольку сомневался, что они отдадут ему власть, когда он вернется. И могут возникнуть не только семейные, но и военные проблемы. — Это ничего не значит, Макумазан, — ответил он, пожимая плечами. — Мне кажется, что моя игра окончена: оставаться в племени — значит искать смерти, поскольку меня предали. О ком заботиться тому, кто никого не любит и у кого нет детей? Правда, я могу вернуться в Наталь со скотом и вести там легкую и богатую жизнь. Но воин не ищет такой легкой жизни. Больше никогда, может быть, я не увижу Великий талисман там, где волки нападают и старая ведьма сидит на камне, ожидая смерти этого мира, или я умру среди людей племени топора. Что мне делать с женами и быками, пока у меня есть Инкози-каас — топор, который верен мне? — добавил он, размахивая древним оружием над головой, так что солнце сверкало на изогнутом лезвии. — Туда, куда идет топор, туда идут его сила и достоинство, о Макумазан. — Это странное оружие, — ответил я. — Да, странен и страшен тот, кто изготовил его сотни лет назад, как говорит Зикали, воин-мудрец, который был первым из кузнецов, и тот, кто сидит в подземном мире, ожидая его возвращения в свои руки, когда его работа под солнцем будет закончена. Это скоро случится, потому что Зикали сказал мне, что я последний Хранитель топора. — Ты видел Открывателя дорог? — спросил я. — Да, я видел его. Это именно он научил меня, как удрать из страны зулусов. И он смеялся, когда я рассказал ему, как речные потоки принесли тебя в мой крааль, и отправил тебе сообщение, в котором говорилось, что дух змеи поведал ему о том, что ты хотел выбросить Великий талисман в ручей, но был остановлен змеей. Открыватель дорог сказал, что этого ты не должен делать никогда, иначе он отправит тебе другую змею, и она убьет тебя. — Правда? — спросил я возмущенно, потому что умение Зикали видеть или знать о том, что происходит на расстоянии, не переставало удивлять и даже раздражать меня. Только Ханс ухмыльнулся и сказал: — Я предупреждал, баас. Итак, мы путешествовали день за днем, преодолевая трудности и опасности, которые обычно встречаются в бескрайнем африканском вельде. В высокой траве водилось множество дичи, и она всегда была в нашем распоряжении, когда мы хотели есть. В области, которая называется Португальская Юго-Восточная Африка, животных было так много, что лично мне хотелось бы превратить наше путешествие в охоту. Но Умслопогас, который был плохим охотником, не хотел об этом слышать. Он гораздо больше, чем я, тревожился об истинной цели нашего путешествия. Когда я спросил его почему, он ответил, что Зикали кое-что сообщил ему. Онотказался сказать, что именно, кроме того, что в той стране, куда мы направляемся, его ожидает великая битва, победа в которой принесет ему славу. Умслопогас по натуре был бойцом, получал удовольствие от сражений и, подобно древним норвежцам, считал, что единственный достойный путь для мужчины — погибнуть в битве. Это удивляло меня, потому что сам я любил тишину и покой. Я взял его с собой отчасти потому, что хотел сделать ему приятное, отчасти оттого, что считал, что мы можем найти что-нибудь интересное, а еще потому, что, начав это предприятие, я считал делом чести закончить его. Не помню, когда Зикали сказал мне, что где-то ближе к великой реке мы должны подойти к краю долины, поросшей кустарником, где живет белый человек. Второй раз, бросив кости, он заметил, что человек этот из «буров-переселенцев». Я думаю, это означало, что он был голландцем, который уехал из тех мест, где жил, и поселился в дикой глуши, как бродячий дух, освободившийся от всякой власти. Бросив кости еще раз и разглядев их, Зикали промолвил, что с этим человеком или его семьей случится что-то важное, пока я буду гостить у него. Затем на карте, которую он нарисовал на золе, чьи детали так хорошо отпечатались в моей голове, он показал мне, где я смогу найти жилище этого белого человека. Без сомнения, и этого человека, и место его обитания он знал через своих шпионов, которые всегда находятся на службе у знахарей, в особенности у Зикали, величайшего из колдунов. Двигаясь по солнцу, я шел строго в том направлении, которое указал Зикали, понимая, что его правильно прозвали Открывателем дорог, поскольку именно прямо перед собой я видел единственный путь, в то время как ни справа, ни слева никакой дороги не было. Когда мы подошли к подножию гор, там оказался участок, где мы обнаружили ущелье, затем подошли к болотам, где проходила дорога, и пошли дальше. Все племена, которые мы встречали на своем пути, были достаточно дружелюбны, хотя иногда Умслопогас и его мощная команда, которую, может быть не совсем точно, я называл Двенадцатью апостолами, просто вынуждали их быть дружелюбными… Мы так быстро двигались, а колодцы попадались через такие точные промежутки времени, что я пришел к выводу, что где-то здесь и располагается древняя дорога, которая шла с юга на север, или наоборот. Чтобы быть честным, к такому выводу пришел не я, а Ханс: он сделал это открытие, исходя из многих примет, которые я пропустил. Я не буду подробно останавливаться на них, отмечу лишь, что приметой являлось то, что колодцы с водой были выкопаны в определенных местах, высоких и безлюдных, и обозначались камнями, похожими на древние стены. Очевидно, мы шли по какому-то древнему пути, возможно проложенному в то время, когда Африка была более цивилизованным континентом[374]. Проходя на определенной высоте по влажным землям, на третьей неделе нашего пути, когда солнце, как обычно в это время года, не показывалось раньше десяти утра и исчезало в три часа дня и когда дважды нас сопровождал плотный туман, мы прошли мимо странных пастухов-кочевников, которые, казалось, жили в хижинах из травы и держали огромные стада коз и длинношерстных овец. Сначала они промчались мимо нас, но потом поняли, что мы не причиним им вреда, стали вести себя более дружелюбно и принесли нам молока и что-то вроде червяков или гусениц, которых они, кажется, ели. Ханс, который знал чуть ли не все африканские диалекты, подобрал язык или смесь языков и начал общаться с ними[375]. Они рассказали нам, что давно не видели белого человека, хотя отцы их отцов (так они обозначали своих далеких предков) знали многих из них. Однако, добавили они, если мы пойдем прямо на север, то через семь дней пути придем в то место, где живет белый человек, который, как они слышали, носит длинную бороду и убивает животных, как и мы, из ружья. Ободренные этим сообщением, мы отправились вперед и спустились из области туманов в более благоприятную местность. В самом деле, степь была здесь более красивой, высокой; растения росли так же буйно, как в Восточной Африке. Степь была покрыта плодородной почвой цвета шоколада[376], это было заметно на боковых склонах, там, где дожди промыли ущелья. Климат здесь казался более прохладным и очень здоровым. И было очень жалко видеть эти земли невозделанными. В степях передвигались лишь бесчисленные стада антилоп и буйволов. Людей мы не встретили. Пока мы двигались вперед, дорога медленно спускалась вниз. Наконец мы увидели вдалеке широкую саванну, которая, как я верно предположил, была долиной реки Замбези. Более того, мы или, скорее, Ханс, у которого были глаза сокола, заметил кое-что еще, а именно дома более или менее цивилизованного вида, стоящие среди деревьев на берегу реки в нескольких милях от зарослей кустарника. — Посмотрите, баас, — сказал мне Ханс, — эти бродяги не обманули, вот и дом белого человека. Я не удивлюсь, если окажется, что он и пьет что-то крепче воды, — с надеждой вздохнул он и выразительно прикоснулся к своей желтой шее. И он не ошибся.Глава 5
ИНЕС
Мы увидели дом еще издалека вскоре после того, как взошло солнце, и к полудню подошли к нему. Приблизившись, я заметил, что он стоит практически под двумя баобабами, которые в Южной Африке называют еще и деревьями бабуинов, возможно, потому, что обезьяны едят их плоды. Это был дом обычного голландского типа, с тростниковой крышей, белыми стенами и верандой вокруг. На некотором расстоянии от него стояли другие дома или, скорее, хибары с разбросанными вокруг них фургонами, а еще дальше находились хижины местных жителей. Перед нами раскинулись огромные поля, где зеленела кукуруза, на склонах горы паслись стада. Очевидно, этот белый человек не был бедняком. Умслопогас окинул место взглядом воина и сказал мне: — Это, должно быть, мирная страна, Макумазан, здесь нет защиты, — вероятно, жители не боятся нападения. — Да, — ответил я, — ведь позади пустыня, впереди широкая река. — Нападающие могут пересечь реку и пройти через заросли кустарника, — ответил он и замолчал. До сих пор мы никого не видели, хотя мне казалось, что фургон, приблизившийся к дому, был слишком необычным зрелищем, чтобы не привлечь внимание. — Где же все? — спросил я. — Я думаю, господин, что они спят, — сказал Ханс. И он был прав. Все население погрузилось в послеобеденную сиесту. В конце концов мы подъехали близко к дому, и я покинул фургон, чтобы осмотреться. В этот момент у дома кто-то появился. Это была молодая высокая девушка, чему я не удивился. Она была стройной, красивой, с большими черными глазами, правильными чертами лица, бледная. У нее было самое печальное лицо из всех, которые я когда-либо видел. Очевидно, она услышала шум подъехавшего фургона и вышла посмотреть, что случилось. Головной убор отсутствовал; ее густые волосы были цвета воронова крыла. Увидев огромного Умслопогаса с его блестящим топором и его грозную охрану, она вскрикнула и попыталась убежать. Я вышел из-за спин быков. — Все в порядке, — заверил я девушку. Возможно, она была голландкой или португалкой, но почему-то я обратился к ней по-английски, хотя не думал, что она может меня понять. К моему удивлению, девушка ответила мне на том же языке, но с акцентом, который я не смог определить, — это не был ни шотландский, ни ирландский выговор. — Спасибо, — произнесла она, — а то я испугалась. Ваши друзья выглядят… — она замялась, подбирая слова, — страшновато. Я засмеялся такому необычному определению и ответил: — Да, их вид может напугать, но они не причинят вреда ни вам, ни мне. Но, юная леди, скажите мне, можем ли мы остановиться здесь? Возможно, ваш муж… — У меня нет мужа, сэр, есть только отец. — И она вздохнула. — В таком случае могу ли я поговорить с вашим отцом? Меня зовут Аллан Квотермейн, я путешествую в поисках одной страны. — Я пойду разбужу его, потому что он спит. Все спят здесь в полдень — кроме меня. — Она снова печально вздохнула. — Почему же вы не следуете их примеру? — спросил я шутливо, потому что эта девушка озадачила меня и я хотел узнать о ней как можно больше. — Потому что тот, кто много думает, мало спит, сэр. У нас скоро будет много времени, чтобы выспаться, не так ли? Я уставился на нее и спросил, как ее зовут, потому что не знал, что еще сказать. — Меня зовут Инес Робертсон, — ответила она. — Я пойду разбужу отца. А вы пока распрягите быков. Они могут пастись вместе с остальными животными. Мне кажется, им надо отдохнуть, бедным. — Она повернулась и вошла в дом. «Инес Робертсон, — сказал я себе. — Какое странное сочетание! Отец англичанин, а мать португалка, полагаю. Но что может англичанин делать в таком месте? Я не удивлюсь, если это какой-нибудь бур из переселенцев». Мы успели распрячь быков, когда из дома, позевывая, вышел огромный, тощий, рыжебородый, голубоглазый, неряшливо одетый мужчина лет пятидесяти. Я посмотрел на него и сразу сделал определенные выводы. Пьяница, который когда-то был джентльменом, отметил я про себя, поскольку в его внешности была некоторая распущенность. Кроме того, он когда-то бывал в море (что оказалось верным предположением). — Как поживаете, мистер Аллан Квотермейн? Моя дочь назвала мне ваше имя, и мне кажется, что я слышу его в первый раз, — произнес он с резким шотландским акцентом, который я не смог бы повторить. — Что привело вас сюда, где белого человека мы не видели уже много лет? Я в любом случае рад видеть вас, поскольку уже устал от полукровок-португальцев, негров и льстивых женщин, джина и плохого виски. Оставьте своих людей с быками и заходите в дом выпить что-нибудь. — Спасибо, мистер Робертсон… — Капитан Робертсон, — перебил он меня. — Не удивляйтесь. Вы не могли этого знать, но я когда-то командовал почтовым судном и хотел бы, чтобы ко мне до самой смерти обращались именно так. — Прошу прощения, капитан Робертсон, но я не пью ничего до захода солнца. Однако если у вас есть какая-нибудь еда… — О да! Инес — это моя дочь — найдет вам что-нибудь. Ваши… — Он с сомнением взглянул на Умслопогаса и его грозную компанию. — Ваши спутники, наверное, тоже голодны. Они выглядят так, словно могут съесть быка целиком, с рогами. Где мои люди? Лентяи, они все дрыхнут. Подождите немного, я разбужу их. Робертсон схватил со стены хлыст, который висел на гвозде, вбитом в стену, и отправился к группе хижин, которые я заметил. Он громко звал некоего Томазо, используя язык моряков и португальские ругательства. Я не мог видеть, что случилось дальше, потому что мне мешали ветки, но внезапно я услышал удары и крики и увидел темнокожих людей, выбегающих из своих хижин. Немного позднее появился толстый метис — по курчавым волосам я мог определить, что его мать была негритянкой, а отец португальцем. С ним были несколько странно выглядевших людей, и он тут же с умным видом начал раздавать указания, касающиеся наших быков. Он изъяснялся на ломаном португальском, которого я не понимал. Потом он заговорил об Умслопогасе, назвав его «этот негр», в манере тех представителей смешанных рас, которые хотят считать себя белыми людьми. Также он неуважительно высказался о Хансе, который, конечно же, понял каждое его слово. Очевидно, Томазо был раздражен внезапным и жестоким пробуждением. Пришел и хозяин, запыхавшийся от усилий, коих потребовало проявление власти, и громко сообщил о том, что проучил нахала. В доказательство нам был предъявлен хлыст, красный от крови. — Капитан Робертсон, — заметил я, — я хотел бы кое-что сказать относительно мистера Томазо. Он назвал зулусского воина негром. А это, между прочим, вождь высокого ранга и свирепый человек, если его раздразнить. Я бы рекомендовал мистеру Томазо сделать так, чтобы тот не понял, что его оскорбили. — О, эти людишки, чьи бабушки когда-то повстречали белого человека, так всегда себя ведут, — ответил капитан со смехом. — Но я передам ему. — И он что-то сказал по-португальски. Его слуга молча выслушал хозяина, мрачно поглядев на Умслопогаса, и направился в дом. Когда все разошлись, капитан сказал: — Сеньор Томазо, мой управляющий, — умный человек. Он по-своему очень честен и предан мне — возможно, потому, что я когда-то спас ему жизнь. Но у него отвратительный характер, как у всех полукровок, поэтому, надеюсь, он не слишком обидел вашего вождя с большим топором. — Я надеюсь, что это так — для его же блага, — ответил я решительно. Капитан прошел в гостиную — единственную комнату в доме, в которой бросалось в глаза сочетание грубой мебели и обрывков шкур, что считалось модным у буров. Впрочем, комната была не чужда некоего изящества, что было, без сомнения, делом рук Инес, которая с помощью местной девушки накрывала на стол. Здесь же стояла полка с книгами — я заметил среди них Шекспира, — над ней помещалось распятие из слоновой кости, значит Инес была католичкой. На стенах висело несколько красивых картин, а на подоконнике стояла ваза с цветами. На столе лежали серебряные ложки и вилки, были расставлены искусно расписанные кружки с какой-то португальской надписью. Наконец подоспело угощение, вкусное и обильное. Капитан, его дочь и я сели за стол и начали есть. Я заметил, что он пьет джин с водой, невинный на первый взгляд, но достаточно крепкий напиток. Мне его тоже предложили, но я, по примеру Инес, предпочел кофе. Во время обеда и после него, когда мы курили на веранде, я посвятил хозяев, насколько возможно подробно, в свои планы. Я сказал, что предпринял это путешествие в страну, находившуюся за пределами Замбези, и что я слышал о поселении под названием Стратмур, которое, как я узнал, было тем местом вдали от Шотландии, где капитан родился и провел свое детство. Я рассказал о том, как пересек реку, и о многих других вещах. Капитан слушал с интересом, особенно когда узнал, что я — тот самый охотник Квотермейн, о котором он так много слышал в прошлые годы, но сказал, что совершенно невозможно проехать на фургоне по тем низким зарослям, которые мы уже видели, поскольку быки сдохнут от укусов мухи цеце. Я сказал, что уже думал об этом, и попросил разрешения оставить быков на его попечение до моего возвращения. — Нет никаких проблем, — ответил он. — Но вернетесь ли вы, мистер Квотермейн? Говорят, что на другой стороне Замбези живут странные племена, жестокие каннибалы, которых называют амахаггерами[377]. Именно они в далекие времена очистили эту страну от других людей, за исключением нескольких племен, которые жили в плавучих хижинах или на островах среди тростников. Вот почему здесь пусто. Но это случилось задолго до меня, и я не думаю, что они переплывут реку снова. — А что привело сюда вас, капитан, можно узнать? — спросил я его, потому что мне было очень любопытно выяснить цель его приезда в Африку. — А что приводит сюда большинство людей? Проблемы, мистер Квотермейн. Если хотите знать, мой корабль, к несчастью, наскочил на мель. Несколько человек погибли, и, так или иначе, я был уволен. Я начал торговать в забытой богом дыре под названием Шинде[378], в одном из ущелий нижнего течения Замбези, и, как видите, преуспел, как все шотландцы. Затем я женился на португалке, настоящей леди голубых кровей. Когда моей дочери Инес было около двенадцати лет, случилось несчастье — моя жена умерла. Некоторые ее родственники считали, что это из-за меня. Кончилось все скандалом, и я убил одного из родственников — в драке, как вы понимаете. Я едва ли понимал, что делаю, потому что после этого мне пришлось бежать. Итак, я продал все и поклялся не иметь больше ничего общего с цивилизацией на Восточном побережье. Торгуя, я услышал, что где-то есть прекрасная страна, и вот я здесь. Поселился уже много лет назад, привезя с собой свою дочь, Томазо, который был одним из моих управляющих, и еще нескольких человек. И здесь даже еще лучше, чем было раньше, поскольку я торгую слоновой костью и другими экзотическими вещами, выращиваю зерно и скот, которые продаю племенам у реки. Да, теперь я богатый человек и могу жить где угодно, даже в Шотландии. — Почему же вы туда не возвращаетесь? — задал я ему вопрос. — О, по многим причинам. Я потерял все свои связи и стал диким человеком. Мне нравится здесь жизнь, нравится солнечный свет и то, что я сам себе начальник. К тому же, если я вернусь, все может обернуться против меня, я имею в виду тот случай с непреднамеренным убийством… И должен сказать, плохо это или хорошо, меня здесь многое держит. — И он кивнул в сторону деревни, если это можно было так назвать. — И это не так легко оставить. У мужчины должно быть много детей, мистер Квотермейн. Даже если у них не такая белая кожа. К тому же мои привычки — я говорю с вами как мужчина с мужчиной — могут принести мне неприятности в том, другом мире. — И он качнул головой в сторону бутылки, которая стояла на столе. — Понятно, — ответил я поспешно, поскольку такое признание из уст одинокого человека было больно слышать. — А как насчет вашей дочери, мисс Инес? Его голос задрожал: — Вы правы. Она должна уехать. Здесь нет никого, кто мог бы жениться на ней, потому что уже много лет мы не видели ни одного белого человека, а она леди, как и ее мать. Но к кому может поехать добрая католичка? Не к моей же пресвитерианской родне в Шотландию? Многие отвернулись от нас, многие умерли. По-своему она любит меня, и я люблю ее, да она и не уедет, потому что считает, что ее долг быть здесь. А если она уедет — я отправлюсь к дьяволу. Может быть, вы поможете мне, если вернетесь из путешествия? — закончил он свою тираду с интонацией, в которой сквозило сомнение. Я хотел было спросить, как я могу помочь в таком деле, но посчитал, что лучше промолчать. Он этого не заметил и продолжал: — Теперь я пойду и вздремну, потому что начинаю работу рано утром и заканчиваю поздно ночью. Я был моряком и привык к дежурствам. Вы не позаботитесь о себе сами? Затем он ушел в дом, чтобы лечь спать. Выкурив трубку, я решил пойти прогуляться. Сначала я побывал в фургоне, где Умслопогас и его команда поедали какое-то мясо под острым соусом, приготовленное для них по-зулусски. Ханс по привычке спрятал мясо — может, от слуг, а может, от самой Инес. Он пошел за мной. Сначала мы отправились к хижинам, где увидели множество симпатичных женщин смешанных кровей. Они были хорошо одеты и занимались повседневными делами. Еще мы увидели четверых или пятерых мальчиков и девочек, не говоря уже о детях на руках, а также молодых людей, скорее белых, чем смуглых. — Эти дети очень похожи на рыжебородого, — сказал Ханс задумчиво. — Да, — сказал я и вздрогнул, потому что только сейчас понял страхи этого несчастного человека. Он был отцом огромного количества полукровок, которые привязали его к этому месту, как якорь держит корабль. Я быстро прошел мимо каких-то сараев к длинному зданию, очевидно складу. Здесь метис по имени Томазо и несколько его помощников торговали с местным населением, живущим в болотах Замбези. Я никогда не видел таких людей, но они явно были более цивилизованными, чем южане. Я не остановился посмотреть, что они продавали и покупали, но заметил, что склад полон каких-то вещей, включая огромное количество слоновой кости, которая, как я предположил, пришла из глубины страны. Затем мы прошли к обработанным полям, на которых очень хорошо росла кукуруза, табак и другие культуры. Внизу мы увидели загоны для скота, а на некотором расстоянии паслись быки, коровы и множество коз на склонах горы. — Этот рыжебородый господин должен быть очень богат, — заметил наблюдательный Ханс, когда мы завершили наш обход. — Да, — ответил я. — Богат и одновременно очень беден. — Но, господин, как может быть человек богат и беден? — спросил Ханс. В этот момент несколько детей-полукровок, которых я заметил, промчались мимо нас. Они были голые и кричали, как маленькие дикари. Ханс серьезно посмотрел на них, затем сказал: — Наверное, я понял, что вы имеете в виду, баас. Человек может быть богат и беден одновременно. — Да, — ответил я. — Как ты, Ханс, когда напиваешься. Затем мы встретили гордую Инес. Она несла в корзине кучу вещей, взятых на складе, среди которых были мыло и чай. Я сказал Хансу, чтобы он взял корзину и доставил в дом. Он ушел, а мы с Инес разговорились. — Мне кажется, что дела вашего отца идут неплохо, — сказал я, кивая на склад, который окружила толпа местных жителей. — Да, — ответила она. — Он много зарабатывает и кладет деньги в банк на побережье, поскольку жизнь здесь для нас ничего не стоит, а он извлекает хорошую прибыль из купли-продажи и, кроме того, выращивает скот. Но, — добавила она грустно, — что пользы в деньгах, когда живешь в таком месте? — Вы можете использовать их для своего блага, — предположил я. — То же самое говорит мой отец, но что он покупает? Много выпивки, одежду для местных женщин, иногда жемчуг, драгоценности для меня — но на что они мне? У меня целая коробка драгоценностей, которые я не использую, а даже если и надену — кто увидит их? Этот умный метис Томазо? А он и правда умный и верный. Или местные женщины? Больше некому. — Вы не выглядите счастливой, мисс Инес. — Я не могу сказать, насколько несчастны остальные, которые никого не встретили, но иногда думаю, что я самая несчастная женщина в мире. — О нет, — ответил я бодро. — Бывают судьбы и похуже. — Возможно, мистер Квотермейн, это потому, что они не ощущают своего жалкого положения. У вас когда-нибудь был отец, которого вы любили? — Да, мисс Инес. Он умер, но был очень хорошим человеком, очень набожным. Спросите моего слугу Ханса, он расскажет вам. — Очень хорошо. Как вы могли заметить, мой не таков. Хотя в нем тоже много хорошего, у него доброе сердце и глубокий ум. Но он пьет, а эти женщины — они разрушают его. — Она сжала руки. — Почему тогда вы не уезжаете отсюда? — выпалил я. — Потому что это мой долг — оставаться здесь. Этому учит меня моя религия, хотя я знаю об этом очень мало, в основном из книг. Мы давно не видели священника, кроме одного миссионера, баптиста, который сказал, что моя вера фальшива и приведет меня в ад. Не понимаю, как я живу… Наверное, он сказал это, не зная, что ад здесь… Нет, я не могу уехать, потому что верю, что Бог и святые покажут мне, как спасти отца, даже если для этого понадобится моя жизнь. Я и так сказала вам, незнакомцу, слишком много. Не знаю почему, но я чувствую, что вы не предадите меня и, более того, поможете мне, если сможете, поскольку вы не из тех, кто пьет или… — И она махнула рукой в сторону хижин. — Я тоже совершал ошибки, мисс Инес, — ответил я. — Да, конечно, иначе вы были бы святым, а не человеком, и даже святые ошибаются, как мне помнится, и становятся святыми через покаяние и преодоление. И все-таки я уверена, что вы поможете мне. Внезапно вспыхнувшие глаза сказали больше, чем слова. Она повернулась и ушла от меня. Ничего себе ситуация, подумал я, входя в свой фургон, чтобы посмотреть, как идут дела. Я не знал, как решить эту проблему. Интересно, почему я всегда попадаю в подобные истории? Пока я думал об этом, голос моего сердца отзывался эхом на слова этой бедной девочки: «Потому что это мой долг…» Но к ним прибавлялись и другие мысли — о тех, кто не выполнил свои обязанности. Я должен был попытаться помочь и разобраться в человеческих страстях. Между тем эта проблема была выше моего разумения. Я предоставил все судьбе. «Вдруг она поможет», — подумал я. Факты таковы, что судьба сама все решает — если ее решение уместно в данном положении.Глава 6
ОХОТА НА ГИППОПОТАМОВ
Когда-то я намеревался пересечь реку, но удача или судьба были против меня. Начнем с того, что у нескольких людей Умслопогаса заболели животы — без сомнения, оттого, что они чем-то отравились. Однако так думали не они, так думал Умслопогас. Один из его людей, шаман по имени Гороко, предположил, что на них наложено заклятие. Эти люди видят магию во всем. Тогда Гороко организовал «снятие заклятия», в чем ему помогал Умслопогас, который был таким же суеверным, как и все остальные зулусы. Принимал в этом участие и Ханс, хотя и называл себя христианином, частично из любознательности, поскольку был любопытен, как все болтуны, частично из-за страха, что его сочтут соучастником, если он не появится. Я наблюдал за всем происходящим с некоторого расстояния и старался следить за процессом на тот случай, если что-нибудь пойдет не так. Мисс Инес, которая никогда не принимала участия в подобных вещах, составила мне компанию. Был организован маленький круг. Гороко нарядился в самый лучший шаманский костюм, который он смог придумать, и, находясь под воздействием своего «духа», скакал вокруг, размахивал хвостом антилопы гну и все такое прочее. В конце концов, к моему ужасу, он выскочил из круга и побежал к группе зрителей из деревни, а затем ударил по лицу Томазо, который стоял среди них с важным и презрительным видом, хвостом антилопы, крича, что именно он тот колдун, который отравил их еду. Томазо, наглый, как все метисы, не был большим храбрецом и, увидев, какой шум поднялся после этого заявления среди злобных зулусов, удрал. Никто не пытался его преследовать. После этого, едва я подумал, что все закончено и пришло мое время сказать несколько слов Умслопогасу, указав на то, что Томазо невиновен, хотя его все ненавидят, Гороко вернулся в круг и был встречен новой вспышкой воодушевления. Быстро взмахнув своей метелкой, он поднял руки над головой и воззрился на небеса. Затем он стал громко кричать какие-то слова, которые я не мог разобрать. Что бы это ни было, оно напугало зрителей, насколько я смог увидеть выражение их лиц. Даже Умслопогас встревожился, потому что на какое-то мгновение опустил топор, потом поднял, как будто хотел что-то сказать, затем снова сел и закрыл глаза руками. Через минуту все было кончено. Гороко пришел в нормальное состояние, понюхал воздух и начал пересказывать, что он говорил в то время, когда его «дух» владел им, и что он забыл. Круг также распался, и его участники начали разговаривать друг с другом как обычно. Умслопогас продолжал сидеть на земле, а Ханс ускользнул в своей обычной манере — как змея; без сомнения, он хотел найти меня. — Что это было, мистер Квотермейн? — спросила Инес. — О, обычная чепуха, — сказал я. — Вероятно, шаман объявил всем, что ваш друг Томазо положил что-то ядовитое в еду, после чего зулусы заболели. — Думаю, что он мог бы это сделать, потому что знаю, как он ненавидит их всех, особенно Умслопогаса, которого я обожаю. Он принес мне несколько прекрасных цветов сегодня утром, которые где-то нашел, и произнес длинную речь, которую я не поняла. Мысль о том, что Умслопогас, человек из крови и стали, принес цветы юной леди, была настолько абсурдной, что я начал смеяться, даже печальная Инес улыбнулась. Потом она куда-то ушла, а я пошел к Хансу расспросить его о том, что случилось. — Что-то происходит странное, баас, — ответил тот отрешенно, — хотя я не понял последнюю часть представления. Знахарь Гороко унюхал, что Томазо и есть тот человек, который заставил их заболеть, и хотя они не убили его, потому что мы здесь в гостях, зулусы очень злы на Томазо, и думаю, что они побьют его, если им предоставится такая возможность. Но это лишь малая часть моих наблюдений… — А что же главное? — перебил я раздраженно. — Господин, этот дух в Гороко… — Осёл в Гороко, ты хочешь сказать, — прервал я его. — Как же можешь ты, христианин, городить такую чепуху о духах? Если бы только мой отец мог тебя слышать! — О, баас, ваш многоуважаемый отец был достаточно мудр, чтобы знать все о духах и о том, что есть некто, кто вселяется в черных знахарей, хотя те относятся с презрением к белым. Однако, что бы ни заставило Гороко сделать так, чтобы его губы заговорили, вскоре это место будет в крови — здесь будет великая битва, господин, вот и все. — В крови?! В чьей крови? Что этот дурак имел в виду? — Я не знаю, но тот, кого баас назвал ослом в Гороко, объявил: кто пришел с Великим талисманом — то есть баас, — будет в безопасности. Поэтому я надеюсь, что прольется не наша кровь. Но нам надо уходить отсюда как можно быстрее. Я выбранил Ханса за то, что он поверил предсказанию этого знахаря. А я видел, что он поверил. Потом я пошел поговорить с Умслопогасом, который выглядел достаточно умиротворенным, что вызвало во мне еще большее раздражение. — О чем говорил Гороко и чему ты улыбаешься? — спросил я. — Ничего особенного, Макумазан. Кроме того, что человек, который выглядит как плохо откормленный бык, что-то положил в нашу еду, отчего мы заболели. Если бы он не был слугой рыжебородого, я убил бы его, но это напугало бы Инес. А еще он сказал, что скоро будет битва, а я устал от мира и поэтому улыбаюсь. Мы будем драться, не так ли? — Конечно нет, — ответил я. — Мы пришли сюда, чтобы отправиться в далекие и неведомые земли, вот что я тебе скажу. — О Макумазан, в неведомых землях кое-кто встречает странных людей, с которыми невозможно найти согласия, и тогда начинает говорить Инкози-каас. Он покрутил своим огромным топором над головой, раздался странный свист, как будто вихрь прошел вокруг нас. Я не смог от него добиться большего, кроме обещания, что с Томазо ничего не случится. Мне казалось, что того обвинили незаслуженно. С тем я и ушел. Последний инцидент оставил в душе неприятный осадок. Я начал мечтать о безопасной переправе через Замбези. Однако мы не могли отправиться прямо сейчас, потому что двое зулусов еще недостаточно оправились и не могли тронуться в путешествие, а кроме того, нужно было самим собраться в путь, поскольку мы планировали оставить фургон здесь. Было еще одно препятствие — от укола ядовитой колючкой у Ханса распухла нога, ее необходимо было вылечить до начала похода. Поэтому я по-настоящему обрадовался, когда капитан Робертсон предложил отправиться на одно из болот, созданное, как я понял, одним из притоков Замбези, чтобы принять участие в охоте на гиппопотамов. В это время года эти огромные животные собираются там в большом количестве, и, перегородив узкий пролив, через который они туда попадают, их легко можно пострелять. Капитан Робертсон организовывал подобные вылазки пару раз, но потом ему уже не хватало сил на такую охоту. Теперь же он хотел предпринять это снова, пользуясь моим присутствием, — частично чтобы добыть шкуры, которые можно было продать на побережье, частично из спортивного интереса. А еще мне кажется, что он просто хотел показать мне, что не окончательно погряз в лени и пьянстве. Я был готов к такому приключению, хотя никогда в своей охотничьей жизни не участвовал в подобный охоте. Мне сказали, что экспедиция не займет больше недели, я надеялся, что за это время Ханс и другие больные поправятся окончательно. Итак, начались великие приготовления. Все взрослые жители, которые жили у реки и чья земля была главной базой этой бойни, были собраны и отправлены в назначенные места у болота, чтобы действовать по сигналу ружейного выстрела. Были сделаны и другие приготовления, в которых я не принимал участия. Затем пришло время разделиться и отправиться в назначенное место в двадцати милях от поселка. Мы должны были проехать это расстояние в фургоне. Капитан Робертсон, который на время расстался с джином, был таким активным, как будто снова командовал почтовым судном. Ничто не ускользало от его внимания, а своим отношением к делу и деталям он напоминал мне настоящего капитана большого корабля, выходящего из порта. Именно тогда я понял, каким человеком он был когда-то. — Ваша дочь поедет с нами? — спросил я его ночью перед отъездом. — О нет, — ответил он. — Инес будет нам только мешать. К тому же здесь она будет в безопасности, как и Томазо, который не является охотником и тоже остается в селении, чтобы присматривать за женщинами и детьми. Позднее я увидел и саму Инес, которая сказала, что была бы рада пойти на охоту, хотя ненавидит смотреть, как убивают огромных животных, но отец против, потому что считает, что она может подхватить лихорадку. Поэтому ей лучше остаться дома. Я согласился с ее доводами, хотя в глубине души расстроился, и сказал, что оставляю с ней Ханса, который еще не вполне поправился. С ним, как и с Умслопогасом, Инес подружилась. Тот будет присматривать за ней. Еще оставались два огромных зулуса, которые пока не выздоровели от болей в животе, поэтому ей нечего бояться. Она ответила с обычной слабой улыбкой, что ей действительно нечего бояться, хотя она с удовольствием пошла бы с нами. Затем мы расстались, и, как оказалось, весьма надолго… Умслопогас «от имени Инкози-каас» торжественно передал Инес под защиту двух своих приятелей, попросив их охранять ее. Он делал это с такой серьезностью, что я начал подозревать: он боится чего-то, о чем не хочет говорить. Я припомнил предсказание Гороко, о котором, возможно, вождь тоже подумал. Пока Умслопогас выступал, его глаза с подозрением сверлили толстого и надутого Томазо. Я подумал, что, наверное, это и был предмет его сомнений. Он мог подозревать, что Томазо станет докучать Инес в отсутствие ее отца. Даже если и так, мне казалось, по многим причинам, что он ошибается. Одна из причин состояла в том, что, даже если такая идея и пришла бы в голову Томазо, тот был слишком труслив, чтобы начать действовать. Но, все еще смутно что-то подозревая, я приказал Хансу приглядывать за Инес и за тем местом, где они находятся, и, если он увидит что-нибудь подозрительное, немедленно связаться с нами. — Конечно, баас, — ответил Ханс. — Я буду присматривать за леди Печальные Глаза. — (Именно так наши зулусы называли девушку.) — Со всем вниманием, будто она моя бабушка, хотя я не знаю, что могло бы напугать мою бабушку. Но, баас, я бы лучше пошел с вами, как было мне сказано вашим преподобным отцом, ведь долг велит мне быть со своим господином, а не приглядывать за девицами. К тому же моя нога уже зажила, и я хотел бы пострелять водяных коров и… — Тут он замялся. — И что, Ханс? — И Гороко говорил, что будет большая битва, а если будет сражение, баас может пострадать, потому что меня не будет рядом и некому будет защитить его. Что тогда подумает обо мне предикант? Все это могло означать две вещи. Во-первых, Ханс никогда не покидал меня, если только у него была такая возможность. Во-вторых, он предпочитал поохотиться, а не оставаться в этом странном месте, где нечего было делать, кроме как есть и спать. К такому выводу я пришел, хотя, возможно, мне была видна только верхушка айсберга. В действительности Ханс вел жестокую борьбу против искушения джином. Как я узнал впоследствии, капитан Робертсон тайно давал ему выпивку, поскольку чувствовал симпатию к этому парню. Кроме того, он показал ему, где ее можно взять, и Ханс воспользовался этим. Оставить его наедине с выпивкой было равносильно тому, чтобы оставить вора в комнате, полной драгоценностей. Он знал это, хотя постыдился сказать мне правду, что и привело к проблемам. — Ты все же останешься здесь, Ханс, будешь присматривать за юной леди и лечить свою ногу, — сказал я твердо. Он вздохнул и попросил еще табаку. Между тем капитан Робертсон принял на дорогу «стременную» и отправился прощаться с теми, кого он называл «деревня»; я видел, как он целовал детей и отдавал Томазо указания присматривать за ними и их матерями. Вернувшись, он позвал Инес, которая стояла на веранде, потому что она всегда подальше отходила от отца после его визитов в «деревню», чтобы «проявить твердость» и не чувствовать себя одинокой. Затем он скомандовал отправляться в путь. Итак, мы двинулись. Около двадцати местных жителей с первым попавшимся под руку оружием маршировали впереди и пели песни. Затем ехал фургон с капитаном Робертсоном и мной на переднем сиденье, а за нами двигались Умслопогас и его зулусы, за исключением двух заболевших. Мы ехали по дороге вдоль зарослей кустарника, таких же, какие были в Стратмуре, и эти низкие заросли привели нас прямо к Замбези. Незадолго до наступления ночи мы подошли к узкой полосе, где кустарник поворачивал южнее, приведя нас к притоку великой реки, где были болота, на которых мы собирались охотиться. Здесь мы разбили лагерь и, оставив фургон на попечение моего возничего-вурлупера и парочки местных жителей, поскольку погонщик должен был стать моим оруженосцем, прошли вниз, в гущу кустарника. Там было много дичи, но стрелять было нельзя, чтобы животные не испугались и не удрали. Около полудня мы достигли того места, где должна была состояться охота. Здесь, окруженный крутыми берегами, покрытыми кустарником, виднелся небольшой участок суши, размером всего в двести ярдов, в центре которого находился довольно глубокий канал с водой, покрытой сверху тиной. Именно через него животные попадали на сушу, где любили собираться в это время года. С помощью нескольких местных жителей и под руководством капитана Робертсона мы начали свои приготовления. Остальные местные жители, их было почти несколько сотен, ушли к устью болота, где должны были ждать условного сигнала. Наши приготовления были просты. Мы нарубили большое количество боярышника, придавили его корни тяжелыми камнями и опустили в воду, перегородив канал. К верхушкам, которые находились на суше, мы привязали разную старую одежду, которая была у нас в большом количестве. Это были красные фланелевые рубашки, когда-то цветные, но уже выцветшие одеяла и много еще разного тряпья. Некоторые из этих кусков материи были прикреплены к веревкам под водой. Также мы выбрали места для засады вдоль крутых берегов, которые я приметил. Между ними как раз и пролегал канал. Предвидя, что может случиться, я выбрал для себя место за прочной скалой, которая находилась рядом с каменной стеной высотой в несколько футов на прибрежной стороне, поскольку туземцы, оказавшись рядом со мной, наверняка откроют бешеный огонь. Эти приготовления заняли весь остаток дня, а вечером мы расположились на твердой земле, чтобы выспаться. Перед рассветом следующего дня мы вернулись и заняли свои места: часть на одной стороне канала, часть — на другой. В случае непредвиденных осложнений мы рассчитывали добраться друг до друга при помощи каноэ, которое было предоставлено местными жителями. Затем, перед самым восходом солнца, капитан Робертсон развел огромный костер из сухого дерева и кустарника, что было сигналом для местных жителей к началу действий. Затем мы сели и принялись ждать, после того как проверили, что все оружие в порядке. На рассвете я залез на дерево рядом с моим убежищем и увидел вдалеке, на юге, широкий круг из маленьких огоньков и догадался, что местные жители начали жечь сухой тростник у болота. Постепенно эти огоньки слились вместе в тонкую стену пламени. Я понял, что настало время вернуться в убежище и приготовиться. Однако стало совсем светло, прежде чем я разглядел, что дело заварилось на всю катушку. Оглядывая неподвижный канал, я заметил небольшую рябь на воде и поднимающиеся пузырьки воздуха. Внезапно возникла огромная голова самца гиппопотама, который, увидев наши заграждения на поверхности и под водой, высунулся, чтобы разглядеть, что это такое. Я всадил ему в голову пулю из ружья восьмого калибра, после чего он ушел под воду, видимо смертельно раненный; его огромное тело только увеличило и укрепило наши баррикады. Был и другой эффект. Я заметил, что гиппопотамы совершенно не в состоянии переносить запах и цвет крови, которые ужасно пугают их, поэтому они готовы делать что угодно, лишь бы только все это не проникло в их ноздри. В воде еще не было заметно движения, а кровь от мертвого тела уже распространилась вокруг. Стадо, следующее за своим вожаком, начало подниматься наверх и почувствовало тревогу. Первые появившиеся животные, унюхав запах, пытались вернуться обратно в канал, но навстречу им уже двигались следующие. Началась паника и давка. Бегемоты поднимались на поверхность, мычали и боролись друг с другом в воде, а задние напирали на них все сильнее и сильнее, пока на этом узком пространстве не началось настоящее столпотворение. Все начали стрелять в массу тел. Воистину это было настоящее избиение, и сквозь дым я смог увидеть людей из племен, которые действовали как настоящие загонщики, продвигавшиеся вперед в фантастических одеждах, крича и размахивая копьями и пылающими стеблями тростника. Многие из них сновали по берегам реки, однако некоторые пересекали лагуну на каноэ, ведя гиппопотамов к устью канала, по которому они могли спастись в великих болотах вниз и вверх по реке. Во всех моих охотничьих приключениях я вряд ли видел более впечатляющее зрелище. Для меня оно было неприятно, поскольку я все же льщу себе тем, что я спортсмен, а подобное избиение животных не считаю спортом, каким я его себе представляю. Наконец канал на всем своем протяжении заполнился гиппопотамами — я думаю, что их были сотни, всех размеров, от огромных самцов до маленьких детенышей. Некоторые из них были убиты, но не все, поскольку выстрелы нашей компании не могли нанести им большого урона. Из всех бегемотов, настигнутых пулями, которых мы с капитаном Робертсоном насчитали, огромное количество были лишь ранены. И вот эти несчастные чудовища, перепуганные шумом, огнем и кровью, не могли преодолеть наши заграждения по причинам, которые я уже указал. Все они оставались в воде, производя ужасный шум. Внезапно бегемоты приняли решение. Некоторые из них бросились на горящий тростник, кричащих загонщиков и двигающиеся каноэ. Один из них, огромный самец, перевернул каноэ, разломал его в щепки и убил гребца, правда неизвестно, каким образом, потому что его тело так и не нашли. Однако основная масса животных взяла иной курс, пытаясь вылезти из воды на другой стороне канала или взобраться наверх, демонстрируя удивительную резвость. Именно в этот момент я поздравил себя с тем, что оказался за прочным камнем, который использовал в качестве убежища. Находясь за скалой вместе с Умслопогасом и оруженосцем, который, поскольку не стрелял, был выбран моим компаньоном, я, нагнувшись, стрелял в огромных созданий, когда они проплывали мимо меня. Но, даже стреляя из двух ружей, я не смог остановить и половины из них — их было слишком много. Я смотрел на Умслопогаса и судивлением замечал, что, возможно, впервые в жизни этот бесстрашный воин по-настоящему испугался. — Это просто безумие какое-то, Макумазан! — Он перекрикивал грохот. — Если мы останемся здесь, то будем снесены этим стадом водяных свиней. — Кажется, да, — ответил я. — Ты предпочитаешь быть снаружи — или съеденным? — добавил я, указывая на огромного крокодила, который также появился в канале и двигался на нас с открытой пастью. — Клянусь топором! — снова закричал Умслопогас. — Я воин и не могу умереть, будучи раздавленным, как жалкая муха. Только теперь я заметил дерево и влез на него. Умслопогас стремительно последовал за мной и взобрался на дерево, как фонарщик, так что проплывающий мимо крокодил щелкнул зубами, не достав его мелькнувшие ноги. После этого я уже не обращал внимания на вождя зулусов, частично из-за надвигающихся гиппопотамов, частично оттого, что один из местных жителей расположился надо мной и беспорядочно стрелял, так что пули пролетали как раз над рукавом моего пальто. Если бы не стена, которую я возвел для нашей защиты, думаю, что и мой оруженосец, и я были бы убиты, поскольку позднее я обнаружил, что стена была сплошь покрыта следами от пуль, которые ударялись о камни. Благодаря крепости стены и камней — или, как потом сказал Зикали, Великому талисману — мы не пострадали. Затем, сделав удачный выпад, я убил одного гиппопотама с такого близкого расстояния, что порох от ружья прожег его шкуру. Но он проследовал по инерции вперед, не коснувшись нас. К сожалению, не все были настолько удачливы, как мы: двое местных жителей были растоптаны, а у третьего была сломана нога. И наконец, что было совсем уж удивительно, испуганный самец на полной скорости врезался в ствол дерева, на котором сидел Умслопогас, и разломил его на две части. Вниз упала верхушка, на которой сидел величественный вождь, как птица в гнезде, хотя величия в тот момент в нем было совсем мало. Но несмотря на царапины, он не был ранен, потому что у гиппопотама были другие задачи и он не остановился расправиться с ним. — Такие вещи обычно случаются с теми, кто ввязывается в дела, в которых ничего не смыслит, — впоследствии сказал мне Умслопогас менторским тоном. Надо сказать, он не выносил намеков на этот эпизод в своей боевой карьере, вдобавок трюк с лазанием по деревьям был совершен вождем на глазах у слуг и стал среди них поводом для большого зубоскальства. Вождь даже хотел убить человека, давшего ему грубое прозвище, которое в переводе звучит как: «Тот, кто настолько смел, что гоняется за водяной лошадью, сидя на дереве». Наконец все закончилось, за что я искренне поблагодарил Провидение. Огромное количество животных было мертво, я насчитал двадцать одно, однако большинство исчезло, так или иначе прорвавшись через запруду, причем я подозреваю, что они были ранены. Я думаю, что в конце концов вожак стада пересилил страх и, проплыв сквозь наши заграждения, попал в канал. В любом случае они ушли, и, удостоверившись, что я ничего не могу сделать для человека, который был растоптан, я пересек канал на каноэ с оставшимися людьми, которые возвращались в лагерь для отдыха. Но мне было еще далеко до полного спокойствия, поскольку я нашел капитана Робертсона. Прикончив очередную бутылку, он находился в невероятном возбуждении по причине гибели одного местного жителя, его любимчика, и ранения другого, чья нога была сломана. Он громко кричал, что гиппопотам, который сделал это, был ранен и исчез в зарослях кустарника в нескольких сотнях ярдов отсюда и что за людей надо отомстить, причем немедленно. Видя его возбужденное состояние, я предпочел последовать за ним. То, что случилось потом, не стоит детального описания. Нужно лишь сказать, что он нашел этого гиппопотама и разрядил в него свое ружье, ранив его, но несерьезно. Животное выскочило из зарослей с открытой пастью, намереваясь исчезнуть в кустах. Робертсон попытался отойти, поскольку стоял у него на дороге, но споткнулся и упал. Он был бы раздавлен огромным животным, если бы я не оказался у него на пути и не всадил бегемоту прямо в горло две пули. Тот упал замертво в нескольких футах от злополучного места, где пытался подняться капитан Робертсон и где стоял я. Эта безуспешная попытка мести огорчила капитана, и я должен сказать, что благодарность его не знала границ. — Вы смелый человек, — сказал он. — Если бы не вы, я сейчас был бы на том свете. Я не забуду этого, мистер Квотермейн, и если у вас есть какая-то просьба, я выполню ее. — Очень хорошо, — ответил я, захваченный его вдохновением. — Я попрошу у вас кое-что. Выполнить это будет для вас проще простого. — Я к вашим услугам. Только скажите. — Я хочу, — продолжал я, вставляя новые патроны в свое ружье, — чтобы вы пообещали мне бросить пить ради вашей дочери. Вот суть моей просьбы. — Это будет непросто, — ответил он медленно. — Но, клянусь Богом, ради вас и моей дочери я попытаюсь сделать это. И я пошел оказывать помощь раненому человеку со сломанной ногой. Вот последнее, что я сделал в то утро.Глава 7
КЛЯТВА
На месте охоты мы провели еще три дня. Во-первых, было необходимо, чтобы прошло время и улетучились газы, которые образовались в огромных телах мертвых животных. Затем нужно было снять шкуру с бегемотов и разрезать ее на полоски и куски, чтобы их можно было продать бродячим торговцам или сделать из них маленькие щиты, которые очень ценились у племен Восточного побережья. Все это отняло много сил. Тем временем я почувствовал отвращение к самому себе, когда смотрел, как местное население пьет кровь этих чудовищ. Постное мясо они высушивали и делали из него билтонг, или вяленое мясо, но огромное количество жира сразу же съедали. Я из любопытства взвесил кусок мяса, который дали одному худому голодному парню. Он весил двадцать фунтов. В течение четырех часов кусок был съеден до последней унции, и парень лежал как бревно, раздувшийся и вялый. Что бы мы, белые люди, отдали за такое прекрасное пищеварение! Наконец все было закончено, и мы двинулись в сторону поселка. Мужчину со сломанной ногой несли на носилках. На краю зарослей мы отыскали наш фургон в целости и сохранности. Кроме него, там стоял еще фургон капитана Робертсона, который прибыл для транспортировки ожидаемого груза шкур гиппопотамов и слоновой кости. Я спросил моего слугу, не произошло ли чего за время нашего отсутствия. Он ответил, что ничего не случилось, но предыдущим вечером после наступления темноты он видел зарево в направлении Стратмура, примерно в двадцати милях отсюда; казалось, что там горело множество костров. Это так сильно напугало его, что он залез на дерево — рассмотреть сверху, что произошло. Однако он не думает, что горел дом, поскольку зарево было недостаточно большим для этого. Я предположил, что это могло быть вызвано поджогом травы или тростника, на что тот равнодушно ответил, что он так не думает, поскольку линия зарева не была непрерывной. После такого сообщения я, признаюсь, почувствовал тревогу, правда не мог сказать, по какой именно причине. Умслопогас слушал этот рассказ, поскольку мы говорили по-зулусски, и тоже встревожился. Он выглядел бодро, но ничего не сказал. Со времени своего лазания по деревьям он стал больше молчать, но я не придал этому значения. Мы вышли в то время, в которое и планировали, чтобы прибыть в Стратмур за час до захода солнца, позволив себе короткую остановку на полпути. Поскольку мои быки шли быстрее, чем быки второго фургона, который был сильно нагружен, я прибыл первый, чуть позади за мной шел Умслопогас, который хотел поговорить со своими зулусами. Я не мог выбросить из головы непонятную историю с заревом и с тревогой торопливо двигался вперед. Мы прошли уже пару миль из тех десяти или двенадцати, которые отделяли нас от Стратмура, как среди волн кустарника, напоминавших море, замершее в движении, я заметил маленькую фигуру, которая приближалась к нам мелкой рысью. Чем-то эта фигура напоминала мне Ханса, я напряг зрение, чтобы присмотреться. Это действительно был Ханс, и никто другой, причем он бежал очень быстро. В тревоге я приказал погонщику скорее гнать быков, так что через несколько минут мы встретились. Остановив фургон, я выпрыгнул из него и позвал Умслопогаса, который рысцой подбежал к нам. Ханс, увидев нас, остановился на некотором расстоянии и махал шляпой, как делал это обычно, когда был пристыжен или встревожен или чувствовал себя виноватым. — Что случилось, Ханс? — спросил я, приблизившись на расстояние разговора. — О баас… — отвечал тот, и я заметил, что он опустил глаза, а губы дрожали. — Говори, дурак, на зулу, — сказал я, потому что к нам присоединился Умслопогас. — Баас, — отвечал Ханс на зулусском, — ужасная вещь случилась на ферме Рыжебородого. Вчера днем в то время, когда все люди спали, потому что было очень жарко, группа огромных свирепых людей с длинными копьями — может быть, их было около пятидесяти — проникла тайком на ферму сквозь высокую траву и злаковое поле и напала на нас. — Ты видел их? — спросил я. — Нет, баас, я наблюдал с небольшого расстояния, как вы приказывали мне. Но стало жарко, я прикрыл глаза, чтобы не слепило солнце, поэтому я не видел их, пока они не стали шуметь. — Ты имеешь в виду, что заснул или был пьян, Ханс. Но продолжай. — Баас, я не знаю, — отвечал тот смущенно. — Но после этого я залез на высокую пальму, на вершине которой были густые ветки. С нее мне было видно все, а меня никто не заметил. — Что ты увидел, Ханс? — спросил я. — Я видел, как прибежали чужие люди и окружили деревню. Потом они начали кричать, и жители вышли посмотреть, что случилось. Томазо и несколько человек первыми поняли, что будет дальше, и быстро убежали к склону горы, пока окружение не было завершено. Затем женщины и дети вышли из хижин, и большие люди убили их своими копьями — всех, всех! — Боже! — вскричал я. — И что случилось с домом и с Инес? — Баас, они окружили дом. Девушка услышала шум и вышла посмотреть, что случилось. С ней были два зулуса из племени топора, которые болели, но уже совсем выздоровели. Несколько великанов подбежали, чтобы забрать ее, но зулусы отчаянно боролись, защищая ее, и убили шестерых воинов, а потом были убиты сами. Печальные Глаза также выстрелила из ружья, которое держала в руках, и ранила одного чужака. Затем остальные враги схватили ее и посадили в кресло, а двое остались смотреть за ней. Они не причинили ей вреда, казалось, что они вели себя с ней так мягко, как только могли. Потом они вошли в дом и нашли там толстую девушку по имени Дженни, которая всегда смеется, она еще смотрит за Печальными Глазами, и тоже привели ее. Я думаю, они сказали ей, чтобы она находилась со своей госпожой и что, если попытается бежать, они убьют ее. Потом я видел, как Дженни приносила Инес еду и другие вещи. — Что же было дальше, Ханс? — Затем, баас, они пошли на склад, чтобы взять там все, что им понравится и может пригодиться в дальнейшем. Они отобрали одеяла, ножи, кухонные принадлежности, но не разжигали огня и не пытались поймать скот. Затем принесли дрова и зажгли костры, восемь или девять, а когда солнце село, начали пировать. — Чем же они праздновали, если не взяли скот? — спросил я, покрываясь холодным потом, потому что знал ответ на свой вопрос. — Господин, — отвечал Ханс, отворачиваясь и глядя в землю, — они пировали над трупами детей и молодых женщин, которых убили. Эти ужасные воины — людоеды, баас! От такого страшного сообщения я побледнел и почувствовал, что сейчас упаду, однако быстро взял себя в руки и приказал Хансу продолжать рассказ. — Они сидели у костров достаточно тихо. Затем некоторые из них уснули, а остальные остались на страже. Так продолжалось всю ночь. Когда наступила темнота, но луна еще не взошла, я спустился с дерева и незамеченным пробрался на двор. Я прошел в дом через заднюю дверь и пополз к окну в гостиной. Оно было открыто. Я заглянул внутрь и увидел, что Печальные Глаза так и сидит привязанная в кресле в шаге от меня, а Дженни лежит на полу у ее ног. Я подумал, что она спит или в обмороке. Немного пошипев, как шипит ночная гадюка, — я продолжал шипеть, пока наконец девушка не повернула голову, — я начал шептать очень тихо, потому что мог разбудить двоих охранников, которые спали с обеих сторон от нее, завернувшись в одеяла. Я сказал ей: «Это я, Ханс, пришел, чтобы помочь тебе». «Ты не сможешь ничего сделать, — отвечала она тоже тихо. — Иди к своему хозяину и скажи ему и моему отцу, чтобы они спешили сюда. Этих бандитов называют амахаггерами, они живут далеко отсюда, через реку. Они собираются забрать меня с собой, как я понимаю, чтобы управлять ими, потому что им нужна Белая королева. Ими всегда управляла Белая королева, пока они не подняли восстание. Я не думаю, что они причинят мне какой-то вред, если только не захотят выдать меня замуж за своего вождя. Но в этом я не уверена, потому что плохо поняла их разговор. А теперь беги, пока они тебя не поймали». «Я думаю, ты могла бы уйти, — снова прошептал я. — Я разорву веревки. Когда освободишься, проскользни к окну, и я покажу тебе дорогу». «Хорошо, попробуй». — Я вытащил свой нож и вытянул руку. Но потом, господин, я повел себя как дурак. Если бы Великий талисман был рядом, я повел бы себя иначе. Дженни проснулась, подняла голову и увидела нож. Она закричала, хотя хозяйка приказала ей замолчать. Но этого было достаточно, чтобы охранники проснулись, осмотрелись и начали грозить Дженни своими огромными копьями. Они не стали больше спать и начали разговаривать друг с другом, хотя я не слышал о чем, потому что прятался на полу в комнате. Поняв, что ничего хорошего я не сделаю и могу причинить только вред и даже сам погибнуть, я незаметно выбрался из дома таким же путем, каким проник в него, и снова влез на дерево. — Почему ты не пришел сразу же ко мне? — спросил я. — Потому что я все еще надеялся помочь Печальным Глазам. И еще я хотел увидеть, что произойдет дальше, так как знал, что не смогу привести вас сюда вовремя. Кроме того, я думал о том, чтобы пойти к вам, но не знал дорогу. — Может быть, ты прав. — На рассвете, — продолжал Ханс, — свирепые люди, которых называют амахаггерами, проснулись и доели все, что осталось с ночи. Потом они собрались вместе и пошли в дом. Там они взяли большое кресло, в котором обычно сидит Рыжебородый, и выдрали два прута. Под креслом они нашли одежду и другие вещи, принадлежавшие Печальным Глазам, и приказали Дженни собрать все это. Затем они очень нежно усадили леди в кресло, подталкивая ее, чтобы она поторопилась, а Дженни оставили возле кресла. После этого восемь человек взвалили прутья себе на плечи и поспешили из дома, направляясь к зарослям и уводя стадо коз, которое они забрали на ферме. Я видел все, баас, потому что они проходили как раз под тем деревом, на котором я сидел. Тогда я побежал искать вас, идя по следам фургона, чего я не мог сделать ночью. — Ханс, — сказал я, — ты был пьян, и поэтому леди Печальные Глаза попала в руки каннибалов. Когда ты проснулся и все увидел, ты мог спасти девушку и остальных. Несмотря на это, ты все сделал правильно. А за остальное будешь отвечать на Небесах. — Я сообщу вашему отцу, что белый господин с рыжей бородой дал мне ликер. И я выпил его. Я думаю, что ваш отец поймет меня, — отвечал Ханс смиренно. Про себя я подумал, что это правда и клинок Робертсона упал на его собственную голову, как говорят зулусы. Но я ничего не ответил Хансу, не имея времени на споры. — Ты сказал, — неожиданно подал голос Умслопогас, — что мои слуги убили лишь шестерых людоедов? Ханс кивнул и ответил: — Да, я насчитал шесть тел. — Они просто были больны, иначе каждый убил бы шестерых, — проговорил Умслопогас печально. — Ну что же, остальных они оставили для нас! — И он поднял топор. В это время в своем фургоне подъехал капитан Робертсон. Он встревоженно звал нас, не подозревая о случившемся. Его терзало предчувствие чего-то страшного. Мое сердце сжалось при мысли о том, как я буду рассказывать эту жуткую историю отцу убитых детей и похищенной дочери. В конце концов я так и не смог этого сделать. Да, я струсил и сказал, что должен принести кое-что из фургона, и вскочил в него, умоляя Ханса пойти и рассказать всю историю. Он неохотно подчинился, и, глядя в щель между занавесками фургона, я видел, как все случилось, хотя не мог слышать слов. Робертсон выпрягал быков. Здесь он встретил Ханса, который начал говорить, вертя в руках шляпу. По мере того как Ханс рассказывал свою историю, я видел, как лицо капитана леденело от ужаса. Затем он начал ругаться и кричать, потом — рыдать! После чего его охватила слепая ярость, я думал, что он убьет Ханса, который испугался и поспешил удрать. Потом капитан пошатнулся, размахивая кулаками, проклиная все на свете и крича, пока не упал и не начал биться головой о землю и снова рыдать. Тогда я подошел к нему и стал успокаивать. — Эта маленькая желтая обезьяна только что протараторила мне жуткую историю. Ты понимаешь, что он сказал? Он поведал, что все мои дети с их матерями убиты и съедены этими дикарями с Замбези. Понимаешь? Съедены, как ягнята. Эти огни, которые видел твой человек прошлой ночью, были теми кострами, на которых они были приготовлены, мои маленькие детки! — И капитан назвал с полдюжины имен. — Да, приготовлены, Квотермейн. И это не все. Они забрали Инес. Они не съели ее, но взяли в плен, не знаю зачем. Я не могу понять. Вся команда корабля отсутствует, за исключением капитана и первого офицера, Томазо, который дезертировал со своими людьми, бросив женщин и детей. Мой бог, я схожу с ума! Я схожу с ума! Будь милосердным — дай выпить что-нибудь! — Не переживайте так сильно, пожалейте себя. Подождите минуту, я сейчас вернусь, — сказал я. Я зашел в фургон, вылил из своей фляжки весь алкоголь и дополнил ее некоторой дозой снотворного из медицинского сундучка, который всегда ношу с собой, капнув тридцать капель хлородина сверху. Эту смесь я разбавил небольшим количеством воды, налил в жестяную кружку, чтобы он не мог заметить цвет, и передал капитану. Он выпил залпом, отбросил кружку в сторону и уселся на траве, в то время как все охотники смотрели на него издали. Позже к ним присоединился и Ханс. Его рассказ распространился по всей территории, как огонь по сухой траве. Через некоторое время лекарство начало действовать на его нервную систему, потому что он спокойно сел. — Что теперь будем делать? — спросил капитан потухшим голосом. — Месть или правосудие, — отвечал я. — Да! — воскликнул он. — Месть! Я клянусь, что я отомщу — или умру. Я снова решил воспользоваться моментом и сказал: — Вы можете пообещать еще кое-что, Робертсон? Только трезвые люди совершают подвиги, потому что пьянство разрушает человека изнутри. Если вы хотите мстить до смерти и остаться в живых, вы должны быть трезвым, или я не смогу помочь. — Вы поможете мне, Квотермейн, если я выполню вашу просьбу? Я согласно кивнул. — Это больше, чем любая присяга, — пробормотал он. — Мои мысли превратятся в слова. Я клянусь Богом и именем моей матери — как делают это местные — и моей дочерью, рожденной в священном браке, что я никогда не выпью ни капли крепких напитков, пока не отомщу за бедных женщин и их маленьких детей и не освобожу Инес из лап этих убийц. Если я сделаю иначе, можете всадить в меня пулю. — Хорошо, — ответил я бесцеремонно, хотя втайне ликовал, видя успех моей идеи, потому что тогда считал ее удачной, и продолжал: — Теперь займемся делами. Первое, что нам надо предпринять, — это отправиться в Стратмур и заняться приготовлениями, затем — идти по следам врагов. Пойдемте в мой фургон и расскажите мне, какое оружие и амуниция были у вас, потому что, согласно данным Ханса, эти дикари не тронули ничего, кроме нескольких одеял и стада коз. Он рассказал мне все, о чем я спрашивал. Потом он добавил: — Очень странно, но я вспоминаю, что пару лет назад я встретил одного безобразного дикаря с большим носом, который говорил на чем-то вроде арабского. Он жил на побережье. Однажды он пришел ко мне и сказал, что хочет торговать. Я спросил чем, и он ответил, что хочет купить нескольких детей. Я ответил, что я не работорговец. Тогда он посмотрел на Инес и сказал, что хотел бы купить ее, чтобы она стала женой его вождя. Он предложил невероятную сумму в слоновой кости и в золоте, которую мог бы заплатить за нее. Я вырвал его огромное копье у него из рук и так стукнул его древком, что он вряд ли забудет этот удар. Затем я выкинул его оттуда, где он стоял. Он отскочил, но, когда оказался вне зоны досягаемости, обернулся и крикнул, что однажды он придет сюда и заберет девушку с собой, но не даст взамен ни грамма ни золота, ни кости. Я схватил ружье, но когда вернулся, он уже исчез. Я никогда не вспоминал об этом случае вплоть до сегодняшнего дня. — Что ж, он сдержал обещание, — сказал я, но Робертсон не ответил: к этому времени лекарство начало действовать, и он заснул, чему я был несказанно рад, поскольку это средство должно было спасти его рассудок. Мы достигли Стратмура к закату солнца, и было уже слишком поздно, чтобы думать о дальнейшем преследовании. Пока мы ехали, я хорошо обдумал наш план и пришел к выводу, что действовать прямо сейчас бесполезно. Мы должны отдохнуть и хорошенько подготовиться. Кроме того, не было никакой надежды, что мы догоним этих тварей, у которых было двенадцатичасовое преимущество. Нам надо было осторожно двигаться вперед по их следам, чтобы они не успели исчезнуть в непроходимых лесах Африки. Самое большее, что мы могли сделать сегодня ночью, — это подготовиться. Капитан Робертсон еще спал, когда мы подъехали к деревне. Я был рад этому, потому что видеть останки пиршества каннибалов — не самое приятное зрелище. Я решил избавиться от этих страшных следов, вышел из фургона с Хансом и двумя деревенскими парнями, потому что зулусы отказались прикасаться к человеческим останкам. Я раскопал два костра, свет от которых был виден в небе накануне, мы бросили туда останки погибших. Местным жителям я приказал выкопать большую могилу и положить туда остальные тела, чтобы уничтожить следы убийства. Затем я вошел в дом, но не стал никуда спешить. Увидев прибывшие фургоны и удостоверившись, что каннибалы ушли, Томазо и другие трусы вышли из своих укрытий и вернулись домой. К сожалению, первым, на кого они наткнулись, был Умслопогас, который начал оскорблять Томазо всеми возможными способами, называя его собакой, трусом, предателем женщин и детей и другими бранными словами. Томазо, наглец, пытался оправдываться, говоря, что отправился за помощью. Обозленный такой ложью, Умслопогас бросился на него с каким-то львиным рыком и, поскольку обладал недюжинной физической силой, обошелся с ним как лев с быком. Подняв его в воздух, швырнул на землю, потом поднял, бросил снова, и мне показалось, что он хочет сломать ему шею. В этот момент я решил вмешаться. — Пусть уходит! — крикнул я ему. — Здесь и так достаточно убитых. — Да, — ответил Умслопогас. — Пожалуй, ты прав. Лучше, чтобы этот шакал остался в живых и питался своим позором. Робертсон, который еще спал в фургоне, проснулся от шума, покинул свое укрытие и с удивлением уставился на эту сцену. Я завел его в дом и рассказал, как было дело, как двое зулусов сражались с шестерыми каннибалами, которых они убили, а еще про того негодяя, которого застрелила Инес. Эти зулусы славно дрались, их тела были сплошь покрыты ранами, все они были нанесены в грудь и лицо. Зулусы не дрогнули, не повернулись спиной к нападавшим. Я заставил Робертсона прилечь на кровать, а сам решил рассмотреть убитого амахаггера. Судя по всему, это были удивительные люди: высокие, худощавые, с тонкими чертами лица. По этим характеристикам, а также исходя из того, что у них светлая кожа, я пришел к выводу, что они принадлежали к семитскому или арабскому типу[379]. В их крови вряд ли текла кровь банту. Найденные копья, одно из которых было срезано топором зулуса, были длинные и широкие, не похожие на те, которые используют зулусы. Сделаны они были с большим мастерством. К этому времени солнце уже село, и, несмотря на усталость, я решил перекусить. Я вошел в дом, приказав Хансу найти еду и приготовить что-нибудь. Пока я ждал, появился Робертсон, и я предложил ему присоединиться ко мне. Его первым порывом было подойти к буфету и по привычке поискать что-нибудь выпить. — Ханс приготовит кофе, — предупредил я его. — Спасибо, — ответил он. — Я забыл. Старая привычка, знаете ли. Здесь я должен заметить, что с того момента я никогда не видел его со спиртным, даже когда я сам пил свою честно заработанную рюмку. Его победа над проклятым искушением была полной и заслуживающей восхищения, особенно потому, что он сильно страдал от отсутствия ежедневной дозы, пребывая в депрессии. Однако все это привело к положительным результатам. И в самом деле, капитан полностью изменился. Он стал мрачным, но более решительным. Лишь одна идея владела им — освободить дочь и отомстить за убийство его людей, больше ничто не интересовало его, даже его грехи. Более того, его могучий организм подкрепился новой закалкой и стал настолько силен, что, хотя я был крепок в те дни, он мог легко уложить меня на обе лопатки. Вернемся назад: я вовлек капитана в обсуждение планов и с его помощью составил список того, что нам понадобится в нашем путешествии, — все это постоянно занимало его мысли. Затем я отправил его спать, сказав, что разбужу перед рассветом, и добавил еще бромида в третью чашку кофе. После этого я сам свалился в кровать и, несмотря на зрелище останков людоедского пира и воспоминания о мертвых телах за окном, уснул крепким сном. Утром меня разбудил капитан, а не я его. Он сказал, что уже рассветает и нам пора отправляться. Мы спустились к складу, где я с радостью обнаружил, что все разложено в соответствии с моими требованиями. По дороге Робертсон спросил меня, что стало с останками погибших. Я показал ему пепел в одном из костров. Он подошел к нему, преклонил колени, произнес молитву с шотландским акцентом. Без сомнения, это была молитва, которой он научился у своей матери. Затем он взял немного пепла с края погребального костра и бросил его в раскаленные угли, где, как он знал, лежали останки тех, кого он любил. Также он бросил остатки пепла в воздух, хотя я так и не понял, что он хочет таким образом сказать, и никогда об этом не спрашивал. Может быть, это был некий ритуал, указывающий на искупление или месть или на то и другое вместе, и о нем он узнал от местных дикарей, среди которых прожил так долго. Затем мы направились на склад и с помощью нескольких местных жителей, которые сопровождали нас в охоте на гиппопотамов, отобрали все то, что было нужно, и отправили это к дому. Когда мы вернулись, я увидел Умслопогаса и его отряд, занятых, согласно церемониям зулусов, похоронами двоих соплеменников в норе, которую они сделали на склоне горы. Я заметил, однако, что они не положили туда их боевые топоры или копья, как обычно. Возможно, они считали, что оружие еще может понадобиться. Вместо них они положили маленькие фигурки из дерева, которые повторяли облик убитых, только расколотые. Я задержался, чтобы посмотреть похороны, и услышал шамана Гороко, который произнес маленькую речь. — О отец и вождь племени топора! — воззвал он, обращаясь к Умслопогасу, который стоял молча и изучал свое оружие, возвышаясь в траве. — О отец, о сын небес. — (Это был намек на королевскую кровь Умслопогаса, чей секрет был хорошо известен, но никогда не обсуждался вслух в стране зулусов.) — О Убийца, Булалио, Дятел, который клюет сердца людей, о король-убийца, о завоеватель Халакази, предводитель волков, которые убивают, о убийца Факу, о великий, перед которым все малы, потому что каждый должен следовать своей крови… Это было начало речи и титулы, восхваляющие личность, к которой она обращена. Я процитировал лишь часть, потому что остальные просто забыл. Затем говорящий продолжал: — Мне было сказано, хоть я и не помню ничего, когда мой дух во мне, некоторое время назад, что это то самое место, где прольется много крови. И что? Кровь пролилась, и это кровь наших братьев! — И Гороко произнес имена двух мертвых зулусов, а также их предков много поколений назад. — Кажется, отец, они умерли хорошо, как ты и хотел, чтобы они умерли, и, без сомнения, они хотели так умереть, оставляя за собой легенду, хотя они могли умереть лучше, убив больше людоедов, и они сделали бы это, если бы не были больны. Они закончили свой жизненный путь. Теперь они ждут нас в подземном мире среди привидений. История рассказана, и скоро дети будут шептать их имена после захода солнца. Они показали нам, как надо умирать! Как умирали их отцы. Шаман Гороко замолчал на мгновение, затем добавил, размахивая руками: — Мой дух снова приходит ко мне, и я знаю, что наши братья не уйдут неотмщенными. Вождь племени топора, великая слава ждет твой топор, и она будет полной. Я сказал. — Хорошие слова! — проворчал Умслопогас. Затем он отсалютовал погибшим топором и подошел ко мне, чтобы обсудить детали нашего будущего путешествия.Глава 8
ПОГОНЯ
Получилось так, что раньше ночи мы не могли выйти в путь, потому что нужно было как следует подготовиться. Нам понадобилось много груза. Основной груз состоял из оружия. Для того чтобы нести хотя бы необходимый минимум, мы взяли с собой двух ослов и полдюжины волов. Отобрали закаленных животных, невосприимчивых к укусам мухи цеце и прочим «подаркам» этого уголка Африки. Наивно было бы предполагать, что они абсолютно защищены от всех болезней, но я надеялся, что какое-то время животные все-таки продержатся. На случай если на нас нападут дикие звери, мы взяли с собой десять человек из Стратмура, которые сопровождали нас в охоте на гиппопотамов, чтобы, если потребуется, использовать их в качестве носильщиков. Нельзя сказать, что эти люди, по крайней мере большинство, поскольку в их жилах текла кровь белого человека, очень жаждали быть добровольцами в таком опасном деле. По правде говоря, если бы у них был выбор, они бы отказались от этого путешествия. Но выбора не было. Хозяин, мистер Робертсон, приказал им идти, а свирепая внешность зулусов убедила их, что если они откажутся, то шансов остаться в живых у них просто не останется… Кроме того, некоторые из них потеряли жен и детей в случившейся резне, и это была реальная возможность отомстить. Наконец, все кое-как умели стрелять и у них были хорошие ружья. Более того, позволю себе предположить, что они верили в мое лидерство и удачный исход операции. Поэтому они заранее настроились на поход и подготовились к путешествию. Затем были сделаны все необходимые приготовления по охране фермы и складов во время нашего отсутствия. Все это хозяйство вместе с моим фургоном и быками было оставлено на попечение Томазо. Да-да, побитому и сброшенному с пьедестала Томазо, поскольку никому другому доверять было нельзя. Когда он услышал об этом, то вздохнул с явным облегчением, мне казалось, что он ужасно боится, что ему тоже придется принимать участие в охоте на каннибалов. Кроме того, в его голове могла затаиться мысль о том, что мы не вернемся и он может стать хозяином бизнеса и ценной собственности. И он поклялся всеми святыми, поскольку номинально Томазо был католиком, что он будет смотреть за всем так, как будто это его собственность, что, по его мнению, все же могло случиться. — Слушай меня, жирная свинья, — сказал Умслопогас, а Ханс старательно переводил, чтобы не было ошибок. — Если я вернусь, а я вернусь, потому что путешествую с человеком, имеющим Великий талисман, и найду хотя бы одно животное из стада белого хозяина Макумазана, Бодрствующего в ночи, пропавшим, или исчезнет хотя бы одна вещь из его фургона, или поля твоего хозяина не будут удобряться, а его вещи окажутся испорчены, я клянусь своим топором, что разрежу тебя на куски, даже если для этого мне придется искать тебя в тех местах, где садится и встает солнце. Ты все хорошо понял, предатель женщин и детей, который, чтобы спасти себя, бежал быстрее козла? Томазо ответил, что понял хорошо и что Небеса помогут ему, все будет в целости и сохранности. Я уверен, что его храброе сердце обещало великие дары святым, если они устроят все так, чтобы Умслопогас и его чудесный топор не вернулись, а амахаггеры сделали свое дело. Однако, поскольку я не доверял Томазо, я оставил своего погонщика-вурлупера охранять то, что принадлежало мне лично. В конце концов мы двинулись в путь, провожаемые горячими молитвами Томазо и тех, за чьих родственников мы должны были отомстить. Мы представляли собой забавную и пеструю процессию. Первым шел Ханс, потому что его копье было самым неудобным для метания во всей Африке. С ним шел Умслопогас и три его зулуса, во избежание различных неожиданных сюрпризов. Далее следовали капитан Робертсон, который хотел идти один и которого лучше было меньше тревожить во время похода. Затем шел я, а за мной люди из Стратмура с животными. Нашу кавалькаду замыкали остальные зулусы под командованием Гороко. Эти шли последними на тот случай, если кто-нибудь из полукровок решит убежать, потому что такое было вполне возможно, так как они могли струсить. Менее чем через час следы привели нас к зарослям кустарника, где, как я боялся, могли начаться неожиданности, поскольку, если каннибалы хоть что-то соображали, у них было преимущество — они могли спрятаться там со своими копьями. Однако этого не случилось, и любой ребенок мог прочитать их следы и последовать за ними их маршрутом. Еще до наступления ночи мы подошли к их первому привалу, где они разожгли костер и съели одну козу из стада, которое шло вместе с ними, при этом они не взяли другой скот. Возможно, они поступили так потому, что козы более послушны в дороге. Ханс, изучив следы, показал нам, как все размещались на бивуаке, где находилось кресло, в котором сидела Инес, как его поставили на землю, где она и Дженни могли погулять, чтобы размять затекшие руки и ноги, и даже нашел остатки кофе, который, очевидно, приготовила Дженни в какой-то кастрюле, и так далее. Он даже рассказал нам, сколько всего было амахаггеров — сорок один человек, включая того, кого ранила Инес. Его копье он отличил от другого по случайным каплям крови и по тому, что он шел, едва ступая на правую ногу, — без сомнения, он боялся потревожить рану. Мы вынуждены были остаться на месте чужого привала до рассвета, потому что в темноте невозможно было различить следы. Это давало каннибалам огромное преимущество перед нами. Следующие два дня были повторением первого, но на четвертый мы наконец вышли к болотистой местности, которая окаймляла широкую реку. Здесь наша задача выслеживания была еще проще, поскольку амахаггеры последовали по одной из тропинок, проделанной местными обитателями, жившими на холмах, хотя были ли они искусственные или природного происхождения, я не знаю. Иногда аборигены еще жили на плавучих островах. На второй день мы увидели в тростнике печальный знак. Слева находились деревни, если можно было их так назвать, поскольку там стояло всего четыре-пять хижин, в которых жили от силы двадцать человек. Мы зашли туда, чтобы получить информацию, и споткнулись о тело старого человека, которое лежало на тропинке. Через несколько ярдов мы нашли золу от большого костра, а в нем останки, такие же, какие мы видели в Стратмуре. То был очередной пир каннибалов. Все бедняцкие хижины были пусты, но, как и Стратмур, не сожжены. Мы уже собирались было уходить, когда чуткие уши Ханса услышали стоны. Мы пошли на звук и в зарослях тростника у подножия холма нашли старую женщину с кровоточащей раной от копья над тощим бедром. Копье повредило некоторые органы, но рана не была смертельной. Один из людей Робертсона, который понимал язык болотных жителей, заговорил с ней. Она попросила воды. Воду принесли. Женщина жадно выпила ее и затем начала отвечать на наши вопросы. Она рассказала, что амахаггеры атаковали деревню и убили всех, кто не смог убежать. Они съели молодую женщину и троих детей, поджарив их на костре. Старуха была ранена копьем и уползла в заросли, где мы ее и нашли. Никто из людоедов не последовал за ней, посчитав ее несъедобной. По моему указанию мужчина спросил ее, знает ли она что-то об этих амахаггерах. Она отвечала, что ее прадеды знали, а она ничего не слышала с тех пор, как была ребенком, а было это семьдесят лет назад. Эти жестокие люди жили к северу от Великой реки, это были остатки племени, которое когда-то «управляло миром». Ее предки говорили, что эти люди не всегда были каннибалами, а стали ими из-за недостатка пищи и постепенно вошли во вкус. Именно поэтому они совершают набеги на чужие селения, поскольку их правитель запрещает им есть друг друга. Они не разводят скот, хотя у них его достаточно, но иногда едят коз и свиней, потому что по вкусу они напоминают людей. По мнению этой женщины, амахаггеры — жестокие люди, обладающие способностями к магии. Все это старуха проговорила очень быстро после того, как выпила воду, может быть, потому, что ее рана уже затянулась и она не чувствовала боли. Однако ее информация не была актуальной: женщина ничего не знала о сегодняшней истории амахаггеров и уж тем более о судьбе Инес. Все, что она смогла сказать, — это то, что каннибалы напали на ее деревню на рассвете и она убежала из дому, когда ее ранили копьем. Пока мы с Робертсоном думали, что делать с бедной женщиной, поскольку слишком жестоко было оставить ее одну умирать, она сама разрешила вопрос, угаснув на наших глазах. Прошептав некое имя, известное ей со времен юности, три или четыре раза, она неожиданно села. А потом, казалось, уснула. Мы поняли, что она умерла. Мы оставили ее и отправились дальше. На следующий день мы вышли к границе Великой реки. Через милю от нас лежало спокойное пространство воды — в это время года уровень воды был низкий. Увидев слева довольно большую деревню, мы подошли к ней и убедились, что в нее каннибалы не входили. Может быть, потому, что она была хорошо укреплена, но за три ночи до этого несколько каноэ ее жителей были украдены. На них каннибалы пересекли реку. Поскольку жители этой деревни торговали с Робертсоном в Стратмуре, мы без труда уговорили их дать нам другие каноэ. В них мы и переправились через Замбези. Эти каноэ были достаточно крепкими и вместительными, чтобы взять с собой ослов, которые были терпеливыми созданиями и стояли смирно, но скот мы не могли взять с собой, боясь, что каноэ перевернется. Итак, мы убили двух животных и взяли их с собой уже в качестве запасов пищи. Три оставшихся быка сами пустились вплавь, мы лишь привязали их к каноэ веревками, которые обмотали вокруг рогов. В результате двое быков утонули, а один, самый выносливый, перебрался на другой берег. Затем мы снова попали в заросли тростника, в которых Ханс обнаружил следы амахаггеров. То, что это их следы, подтвердила находка среди колючек кусочка от одежды, в котором мы опознали часть платья-накидки Инес. Сначала мы думали, что острый шип случайно ободрал ее платье, но потом сообразили, что это было сделано намеренно. Возможно, Дженни оставляла нам сведения об их передвижении. Мы пришли к такому выводу, потому что через определенные промежутки мы находили такие же обрывки материи. Невозможно рассказать все подробности этой длинной и утомительной погони, которая продолжалась около трех недель. Снова и снова мы теряли след и находили его лишь путем долгих и утомительных поисков, которые занимали много времени. Пройдя сквозь заросли тростника и переправившись через болота, мы вышли к каменистому плоскогорью, где следов практически не было видно. Мы вновь обнаружили их следы лишь по валявшемуся телу каннибала, которого когда-то ранила Инес. Очевидно, он скончался от раны, оказавшейся смертельной. По степени разложения останков тела мы определили, что налетчики находятся в двух днях пути от нас. Снова двигаясь за ними, уже по мягкой земле, где оставались следы ног — их заметил острый взгляд Ханса, — мы прошли вдоль огромных аллей, где росли редкие деревья. Эти аллеи были отделены одна от другой участками бесплодной земли. Здесь у нас опять возникли серьезные проблемы с обнаружением следов, но дважды нас выручали все те же обрывки одежды Инес. В конце концов мы потеряли все следы, ничего нельзя было найти! Остановившись в полном неведении, не зная, куда идти дальше, мы даже не ведали, как лучше пересечь густые заросли. Как же нам найти маленькую группу людей на этом необъятном пространстве? Ханс, от природы хороший следопыт, только качал головой, и даже молчаливый и решительный Робертсон был обескуражен. — Я боюсь, что моей девочки уже нет в живых, — произнес он печально и снова впал в задумчивость, как это случалось с ним все чаще в последнее время. — Никогда не говорите о смерти! Терпение и труд все перетрут! — ответил я бодро словами адмирала Нельсона, который тоже знал, что значит идти по следу врага, когда нет никаких следов, хотя его стихией было море. Я поднялся на вершину холма, где мы разбили лагерь, чтобы все обдумать. Мы оказались в отчаянном положении, все наши животные были мертвы, даже второй осел, который был самым крепким из всех, пал этой ночью и был съеден, поскольку еды было мало. Люди Стратмура, которые теперь должны были нести поклажу, устали и, по правде сказать, могли удрать, хотя бежать тут было некуда. Даже зулусы впали в уныние и ворчали, что перешли Великую реку и ушли из дома, чтобы сражаться, а не бегать по дикой местности и голодать. Умслопогас не жаловался, он помнил прорицание Гороко, что его ждет великая битва, в которой он завоюет громкую славу. Ханс, однако, как ни странно, сохранял присутствие духа и был даже весел, по причине, которую он много раз повторял: Великий талисман с нами и поэтому, хоть и случаются неприятности, в итоге все будет хорошо. Впрочем, этот аргумент меня совсем не убеждал… Однажды вечером в полном одиночестве я стоял среди кустов и пытался понять, куда идти дальше. На много миль вокруг простирались одни и те же заросли и голые холмы. Тут я подумал о карте, которую Зикали нарисовал мне на золе. Я четко вспомнил, что там были эти «аллеи» и холмы, вдалеке лежалоогромное болото, а еще дальше — гора. Казалось, что мы на правильном пути к дому Белой королевы, если она вообще существовала. Либо мы просто прошли через страну, похожую на ту, которую он нарисовал. К тому времени я уже не забивал себе голову вопросами о Белой королеве. Я думал о бедной Инес. То, что она была жива несколько дней назад, мы знали по кусочкам ее платья. Но где она сейчас? Следы похитителей были потеряны на каменистой почве, а их жалкие остатки смыты дождями. Тут даже Ханс почувствовал себя побежденным. Я беспомощно оглядывался и стоял так до тех пор, пока луч солнца не отразился в грозовом облаке, а потом не упал на белое пятно неподалеку от холмов. Оказалось, что белый известняк случайно обнажился в этом месте. Этот обломок мог служить зна́ком для тех, кто путешествует через море кустарника. Какое-то внутреннее чувство заставило меня отправиться в том направлении, разум подсказывал, что нам совершенно точно надо двигаться именно на восток. Без сомнения, то был результат растерянности и умственного перенапряжения. И я не стал сопротивляться позывам души. Итак, на следующее утро на рассвете я повернул наш отряд, и отныне мой путь лежал к белым известнякам. Впервые за время нашего путешествия я нарушил прямой маршрут следования. Капитан Робертсон, чье настроение не улучшилось под влиянием длительной и пугающей тревоги и вдобавок непривычного воздержания от алкоголя, спросил меня почти грубо, на каком основании я изменил курс. — Знаете, капитан, если бы мы были в море и вы бы сделали нечто подобное, я не задавал бы вопросов, а если бы и задал, то не ожидал от вас ответа. По нашему взаимному согласию командую здесь я, поэтому могу представить те же аргументы. — Хорошо, — ответил тот. — Полагаю, что вы обдумали свой план, если таковой может вообще существовать в этой забытой богом стране. В любом случае дисциплина есть дисциплина. Итак, идите вперед и не думайте о моих сомнениях. Другие спутники приняли мое решение без комментариев, большинство из них настолько устали, что их уже не волновало то, каким путем мы пойдем. Кроме того, они всецело мне доверяли. — Без сомнения, у бааса есть на все свои причины, — сказал Ханс нерешительно. — Хотя следы, которые мы видели в последний раз, ведут прямо к восходящему солнцу, а поскольку местность осталась прежней, я не понимаю, почему эти людоеды должны вернуться. — Да, — ответил я. — У меня есть свои причины. — Хотя в действительности их не было, а было одно ощущение правильности пути. Ханс внимательно посмотрел на меня глазами, полными слез, как будто ждал объяснений, но я смотрел на него снисходительно и не удостоил ответом. — У бааса есть свои причины, — продолжал Ханс, — для того, чтобы вести нас по тому пути, который я считаю неправильным, и искать следы людоедов. Эти причины настолько глубоко спрятаны в его голове, что бедный Ханс не может найти им объяснения. Возможно, причина в том, что он носит Великий талисман. Парни из Стратмура говорят, что не пойдут дальше и хотят умереть здесь. Умслопогас отправился к ним со своим топором сказать, что готов осуществить их желание. Смотри-ка, он убедил их, они быстро возвращаются и снова хотят жить дальше. Итак, мы пошли к обломкам белого камня, которые никто, кроме меня, не видел и о котором я никому ничего не сказал. На следующий день мы достигли этого места, чтобы обнаружить, как я и ожидал, обнаженный известняк. К тому времени нам пришлось совсем тяжело, потому что практически никакой пищи не осталось. Боевой дух нашей компании подняться от этого никак не мог. С нагромождения известняка можно было увидеть широкий проход, с которого были видны такие же проходы вокруг, и ничего более. Капитан Робертсон сидел с каменным лицом на некотором расстоянии от нас и что-то бормотал себе в бороду, что уже вошло у него в привычку. Умслопогас наклонил свой топор и жаловался Небесам, — наверное, люди Стратмура стояли у него перед глазами. Зулусы сидели на корточках, посматривая с недоверием на окружающих, которые завели их в эти дебри, столь непохожие на привычные краали с быками. Гороко, знахарь, советовался со своим «духом», бросая кости и загадывая, сможем ли мы убить какую-нибудь дичь, чтобы пообедать хотя бы завтра. «Дух» был в этом не уверен. Короче говоря, наступил полный мрак, а вселенная и небо выглядели так, словно вот-вот пойдет дождь. Ханс начал язвить. Подползая ко мне в своей самой невыносимой манере, как собака, которая собирается что-то стащить и прикрывает воровское намерение лживой привязанностью, он указал мне одно за другим недостатки нашего положения. Он убеждал меня, что я должен последовать его советам, ибо, если мы откажемся от поисков и не найдем людоедов и девушку по имени Печальные Глаза, ситуация станет совсем другой. Он сказал, что уверен, что путь, который он предложил, приведет нас в долину, полную дичи, поскольку он видел это лично. — Почему же ты молчал об этом раньше? — спросил я. Ханс посасывал свою пустую трубку и таким образом давал мне понять, что неплохо бы дать ему табаку. Так собака лает под столом, требуя еды. Он отвечал мне, что на самом деле не его дело давать советы тому, кто, как великий Макумазан, Повелитель ночи, знает все. Но кажется, удача сыграла с Повелителем злую шутку. Можно стерпеть любые лишения (тут он втянул воздух из пустой трубки особенно громко и выразительно посмотрел на меня), если только есть шанс встретиться с этими людоедами и освободить леди Печальные Глаза, чье лицо преследует его во сне. Однако он убежден, что, следуя моему новому курсу, мы окончательно потеряем их след, и, возможно, они теперь в трех днях пути от нас совсем в другом направлении. Однако баас сказал, что у него есть свои причины для выбора данного маршрута, и этого, конечно, достаточно для Ханса, только если хозяин снизойдет до него, удовлетворит его любопытство и расскажет, что это за причины… В тот момент я признался себе, что, как бы я ни был привязан к нему, мне очень хочется убить Ханса. Я пытался сохранить спокойствие, но чувствовал, что у меня это не получается. Затем я оглянулся, как будто советовался с Небесами, втайне надеясь, что Небеса ответят на мой вопрос. И они ответили за меня. — Вот моя причина, Ханс, — сказал я самым ледяным голосом, на который только был способен, и указал на тонкую линию дыма, поднимающуюся в небе на другой стороне долины. — Понимаешь, Ханс, — продолжал я, — эти каннибалы забыли об осторожности и зажгли костер, чего они не делали уже давно. Возможно, ты захочешь узнать, почему это случилось. Я отвечу тебе. Это случилось потому, что несколько дней назад я намеренно потерял их след, по которому, как они думали, мы идем за ними, и зажгли костры, чтобы озадачить их. Теперь, надеясь на то, что они обманули нас, они потеряли осторожность и нечаянно указали нам, где находятся. Вот моя причина, Ханс, выбора нового пути. Он выслушал меня и, хотя и не поверил тому, что я намеренно потерял след, уставился на меня так, что его маленькие глазки готовы были выскочить из орбит. Но даже в своем обожании он думал о том, как упрятать свой промах. — Как прекрасно, что существует Великий талисман и он может давать советы баасу, — сказал он. — Без сомнения, Великий талисман прав и людоеды разбили лагерь именно в том месте, именно в том, а не в другом, на сто миль вокруг. «Пропади пропадом этот Талисман!» — проговорил я про себя, а вслух сказал: — Будь так добр, Ханс, пойди к Умслопогасу и скажи ему, что Макумазан, или Великий талисман, предлагает идти сразу же и атаковать лагерь амахаггеров. А вот и для тебя табачок. — Да, баас, — ответил Ханс смиренно, набивая трубку моим табаком, и уполз, как червяк. А я пошел переговорить с Робертсоном. В результате через час мы уже двигались через долину по направлению к тому месту, где я видел полоску дыма, которая поднималась в сумраке неба. Около полуночи мы оказались по соседству с лагерем бандитов. Нельзя было сказать, насколько близко мы находимся от них, поскольку луны не было, а дым от костра скрывался в темноте. Но вот вопрос — что делать дальше? В ночной атаке для нас были неоспоримые преимущества, равно как и в том, что мы нашли врага, поскольку на рассвете людоеды могли снова отправиться в путь. Кроме того, мы вряд ли были в состоянии встретиться с противником лицом к лицу и сражаться с ним при свете дня. Дело в том, что нас, европейцев, было всего двое, и с нами были лишь Ханс, Умслопогас и его зулусы, которые были хорошими бойцами. А вот жители Стратмура были деморализованы, им нельзя было доверять, они могли просто струсить и сбежать. Мы устали и проголодались, никто из нас не был готов к бою. Таким образом, у нас оставалось лишь одно преимущество — неожиданность. Но сначала мы должны были обнаружить тех, кому предназначался этот сюрприз. В конце концов, после оперативного совещания, мы договорились, что мы с Хансом должны идти вперед и выявить стоянку амахаггеров. Робертсон тоже захотел пойти с нами, но я уговорил его остаться и присмотреть за своими людьми. Если же он уйдет, они могут использовать любую возможность, чтобы испариться в темноте, особенно сознавая, насколько опасный бой нам предстоит. Кроме того, здесь должен быть хоть один белый человек, чтобы возглавить отряд, если что-то случится со мной. Умслопогас тоже вызвался пойти добровольцем, но, зная его характер, я отклонил его помощь. По правде говоря, я был почти уверен в том, что, если мы наткнемся на людоедов, он непременно первым нападет на них и, после того как убьет множество дикарей, найдет прекрасный, но напрасный и никому не нужный конец своей жизни. Но это абсолютно не отвечало нашим интересам, а именно — освобождению Инес. Итак, мы пошли с Хансом на разведку. Мне совсем не нравилось то, что происходит. Наверное, у меня с детства таился первобытный ужас перед темнотой. Он жил в сердцах наших далеких предков много поколений назад и до сих пор остается в крови большинства из нас. Даже если я и носил имя Бодрствующего в ночи, я все равно предпочитал встретиться со злом при свете дня, но, по правде говоря, я предпочел бы избежать его в любое время суток. Я всем сердцем желал, чтобы людоеды оказались на другой стороне Африки или на небесах, а я был бы совершенно равнодушен к девушке по имени Инес Робертсон и сидел, покуривая трубку мира, на веранде своего дома в Дурбане. Я думаю, Ханс угадал мое состояние, поскольку предложил, чтобы пошел он один, добавив со своей обычной неприкрытой прямотой, что он совершенно уверен в том, что обойдется без меня, поскольку белые люди всегда производят много шума. — Да, — произнес я, решив достойно ответить ему. — Я не сомневаюсь, что в первом же кустарнике ты завалишься спать до рассвета, а потом вернешься и скажешь, что не нашел амахаггеров. Ханс хихикнул, оценив шутку по достоинству, и мы двинулись вперед, поскольку были квиты.Глава 9
БОЛОТО
Нашим делом была только разведка, поэтому ни Ханс, ни я не взяли с собой ружей. Кроме того, один из двух всегда склонен применить оружие, если оно есть у него в руках, а я не хотел искушать себя в какой-либо острый момент. И хотя револьвер всегда был со мной для использования в случае крайней необходимости, моим единственным оружием был зулусский топор, который когда-то принадлежал одному из тех двух воинов, которые погибли, защищая Инес на веранде Стратмура. У Ханса имелся только его длинный нож. Вооруженные или, вернее сказать, невооруженные таким образом, мы пошли прямо по следам, к тому месту, где несколько часов назад мы видели полоску дыма. Около четверти мили мы прошли, но ничего не заметили. В этом мраке было трудно что-либо разглядеть, поскольку путь нам освещали только звезды. Я даже хотел предложить Хансу отменить наше предприятие и дождаться дневного света, когда он еле заметно толкнул меня локтем и прошептал: — Посмотрите, баас, направо, между двумя кустами. Я послушал его совета и проследил взглядом за линией света, которая тянулась на расстоянии около двухсот ярдов еле заметной линией, такой слабой, что только Ханс мог заметить ее. В действительности это могло быть обычное свечение, которое поднималось от кучки грибов или даже от гниющего животного. — Дым от огня, который мы видели, стал пеплом, — снова прошептал Ханс. — Я думаю, что они уже ушли, но давайте посмотрим. Мы очень осторожно подкрались, чтобы не вызывать ни малейшего шума, так осторожно, что почти полчаса преодолевали двести ярдов. В конце концов мы оказались в сорока ярдах от потухшего костра и, опасаясь двигаться дальше, залегли позади зарослей, чтобы разузнать что и как. Ханс вертел головой и принюхивался, затем зашептал мне в ухо, но так тихо, что я едва мог расслышать его: — Все в порядке, баас. Амахаггеры здесь, я чувствую их. Я тоже не исключал такой возможности, но, хотя ветер дул со стороны костра, мой достаточно острый нюх не ощущал ничего. Я решил подождать и осмотреться. Ханс, который посчитал нашу миссию выполненной, знаками показал, что можно уходить. Мы пролежали так несколько минут, пока смолистая ветка каучукового дерева, ствол которой, казалось, должен был прогореть и превратиться в пепел, вдруг не вспыхнула с новой силой. В свете огня мы увидели, что амахаггеры спят вокруг костра, завернутые в свои одеяла. Мы увидели кое-что еще, гораздо ближе, примерно в десяти ярдах от нас. Это было нечто вроде маленькой палатки, сделанной из таких же одеял. Без сомнения, в ней находилась Инес. Мы поняли это, потому что рядом с входом спала Дженни. Ее лицо было повернуто к нам, и мы узнали служанку, когда вспыхнул огонь. Еще мы заметили двоих каннибалов, очевидно охранников. Конечно, они должны были бодрствовать, но усталость одолела их, и они дремали, сидя на земле, склонив голову на колени. Мне внезапно пришла идея. Если мы убьем этих двоих, не разбудив остальных, возможно, освободим Инес. Я быстро взвесил все за и против такой попытки. В случае удачи мы могли бы достичь цели нашей погони без дальнейших проблем, и, что очень вероятно, такого шанса нам больше могло не выпасть. Если мы вернемся, чтобы напасть позже, то, возможно, эти амахаггеры, или один из них, могут услышать звуки, которые производит большое количество людей, и удрать под прикрытием темноты. Чтобы не потерять Инес, они могут убить ее. А если они останутся и будут сражаться, она может погибнуть в этой схватке. У нас есть лишь десяток боеспособных воинов, поскольку на жителей Стратмура положиться нельзя. Каннибалы могут защищаться до последнего и перебить нас, поскольку их в два или три раза больше. Таковы были доводы за и против: все складывалось в пользу нападения, хотя дело было невероятно рискованное. Двое охранников или лежащие у костра могли проснуться в любой момент, ведь эти людоеды, как собаки, спят одним глазом, особенно когда знают, что их преследуют. Да и мы сами можем нашуметь, и они поднимут такой крик, перед тем как замолчать навсегда, что и мы, и Инес можем дорого заплатить за попытку побега. Все это вихрем пронеслось у меня в мозгу. Минуту или около того я обдумывал проблему настолько серьезно, что чуть было не лишился рассудка от напряжения, но в конце концов пришел к выводу, что опасность огромна. Было бы лучше, несмотря на все преимущества этого плана, вернуться обратно и позвать остальных. И это была одна из множества моих ошибок, которые я совершил в жизни. Большинство из нас чаще поступают необдуманно. Иногда я наивно считаю, что, несмотря на репутацию осторожного и предусмотрительного человека, я делаю все по-умному. И в самом деле, когда я оглядываюсь на свое прошлое, то вижу вовсе не цветы мудрости, которые украшают этот путь, а огромные уродливые деревья ошибок, затеняющие его! Я забыл свои прошлые эксперименты, в которых принимал участие Ханс. Моя природная склонность двигаться на ощупь приняла форму отрицания любого суждения, кроме моего собственного. И хотя я составил определенное мнение по поводу того, что надо сделать, все за и против казались настолько уравновешенными, что я решил все же посоветоваться с Хансом и принять его вердикт. Это было всего лишь формой игры, как игра в мяч, хотя Ханс и был умным, опытным и находчивым человеком. Итак, я играл собственную роль, выжидая. Чего нельзя делать в игре со смертью. Промедление здесь гибельно. Однако я это сделал — и не в первый раз, к моему собственному огорчению… Самым тихим шепотом я изложил Хансу свои опасения, спрашивая его совета — уйти или остаться. Он подумал немного, затем ответил мне голосом, которым обычно изображал полет ночного жука: — Эти люди крепко спят, я знаю это по их дыханию. А у господина — Великий талисман. Поэтому я говорю: убейте их и освободите Печальные Глаза. Я понял, что судьба, к которой я обращался, против меня и я должен принять ее решение. С бьющимся сердцем — потому что мне не нравилось это дело — я подождал некоторое время, что позволило Хансу изложить свою точку зрения, которая была прямо противоположной той, что я ожидал от него. Конечно, здесь повлияли его предрассудки относительно Великого талисмана, но я был убежден, что это не все. Потом я еще раз изложил ему оба своих аргумента. Первый из них гласил, что, если он хочет, можно положить конец этой бесконечной невыносимой охоте, которая вымотала нас, не важно, чем бы она ни закончилась. Вторым, более сильным аргументом было то, что при таком нападении он не сможет применить свои знаменитые бойцовские качества, потому что в его полудикой природе мозги леопарда и змеи перемешались с человеческими мозгами. Ведь хоть он и помнит о своей принадлежности к цивилизации, все-таки остается дикарем, чьи предки много поколений сохраняли себе жизнь именно такими коварными нападениями и уловками. Кости были брошены, таким же тихим шепотом мы обсудили, как будем поступать в следующие минуты. Это заняло еще немного времени. Мы должны подкрасться к охране Инес, и каждый из нас должен убить того, кто будет напротив, я топором, а Ханс ножом, помня, что это нужно сделать одним ударом, чтобы они не проснулись, не зашумели и не убили нас. Потом мы без лишних проволочек забираем Инес из ее укрытия и убегаем с ней в темноту, которая должна скрыть нас, пока мы не окажемся в лагере. Однако наша уверенность в том, что дело просто, как скорлупа ореха, основывалась на зыбкой почве. Убить охранников было действительно просто. Но следует начать с того, что скорлупа обычно раскалывается неправильно и по крайней мере один орех остается в скорлупе. Мы не подумали о Дженни — именно она была таким крепким орешком. Я не знаю, как мы могли забыть про нее! Ошибка была непростительна еще и потому, что Ханс частенько указывал на глупость Дженни. И это препятствие, о котором мы не подозревали в тот момент, находилось перед нашими глазами. Очевидно, мы настолько сосредоточились на убийстве охранников и спасении трогательной и беззащитной Инес, что в наших мозгах не осталось места для стойкой и деловой Дженни. В любом случае она оказалась тем орехом, который назло всем не выскочил из скорлупы. Часто в своей жизни я чувствовал страх не за тех, кто оказался в опасности или в сложной ситуации по собственной воле, то есть по собственной глупости, а за тех, кто вынужден страдать под давлением обстоятельств — чего-то вроде гидравлического пресса, которому никто не может противиться, — и кто минует все испытания, используя скрытые резервы своей нервной системы. Я называю это силой духа, которая вдохновляет нас, слабых и так часто ошибающихся и попадающих в переделки. Я вряд ли был когда-нибудь испуган больше, чем в тот момент. Я откинулся назад и заметил, что Ханс ползет по траве, как толстая желтая змея, и сжимает огромный нож в правой руке. Он был уже на фут впереди меня. Я встряхнулся, сбросив оцепенение и почувствовав прилив энергии, как после преодоления препятствия, быстро поравнялся с ним. Затем мы стали двигаться так медленно, что любая змея могла бы нас обогнать. Дюйм за дюймом мы продвигались вперед, не шевелясь после каждого порывистого движения. Однажды нам пришлось замереть надолго, потому что нам показалось, что каннибал с левой стороны просыпается — он открыл рот и зевнул. Даже если и было так, то он изменил свое решение и улегся на бок, продолжив храпеть еще более громко, чем до этого. Через минуту или около того человек с правой стороны, то есть «мой охранник», тоже зашевелился, так что я подумал, он что-то услышал. Очевидно, он был просто потревожен кошмарами или предвидением своего конца, потому что, взмахнув рукой и что-то пробормотав испуганно, он, бедняга, снова провалился в сон. В конце концов мы подобрались совсем близко к ним, но помедлили, потому что не могли точно понять, куда надо бить, и знали, что единственный удар должен быть последним и смертельным. Туча ушла, и темнота рассеялась, а мы должны были подождать ее наступления. Это было долгое ожидание. Или нам так казалось. Наконец облако ушло, и в смутном очертании я увидел классическую голову моего амахаггера, склоненную в глубоком сне. Мое сердце билось так, как бьется сердце от любви или на войне. Я скользнул по траве по условному сигналу. Затем, поднявшись на колени, я поднял зулусский топор и вонзил его в цель со всей силы. Удар был мощным и точным. Сам Умслопогас не мог бы ударить лучше. Жертва передо мной не издала ни единого звука и не сделала ни одного движения, только мягко упала на бок. Тело лежало так, как будто никогда не было живым. Кажется, и Ханс проделал все хорошо, поскольку другой человек резко вытянул свои длинные ноги, которые ударили меня по коленям. Он тоже замолк навеки. Короче говоря, они оба были мертвы и не могли рассказать ни одной истории о Страшном суде. Захватив топор, который после удара выпал из моей руки, я прополз вперед и подергал похожие на занавески коврики, или одеяла, или чем там еще была прикрыта Инес. Я услышал шорох. Движение разбудило ее, поскольку пленницы спали очень чутко. — Не шуми, Инес, — прошептал я. — Это я, мистер Квотермейн, пришел освободить тебя. Выбирайся тихо из укрытия и следуй за мной, ты поняла? — Да, конечно, — прошептала она и начала подниматься. В этот момент кровь снова застыла у меня в жилах, я помню это как сейчас, хотя прошло много лет. Дженни, внезапно проснувшись, взвилась как ужаленная. Ханс стоял над ней с ножом, будто желтый дьявол. Она решила, что он пришел убить ее, и, потеряв самообладание, завопила во всю мочь, а легкие у нее были хорошие. И тут началось нечто невообразимое! Внезапно все спавшие вскочили на ноги и побежали в направлении криков Дженни. Освободить Инес в такой ситуации было невозможно, я мог только быстро прошептать: — Притворись, что ты спишь и ничего не знаешь. Мы придем за тобой. Твой отец с нами. Я снова нырнул в заросли. Ханс последовал за мной. Через пару минут, когда мы были рядом с лагерем, Ханс обратился ко мне: — Великий талисман действует, баас, правда не очень хорошо. Хотя что он может сделать против женской глупости? — Это была наша собственная глупость, — ответил я. — Мы сами должны себя винить. Надо было предвидеть, что эта дуреха будет кричать, и принять меры предосторожности. — Да, баас, мы должны были ее тоже убить, поскольку больше ничего не могло заставить ее замолчать, — весело ответил Ханс. — И теперь мы должны платить за наши ошибки, потому что охота началась. В этот момент мы чуть было не наткнулись на Робертсона и Умслопогаса, которые, как и все вокруг, слышали вопль Дженни и бросились нам навстречу. Мы вкратце рассказали обо всем случившемся. Когда Робертсон понял, насколько близко мы были к спасению его дочери, он зарыдал. А Умслопогас сказал: — Итак, двумя людоедами стало меньше. Один раз мудрость подвела тебя, Макумазан. Когда вы нашли лагерь, вам надо было вернуться, чтобы мы напали вместе. Если бы мы так сделали до рассвета, ни один из них не ушел бы. — Да, — ответил я. — Я думаю, что моя мудрость подвела меня, если что-то вообще может меня подвести. Но пойдем, может, мы еще успеем догнать их. Мы пошли, Ханс показывал дорогу. Но когда мы добрались до места, было слишком поздно: ни амахаггеров, ни Инес, ни Дженни не было, остались лишь мертвые тела, дело наших рук. В темноте погоня была невозможна. Мы вернулись в лагерь, чтобы отдохнуть и дождаться рассвета, перед тем как снова пойти по их следам, однако столкнулись с новыми проблемами. Все полукровки, которых мы посчитали бесполезными в бою, воспользовались нашим отсутствием и удрали. Они пошли обратно по нашим следам и исчезли в зарослях кустарника. Что стало с ними, я не знаю, поскольку мы никогда больше их не видели, но, думаю, они погибли, поскольку до Стратмура никто из них не добрался. Однако, к счастью для нас, они убегали в такой спешке, что оставили весь груз и даже те ружья, которые несли. Очевидно, вопль Дженни был последней каплей, переполнившей чашу терпения поселян. Без сомнения, они решили, что это сигнал нападения каннибалов. Поскольку говорить или делать было нечего и погоня за ними была бесполезна, мы решили как следует подготовиться к дальнейшему преследованию разбойников. Задача была простой. Из всего груза мы выбрали то, что было особенно нужно, и то, что мы могли нести сами, остальное же спрятали под грудой камней на случай, если снова окажемся в этом месте. Ружья, которые побросали беглецы, мы распределили между зулусами, у которых не было ничего огнестрельного, хотя само по себе владение таким оружием добавляло в их сердца страха. Перспектива ввязаться в битву с дикими обладателями топоров, слепо палящими из ружей во все стороны, была для меня не очень приятной, но, к счастью, когда пришла пора, они выкинули огнестрельное оружие и вернулись к тому, к чему привыкли. Теперь это все кажется скорее описанием катастрофы или, во всяком случае, полного провала. Даже не верится, что итог все-таки оказался благоприятным, поскольку я всегда думал, что такие события предначертаны высшими силами специально для того, чтобы провести нас через то, о чем мы не знаем, что до поры скрыто для нас во мраке. Это звучит как мистика, но я уже говорил, что являюсь фаталистом. На первый взгляд эпизод с Инес может показаться неумеренной игрой моего воображения, цель которой — описание того, как я встретил замечательную женщину и находился в ее компании. Это не совсем так, хотя бы потому, что все происшедшее вовсе не было приключением для самой Инес, и история эта оказалась лишь частью моей собственной судьбы, предначертанной мне свыше. Но очевидным это стало для меня очень не скоро. Начиная с той ночи, когда у нас с Хансом не получилось спасти Инес, проблем в поиске каннибалов не было — они с того времени не удалялись от нас больше чем на несколько часов хода и не скрывали следы. Они шли так быстро, что мы, нагруженные и усталые, не в состоянии были догнать их. Первые три дня погоня шла по тем же зарослям кустарника, которые я уже описывал, но мы шли четко под гору. Когда мы разбили лагерь на четвертый день, быстро съев мясо на рассвете (поскольку не испытывали недостатка в дичи), то обнаружили, что нас окружает бесконечное море тумана во всех направлениях, куда мог достать взгляд, и никакое солнце не могло его пробить. Однако на севере, если посмотреть с высоты холма, туман через пятьдесят-шестьдесят миль таял, и на горизонте вырастала широкая полоса. Она напоминала огромную крепость, но на самом деле была одним из горных образований, возникших, вероятно, в результате вулканической деятельности, с последствиями которой часто можно столкнуться, путешествуя по Центральной и Восточной Африке. На таком расстоянии было трудно оценить масштаб горы — но, несомненно, она была огромной. Однако, глядя на нее, я вспомнил о великой горе, на которой, как говорил Зикали, живет прекрасная Белая королева. Я сравнивал эту гору с нарисованной на пепле и думал, что она может быть именно той, что мне нужна, если такое место вообще существует. Если карта показывала, что гора расположена в заболоченной местности, значит туман скрывает огромное болото? В самом деле, перед наступлением ночи, двигаясь по следам амахаггеров, мы окунулись в такую топь, какой я никогда в своей жизни не видел. Это был настоящий океан, заросший папирусом и другими болотными растениями. Некоторые из них достигали десятка или более футов в высоту, так что невозможно было разглядеть ничего вокруг. Людоеды, шедшие впереди нас, сами того не ведая и не желая, обеспечили нам спасение, потому что без них мы бы пропали. Очевидно, среди гигантской трясины шла дорога. Думаю, ее проложили в древности, в некоторых местах я видел даже каменную кладку, которая явно была делом рук человека. Тем не менее по тропе нельзя было идти без провожатого, поскольку она вся заросла папирусом. Вся разница между дорогой и окружающим болотом заключалась в том, что на дороге почва была твердая, хотя один раз кто-то провалился по колено, болото же было бездонным и, более того, отделялось от дороги зыбучими песками. Это мы обнаружили вскоре после того, как вошли в эту топь, поскольку Робертсон, спеша вперед с совершенно безоглядной целеустремленностью, не всегда внимательно смотрел на следы и сошел с края тропы — почва в том месте показалась ему твердой. И тут же провалился в вязкую и липкую грязь. Мы с Умслопогасом были всего в двадцати ярдах позади него, но к тому времени, когда мы услышали его крики, он ушел в трясину по пояс и продолжал погружаться так быстро, что через минуту мог бы вообще исчезнуть, если бы не наша помощь. Мы с трудом вытащили его, поскольку болото засасывало, как щупальца осьминога. После этого мы стали более внимательны. Дорога не была прямой, наоборот, она извивалась и иногда поворачивала под прямым углом. Думаю, это было сделано потому, что иначе люди в древности не могли обогнуть непроходимые участки болота. Все опасности этих мест вряд ли будут когда-нибудь описаны в географических справочниках и тем более исследованы учеными. Во-первых, трава, растущая между корнями кустарников и имеющая острые как ножи края. Когда мы с Робертсоном надели гетры, мы уже не так страдали, но бедные зулусы с голыми ногами получили ужасные порезы, и некоторые даже хромали. Во-вторых, тучи москитов, которые буквально доводили до бешенства своими укусами. Водились и змеи, смертельно ядовитые. На одного зулуса бросилась такая змея, и он умер в течение трех минут, поскольку яд проник в самое сердце. Мы столкнули его тело в болото, где оно сразу утонуло. Прибавьте ко всему прочему невыносимую вонь и жару. Воздух не проникал сквозь заросли, а самым мелким злом были пиявки, которые присасывались к коже. Присмотревшись, можно было увидеть этих созданий, сидевших на обратной стороне листа, готовых напасть на очередную жертву. Поскольку путешественников сюда забредало немного, я удивляюсь, как маленькие кровопийцы существовали здесь миллионы лет. К счастью, я обнаружил, что намазанный на лицо парафин, который мы взяли для ламп, служил некоторой защитой от этих ядовитых существ, хотя и пах, как грязная масляная жестянка. В течение дня, за исключением звуков, издаваемых огромными игуанами, и шелеста ветра в камышах, путь проходил в безмолвии. А ночь была весьма шумной. Непрерывно квакали громадные лягушки, пронзительно вскрикивали ночные птицы. Иногда «бормотало» само болото — на поверхность с шумом поднимались пузырьки газа. Встречались иногда блуждающие огоньки, которых очень боялись зулусы, потому что верили, что в них прячутся духи мертвых. Возможно, именно это явление природы нашло отражение в местных преданиях, в том числе и зулусских. В любом случае сами зулусы были очень напуганы, даже шаман Гороко растерялся и не расставался со своей маленькой кошелкой со снадобьями, чтобы защитить себя и своих товарищей. Я думаю, что даже железный Умслопогас чувствовал себя не в своей тарелке, хотя и говорил мне, что пришел сражаться и не важно, будет ли это человек, колдун или дух. Короче говоря, из всех моих путешествий, за исключением встречи с пустыней на пути к копям царя Соломона, я думаю, что переход через это болото оказался самым тяжелым. Вряд ли я мог предположить, что меня ожидает такое испытание в степях Южной Африки. Да я просто не подозревал, что здесь окажутся такие страшные места! И на это испытание меня отправил сам Зикали, Открыватель дорог, который использовал меня для своих оккультных целей. Он мечтал посоветоваться на расстоянии с Оракулом, если таковой вообще существовал, и, чтобы достичь своих целей, воспользовался моими тайными желаниями, которые я, будучи глупцом, открыл ему. Я был беззаботен и позволил втянуть себя в эту авантюру[380]. Но раз я ввязался в это дело, то должен был закончить его в любом случае. Также мне самому было интересно проникнуть в смысл того, что сказал мне Зикали (меня нельзя было обмануть с помощью того предмета, которым он снабдил меня в этой гонке). А дальше все стало еще более забавно. Будучи достаточно опытным человеком, я не думал, что погибну в этой переделке, как решило бы девять из десяти человек. И гора с каждым днем становилась все ближе и яснее… То же самое можно сказать и о Хансе, который с детским доверием относился к Великому талисману. По его мнению, это было худшее путешествие в его жизни, но, поскольку Великий талисман по определению никогда не мог быть похоронен в этом болоте, он был непоколебимо уверен в том, что наше путешествие пройдет благополучно, на что я ответил, что этот восхитительный Талисман не смог спасти одного из наших спутников, который нашел свою могилу в той же трясине. — Но, баас, — парировал Ханс, — эти зулусы ведь не имеют ничего общего с Талисманом, который дали баасу, и со мной, который сопровождал бааса, когда мы встретили Открывателя дорог. Может быть, они все умрут, кроме Умслопогаса, которого баасу было велено взять с собой. Если так, то это ничего не значит, потому что зулусов много, но Макумазан — один и Ханс — один. Кроме того, баас должен помнить: он начал с того, что напал на змею, поэтому вполне естественно, что брат этой змеи убил одного из зулусов. — Если твои рассуждения правдивы, то «брат змеи» должен был ужалить меня. — Да, баас, без сомнения, он так и сделал бы, если бы не Великий талисман, который защитил бааса. И меня тоже, поскольку мой дед был заклинателем змей, да и запах Талисмана пристал ко мне. Змеи знают, кого жалить, баас. — А как же москиты? — спросил я, смахивая их десятками с лица. — Великий талисман на них не действует? — О да, баас, им доставляет удовольствие жалить, их укусы не приносят нам вреда или приносят совсем немного, и все счастливы. Я все-таки надеюсь, что мы когда-нибудь выйдем из этих зарослей, каких я никогда в своей жизни не видел. Господин, держите свое ружье наготове, я слышал шуршание — это крокодил. — Нет нужды, Ханс, — ответил я с сарказмом. — Пойди и скажи ему, что у меня есть Великий талисман. — Да, баас, я скажу. А еще скажу: если он очень голоден, то дальше по дороге разбили лагерь несколько зулусов. — Готтентот торжественно отошел в заросли и начал что-то бормотать. — Проклятый осел! — пробурчал я, натянул одеяло на голову в тщетной попытке спастись от москитов и закурил с той же целью. Хотелось спокойно уснуть. В конце нашего пути начал ощущаться подъем местности, земля становилась суше, заросли — реже, пока не исчезли окончательно и мы не оказались на твердой земле, прямо у подножия громадной горы. Она возвышалась над нами, забытая всем миром и от этого еще более величественная. В моей записной книжке я сделал небольшую карту с различными поворотами и изгибами дороги через широкую Долину отчаяния, добавляя постепенно все новые и новые повороты. Изучая карту уже в конце путешествия, я понял, насколько невероятный путь мы проделали, когда несколько неверных шагов могли означать смерть от удушья, если бы не шли по следам амахаггеров, которые были знакомы с этими секретами. Если бы они были дружелюбными проводниками, то какую помощь могли бы оказать мирным путникам! Меня терзала мысль: почему они не напали на нас в зарослях, когда наши огни показывали им, что мы рядом с ними? То, что они хотели сжечь нас, следует совершенно очевидно из тех улик, которые я обнаружил, но, к счастью, в это время года отсутствие ветра и слишком зеленые кусты спасли нас. Я искал ответ именно в этом глупом объяснении. На самом деле людоеды просто ждали лучшей возможности!Глава 10
НАПАДЕНИЕ
Наконец мы вышли из зарослей, за что я благодарил Бога, потому что такой переход с потерей всего одного человека казался чудом. Мы выбрались в середине дня и, совершенно измотанные, остановились на отдых, чтобы поесть свежей дичи, которой, к счастью, было достаточно. Затем мы двинулись к подножию горы, чтобы разбить лагерь на ночь на гребне в миле или двух, где, как я надеялся, могли укрыться от тумана, по-прежнему мешающего разглядеть впереди чистое пространство. Спускаясь по течению ручья, который впадал в болото, мы подошли к выбранному нами для ночлега гребню как раз в тот момент, когда садилось солнце. Под нами лежала широкая долина, этакая впадина на теле горы, слегка заросшая кустарником. Деревья теснились на некотором расстоянии от нас, образуя зеленые склоны, которые кончались высокими скалами и обрывами неизвестной высоты. Было что-то завораживающее в этой высящейся горной стене, которая, казалось, уходила в неизвестность и скрывала какую-то древнюю тайну. Не знаю почему, но меня охватила тревога. На краю долины я увидел огромную расселину, которую, без сомнения, проделала лава в стародавние времена. Мне показалось, что вверх по этой расселине ведет дорога, возможно являющаяся продолжением той, по которой мы прошли через болото. Тот факт, что через очки я смог увидеть стада, которые паслись на склонах горы, подтверждал это, поскольку скот предполагал наличие владельцев и пастухов, а я не видел деревень на склонах. Это означало, что все они живут за горой. Именно об этом я поведал Робертсону и показал панораму долины в лучах заходящего солнца. В это время Умслопогас был занят выбором места для ночного лагеря. Некий инстинкт воина или предчувствие опасности заставили его выбрать место, подходящее для обороны. Оно находилось на отвесной насыпи, которая чем-то напоминала гигантский муравейник. С одной стороны выбранная площадка была защищена рекой, глубина которой здесь было достаточной, а сзади нас стояли сглаженные водой скалы, которые часто можно найти в Африке. Эти камни, лежавшие один на другом, огибали западную часть горы. Так что практически это было единственным голым местом, около тридцати-сорока футов, смотревшим прямо на гору. — Умслопогас ожидает возможного нападения, — с гримасой отметил Ханс. — Иначе он бы не выбрал такое место для лагеря, где несколько человек могут сражаться против многих. Да, баас, он думает, что каннибалы нападут на нас. — Иногда случаются странные вещи, — ответил я равнодушно и взглянул на ружья, которые лежали внизу. Мы всегда держали их под рукой ночью, делая так, когда зулусы готовились лечь спать. Лишь Умслопогас не спал. Наоборот, он высился как монумент, держа в руке свой топор и разглядывая контуры обрыва на противоположной стороне. — Странная гора, Макумазан, — сказал он. — Если сравнивать с той, на которой живет ведьма и где находится мой крааль, то эта меньше. Не знаю, что нас ожидает на ней. Я всегда любил горы, даже когда мой погибший брат и я жили с волками в Ущелье Ведьмы, потому что там произошла моя лучшая битва. — Может, ничего еще не случится, — ответил я негромко, так как глаза мои слипались от усталости. — Надеюсь, что нет, Макумазан. Хотя это нам бы не помешало после стольких дней пребывания в болоте, грязи и вони. Поспи немного, твоя голова нуждается в отдыхе. Ничего не бойся, я и маленький желтый человек, который не думает так много, как ты, будем на страже и разбудим тебя, если это будет необходимо. Возможно, это случится на рассвете. Никто не может попасть сюда, кроме как спереди, но проход там узкий. Я улегся и заснул так крепко, как всегда делал во время похода, и проспал четыре-пять часов. Затем, повинуясь какому-то внутреннему толчку, я внезапно проснулся, чувствуя себя посвежевшим на горном воздухе, в самом деле как будто новым человеком. В свете луны я увидел Умслопогаса, который быстро приближался ко мне. — Вставай, Макумазан, — сказал он. — Я слышу шаги людей, крадущихся под нами. В этот момент Ханс подскочил к нам, шепча: — Каннибалы идут, баас, их много. Я думаю, что они хотят напасть до рассвета. Затем он побежал предупредить зулусов. Когда он проходил мимо, я сказал: — Самое время Великому талисману показать, на что он способен. — Великий талисман позаботится о баасе и обо мне, — ответил он и продолжил на голландском, которого Умслопогас не понимал: — Но я думаю, что к вечеру для зулусов надо будет готовить меньше пищи. Их духи превратятся в змей и уползут в заросли, из которых они, по их выражению, будут иногда «исторгаться». Я должен напомнить, что в нашем отряде Ханс выполнял роль повара, и он часто жаловался на зулусов, поедающих слишком много мяса. Да, между зулусами и готтентотами симпатии не было и в помине[381]. — Что этот маленький желтый человечек сказал про нас? — спросил Умслопогас с подозрением. — Он говорит, что если случится битва, то ты и твои товарищи будут бороться до конца, — ответил я дипломатично. — Да, Макумазан, мы сделаем это, но я предполагаю, что он думает, что нас убьют, и его это, по-моему, устраивает. — О, конечно нет! — воскликнул я поспешно. — Как ему может это понравиться, если он будет чувствовать себя беззащитным и может даже оказаться убитым! Итак, Умслопогас, давай подумаем, как мы будем обороняться. Мы всё быстро обсудили, позвав капитана Робертсона. Потом с помощью зулусов мы собрали вместе несколько отдельных камней, на которые водрузили верхушки трех кустов, и с их помощью сделали низкий бруствер для стрельбы. Эта работа заняла немного времени, затем мы начали укреплять лагерь на случай внезапного нападения. Итак, мы собрались за ограждением и начали ждать. Робертсон и я позаботились о том, чтобы в тылу у нас находились несколько зулусов, которые имели ружья, оставленныебеглецами из Стратмура. Это была хорошая поддержка их топорам и ассегаям. Вопрос был в том, чем вооружены каннибалы. Я знал, что у них есть длинные копья и ножи, но было неизвестно, будут ли они использовать их для ближнего боя или станут бросать. В первом случае было бы трудно сражаться с ними топорами, потому что копья были значительно длиннее. Впоследствии выяснилось, что они использовали оба способа. В конце концов у нас все было готово, пришло время долгого ожидания, самая неприятная часть, когда нервы на пределе и снова вспоминаются прошлые ошибки в стычках с врагом. Очевидно, у амахаггеров действительно было намерение неожиданно атаковать нас до рассвета. Больше всего меня удивляло, что они все еще хотят сражаться с нами, после того как упустили столько возможностей. Как ни крути, здесь они были у себя дома и сами стены помогали им — они могли достичь убежища гораздо быстрее, чем мы, поскольку знали дорогу, а мы нет. Они пришли на ферму с секретной целью, которая заключалась в похищении молодой белой девушки по причинам, связанным с их племенными ритуалами, такое частенько случается среди темных и древних африканских племен. Да, они похищают молодых женщин для личной удачи в делах, какими бы они ни были. Но станут ли они из-за этого рисковать и вступать в сражение с разъяренными друзьями и родственниками этой молодой женщины? Правда, они превосходили нас численно, поэтому шансы на победу у них были выше, но, с другой стороны, они должны были понимать, что заплатят за победу дорогую цену, а если не победят, то мы захватим их в плен и для них будет все кончено. Кроме того, они тоже были истощены и измотаны тяжелым походом, так что силы и у них были на пределе. Все эти мысли быстро пронеслись у меня в голове. Я еще допускал возможность, что эта угроза нападения была ложным выпадом, чтобы обмануть нас, или желанием скрыть еще нечто более таинственное, например какие-то секреты этой горной цитадели. Когда я рассказал Хансу обо всем этом, он высказал другое предположение: — Это ведь людоеды, баас, они голодные и съедят нас еще до того, как вернутся на свою землю, где, без сомнения, им запрещено есть друг друга. — Зачем мы им нужны? — ответил я. — Мы ведь такие тощие. — Я осмотрел тщедушную фигурку Ханса в лунном свете. — Да, баас, нас хорошо варить, как старых куриц. Кроме того, каннибалы предпочитают худых людей жирной свинине. Дьявол, который в них живет, привил им такой вкус, как мне он привил любовь к джину, а вам — желание смотреть в сторону хорошеньких женщин. Зулусы говорят, что вы всегда так делаете в их стране. В особенности это касается одной ведьмы по имени Мамина, которую вы целовали… Я повернулся к Хансу, намереваясь его наказать, поскольку упоминание об этом мифе, который я описал в книге «Дитя Бури», возникало на устах этого человека слишком часто. Но не успел я слова молвить, как он поднял палец и прошептал: — Тихо! Рассвет приближается, и они идут! Я слышу их поступь! Я прислушался, но не смог различить ни звука. Лишь когда я напряг глаза, мне показалось, что на расстоянии ста ярдов под скалами в смутном свете мелькают призрачные тени, перебегающие от дерева к дереву. Эти фигуры становились все ближе и ближе. — Посмотрите! — сказал я Робертсону, который стоял справа от меня. — Мне кажется, что они идут. — Я надеюсь, что вы правы, — сурово ответил он мне. — Именно их я хотел встретить все это время. Внезапно фигуры исчезли в ущелье. Но минуту или две спустя они появились снова, уже ближе, на безлесном участке. Он был слабо освещен — как будто отблеском падающей звезды. Начинался рассвет. Я посмотрел туда, и ужас пронзил меня, потому что с первого взгляда я понял, что это не те люди, которых мы преследовали. Их было значительно больше, наверное около сотни. У них были разрисованные щиты, перья на голове, и, насколько я мог судить, они выглядели весьма крепкими и бодрыми. — Мы в западне, — немедленно сообщил я на зулу Умслопогасу, который был впереди, а затем на английском — Робертсону. — Если так, мы должны сделать все возможное, — ответил капитан. — Помоги Бог моей бедной девочке, которую эти дьяволы утащили с собой. — Это так, Макумазан, — бросил Умслопогас. — Каким бы ни был конец, у нас будет прекрасный бой. Теперь командуй, мы будем повиноваться. Дикари — я называл их именно так, хотя каннибалы они были или нет, я не знал, — шли в полной тишине, надеясь, как я думал, застать нас спящими. Когда они были уже в пятидесяти ярдах, приближаясь к тройной линии нашей обороны с копьями наперевес, я крикнул на зулусском: «Огонь!» — и подал пример, выпустив заряды из обоих ружей и целясь в вождей (а это были они, судя по раскраске и страусиным перьям на голове). Результаты были вполне удовлетворительными для меня, но не для двух амахаггеров, чьи проблемы в этом мире наконец-то закончились. Затем последовала оглушительная пальба, которую открыли зулусы из своих ружей, но даже на таком близком расстоянии пули, к сожалению, пролетали над головой врагов. Капитан Робертсон и Ханс, однако, стреляли лучше, и в результате людоеды, непривычные к обстрелу из огнестрельного оружия, поспешили укрыться в ущелье. До того как последний из них исчез там, я снова разрядил ружье, и двое дикарей остались лежать, не добежав до укрытия. Таким образом, мы уложили десять человек. У меня теплилась слабая надежда, что они хотя бы приостановят свои попытки захватить наш плацдарм. Увы, наверное, это были решительные ребята, потому как через пять минут они опять напали, причем действовали весьма быстро. И снова мы ответили ружейными залпами и убили нескольких разбойников, остальные побросали в нас все свои копья. В меня копье не попало, угодив в бруствер рядом с моей шеей. Один из зулусов был убит, а двое ранены. Я был рад тому, что они все запустили свои копья. Дело в том, что у каждого каннибала было всего по одному копью, и я знал, что у них для нападения остались только длинные ножи. После смены оружия, которое заняло некоторое время, они снова ринулись в бой, и тут завязалось великое сражение. Зулусы, отбросив в сторону свои ружья, поднялись на ноги и, держа свои маленькие щиты в левой руке, подняли топоры в правой. Однако у Умслопогаса, который стоял в центре, не было щита, он держал над головой обеими руками свой огромный топор. Я впервые видел его в бою, и, надо признать, зрелище было потрясающее. Снова и снова топор падал вниз, принося смерть, пока наконец амахаггеры не исчезли из поля его видимости. Между тем Робертсон, Ханс и я, стоя позади на одном из камней, вели постоянный огонь, стреляя поверх голов зулусов, которые бились как настоящие мужчины. Да, их становилось все меньше, а тела их товарищей устилали вокруг всю землю. Затем вождь дикарей еще раз попытался собрать свой отряд для новой атаки, и снова уцелевшие враги ринулись вперед. Я убил вождя выстрелом из револьвера, потому что мой штуцер[382] перегрелся. После смерти вождя людоеды бросили оружие и отступили в маленькое ущелье, где наши пули уже не могли их достать. Пока что мы отбили атаку, но трое зулусов были мертвы, еще трое ранены, один из них тяжело, двое других несерьезно. Вместе с Умслопогасом осталось в живых четверо зулусов, и нас было трое; таким образом, в строю оставалось семь человек. Что толку в том, что мы убили так много амахаггеров, если нас было всего семеро? Как может такая горстка людей противостоять очередному нападению? В свете наступающего утра обрисовались наши бледные лица. — Итак, — сказал Умслопогас, опираясь на свой красный от крови топор, — враги нашли свою смерть, битва была великая. Теперь мы должны либо бороться до конца, либо удирать. — И он посмотрел на раненых. — Не думай о нас, отец, — пробормотал один из зулусов, тот, кто был смертельно ранен. — Если так лучше для дела, убей нас и уходи, чтобы и дальше с честью нести свой топор. — Хорошо сказано! — сказал Умслопогас, сделал паузу и добавил: — Теперь твое слово, Макумазан, ты здесь командуешь. Изложив ситуацию Робертсону и Хансу так кратко, как только мог, я сделал вывод, что у нас есть шанс выжить, если мы уйдем, и никаких надежд на благополучный исход, если останемся. — Уходи, если хочешь, Квотермейн, — ответил капитан. — Но я останусь здесь и буду биться. Пока нет рядом моей девочки, лучше такой конец. Я предложил высказаться Хансу. — Баас, — сказал он мне, — с нами Великий талисман и благословенный отец бааса на небе. Поэтому я думаю, что нам лучше остаться здесь и сделать все, что в наших силах, тем более что мне бы не хотелось снова пробираться через заросли и болота. — Так и сделаем, — сказал я, не вдаваясь в дальнейшие объяснения. Итак, мы начали готовиться к отражению следующей атаки, которая, как мы сознавали, будет наверняка последней. Мы стали укреплять нашу маленькую стену и укладывать штабелями убитых амахаггеров в качестве дополнительной защиты. Пока мы делали все это, взошло солнце, и в его первых лучах в нескольких милях от нас на противоположном конце склона мы увидели группу пробирающихся вперед людей, которые выглядели маленькими на фоне огромной черной пропасти. Взяв бинокль, я рассмотрел эту группу и убедился, что в ее середине перемещаются носилки. — Там находится ваша дочь, — сказал я Робертсону и протянул ему бинокль. — Господи, — ответил он, — эти негодяи перехитрили нас. Через минуту носилки или кресло с эскортом исчезли в тени огромных валунов, возможно следуя по дороге, которую мы не могли разглядеть. В следующее мгновение наши мысли снова были прикованы к этим дикарям, потому что по некоторым признакам мы поняли, что атака вскоре возобновится. Копья, на которых отражались первые лучи солнца, появились на краю изгиба горы, который, как я заметил, с восточной стороны переходил в глубокий, поросший зарослями овраг. Кроме того, мы слышали голоса предводителей, призывающих своих людей к новому нападению. — Они приближаются, — сказал я Робертсону. — Да, — ответил он. — Они идут, и мы идем. Странный конец того, что мы называем жизнью, не правда ли, Квотермейн? И бог с ним! Я думаю о том, что же дальше? Я не боюсь, ведь едва ли это будет хуже, чем то, через что я уже прошел, так или иначе. — Будем надеяться на лучшее. — Я ответил как можно веселее, потому что глубокая печаль этого человека подействовала и на меня. — Все еще может быть, Квотермейн, потому что кто знает, что именно привело нас сюда? Моя старая мать обычно молилась о лучшем будущем, и я запомнил ее слова. И в нашем положении лучше до конца думать о победе, и уж если заснуть, то навсегда, потому что без любимой дочери жизнь для меня не имеет смысла. Ага, вот и один из них. Попробуй-ка вот это, черный дьявол! — И, вскинув ружье, он выстрелил в амахаггера, который оказался на краю ущелья. Воин взмахнул руками, согнулся и упал назад. И снова началась охота, поскольку каннибалы (я думаю, что это были именно каннибалы, как и их собратья) выбрались из укрытия, продвигаясь ползком по камням, а иногда и на четвереньках. Они тащили за собой длинные тонкие стволы деревьев, надеясь проломить ими нашу стену. Конечно, я наблюдал за ними достаточно долго и внимательно и решил, что это последний шанс для меня потренироваться в стрельбе и я должен установить рекорд. Итак, я наметил себе мишени и собрался поражать их как на стенде. Все это делалось машинально, и, как обычно, я думал о другом: о бедном капитане Робертсоне, о сегодняшних событиях и о том, что такое жизнь, которая в результате ни к чему хорошему не ведет. Пока эти мысли роем вились в голове, я должен быть убить как можно больше этих бандитов, и хотя бы это дело мне нужно было закончить. Робертсон и Ханс тоже стреляли, с бóльшим или меньшим успехом, но дикарей было слишком много, чтобы остановить их нашими ружьями. Они шли прямо на нас, и их злобные физиономии были в нескольких ярдах. Умслопогас поднял свой огромный топор, чтобы встретить их лицом к лицу! Тут у каннибалов вышла заминка, и это дало нам время перезарядить ружья. — Умрем героями, Ханс, — сказал я. — И если ты сделаешь это первым, подожди меня на другой стороне. — Да, баас, я всегда хотел так поступить, но не сейчас. Мы не умрем в этот раз, баас. Те, у кого есть Великий талисман, не погибают, умрут другие. Такие, как он! — И готтентот показал на амахаггера, который согнулся, получив пулю из винчестера: Ханс выстрелил в него в середине нашего разговора. — Будь проклят — я имею в виду «благословен» — Великий талисман! — сказал я, вскидывая ружье к плечу. В этот момент все амахаггеры — их было около шестидесяти — вдруг пришли в волнение. Они постояли молча, глядя на ущелье, потом прокричали какие-то слова, смысла которых я не понял, а затем обратились в бегство. Умслопогас увидел это и, повинуясь инстинкту вождя, пошел в атаку. Перепрыгнув через бруствер, сопровождаемый остальными зулусами, он с ревом напал на отступающих. Они падали под ударами топора Инкози-каас, как ячмень. Смотреть на это было одно удовольствие, его удар был подобен броску леопарда, топор так и блестел в лучах солнца. Остальные зулусы присоединились к Умслопогасу и без устали сеяли смерть вокруг себя. Ханс выстрелил по тем, кто остался, затем сел на камень, достал трубку и начал набивать ее. — Великий талисман, баас, — начал он торжественно. — Или ваш преподобный отец. — Здесь он замолчал и, с сомнением указывая трубкой на ущелье, добавил: — Все так и есть, но я думаю, что это ваш отец, а не Талисман, да, сам отец спустился с небес! Глядя в том направлении, на которое указывал Ханс, я никак не мог понять, что же он имеет в виду, думая, что от восторга тот просто сошел с ума, как вдруг увидел пожилого мужчину с длинной белой бородой, который был одет в развевающиеся одежды, такие белые, что напомнил мне Санта-Клауса на детском празднике. Он шел по направлению к нам и, казалось, излучал саму доброту. Позади него я увидел целый лес копий. Похоже, он знал с самого начала, что мы не сможем выстрелить в него, потому как решительно шел к нам, осторожно переступая через тела. Когда он оказался рядом, то остановился и произнес на арабском, который я понимал: — Я приветствую вас, незнакомцы, от имени той, которой я служу. Мне кажется, что я прибыл вовремя, но это не удивляет меня, потому что она сказала, что так и получится. Вы хорошо разобрались с этими собаками. — И он указал ногой на мертвого амахаггера. — Да, в самом деле хорошо. Должно быть, вы великие воины. Он замолчал, а мы уставились на него, не в силах вымолвить ни слова.Глава 11
СКВОЗЬ СТЕНУ
— Они не похожи на ваших друзей, — показал я на лежавших людей. — А эти, — добавил я, вытянув руку в направлении копьеносцев, которые вылезали из оврага, — они очень на них похожи. — Щенки из одного помета часто похожи между собой, но, когда вырастают, сражаются друг с другом, — вежливо ответил Санта-Клаус. — По крайней мере, эти пришли, чтобы спасти, а не убивать вас. Но кто вот это? — спросил он, удивленно глядя на зловещего Умслопогаса и маленького Ханса. — Впрочем, не отвечай ничего, вы, должно быть, устали и нуждаетесь в отдыхе. Потом поговорим. — Да, кстати, мы не успели позавтракать, — ответил я. — И должны еще заняться этими людьми. — И я указал на наших раненых. Старик кивнул и стал разговаривать с вождем своих воинов, преследовавших врагов, — я видел группу, которая шла по их следам. Затем, сопровождаемый Хансом и оставшимися зулусами, среди которых был Гороко, я отправился к своим людям. Задача была проще, чем я ожидал, потому что смертельно раненный боец уже умер или умирал, а раны других были легкими, поскольку колдун мог лечить их своими собственными, известными ему способами. После этого, взяв Ханса для охраны, я спустился к речке и умылся. Затем вернулся и поел, удивляясь, откуда у меня такой аппетит после всех опасностей, через которые нам пришлось пройти. Да, мы преодолели их: Робертсон, Умслопогас со своими тремя воинами, Ханс и я остались невредимыми. За это я в тишине возносил похвалы Провидению. Ханс тоже помолился в известной лишь одному ему манере и только после этого зажег свою кукурузную трубку. Только Робертсон молчал. Перекусив и отдохнув, он встал и прошелся по нашему лагерю, потом остановился, глядя на расселину в горе, где, как он видел, исчезли носилки, которые несли в неизвестность его дочь. Даже непомерные тяготы, которое мы преодолели, и победа, которую одержали над превосходящими силами, не впечатлили его. Он лишь смотрел на гору, в сердце которой находилась похищенная Инес, и грозил кулаками. Поскольку она исчезла, все остальное не имело смысла, он даже не предложил помочь раненым зулусам и не общался с человеком, который нас освободил. — Баас, — сказал Ханс, — Великий талисман оказался даже более могущественным, чем я думал. Мало того что мы вышли целыми и невредимыми из сражения — выбывшие зулусы не имеют значения, мне просто придется меньше готовить, поскольку они ушли. Но еще и ваш благословенный отец появился из-за облаков! Что-то изменилось в нем с тех пор, как я в последний раз видел его, но, без сомнения, это он. Когда я обращусь к нему лично, если он поймет мою речь… — Перестань молоть чепуху, сын ослицы, — перебил его я, потому что в этот момент показался старый Санта-Клаус, улыбаясь еще более искренне, и направился к нам, радушно улыбаясь. Расположившись на маленькой стене, которую мы построили, он пристально посмотрел на нас, поглаживая свою белую бороду, затем сказал, обращаясь ко мне: — Конечно, вы должны гордиться тем, что в таком небольшом количестве выдержали сражение с таким большим числом врагов. Если бы я не получил приказа поспешить, думаю, что вас постигла бы такая же судьба. — И он посмотрел на груду мертвых зулусов, которые лежали на некотором расстоянии, как будто спали, пока их товарищи искали место, чтобы похоронить их. — Вы получили приказ от кого? — спросил я. — Есть только один человек, который может приказать, — ответил он со странным выражением лица. — Та, чье слово закон. Та, которая вечна. Мне показалось, что это арабское выражение, обозначающее Вечную женственность, но я лишь внимательно взглянул на него и сказал: — Видимо, есть те, кем эта вечная не может командовать. Те, кто напал на нас, и те, кто ушел вон туда. — И я махнул рукой в сторону горы. — Любая власть не абсолютна, в каждой стране есть мятежники, даже, как я слышал, над нами, в небесах. Но как тебя зовут, странник? — Бодрствующий в ночи, — ответил я. — Хорошее имя для того, кто должен хорошо видеть ночью и днем, чтобы достичь страны, где живет Та, чье слово закон. Она сказала, что ни один человек с таким, как у тебя, цветом кожи не подходил к подножию горы много лет. Я думаю, что прошло две тысячи лет с тех пор, как она говорила с белым человеком в городе Кор. — В самом деле? — воскликнул я, внезапно закашлявшись. — Ты не веришь мне? — продолжал он смеясь. — Та, чье слово закон, может объяснить все лучше, чем я, поскольку я не жил две тысячи лет назад, чтобы помнить все это. А как мне называть того человека, который все время держит при себе топор? — Его зовут Воин. — Тоже хорошее имя. Судя по ранам, нанесенным им, некоторые из мятежников уже разговаривают друг с другом в аду. А что это за желтый человек, если он человек? — Он с сомнением посмотрел на Ханса. — Его зовут Светоч во мраке. Почему — ты узнаешь позднее, — ответил я нетерпеливо, поскольку начинал уставать от допроса, и спросил: — А как зовут тебя, если ты можешь сказать нам свое имя, и что заставило тебя прийти к нам в столь счастливый час? — Меня зовут Билали, — отвечал он. — Я слуга и посланник Той, чье слово закон. Меня отправили к вам, чтобы спасти отряд и в целости и сохранности доставить к ней. — Как это может быть, Билали, если никто не знал о нашем приходе в горы? — Та, чье слово закон, знает все, — ответил он с доброй улыбкой. — Я думаю, что она узнала об этом несколько лун назад по тому сообщению, которое было ей послано, и устроила все так, чтобы вы могли безопасно пройти к ее секретному дому. А как иначе вы могли бы пройти через непроходимое болото, потеряв всего лишь одного человека? Теперь я с изумлением смотрел на старика, потому что не мог взять в толк, откуда он знает про смерть нашего зулуса, укушенного болотной змеей, но продолжать дальнейший разговор было бесполезно. — Когда вы отдохнете и будете готовы, — продолжал он, — мы отправимся в путь. Сейчас я должен покинуть вас, чтобы приготовить носилки для раненых и для тебя, Бодрствующий в ночи, если пожелаешь. — Затем с величавым видом он повернулся и исчез в ущелье. Следующий час был занят погребением мертвых зулусов. Участвуя в этой церемонии, я лишь молча стоял, сняв шляпу, поскольку считаю, что аборигенов лучше оставить в такие моменты наедине с собой. Я думал об истории, рассказанной Зикали, о прекрасной Белой королеве, которая жила в горном укреплении, нарисованном им в золе, и о слугах этой королевы, которые, оказывается, знали о нашем приходе и появились, чтобы спасти нас. Кроме того, этот древний и благородный старик по имени Билали говорил о ней как о Той, которая вечна. Что он имел в виду, называя ее так? Возможно, то, что она была очень старой и на нее неприятно смотреть? Это было бы для меня разочарованием… И как она узнала, что мы приближаемся? Я не мог понять этого, и когда спросил капитана Робертсона, он просто пожал плечами и притворился, что этот вопрос его не интересует. Ничто не могло сдвинуть с места человека, который был погружен лишь в мысли о спасении своей дочери или о мести за нее в случае ее смерти, о своей любимой дочери, с которой он, по правде сказать, не всегда обходился хорошо. Этот человек, потерявший интерес к жизни, стал настоящим маньяком, более того, религиозным маньяком… У него с собой была Библия, которую ему подарила мать, когда он был еще маленьким мальчиком, и он читал ее постоянно. Я часто видел его стоящим на коленях, а ночью он молился и громко рыдал. Вне всякого сомнения, ему удалось избавиться от увлечения алкоголем, и теперь инстинкты и кровь суровых контрагентов, из которых он происходил, все-таки взяли верх. Иногда это было даже хорошо, хотя временами я боялся, что он сойдет с ума. И конечно, как компаньон он более уже не подходил мне, все осталось в прошлом… Перестав думать о бесполезных вещах и забыв о том, что люди Билали совершенно такие же, как те, с кем мы сражались, я заснул прямо у них под боком, как делаю это всегда, чтобы проснуться через час совершенно отдохнувшим. Ханс, когда я заснул, уже спал, свернувшись у моих ног, как желтая собака. Когда солнце начало пригревать, он поднял меня с криком: «Проснитесь, баас, они идут!» Я вскочил, схватившись за ружье, потому что подумал, что на нас снова напали, но увидел Билали, который шел во главе процессии, несшей четыре пары носилок, сделанных из бамбука, с травяным пологом для тени. Носилки несли крепкие амахаггеры. Две пары носилок были предназначены для Робертсона и меня, другие — для раненых. Умслопогас, оставшиеся в живых зулусы и Ханс должны были идти пешком. — Как вам удалось так быстро все сделать? — спросил я, оценив красивую и мастерскую работу. — Мы не делали их, Бодрствующий в ночи, мы принесли их с собой в свернутом виде. Та, чье слово закон, посмотрела в свой бинокль и сказала, что нужно четверо носилок, кроме моих, вон те — двое для белых господ и двое для раненых чернокожих, отсюда и такое число. — Да… — ответил я неуверенно, удивляясь тому биноклю, который дал той женщине такую информацию. Перед тем как я смог задать еще один вопрос, Билали добавил: — Я был бы рад сообщить вам, что мои люди поймали тех мятежников, которые осмелились напасть на вас, в самом деле восемь или десять из них были ранены вашими пулями или топорами, и мы предали их смерти так, как надо. — И он чуть улыбнулся. — Но, увы, остальные убежали чересчур далеко, и было слишком опасно преследовать их среди скал. Пойдемте сейчас, мой господин, потому что дорога крутая и опасная и мы должны двигаться быстро, если хотим засветло достичь древнего священного города, где живет Та, чье слово закон. Объяснив все Робертсону и Умслопогасу, который сказал, что никому не позволит нести себя, как старую женщину или как тело на щите, и, проследив, чтобы раненые зулусы были хорошо устроены, мы с Робертсоном уселись в носилки, которые оказались очень удобными и легкими. Затем, когда наши вещи уже были собраны крючконосыми носильщиками, которым мы были вынуждены доверять, хотя и несли сами свои ружья и часть снаряжения, мы отправились в путь. Сначала шли люди Билали, затем двигались носилки с ранеными, по обеим сторонам которых шли Умслопогас и три нераненых зулуса, затем носилки с Билали, затем мои, рядом с которыми бежал Ханс, затем носилки Робертсона и, наконец, оставшиеся амахаггеры и свободные носильщики. — Теперь я вижу, баас, — сказал Ханс, просовывая на бегу голову за занавеску, — что вон тот белобородый никак не может быть вашим единородным отцом. — Почему же? — спросил я, хотя все было и так очевидно. — Потому что, баас, если бы это был он, он не заставил бы Ханса, о котором всегда думал так хорошо, бежать под палящими лучами солнца, как собаку, в то время как остальные едут в носилках, точно важные белые дамы. — Чем нести чепуху, лучше береги дыхание, Ханс, — сказал я. — Мне кажется, нам предстоит еще долгий путь. Путь нам действительно предстоял неблизкий. После того как мы подошли к склону холма, процессия замедлила ход. Мы начали наш путь около десяти часов утра, ведь битва, после которой прошло не так много времени, началась вскоре после рассвета, и было три часа дня, когда мы достигли основания крутого холма, что я заметил раньше. Здесь, у подножия высокой каменной колонны, которую я видел несколько дней назад, мы остановились и съели оставшееся мясо. Амахаггеры довольствовались своей пищей, — казалось, она состояла из большого количества простокваши, называемой зулусами «маас», и крупных ломтей хлеба. Я заметил, что это были очень любопытные люди. Они сидели молча, на их смелых лицах не было даже подобия улыбки. Каким-то образом мне удалось незаметно рассмотреть их. Робертсон был занят тем же, поскольку в один из редких моментов просветления он отметил, что они «не очень умны». Затем добавил: — Спросите этого старого мудреца, который может быть одним из библейских проповедников, пришедших в нашу жизнь, что эти людоеды сделали с моей дочерью. Я спросил. Вот что сказал Билали: — Они увели ее с собой, чтобы сделать своей королевой, поскольку отреклись от своей собственной. Их королева обязательно должна быть белой женщиной. Скажи ему также, что Та, чье слово закон, будет бороться с ними и, может быть, вернет ее, если те не убьют ее первыми. — О! — Робертсон повторил то, что я перевел ему. — Если не убьют ее первыми или еще хуже… — И опять погрузился в свое обычное молчание. Мы снова отправились в путь, двигаясь прямо к отвесной черной скале высотой в тысячу футов или больше. Мы с Робертсоном спрыгнули с носилок, чтобы облегчить путь носильщикам. Билали, однако, остался в паланкине, его не интересовали неудобства других. Он лишь приказал взять еще носильщиков. Я не мог представить, как мы преодолеем эту гору. Похожая мысль возникла и у Умслопогаса, который посмотрел на нее и сказал: — Если мы и заберемся наверх, Макумазан, думаю, что единственная, кого мы там увидим, — это маленькая желтая обезьяна. — И указал на Ханса своим топором. — Если я это сделаю, — ответил тот с достоинством, потому что ненавидел, когда зулусы называли его желтой обезьяной, — будь уверен, что скину несколько камней на черного убийцу, который будет ползать под горой. Умслопогас скорчил гримасу. Он обладал своеобразным чувством юмора и мог оценить шутку, даже если она была ему неприятна. Затем мы окончили разговоры, потому что скала была уже рядом с нами. В конце концов мы подошли к горе, где, судя по всему, наше путешествие должно было закончиться. Однако внезапно из-за черной глухой стены впереди нас появился призрак высокого человека с огромным копьем, который был одет в белую одежду. Он хрипло окликнул нас и мгновенно оказался прямо перед нами, как и положено привидению, хотя мы не поняли, как он прошел. Вскоре тайне нашлось объяснение. Здесь в скале была расселина, невидимая даже с расстояния нескольких шагов, потому что ее внешний край проходил через внутреннюю стену горы. Это отверстие было не более четырех футов в ширину — обычная расщелина в горе, созданная титаническими сотрясениями в прошлые века. Поскольку это было обычное отверстие, далеко над ним можно было заметить слабую полоску света, идущую с неба, хотя сумрак был такой, что понадобились лампы. Один человек тут мог противостоять сотне — пока его не убьют. Это место охранялось — не только у входа, где появился воин, но и гораздо дальше, у каждого поворота кривой расселины. И черных охранников было много. Вот в такое страшное место мы попали. Зулусам оно не понравилось, потому что они все-таки были светлыми людьми. Я заметил, что даже Умслопогас казался испуганным и немного отступил. Так же поступил Ханс, который со своей обычной подозрительностью ожидал подвоха, и я задумался, надо ли идти дальше, хотя решил, что дальше будет все более и более интересно. Лишь Робертсон казался равнодушным и устало тащился за человеком с лампой. Старый Билали высунул голову из носилок и крикнул мне, чтобы я ничего не боялся, потому что никаких ловушек на дороге нет, но его голос звучал странно между узкими стенами невероятной высоты. Около получаса или больше мы шли этой опасной дорогой, обходя углы и повороты, которые были настолько узки, что едва можно было пронести через них лишь одни носилки с ранеными. Потом расселина расширилась, и полоска света стала шире, поэтому лампы нам больше не понадобились. Наконец мы подошли к концу расщелины и поняли, что стоим на маленьком плоскогорье. Позади нас на тысячи футов возвышалась каменная стена, а впереди и внизу — долина, круглая по форме и огромная по размеру, которая была окружена, насколько я мог видеть, той же каменной стеной. Судя по размерам, это было не что иное, как кальдера[383] огромного вулкана. И наконец, недалеко от центра долины находилось нечто похожее на город, хотя сквозь окуляры бинокля я мог видеть лишь огромные каменные стены, и то, что я считал домами, были более прочные постройки, чем те, что я видел в диких степях Африки. Я подошел к носилкам Билали и спросил, кто живет в этом городе. — Никто, — ответил он. — Хозяин мертв уже несколько тысячелетий, но Та, чье слово закон, сейчас расположилась здесь лагерем со своей армией. Туда мы и направляемся. Вперед, носильщики! Мы с Робертсоном снова залезли в наши носилки, и носильщики двинулись вниз по холму довольно быстро, потому что дорога оказалась безопасной и очень хорошей. Весь остаток дня мы провели в дороге и к закату солнца достигли края долины, где остановились ненадолго, чтобы поесть. Свет луны был достаточно ярким, чтобы мы могли продолжить наше путешествие. Умслопогас подошел ко мне и сказал: — Это настоящая крепость, Макумазан, никто не может проникнуть в нее, тем более что входные отверстия слишком малы. — Да, — ответил я. — Но те, кто внутри, не могут выйти. Мы как быки в ловушке, Умслопогас. — Это так, — ответил он. — Я уже думал об этом. Мы должны внимательно смотреть и запоминать все, что увидим. Затем он вернулся к своим людям. Закат в этом месте был совершенно потрясающим. Сначала необъятный кратер был наполнен светом, как чаша огнем. Затем, когда огромный шар оказался за западной частью стены, половина долины погрузилась в темноту, а тени поднимались над восточной частью, пока вся она не погрузилась во мрак. Оставался лишь отблеск, отражавшийся от ущелья и неба наверху, на нем играли странные огоньки. Наконец все погрузилось во тьму. Но вот половинка луны вышла из-за облаков, и при ее серебряном неярком свете мы пошли вперед, через долину, гораздо медленнее, чем хотелось бы, потому что даже наши выносливые носильщики устали. Я не многое видел, но понял, что мы идем через ухоженные поля, судя по высоте растений. Без сомнения, на такой почве, удобренной лавой, должен расти хороший урожай. Один или два раза мы пересекали ручьи. В конце концов, уставший и убаюканный качанием носилок и низкими голосами перекликающихся между собой носильщиков, понявших, что они уже дома и ничто им не угрожает, я задремал. Когда я проснулся, то увидел, что носилки стоят на земле, и услышал голос Билали: — Выходите, белые господа, и подходите со своими друзьями, черным воином и желтым человеком, которого зовут Светоч во мраке. Та, чье слово закон, хочет видеть вас, перед тем как вы поедите и ляжете спать. Она не любит ждать. Не бойтесь за остальных: их накормят и предоставят место для отдыха до вашего возвращения.Глава 12
БЕЛАЯ ВЕДЬМА
Я выпрыгнул из носилок и передал остальным, что сказал белобородый старик. Робертсон не хотел идти. Он отказывался до тех пор, пока я не предположил, что такое поведение может настроить королеву против нас. Умслопогас оставался равнодушным, не веря, как он подчеркнул, в правительницу-женщину. Только Ханс, хотя и был уставшим, согласился, правда с неохотой. Факт, означающий, что у него были мозги и любопытство, превышающие уровень обезьяны, на которую он так походил внешне: он захотел увидеть королеву, о которой говорил Зикали. В конце концов мы все-таки двинулись в путь, сопровождаемые Билали и людьми, несшими светильники. Их свет указывал, что мы идем между домами — или, во всяком случае, стенами, которые были когда-то домами, — а впереди виднелась улица. Проходя под чем-то вроде арки или портика, мы вошли во двор с колоннами, но без крыши, поскольку я мог видеть звезды над головой. В конце двора виднелось здание, дверной проем в нем был завешан циновками, внутри все было освещено лампами, и по всей длине на равном расстоянии стояли охранники с длинными копьями. — О баас, — сказал Ханс с тревогой, — это ловушка. Умслопогас глядел вокруг с подозрением, держа руку на рукоятке топора. — Помолчи, — ответил я. — Вся эта гора — сплошная ловушка, одной больше, одной меньше — дела не меняет, а у нас с собой оружие. Проходя между двойной линией охранников, которые стояли без движения, как статуи, мы подошли к любопытным занавескам, висевшим в конце длинного холла. Я далеко не знаток, но все же понял, что они были сделаны из дорогого цветного материала, вышитого золотыми нитями. Перед этими занавесками Билали сделал нам знак остановиться. Тихо обсудив что-то с человеком, скрывающимся за занавеской, он исчез за ними, оставив нас одних на несколько минут. Наконец они открылись, вышла высокая элегантная женщина восточного вида в арабской одежде и пригласила нас войти. Она не разговаривала и не отвечала на мои вопросы, когда я пытался заговорить с ней, что было не очень понятно. Лишь потом я узнал, что она немая. Мы вошли, и я поразился роскоши, с которой была обставлена комната. В дальнем конце зала находилось не очень большое помещение, освещенное лампами, свет которых падал со стен, украшенных скульптурами. Все выглядело так, словно когда-то это был большой внутренний двор или святилище, поскольку в центре его стоял помост, где когда-то могли помещаться трон или статуя бога. Но сейчас на этом помосте стояло ложе, на котором сидела богиня! Она была статная и стройная, одета в ярко-белые ткани и искусно ими задрапирована, однако ее одежда больше открывала, чем скрывала ее великолепные формы. Из-под вуали, которая была похожа на фату невесты, выглядывали две очень длинные черные косы, на кончике каждой виднелось по большой жемчужине. С одной стороны от королевы стояла высокая женщина, похожая на ту, что провела нас через занавески, а с другой на коленях стоял Билали. Сидящая женщина была также величественна, как настоящая королева, когда ее рисуют художники, хотя ее фигура была значительно более благородной, чем у любой королевы, которых я встречал. Вокруг нее, казалось, витала какая-то тайна, окутывающая ее, как вуаль. От нее исходила еще и некая притягательная сила, и ни вуаль, ни другое покрывало не могли скрыть ее — по крайней мере, для моего воображения. Своим дыханием она тоже источала власть. В воздухе витало что-то такое, что бывает перед штормом. Мне казалось, что эта власть не вполне человеческая и идет свыше, она будто призвана склонять странника к земле. Сказать по правде, хоть я и сгорал от любопытства, которое росло во мне час от часа, и ощущал себя очень довольным, что предпринял это путешествие со всеми его невзгодами, в тот момент я ужасно испугался, настолько, что хотел повернуться и убежать. С самого начала я чувствовал, что присутствую перед неземной совершенной женской красотой, которая отличается от нашей земной красоты. Что это была за картина! Она сидела, величавая и тихая, как совершенная мраморная статуя, лишь ее грудь поднималась и опускалась под белой одеждой, показывая, что она живая и может дышать, как все. Об этом же говорили и ее глаза. Сначала я не мог разглядеть их через вуаль, но то ли потому, что я привык к свету, или оттого, что они сияли как звезды, далекие и прекрасные, я смог увидеть их. Это были большие, темные, прекрасные очи, глубокого синего оттенка. Казалось, они смотрят сквозь тебя и выше. Ее глаза были подобны окнам, через которые свет идет изнутри. Свет духа. Я оглянулся, чтобы посмотреть, производит ли увиденное такой же эффект на моих товарищей. Ханс упал на колени, его руки сплелись в молитве, а его маленькое уродливое лицо напомнило мне голову рыбы, которую вытащили из воды и которая вот-вот умрет от избытка воздуха. Робертсон, выведенный из состояния оцепенения, смотрел на царственную даму с открытым ртом. — Боже, — сказал он, — кажется, я возвращаюсь к жизни. Ее черты прекрасны. Я чувствую это нутром. Умслопогас стоял величественный и мрачный. Его руки лежали на рукоятке топора, он также пристально смотрел на трон, кровь пульсировала на коже, которая затягивала рану в его голове. — Бодрствующий в ночи, — сказал он мне своим глубоким голосом, переходя на шепот, — в ней власть не одной женщины, а всех женщин. Под ее одеждой я вижу красоту той, которая «ушла высоко», Лилия, которая навсегда потеряна для меня. Ты не чувствуешь этого, Макумазан? Когда он произнес эту фразу, я сразу все понял. Я чувствовал подобное и раньше, хотя эмоции не позволяли мозгу вовремя анализировать происходящее. Я смотрел на прекрасные драпированные формы и видел: в ней было несколько женщин. Я не встречал никого подобного именно этой женщине, хотя впоследствии узнал ее достаточно хорошо, во всяком случае достаточно, чтобы заинтриговать меня. Странным было то, что в этой галлюцинации личности частично совпадали, пока наконец я не начал думать, не являются ли они одним и тем же существом, проявляющим себя в разных формах, как лучи разного цвета падают из одного кристалла и при этом меняются. Однако мой бедный ум не в состоянии это выразить так, как бы мне этого хотелось. Без сомнения, это была сила внушения и игра ума той, которая сидела перед нами. В конце концов она заговорила, и ее голос зазвучал, как серебряные колокольчики над водой в торжественной тишине. Он был низкий и сладкий, так что в первый момент мои чувства притупились и сердце, казалось, остановилось. В первую очередь она обращалась ко мне. — Мой слуга сказал мне, — она слегка повернула голову к Билали, который стоял на коленях, — что ты, которого зовут Бодрствующий в ночи, понимаешь язык, на котором я говорю. Это так? — Я понимаю арабский достаточно хорошо, изучал его на Восточном побережье и в Аравии в прошлые годы, но ваш арабский… о… — Я замолчал. — Называй меня Хейя, — бросила она. — Это мой титул, который означает, как ты знаешь, Она, или женщина. Если вам не нравится это имя, называйте меня Айша. Я буду рада снова услышать имя из уст человека моего цвета кожи и благородной крови. Я покраснел от комплимента и повторил с довольно глупым видом: — Я говорю на несколько другом арабском, чем тот, что используешь ты, о Айша. — Я думала, что звучание этого имени понравится тебе больше, чем Хейя, хотя потом я научу тебя произносить его. Есть ли у тебя другое имя, которое может идти раньше главного? — Да, — ответил я. — Аллан. — О Аллан, расскажи мне об этих людях. — И она показала на моих приятелей взмахом руки. — Потому что я подозреваю, что они не говорят по-арабски. Или лучше я буду говорить, а ты скажешь, права я или нет. Вот этот человек, — и она кивнула в сторону Робертсона, — чувствует себя смущенным. Это пробуждает в нем цвет, который ты не видишь, этот цвет призывает к мести, хотя мне кажется, что в настоящий момент он хочет чего-то другого, того, чего, насколько я знаю, хотят все мужчины и что разрушает их. Человеческая натура не изменилась, Аллан, вино и женщины — древние ловушки. Для него достаточно. Маленький желтый человек меня боится, как и все вы. В этом величайшая власть женщины, хотя она слабая и нежная, все мужчины ее боятся, потому что настолько глупы, что не могут ее понять. Для них миллионы лет она остается загадкой, а для нас все неизвестное — страшно. Ты помнишь римскую пословицу, которая выражает это кратко и понятно? Я кивнул, потому что латынь была одной из тех наук, которым отец научил меня еще в молодости. — Хорошо. А этот маленький дикий человек, похожий на обезьяну, от которой мы все произошли… Но ты знаешь ли это, Аллан? Я снова кивнул и сказал: — Эти диспуты идут уже очень давно, Айша. — Да, они начались в мое время, и мы продолжим их позднее. И все-таки он ближе к обезьяне, чем ты или я. Я думаю, что у него есть свои преимущества — он хитрый и дружелюбный и любит всех вокруг. Ты понимаешь, Аллан, что любовь есть во всем? Я сказал, что все зависит от того, что вкладывается в это слово. На что она ответила, что объяснит мне позднее, когда у нас будет время, а потом добавила: — Эта маленькая желтая обезьяна понимает, что ей надо преданно служить тебе, или мне так только кажется? Ты расскажешь мне об этом когда-нибудь. Атеперь о твоем спутнике — Черном человеке. Я думаю, что это воин из воинов, такой, какие бывали в старые времена, если он не дикарь. Хотя, поверь мне, Аллан, дикари часто лучше. Кроме того, все мы в сердце дикари, даже ты и я. Культура — это лишь прикрытие, чтобы спрятать нашу истинную природу, и часто она становится ядом. Думаю, что во время сражения его топор погружается глубоко, и погрузится еще глубже. Правильно ли я поняла этих людей, Аллан? — Неплохо, — ответил я смиренно. — Просто я так думаю, — раздался ее певучий смех. — Хотя в этом месте я становлюсь глупой и бесполезной, как ржавый меч, которым не пользуются. Теперь вы можете отдохнуть. Завтра мы с тобой поговорим наедине. Ничего не бойтесь, вы в безопасности, вас охраняют мои рабы, а я наблюдаю за ними. Итак, прощайте, до завтра. Теперь идите, ешьте и спите, как должны делать все, кто существует на этой земле и цепляется за нее, чтобы выжить. Билали, проводи их. — И она махнула рукой, показав, что аудиенция закончена. При этом знаке Ханс, который все еще был не в себе, вскочил с колен и прошмыгнул сквозь занавески. Робертсон последовал за ним. Умслопогас постоял мгновение, повернулся, высоко поднял топор и прокричал «Байете!», после чего повернулся и тоже ушел. — Что значит это слово, Аллан? — спросила Айша. Я объяснил, что это приветствие, с которым воины-зулусы обращаются только к своему королю. — Разве я не говорила, что дикари лучшие из лучших? — воскликнула она со смехом. — Белый человек, твой приятель, не приветствовал меня, а черный знает, когда стоит перед женщиной-королевой. — В нем тоже течет королевская кровь, — заметил я. — Если так, мы похожи, Аллан. Я глубоко поклонился ей так галантно, как только мог. Она впервые поднялась — и оказалась очень высокой и внушительной — и поклонилась мне в ответ. После этого я пошел искать остальных моих спутников по другую сторону занавеса, однако Ханс успел даже пробежать через длинный узкий холл за циновку в его конце. Мы с достоинством проследовали за Билали через двойные ряды охраны, которая подняла копья, когда мы проходили мимо них. Там мы снова встретили Ханса, он все еще был чем-то испуган. — Баас, — сказал он мне, когда мы проходили среди колонн зала, — в своей жизни я видел много ужасных вещей и стоял к ним лицом к лицу, но никогда не был так напуган, как перед этой Белой колдуньей. Баас, я думаю, что она дьявол, о котором ваш преподобный отец говорил так много. Или его жена. — Если так, Ханс, — отвечал я, — то дьявол не так черен, как его рисуют. Но я советую тебе быть осторожным в разговорах, потому что стены имеют уши. — Не имеет значения, кто и что говорит, баас, потому что она читает слова задолго до того, как они слетают с губ. Я чувствую, что она присутствует в этой комнате. Будьте осторожны, господин, иначе она похитит ваш дух и вы в нее влюбитесь. Подозреваю, что она вовсе не красавица, иначе зачем ей прятать лицо под вуаль? Кто видел, как красивая женщина сует голову в мешок, господин? — Может быть, она делает это, потому что слишком красива, Ханс, и боится, что сердца мужчин, которые смотрят на нее, растают. — О нет, баас, все женщины хотят растопить мужские сердца, кто больше, кто меньше. Иногда кажется, что у них в голове совсем иные мысли, но они не думают ни о чем другом, пока не становятся старыми и уродливыми, и лишь тогда забывают о своих чарах. Ханс продолжал молоть чепуху, возвращаясь, насколько я мог понять, по той же дороге, по которой мы пришли. Мы дошли до наших жилищ, где нас ждала приготовленная еда — жареная козлятина, кукурузные лепешки и молоко, а также кровати для двух белых людей, покрытые кожаными накидками и шерстяными одеялами. Нас поместили в комнаты в доме, построенном из камня. Его стены когда-то были расписаны. Крыши не было, так что мы могли видеть звезды над головой, но, поскольку воздух был очень свежим и одновременно теплым, это было скорее преимуществом, чем недостатком. В самой большой комнате поместились мы с Робертсоном, в других — Умслопогас и зулусы, а в третьей лежали раненые. Когда Билали показывал нам наше убежище при свете лампы, то долго извинялся, что оно не самого лучшего качества, потому что место это находится в развалинах, а строить что-то новое нет времени. Он добавил, что мы можем спать без опасений, потому что нас охраняют и никто не осмелится причинить вред гостям Той, чье слово закон. На нее мы, по словам Билали, произвели прекрасное впечатление. Затем он поклонился, сказав, что вернется утром, и оставил нас. Мы с Робертсоном сели на лавки, чтобы поесть, но он казался настолько погруженным в свои воспоминания и грустные мысли, что я так и не смог втянуть его в разговор. Единственное, что он сказал, — это то, что мы попали в странную компанию и те, кто обедает с Сатаной, должны иметь длинные ложки. Выразив свои опасения в этой фразе, он упал на кровать, громко помолился в своей обычной манере «о защите от колдунов и колдуний» и заснул. Перед тем как лечь, я навестил Умслопогаса, чтобы проверить, все ли хорошо у него и его людей. Я увидел, что он стоит у дверного порога и смотрит на звездное небо. — Приветствую тебя, Макумазан, — сказал он. — Ты, белый и мудрый, и я, черный воин, мы с тобой видели много странностей под солнцем, но никогда не видели такого, как сегодня ночью. Кто и что это такое, Макумазан? — Я не знаю, — ответил я. — Но жизнь стоит того, чтобы увидеть ее, даже под вуалью. — И я не знаю, Макумазан. Или нет — чувствую, потому что мое сердце подсказывает мне, что эта женщина — величайшая из всех колдуний, и ты должен охранять свой дух, чтобы она не украла его. Если бы она не была колдуньей, то напомнила бы мне Наду Лилию, которая была моей женой, когда я был молод, потому что на ней были те же белые одежды, и, несмотря на другой язык, на котором говорит эта женщина, мне было странно слышать шепот Нады, той Нады, которая ушла от меня дальше, чем вон те звезды. Очень хорошо, что на твоей груди надет Великий талисман, потому что он защитит тебя от вредного влияния чужих сил. — Зикали тоже принадлежит к этому племени, — засмеялся я. — Хотя смотреть на него менее приятно. Я не боюсь их. И если она не просто некая белая женщина, которая скрывает себя под вуалью, я надеюсь узнать от нее много мудрых мыслей. — Да, Макумазан, такую мудрость, которую дают лишь духи и мертвые. — Может быть, но мы ведь и пришли сюда, чтобы пообщаться с духами из прошлого, не так ли? — О, — ответил Умслопогас. — Все это и еще войну — вот что мы должны найти здесь. Только я думаю, что битва будет сначала, потому что духи и мертвые могут околдовать меня и забрать мои силу и мужество. Потом мы расстались, и я, слишком уставший даже для того, чтобы думать, прилег на свою кровать и тут же заснул. Я проснулся, когда солнце было уже высоко, от громкой молитвы Робертсона, которая уже, признаюсь, начала действовать мне на нервы. Молитва, по-моему, это личный разговор между человеком и его Создателем, минуя церковь, кроме того, мне совершенно не хотелось слышать обо всех грехах Робертсона, которых, как оказалось, было очень много. Не очень хорошо заниматься самобичеванием, не думая при этом о других людях, если только вы не священник и не умеете делать это профессионально. Я вскочил, чтобы пойти и умыться, но столкнулся со старым Билали, который стоял в дверях, наблюдая за Робертсоном с огромным интересом и поглаживая свою белую бороду. Он приветствовал меня вежливым поклоном и сказал: — Скажи своему приятелю, что нет никакой необходимости падать на колени и подчиняться Той, чье слово закон, когда он не находится рядом с ней. И даже тогда он должен хранить молчание, потому что такой странный язык, на котором он молится, может напугать ее. Я рассмеялся и ответил: — Он не молится Той, чье слово закон. Он молится Тому Великому, Который на Небесах. — В самом деле, Бодрствующий в ночи? Здесь мы знаем только одну великую, которая на земле, хотя, наверное, она иногда посещает и небеса. — Неужели? — спросил я с сомнением в голосе. — Билали, не покажете ли вы мне место, где я мог бы помыться? — Все готово, — ответил тот. — Пойдем со мной. Я приказал Хансу, который прихватил ружье, последовать за мной с одеждой и мылом, которое, к счастью, у нас еще оставалось. Мы пошли по дороге вдоль каменных домов, окруженных сплошными развалинами справа и слева. — Кто такая эта ваша королева, Билали? — спросил я, пока мы шли. — В ней явно отсутствует кровь амахаггеров. — Спроси ее об этом сам. Я не могу ничего сказать тебе. Все, что я знаю, — это то, что могу проследить свое происхождение на десять поколений назад и мой десятый предок говорил на смертном одре своему сыну, что королева существовала всегда и, когда он был молодой, она уже управляла этими землями больше лет, чем месяцев в жизни. Я остановился и уставился на него, потому что ложь была такой очевидной, что лишила меня дара речи. Увидев мое неверие, Билали холодно продолжил: — Если сомневаешься, спроси у нее сам. А вот здесь ты можешь помыться. Он провел меня через сводчатый дверной проем и дальше туда, где, очевидно, была купальня, похожая на римские постройки, которые я видел когда-то. Она была размером с большую комнату, сделана из мрамора, с наклонной крышей от трех до семи футов высоты, а вода стекала по большим трубам. Вокруг нее были открытые комнаты, которые купальщики использовали в качестве раздевалок. В коридоре стояли разрушенные статуи, а в конце его было некое подобие алькова, который защищал от солнца и погоды, однако руки у некоторых статуй отсутствовали (некоторые я видел лежащими на дне ванны). Одна из статуй изображала обнаженную молодую женщину, приготовившуюся прыгнуть в воду, — это была прекрасная работа. Даже трепетная улыбка на лице девушки выглядела очень естественно. Эта статуя позволила мне выяснить две вещи. Во-первых, то, что купальня использовалась женщинами, а во-вторых, то, что люди, строившие ее, принадлежали к высокой цивилизации, кроме того, это была западная раса, поскольку нос девушки был семитского типа, а губы — полные и прекрасной формы. К тому же ванна была настолько чистой, что я думаю, ее специально готовили для нас или других купальщиков. На полу я обнаружил решетки и обломки глиняной посуды, — вероятно, в те дни воду нагревали посредством топки. Остатки древней цивилизации восхитили Ханса еще больше, чем меня, поскольку он никогда не видел ничего подобного. Это показалось ему настолько странным, что он не преминул сообщить мне, будто видит творение рук ведьмы. Тем не менее я принял столь необходимую мне ванну. Даже Ханс был вынужден последовать моему примеру — я редко видел это раньше — и, усевшись в самую мелкую часть ванны, побрызгал себя водой. Затем мы вернулись домой, где нас ждал замечательный завтрак, который принесли нам высокие молчаливые женщины. Они рассматривали нас краешком глаза, но не проронили ни слова. Вскоре после того, как я закончил есть, снова появился исчезнувший было Билали и сказал, что Та, чье слово закон, желает меня увидеть, чтобы поговорить. И я должен пойти к ней один. Навестив раненых, которые, казалось, шли на поправку, я отправился в гости, сопровождаемый Хансом с его ружьем, прихватив с собой лишь револьвер. Робертсон хотел составить мне компанию, потому что не горел желанием остаться наедине с зулусами в этом странном месте, но Билали не позволил ему. Когда тот начал настаивать, два огромных охранника вышли вперед и угрожающе скрестили свои копья перед ним. К счастью, капитан отступил и ушел в дом. По той же тропинке, что и прошлой ночью, мы выбрались к разрушенной улице. Она была лишь воспоминанием о том, что когда-то считалось великим городом. Мы подошли к довольно большому сводчатому проходу, утопающему в зарослях. По запаху и цвету я узнал желтофиоль; также здесь росли лук-порей и камнеломка. Ханса остановили охранники, и Билали объяснил ему, что он должен дожидаться моего возвращения, чему тот с неохотой повиновался. Я зашел в узкий проход, сопровождаемый молчаливыми как статуи охранниками, и приблизился к занавескам в конце коридора. По знаку Билали, который не был расположен говорить в таком месте, я остановился и стал ждать.Глава 13
СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
Несколько минут я стоял перед занавесками, пока какая-то сила вроде электричества, разлитого в воздухе, не пронзила мои кости. Возможно, я был сильно возбужден и поэтому воспринимал все слишком обостренно. Я был уже готов к тому, чтобы спросить своего сопровождающего, почему он не объявляет о нашем приходе, а стоит здесь, как свинья перед закланием, да еще с глазами, закрытыми как будто при молитве или медитации, как вдруг занавески дрогнули и как из-под земли возникла одна из тех высоких женщин, которых мы видели прошлой ночью. Она некоторое время изучающе смотрела на нас, затем дважды взмахнула рукой — один раз вперед, второй раз по направлению к Билали, как бы давая ему знак уходить. Он тут же удалился довольно быстро, а женщина поклонилась мне, приглашая следовать за ней. Я повиновался, прошел сквозь толстые занавески, которые она открывала передо мной, и вскоре обнаружил, что стою в той же покрытой крышей комнате со скульптурами, в которой мы уже побывали. Только сейчас в ней не было ламп, поскольку свет проникал из невидимого отверстия над нами и падал на помост, а также на ту, которая сидела на этом помосте. Да, это была сама королева, в своих белых одеждах и вуали. Она была центром небольшого круга света. Удивительное зрелище, потому что в ней было нечто не от мира сего, что-то, что восхищало и пугало меня одновременно. Она сидела так же, как статуя, над которой не властно время, а рядом с ней, еще более молчаливые, стояли две стройные женщины, вероятно ее служанки. В воздухе витал какой-то слабый сладкий аромат, который действовал на меня как гашиш. Мне кажется, что он исходил прямо от нее или от ее одежды, потому что я не видел зажженных свечей. Она не произнесла ни слова, хотя я чувствовал, что она приглашает меня подойти к ней поближе, и двинулся к ней. Я шел до тех пор, пока не наткнулся на резное кресло, которое стояло как раз под помостом, затем сел без разрешения. Айша долго рассматривала меня, ее взгляд скользил по мне от головы до ног, казалось, что она смотрит сквозь меня, как будто хочет разглядеть самую суть. Затем она ожила, взмахнув обеими руками какими-то плавающими движениями, и женщины справа и слева от нее ушли, словно растворились в воздухе. — Садись, Аллан, — сказала она. — И давай поговорим, потому что я думаю, что нам есть что сказать друг другу. Хорошо ли ты спал? И как поел — хотя я думаю, что еда была слишком грубой. Была ли приготовлена для тебя ванна? — Да, Айша, — ответил я сразу на все три вопроса, добавив, поскольку не знал, что еще сказать: — Мне кажется, что я побывал в очень древней купальне. — Когда я видела ее в последний раз, — промолвила Айша, — она была достаточно хороша, статуи, украшавшие ее, созданы скульптором, который видел красоту в своих мечтах. Но за две тысячи лет или больше — время сильно все разрушает, — без сомнения, все в этом мертвом месте превратилось в руины. Я закашлялся, чтобы скрыть возглас недоверия, который готов был сорваться с моих губ, и ответил вежливо, что две тысячи лет — это, конечно, большой срок. — Когда ты говоришь одно, Аллан, а думаешь другое, твой арабский не в силах помочь тебе, он даже более слабый, чем обычно, и не может прикрыть твои мысли. — Может быть, и так, Айша, потому что я изучал этот язык, как и многие наречия Черной Африки, лишь по устной речи простых людей. Мой родной язык — английский, если бы ты была с ним знакома, мы поговорили бы на нем. — Я не знаю английского, потому что, без сомнения, этот язык возник, когда я покинула мир. Может быть, позднее ты научишь меня ему. Ты сердишь меня, а этого делать не следует, потому что не веришь ни одному слову, которое слетает с моих губ, и не говоришь об этом. — Как я могу поверить, Айша, истории о купальне, которой две тысячи лет, если сто лет — это уже много для жизни мужчины? Прости меня, если я сомневаюсь в том, что считаю с твоей стороны большим преувеличением. Тут я подумал, что сейчас она вспылит, и пожалел о сказанном. Но она не разозлилась. — Надо иметь смелость так нагло упрекать меня во лжи. Но мне нравится твое мужество, — сказала она. — Передо мной так долго пресмыкались! Я знаю, что ты много пережил в эти дни, поскольку слышала, как ты сражался вчера, и еще узнала кое-что о тебе. Я думаю, мы будем друзьями, но не более того. — Чего же «более» я должен хотеть? — спросил я невинно. — Ты снова лжешь, — сказала она. — Ты знаешь очень хорошо, чего хочет мужчина, который видит красивую женщину, не думая о том, нравится ли он ей. По его мнению, она должна прийти к нему и любить его, если она молода. — Но это невозможно, если она прожила две тысячи лет. Тогда она предпочтет надеть вуаль, — сказал я вежливо, желая избежать спора, в который она хотела меня втянуть. — Ах, — отвечала она. — Я думаю, что эти мысли в твой ум вложил тот маленький желтый человек, которого зовут Светоч во мраке. Не волнуйся, у меня много шпионов, он правильно угадал. Значит, женщина, которая прожила две тысячи лет, должна быть страшной и морщинистой? Печать молодости и красоты должна исчезнуть с ее лица? Здесь ты прав, мудрый человек. Очень хорошо. Ты заставляешь меня предпринять то, чего я не хотела бы делать, и сорвать плод с дерева любопытства, которое так быстро выросло в твоем сердце. Посмотри, Аллан, и скажи, я сейчас выгляжу старой и морщинистой, даже если прожила две тысячи лет на земле или даже больше? Она подняла руки и приподняла свою вуаль, так что на мгновение — но только на мгновение — ее лицо освободилось от белой пелены, после чего вуаль снова закрыла его. Если бы кресло было чуть менее устойчивым, я бы упал с него. Потому что то, что я увидел, невозможно описать, во всяком случае мне. Это была вспышка красоты. Каждый мужчина мечтает о некой совершенной красоте, основывая свои чаяния, может быть, на идеале женщины, которую он когда-то повстречал, или на виденных им фрагментах греческих статуй плюс, конечно, воображение. Я видел красоту, помноженную на десять. Я повторюсь, что описать ее невозможно. Я не знаю, какой формы были ее нос или губы, потому что все, что я помню совершенно точно, — это блеск ее глаз, который я увидел под вуалью еще прошлой ночью. Они были волшебными, эти глаза. Мне показалось, что это больше чем глаза, если можно так выразиться. Это было окно души, из которого глядели мысль, величие и мудрость, была в нем и тайна, которую мы привыкли видеть или представлять в женщине. И позвольте мне заметить еще кое-что. Если это прекрасное создание думало, что блеск ее глаз сделает меня ее рабом, заставит влюбиться, или как это там еще называется, она должна была глубоко разочароваться, поскольку такого эффекта она на меня не произвела. Это на самом деле пугало, и все мои чувства были поглощены этим, потому что я ощущал присутствие чего-то нечеловеческого, чего-то чуждого для меня как для мужчины, того, чего я должен был бояться и обожать, как восхищаются всем божественным. Но смешивать это я не хотел. Я даже не знал, божественно ли это? Я только знал, что это не для меня, это все равно что я попросил бы звезду сиять в моей походной лампе… Я думаю, что она почувствовала это, ее удар прошел мимо, как говорят французы, если она в тот момент хотела произвести на меня впечатление. В этом я не уверен, потому что голос ее изменился, стал холодней, когда она со смехом сказала: — Ты признаешь теперь, Аллан, что женщина может быть старой и оставаться красивой и без морщин? — Я признаю, — пробормотал я, хотя меня била такая дрожь, что я с трудом произносил слова. — Признаю, что женщина может быть прекрасной и любимой гораздо больше, чем способен вообразить мужской ум, несмотря на возраст, о котором я не знаю ничего. Должен поблагодарить тебя, Айша, за то, что ты показала мне красоту, скрытую под вуалью. Теперь я не боюсь побеспокоить тебя в той манере, какую ты видела много лет назад. Так мужчина видит луну, которая серебряным светом сияет в ночном небе. — Луна! Как странно, что ты сравниваешь меня с луной, — сказала она. — Знаешь ли ты, что Луна была великой богиней в Древнем Египте, а ее имя было Исида[384], — и что у меня общего с ней? Может, ты был там и знаешь, поскольку большинство из нас живет всего один раз. Я должна подумать об этом. Кроме того, не все думают так, как ты, Аллан. Многие, наоборот, любят и ищут божественное. — Может быть, Айша, но я не стремлюсь к этому. Если бы стремился, наверное, получил бы то, что хотел. — Ты мудрый человек, — сказала она не без уважения в голосе. — Мотыльки не единственные, кто боится пламени, — оно жжет всех. Я думаю, что ты обжигал крылья и знаешь, что огонь ранит. Теперь я вспоминаю, что слышала о трех вспышках любви, через которые ты прошел, Аллан, хотя все твои любимые женщины теперь мертвы или сияют где-то в другом месте. Две погребены в твоей юности, когда некая леди пыталась спасти тебя. Это была великая женщина, не так ли? А третья — она была действительно огнем, к тому же рыжая. Как ее звали? Я не могу вспомнить, но, по-моему, это связано с ветром… Да, с причитанием ветра. Я смотрел на нее во все глаза. Неужели снова раскопали тайну Мамины в сердце Африки? И как, ради всего святого, она могла узнать о Мамине? Может быть, она спрашивала Ханса или Умслопогаса? Нет, это просто невозможно, ведь она видела их только в моем присутствии. — Возможно, — продолжала она с хитринкой в голосе, — ты снова не поверишь, Аллан, чей циничный ум закрыт для новой истины. Показать тебе лица этих трех? Я могу. — И она взмахнула рукой в направлении некоего предмета, который стоял справа от нее в тени, — он выглядел как хрустальная чаша. — Ты, кто знает их слишком хорошо, поверишь, что я взяла эти картинки из твоей души? Но возможно, одно лицо возникнет, и это будет странно для тебя. «Леди Рэгнолл, может быть?» — мелькнуло у меня в голове. — Может быть, ты слышал, Аллан, что не все мудрецы видны воочию земным людям и не все находятся во плоти. Они разделены на составные части, каждая из которых ходит по земле в различных формах, как фрагмент жизненного круга, который никогда не разорвется и снова должен соединиться в конце концов? Я вежливо покачал головой, потому что слышал это впервые. — Тебе, Аллан, еще столько всего надо узнать, хотя, без сомнения, некоторые считают тебя мудрецом, — продолжала она все тем же таинственным голосом. — Я знаю, что эта доктрина строится на «камне правды». Также, — добавила она, изучая меня с минуту, — в твоем случае эти три женщины не создали единый круг. Я думаю, что есть еще четвертая, которая пока незнакома тебе, хотя ты можешь ясно различить ее в остальных. Я тяжело вздохнул, представляя, что она намекает на себя, что было глупо с моей стороны, потому что она прочитала мои мысли и кисло усмехнулась. — Послушай… — снова сказала она. — Даже если моя история покажется тебе невероятной, не прерывай ее и не смейся, потому что я могу рассердиться. И тогда тебе не поздоровится. Я ведь из тех женщин, Аллан, которые подчиняют себе секреты природы. Здесь я почувствовал непреодолимое желание спросить, какие же это секреты, но решил пока придержать язык. — К счастью, эти секреты сохранили мою молодость и красоту на многие века. Кроме того, в прошлом, как будто в наказание за мои грехи, я прожила другие жизни. И воспоминания о них остались со мной. В своем последнем рождении я была арабской женщиной королевской крови, наследницей царей Востока. Там я погрузилась в самую глубину восточной экзотики и управляла людьми, а ночами собирала мудрость от звезд и духов земли и воздуха. В конце концов я устала от них, и мои приближенные слишком устали и подумывали о том, чтобы избавиться от меня, потому что, Аллан, я ничего не значила для мужчин, хотя они сходили с ума от моей красоты и убивали друг друга из ревности. Более того, враги пошли войной на мой народ, надеясь взять меня в плен и сделать женой одного из своих царей. Итак, я покинула их с огромным грузом золота и бриллиантов, взяв с собой святого человека, моего господина. Вместе с ним мы прошли по миру, изучая разные народы и их обряды. В Иерусалиме я осталась, чтобы изучить Иегову, который был или есть их Бог. В Пафосе на острове Читим я провела некоторое время, потому что их народ считал меня Афродитой[385], вернувшейся на землю, и поэтому почитал меня. Именно по этой причине, а также потому, что своим появлением я оскорбила Афродиту, она приказала слугам проклясть меня, сказав, что ее проклятие будет лежать на мне века и мне будет тяжелей, чем любой женщине, которая живет в этом мире. Это была страшная сцена, — вспоминала она. — Я имею в виду проклятие, потому что на каждое ее слово я отвечала двумя словами. И я приказала их главному жрецу доложить своей богине, что я буду жить на земле очень долго, в то время как ее уже не будет и о ней все забудут. Потому что в этот час я была выражением духа пророчества. И хотя проклятие со временем потеряло свою силу, Афродита имела власть, потому что существовала под разными именами по всему миру. Скажи мне, Аллан, где-нибудь в мире ей еще поклоняются? — Нет, только ее статуям, потому что они очень красивы, хотя Любви поклоняются всегда. — О да! Кто может знать это лучше, чем ты, Аллан, если то, что говорил о тебе Зикали, правда, которую он воплотил в тех снах, что я видела благодаря ему. Теперь о статуях. Я видела некоторые из них, поскольку их автором был некий мастер из Греции. Я ведь говорила ему, что он может найти и лучшую модель. Когда-то я была такой моделью. Если эта статуя еще существует, она должна быть самой известной, хотя Афродита и разрушила ее в порыве ревности. Хорошо, ты расскажешь мне про эти статуи позднее, на моей же был знак на левом плече, похожий на родинку, но камень не был совершенным, в отличие от моей плоти. Я могла бы продемонстрировать тебе ее, если бы ты захотел. Посчитав, что лучше не вступать в дискуссию по поводу плеча Айши, я промолчал, а она продолжала свое повествование. — Потом я отправилась в Египет и там, чтобы избежать мужчин, одаривавших меня своими взглядами и приставаниями, а также чтобы обрести мудрость, я поступила на службу к богине Исиде, королеве небес, желая навсегда остаться невинной. Вскоре, пользуясь ее величайшей властью на Ниле, общалась с богиней и разделила ее власть, поскольку, считая меня своей дочерью, она ничего не скрывала от меня. Случилось так, что фараоны только носили скипетры, а я реально управляла Египтом и привела его и Сидон[386] к падению — не важно как и почему, мне просто было предназначено судьбой сделать это. Да, цари приходили ко мне за советом, когда я сидела на троне, облаченная в одежду Исиды, и дышала ее властью. Моя миссия была завершена, когда люди решили, что небеса дадут им то, о чем они попросят. Я удивился, что это была за миссия, но лишь спросил: «Почему?» — Потому что в их нарисованных небесах все падает им прямо в руки. А мужчины, если они настоящие мужчины, не могут быть счастливы без борьбы, а женщины, если они женщины, — без победы над ними. То, что дешево куплено или подарено, не имеет ценности, Аллан. Чтобы получить удовольствие, надо победить. Но я предлагаю тебе, Аллан, не нарушать в дальнейшем хода моих мыслей. Я попросил извинения, и она продолжала: — Получилось так, что тень проклятия Афродиты упала на меня и на Исиду, конечно, и два этих проклятия тоже сделали из меня то, что я есть сейчас: потерянная душа, которая бродит в диком мире, ожидая исполнения судьбы, и не знает, где конец. Несмотря на то что я владею всей мудростью, а также даром красоты и жизни, будущее темно для меня, как ночь без луны и звезд. Послушай же далее, хотя я рассказываю то, что и так всем известно. В башне Исиды на Ниле, откуда я управляла миром, жил один священник, грек по рождению, который, подобно мне, посвятил свою жизнь служению богине и не получил ничего — только дух самой богини. Его звали Калликрат, мужественный и красивый мужчина, такой, каким греки изображали своего бога Аполлона. Я думаю, что никогда мне не встречался еще мужчина, настолько красивый телом и лицом, хотя душа его была не так велика, как часто случается с мужчинами, у которых есть все, и очень часто случается с женщинами, не говоря обо мне и некоторых других, о которых гласит история. Фараон, который тогда правил, последний фараон истинной крови, из тех, кого персы погрузили в темноту, имел дочь, которую звали принцесса Аменарта[387], по-своему красивая девушка, но немного смуглая. В юности она была влюблена в Калликрата, а он был влюблен в нее. Он был главным греческим купцом при дворе фараона. Она принесла ему страдания, поэтому он отправился к Исиде за прощением и миром. Спустя некоторое время она последовала за ним и снова умоляла о любви. Зная все это, я позвала этого греческого священника и предупредила его об опасности и темноте, которая ожидает его, если он пойдет по этому пути. Он испугался. Он упал на землю передо мной с рыданиями и просьбой о поддержке и, целуя мои ноги, фальшиво поклялся, что его дела с другими женщинами были всего лишь вуалью, а обожает он только меня. Его богохульные изречения наполнили меня ужасом, и я строго попросила его уйти и получить наказание за свои преступления, сказав, что помолюсь за него богине. Он ушел, оставив меня одну дрожащей от страха. Я заснула и во сне увидела сон, или то было видение. Внезапно передо мной появилась женщина, такая же прекрасная, как и я. На ней не было никакой одежды, кроме золотого пояса и вуали. «О Айша, — сказала она медовым голосом, — послушницы Исиды, египетской царицы, поклялись поклоняться Исиде и превратились в пепел от ее бесценной мудрости. Знай, что я — Афродита, над которой ты когда-то смеялась и не обращала внимания. Я королева нынешнего мира, а Исида — царица мертвого мира. И поскольку ты презираешь меня и мое имя, я пользуюсь своей властью и накладываю на тебя проклятие. Ты будешь обожать этого человека, который только что целовал твои ноги, и целовать его губы, хотя и будешь далеко, как луна, которая светит над Нилом. Ты не сможешь разделить со мной тьму, потому что твой дух сильней, чем мой, хотя я и королева». Она тихо улыбнулась мне, а ее душистые локоны закрыли глаза. Аллан, я проснулась и поняла, что на меня свалилось огромное бремя, потому что я никогда не любила и не чувствовала страсти к тому человеку, который до того момента был для меня лишь красивым образом из слоновой кости и золота. Я следовала за ним, мое сердце было наполнено ревностью, потому что египтяне обожали его, и пламя любви пожирало мое сердце. Я сходила с ума. В усыпальнице Исиды я упала на колени и стала умолять Афродиту вернуться и дать мне то, что я искала. Я молилась и лежала на земле, пока сон снова не сразил меня. И в темноте этого святого места ко мне снова пришло видение, потому что передо мной во всей своей славе и красе стояла богиня Исида, а на голове у нее была корона с полумесяцем. В руках она держала покрытый бриллиантами систрум[388], который был ее символом. От него неслась музыка, похожая на отдаленный колокольный звон. Она посмотрела на меня, ее глаза были наполнены гневом. «О Айша, дочь мудрости, — сказала она торжественно, — к которой я, Исида, относилась как к дочери, а не как к прислужнице, хотя ни одна из моих послушниц не была такой мудрой, и кому в один из дней я хотела бы передать свой трон. Ты нарушила клятву и предала меня, поклонившись фальшивой Афродите, которая является моим врагом. Да, между духом и плотью идет вечная война, ты встала на сторону плоти. Я ненавижу тебя и добавляю к проклятию Афродиты мое проклятие, которое, поскольку ты молилась мне, а не ей, я исторгаю из своего сердца. О Небеса! Греков, которых ты выбрала по воле Афродиты, ты будешь любить, как было предначертано! Я покажу тебе источник Любви, и ты выпьешь из него, чтобы стать еще более преданной и опередить соперницу. А когда твоя любовь будет мертва, ты будешь ждать в го́ре и одиночестве, пока Калликрат не родится вновь и не придет к тебе. И это лишь начало твоей печали, потому что каждый раз, когда ты будешь умолять о пощаде, ты будешь видеть этого человека. И твоя душа будет привязана к нему узами любви. Ты будешь страдать. Ты возненавидишь себя, как часто бывает у мужчины и женщины. Ты, которая редко боится духов, будешь преклоняться перед ними и наполнишь себя мыслями о плоти». В моем сне, Аллан, я гордо ответила богине: «Послушай меня, госпожа, имеющая множество форм, которая возникает во всем живущем! Злая судьба постигла меня, но выбирала ли я эту судьбу? Разве может лист бороться с наступающей бурей? Может ли падающий камень вернуться на небеса? Может ли река перестать течь? Богиня, которую я обидела и которая дает силу всему миру, наложила на меня свое проклятие, теперь я должна склониться перед бурей, я нарушила клятву, данную другой богине, которой я служу. Исида тоже добавила свое проклятие. Где же справедливость, госпожа Луны?» «Не здесь, — отвечала она. — Справедливость живет далеко отсюда, она однажды победит, потому что твое искусство такое гордое и страдающее, оно лежит на виду. Я думаю, что ты увидишь все грехи и даже найдешь равновесие. Ты дойдешь до крайнего уровня пути, но не сможешь объяснить себе этого. Твоя мудрость будет расти вместе с твоей красотой и властью, ты однажды станешь похожа на меня, мой символ, систрум, который я ношу. Ты последуешь за моим фальшивым священником, куда бы он ни пошел, и будешь мстить мне через него, а если ты потеряешь его, то будешь ждать несколько поколений, пока он не вернется снова. Именно такова твоя судьба». Потом, Аллан, видение померкло, и я проснулась в лучах света под изображением богини в святилище. Свет играл на священном систруме, который в моем сне она держала в своих руках, глаз жизни, магический символ, который она торжественно обещала мне. Теперь он был в моих руках. Я взяла его и отправилась на поиски священника Калликрата, страстно влюбленная в него. И я не мог больше сдерживаться и спросил: «Почему?», хотя, остерегаясь ее гнева, хотел вначале промолчать. Но она не разозлилась, может быть, потому, что история о ее беседах с богинями, без сомнения, была выдумана, и она тихо ответила: — Все, что я знаю, — это то, что я должна искать своего любимого, и делаю это изо дня в день, хотя он, может быть, еще не родился. Итак, я следовала своей цели, поскольку меня обучали и командовали мной, систрум был моим проводником. И таким образом я пришла на эту древнюю землю, которая лежит в руинах, среди которых ты находишься и которая когда-то называлась Кор.Глава 14
УПУЩЕННЫЙ ШАНС
Все время, пока Айша говорила — как королева или как ведьма, — она расхаживала вперед и назад по комнате, подметая пол душистыми одеждами, размахивая руками, как делает опытный оратор, чтобы подчеркнуть значимость и важность своих речей. Теперь, когда я уже решил было, что она закончила, Айша опустилась на диван, хотя, я думаю, душа ее устала больше, чем тело. Так она сидела некоторое время, задумчиво положив подбородок на руку, потом вдруг подняла голову и, устремив на меня взгляд, так что я увидел блеск ее глаз через тонкую вуаль, сказала: — Что ты думаешь об этой истории, Аллан? Веришь ли в это, слышал ли что-то подобное? — Никогда, — ответил я с придыханием. — И конечно, я верю каждому твоему слову. У меня есть только один или два вопроса, которые, с твоего разрешения, я хотел бы задать, Айша. — Ты, как человек без веры, сомневаешься во всем, что не можешь потрогать или увидеть лично. Но может быть, тебе хватит мудрости допустить, что все, о чем я рассказала, это видение Афродиты или Исиды, на самом деле было, и не важно, где я это видела — в храме ли на реке Нил или вообще на Земле. За две тысячи лет человек повидал многое, Аллан. Задавай свои вопросы, и я буду честно отвечать на них, если они окажутся не слишком утомительными. — Айша… — сказал я смиренно, дав понять, что мои вопросы будут, по крайней мере, короче, чем ее сказки. — Даже я, кто так и не видел этих богинь, о которых ты говоришь, слышал о греческой Афродите, которая поднялась из моря на берегах Кипра и жила в Пафосе и в других местах… — Несомненно, как и большинство мужчин, ты слышал о ней и, быть может, также был поражен ее волосами, — перебила она с сарказмом. — Кроме того, я слышал об Исиде из Египта, леди Тайны, супруге Осириса[389], чей ребенок был Гором Мстителем[390], — продолжал я, стараясь не вступать в споры. — Да, и я думаю, услышишь от нее еще много интересного, что касается нас всех. Я не единственная, кто нарушил клятву Исиды и заслужил ее проклятие, Аллан. Но что ты скажешь о небесных королевах? — Только то, Айша, что они существовали на самом деле, но правда переплелась здесь с вымыслом, и то, что ты говоришь как о правде, озадачивает меня. — Скучно принимать все на веру, не подвергая сомнению, Аллан. Тем не менее, если у тебя есть воображение, ты мог бы понять, что эти богини — как великие венцы природы. Исида — сама мудрость на троне и добродетель. Афродита — воплощение любви. Бывают люди, в том числе и женщины, которые, будучи земными творениями, остаются в памяти как боги. И становятся великими и священными для нас. Не будем углубляться в подробности земного и небесного в людях, сегодня на земле есть создания в обеих ипостасях. Я ответила на твой вопрос? Честно говоря, я не совсем понял ход ее мыслей и то, что она пыталась мне втолковать, но я счел своим долгом продолжить: — Если я понял правильно, Айша, описанные тобой события происходили во времена царствования фараонов. И все же ты говоришь, что прожила столько лет, а такое невозможно. Поэтому я думаю, что эта история дошла до тебя в письменном виде или, возможно, во сне. В разные века разные мудрецы написали много книг, а ты прочитала их или увидела в снах. По крайней мере, я так думаю, — торопливо добавил я, боясь, что и так сказал слишком много… — И для того чтобы быть такой мудрой, как ты, надо много прочесть, а не существовать две тысячи лет, потому что за это время можно вообще сойти с ума от жизни. Едва она выслушала эти вполне невинные замечания, как вскочила на ноги в ярости, которую только могла позволить себе королева. — Не может быть! Романтика! Сны! Заблуждения! Сумасшествие! — воскликнула она звенящим голосом. — Ах, поистине ты утомил меня, и у меня хватит ума, чтобы направить тебя туда, где ты узнаешь, возможно это или нет. В самом деле, я бы сделала это, но мне нужны твои услуги, а вместо тебя послать некого, твой луноликий товарищ помешался, а дикари не в счет. Послушай, глупец! Нет ничего невозможного. Почему ты считаешь, что нельзя поместить весь большой мир между твоих двух рук и взвесить тайны Вселенной твоим мелким умом? Жизнь ты признаешь такой, какой ее видишь. Почему не допустить, что если семена могут храниться в земле сотни лет и потом прорасти, а жаба способна жить замурованной в скале и очнуться, то человек не может? Есть же у вас вера, которая допускает еще и не такие чудеса? Нет, Аллан, имеется достаточно форм жизни, о которых ты и не подозреваешь сегодня и которые станут понятными лишь для тех поколений, что следуют за тобой. Тебе стоит поучиться у того старого черного колдуна Зикали, который живет в стране, откуда ты пришел. И он куда мудрее и прозорливее вас, белых людей, потому что он существует в гармонии со мной и с миром. Через таких людей матери могут говорить с нерожденными сыновьями, безутешный любовник услышит голос своей милой через моря. Может быть, в будущем люди будут общаться с обитателями звезд и даже с мертвыми, которые чередой прошли в тишине и темноте. Ты слышишь? Ты понимаешь меня? — Да, — ответил я еле слышно. — Ты лжешь. Как часто ты склонен соглашаться, что понимаешь этот огромный мир. Я не верю тебе, как и ты не в силах отвести взгляд от этой толщи времени в две тысячи лет. — Я недостоин таких знаний, — ответил я, который в тот момент не чувствовал ни малейшего желания проживать ее две тысячи лет, даже рядом с такой женщиной, проглядывая поколения за поколением. Конечно, я многое потерял, потому что упустил шанс разглядеть кучу вещей, которые помогли бы историкам раскрыть тайны веков. Сколько упущенных возможностей, сколько неразгаданных судеб! По крайней мере, я высказал ей это искренне, и, похоже, ее обида слегка улеглась, по крайней мере, она была тронута моей искренностью. — Что сделано, то сделано, — проговорила она с некой долей возмущения. — Хотя я поняла, что ты такой же, как все, и не пересекался со мной на тысячелетнем пути моей жизни. На этой фразе она остановилась, задохнувшись в своем почти детском гневе, и, поскольку я ничем не мог ей помочь, я лишь сказал: — Такая власть, даже если ты приобретешь весь мир, не даст тебе счастья. Будь я хозяином мира, я не выбрал бы жизнь среди дикарей, которые едят людей и обитают среди развалин. Может быть, проклятия Афродиты и Исиды сохраняют силу до сих пор? — И я замолчал в недоумении. Этот смелый аргумент — сейчас я вижу, что он действительно был смелым, — казалось, удивил и даже озадачил мою прекрасную собеседницу. — Ты более мудр, чем я думала, — произнесла она задумчиво. — Я пришла к пониманию того, что на самом деле никто не является господином ничего, так как выше всегда найдутся еще более сильные господа, и пример тому — великие правители прошлого, которые мнили себя великими, но их деспотии превращались рано или поздно в прах. Что-то подсказывает мне, что я должна тебе помочь. И я вижу будущее каждого из твоих спутников, что бы ты ни думал о моих способностях. Печальный белый человек жаждет освободить свою дочь, и она останется невредимой, но в отношении его самого я не обещаю счастливого конца. Сильный черный командир победит врагов, завоюет славу и добьется того, чего ищет, и еще большего. Маленький желтый человечек ничего не просит для себя, только быть со своим хозяином, как собака, и чтобы удовлетворить свои потребности в пище и обезьянье любопытство. Ты, Аллан, увидишь души мертвых, окоторых думаешь по ночам, хотя тебя ожидают и другие награды, потому что ты не проклял меня и не надругался надо мной в своем сердце. — Что мы должны сделать, чтобы получить обещанное? — спросил я. — Как мы, скромные создания, можем помочь тому, кто силен и собрал в уме знания двух тысячелетий? — Вы должны воевать под моим знаменем и избавить меня от моих врагов. Дослушай до конца мой рассказ и решай. Я подумал, что удивительно, как эта королева, которая, по утверждениям, обладала сверхъестественными силами, нуждается в нашей военной помощи, но решил, что разумнее держать мои размышления при себе, и ничего не сказал. На самом деле я мог бы ничего и не говорить, ведь обычно она угадывала мои мысли. — Ты, конечно, удивляешься, Аллан, что я, всемогущая и бессмертная, вынуждена обратиться к тебе за помощью в каких-то местных стычках между племенами, тем более дикарями, но они более чем дикари, они все же люди, охраняемые древним богом старинного города Кор, великим богом, дух которого живет в этих развалинах и сила которого по-прежнему защищает верующих, кто цепляется за него и практикует его нечестивый обряд человеческих жертвоприношений. — Как зовут этого бога? — спросил я. — Его имя — Резу, и от него пришли египетские Ре, или Ра[391], так как вначале Кор был матерью Египта и народ Кора взял бога с собой, когда они ворвались в долину Нила и покорили ее народы задолго до того, как первый фараон Менес[392] стал царствовать в Египте. — Но ведь солнцем был Ра, не так ли? — спросил я. — Да, и Резу также был богом солнца, который с высоты своего трона давал жизнь людям или убивал их молниями, засухами, эпидемиями и бурями. Он не был добрым царем, а требовал крови жертв у своих поклонников, даже у женщин-служанок и детей. Так случилось, что народ Кора, видевший, что девы убиты и съедены жрецами Резу, а их дети сгорели дотла в огне, зажженном его лучами, стали поклоняться нежной Луне. Они назвали эту богиню Лулалой, в то время как другие выбрали иную — Истину, так как она, по их словам, была больше и лучше, чем жестокий король-солнце или даже медоточивая Луна. Выбрали Истину, которая сидела над ними на троне среди самых дальних звезд. Тогда демон, Резу, разгневался и послал моровую язву на Кор и его земли и убил свой народ, за исключением тех, кто признался ему в великом отступничестве, и некоторых других, которые служили Лулале и Истине — не знаю почему. — Ты видела эту моровую язву? — заинтересованно спросил я. — Нет, прошло много поколений, прежде чем я пришла в Кор. Один жрец описал эту историю в пещерах, там, где у меня дом и где хоронили тысячи убитых. Я расскажу тебе историю гибели моего народа. Они были рассеяны на землях среди камней, которые когда-то были городами. Эти люди стали называться амахаггерами. Это были потомки тех, кто избежал чумы. Но остались существовать и другие, дети поклонников Лулалы и королевы Истины, которые воевали с последователями Резу. — Что привело тебя в Кор, Айша? — спросил я невпопад. — Разве я не сказала, что пришла сюда по указанию великой Исиды, которой я служу? Кроме того, — добавила она после паузы, — я пытаюсь найти одного человека, с которым мы связаны клятвами любви. — А разве ты его не нашла, Айша? — спросил я. — Да, я нашла его, или, вернее, он нашел меня. И в моем присутствии богиня казнила его. — Это, должно быть, было ужасным испытанием для тебя, Айша, ведь, как я понял, ты любила этого жреца? Она вскочила с дивана, и ее низкий шипящий голос, который напоминал звук сердитой змеи, заставил меня похолодеть. Она воскликнула: — Человек, как ты смеешь издеваться надо мной? Перестань копаться в моих бедах. Не пытайся разобраться в закоулках нашей истории, где судьбы мертвых переплелись с историями живых, богов со смертными, где жизнь заканчивается и начинается вновь. Странник, — продолжала она уже тише, — обуздай свои порывы узнать правду, какой бы она ни была, отдай ее в руки жрецов, которые держат ключи от гибели и вечной радости. Я вижу, ты согласен, — (я кивнул ей), — и понимаешь, что дорога из рая в ад и обратно занимает как раз около двух тысяч лет. Она опустилась на диван, опустошенная своей вспышкой, и закрыла лицо руками. Но тут же снова их подняла и продолжала: — Не спрашивай меня больше об этих бедах, они спят до поры до времени своего воскрешения, которое, я думаю, уже близко, даже ближе, чем ты полагаешь. Пусть они спят, не буди их. Видишь ли, странник, после того как случилось то, чему было суждено, и я осталась в моей вечной агонии одиночества и печали, я тоже испила из чаши терпения и, как Прометей[393] в легенде, изо дня в день подставляю свою печень стервятникам. И тем не менее в долгие ночные часы в моей груди живет живая женщина, и я обречена на все страдания человеческой плоти и крови. Я благодарна этому, потому что иначе давно погрузилась бы в забвение. Когда дикари этих земель узнали обо мне, леди Луны, те, кто был привержен Лулале, собрались вокруг меня, а те, кто поклонялись Резу, затаили мечту меня свергнуть. Вот, мол, говорили они, богиня Лулала сошла на землю. Во имя Резу убьем ее и тех, кто за ней следует. Я победила их, Аллан. Но их вождя, которого они тоже зовут Резу и отождествляют с истинным властителем, я не смогла победить. — Почему же? — спросил я. — По той самой причине, Аллан. В прошлые века его бог показал ему тот же секрет, что был показан мне. Он тоже испил из Чаши жизни и живет вечно. Так что ни одно копье не может достичь его сердца, одетого в доспехи злого бога. — Да много ли может копье… — пробормотал я, слегка сбитый с толку. — Копье, возможно, и не способно на многое, а вот топор, пожалуй, сможет… Для многих поколений на протяжении веков между поклонниками Луны, живущими на равнинах Кора, и приверженцами Резу, теми, кто живет в крепости за пределами горного хребта, был мир. Но в последние годы их вождь Резу, опустошив земли вокруг нас, стал угрожать нападением Кору. Его жители недостаточно сильны, чтобы противостоять ему. Более того, он захотел, чтобы Белая королева перешла под его начало, преуменьшив таким образом собственное величие. — Так вот почему эти людоеды похитили дочь моего спутника, морского капитана, — сказал я. — Да, Аллан, это Резу нужно на тот случай, если я умру или уйду в другие земли. Это нужно ему для того, чтобы люди не заметили разницы между мной и ею, а он тогда сможет править от себя и победить всех, кто еще уважает мои власть и силу. Поэтому он везет в Кор эту девушку под вуалью, как у меня, так, чтобы никто не мог увидеть различие между нами. Это легко, поскольку ни один подданный не видел еще моего лица, Аллан. Поэтому этот Резу должен умереть, в противном случае он нанесет непоправимый вред моей стране — убьет всех жителей, которые верят не в его бога. Кроме того, я поклялась защитить их от демонов Резу, и они верят в меня — Ту, чье слово закон, а не Ту, которая осталась без силы… — Почему ты упомянула топор, Айша? — спросил я. — Разве только топором можно убить Резу? — Дело в тайне, Аллан, которую я не могу рассказать тебе, так как для этого мне нужно раскрыть много секретов, а ты еще для них не готов. Достаточно знать, что, когда Резу пил из Чаши жизни, у него был с собой топор. Сейчас он считается старинным оружием богов, и, по слухам, в нем секрет долголетия Резу. Что-то наподобие пяты Ахиллеса[394]. Поэтому он бережет его пуще глаза. Ты читал Гомера, Аллан? — Знакомился в переводе, — ответил я скромно. — Хорошо, тогда ты быстро вспомнишь эту историю о пятке. Топор — это только врата, через которые смерть может войти в его неуязвимую плоть, или, точнее, только топор может в одиночку проделать ворота, чтобы войти и убить его. — А Резу это знает? — спросил я. — Я не могу сказать точно, — ответила она с раздражением. — Быть может, он и не знает этого. Быть может, все это пустая сказка, но Резу верит в нее. — Может быть, и так… — проговорил я задумчиво. — Но что случилось с топором? — В конце концов он был утерян или, как говорят, украден женщиной, которую Резу изгнал в пустыню, поэтому он ходит в этом мире в страхе. Не задавай больше пустых вопросов, — сказала она, когда я открыл было рот. — Но слушай конец рассказа. Я вспомнила эту историю о топоре, как заблудившийся путник ищет в лесу любую тропинку, что может вывести его на опушку. Вот и я использовала всю мою мудрость, чтобы выяснить у самых могущественных колдунов Африки, живущих в гармонии с землей, возможные пути к победе. Среди прочих я нашла старого Зикали, Открывателя дорог, и он дал мне ответ: в этих землях живет воин из племени топора — того ли или другого, этого я не знала… Но шанс все же появился, и я попросила колдуна отправить сюда этого воина. Прошлой ночью он стоял передо мной, и я смотрела на его топор — он казался достаточно древним. Тот ли это самый, который утерял Резу, не знаю. Но я отправлю его в бой, и надеюсь, он достигнет успеха. — О да! — ответил я. — Он храбрый воин. В своем племени он считается непобедимым. — Тем не менее необходимо завоевать тех, кто держал его в руках, — произнесла она задумчиво. — Мы долго говорили, и ты устал. Иди поешь и отдохни. Ночью, когда взойдет луна, я приду туда, где вы размещаетесь, и покажу тех, с кем вы будете сражаться против Резу, после чего составим план сражения. — Но я не хочу сражаться, — возразил я. — Мы уже достаточно боролись и пришли сюда, чтобы искать мудрость, а не кровопролитие. — Сначала первая жертва, потом вознаграждение, — ответила королева загадочно. — Если останется кого награждать. Прощай.Глава 15
РОБЕРТСОН ПОТЕРЯЛСЯ
Я быстро вышел, и Билали, старый слуга, повел меня в дом, который нам предоставили для отдыха. По дороге я взял с собой Ханса, который сидел у арки и, как обычно, держал глаза и уши открытыми. — Баас, — прошептал он, — сказала ли вам Белая колдунья, что за домами раскинулся большой лагерь? — Нет, но она сказала, что этим вечером она покажет нам, в чьей команде мы должны сражаться. — Ну вот… Они там остановились, я прокрался сквозь разбитые стены, как змея, и увидел, что их набралось уже несколько тысяч. И, баас, они не похожи на людей, я думаю, что это злые духи, которые появляются только ночью. — Почему, Ханс? — Потому что, когда солнце высоко, как сейчас, они все спят, и только несколько часовых стоят на страже, они зевают и протирают глаза. — Я слышал, что это племя из Центральной Африки, где солнце очень жаркое, поэтому они спят днем, Ханс, — ответил я. — И возможно, именно поэтому Та, чье слово закон, попросит нас прийти к ним в ночное время. Кроме того, эти люди, похоже, являются поклонниками луны. — Баас, они поклоняются дьяволу, и Белая колдунья его жена. — Тебе лучше держать свои мысли при себе, Ханс, так как Королева умеет читать мысли издалека, как ты догадался прошлой ночью. Поэтому на твоем месте я не стал бы давать ей такие характеристики. — Баас, если я и должен думать в дальнейшем о чем-то, то только о джине, который от этого места очень далеко, — ответил он, ухмыляясь. Когда мы вернулись в наш дом, я обнаружил, что Робертсон уже съел свой обед и, как настоящий амахаггер, пошел спать. По-видимому, Умслопогас сделал то же самое — по крайней мере, я его нигде не видел. Меня это порадовало, так как волшебница Айша как будто высосала из меня все соки своими разговорами и после беседы с ней я чувствовал себя очень уставшим. Так что я тоже поел, а затем пошел и лег спать в тени старой стены, размышляя попутно о тех необычных вещах, о которых слышал. Следует сказать сразу, что я поверил большинству из них только наполовину. Все россказни о долгой жизни Айши я исключил сразу как невероятные. Очевидно, она была красивой женщиной, на которую нашло помрачение рассудка и которая страдает манией величия. Вероятно, она происходила из арабского племени, которое забрело в эти места по той или иной причине, и стала вождем этого дикого племени, чьи традиции усвоила и выдает за личный опыт. В настоящее время она готовится к сражению против другого племени и, зная, что у нас оружие и мы можем помочь ей, естественно, захотела использовать нас в грядущей битве. Что касается грозного вождя Резу или, вернее, его сверхъестественных способностей и всех небылиц о топоре… Ну, это все обман, как и остальное, и если она верит во все это, то она, должно быть, глупее, чем я думал. И наконец, сведения обо мне и Умслопогасе, несомненно, получены ею от Зикали разными путями, как она сама призналась. Но боже мой! Как она хороша! Эта вспышка красоты, когда она подняла вуаль и я был ослеплен как молнией! Но к счастью, я зажмурился, как при ярком свете, потому что это могло оказаться опасным, ибо красота нередко несет с собой гибель. Так что я размышлял, гадая о том, какова доля человеческого и сверхъестественного в ее поведении, да и действительно ли мы нужны ей в ее делах? Наконец она проговорилась о своих сложных взаимоотношениях с другим мужчиной, правда было трудно проследить за деталями. Она описала его как красивого, но несколько легкомысленного человека, которого она в последний раз видела около двух тысяч лет назад, но, вероятно, это означает лишь то, что она о нем плохо думала, потому что он предпочел другую женщину, а две тысячи лет были добавлены как сказка, чтобы придать мифический колорит всей этой истории. Худшие скандалы становятся романтикой за две тысячи лет, об этом свидетельствуют романы Клеопатры с Цезарем, Марком Антонием[395] и другими господами. Дети в школах с восторгом читают историю Клеопатры, и считается, что, если вычеркнуть ее героев из истории, потери окажутся огромными. То же самое относится к прекрасной Елене[396] и другим дамам из прошлого. Думаю, Айша, будучи очень умной женщиной, по достоинству оценила их опыт и сделала выводы, использовав сведения последнего десятилетия или около того и перенеся их на тысячелетие назад, как многие из нас хотели бы сделать. Но неясным осталось весьма любопытное обстоятельство — как она могла общаться со старым Зикали, который жил очень далеко. Однако это тоже можно объяснить. Пока я жил в Африке, я мог наблюдать нетрадиционные способы связи, бытовавшие в семьях колдунов. В большинстве случаев эти связи осуществляются с помощью курьеров или сообщения передаются от одного знахаря к другому. Происходят и телепатические сеансы, характерные для африканских аборигенов. А между двумя такими высокоразвитыми индивидами, как Айша и Зикали, могли установиться именно такие контакты. Но главное, мне приходилось свыкаться с мыслью о предстоящих боевых действиях. Пока дочь Робертсона была в плену, никакого отдыха для нас быть не могло. Инес должна была быть спасена любой ценой, даже пусть ценой нашей гибели. Мне это приключение было интересно, к тому же при мне находился Талисман Зикали, который вместе с Провидением может привести нас к удаче. В остальном же сам факт того, что наша помощь понадобилась Айше в битве с врагом, показывал, что никакими сверхъестественными способностями она не обладает. Иначе зачем ей наши скромные силы простых смертных? Значит, Резу — не мифический тролль из скандинавских саг, а обычный человек, которого можно убить простым ассегаем или топором. Устав от своих раздумий, я уснул и не проснулся, пока солнце не село. Обнаружив, что Ханс спит у моих ног, как верный пес, я его разбудил, и мы пошли к остальным в дом уже в полной темноте, которая упала как занавес, как это случается в этих широтах, особенно в местах, окруженных скалами. Не найдя Робертсона в доме, я решил, что он, возможно, пошел на разведку, и сказал Хансу, чтобы тот заказал ужин на обоих. Когда он ушел, прихватив лампу амахаггера, в круге света неожиданно появился Умслопогас и, оглядываясь, спросил: — Куда делся Рыжебородый, Макумазан? Я сказал, что не знаю, и выжидающе посмотрел на воина. — Я думаю, что лучше держать его рядом, Макумазан, — продолжал он. — В тот день, когда ты вернулся от Белой колдуньи и поел, мы ушли спать под стены, и там я увидел Робертсона, который вышел из дома с ружьем и мешком патронов. Его глаза дико сверкали, и он нюхал воздух, как гончая собака. Потом он начал говорить вслух на своем родном языке, и я увидел, что он беседует со своим духом, как те, которые сошли с ума. — Почему же ты не остановил его, вождь? — спросил я. — Потому что, как ты знаешь, Макумазан, у нас, зулусов, есть закон никогда не беспокоить того, кто сошел с ума и разговаривает со своим духом. Кроме того, если бы я сделал это, вероятно, он застрелил бы меня. Мне не на кого было бы жаловаться, потому что я находился в том месте, где я не должен быть. — Тогда почему ты не позвал меня, Умслопогас? — Потому что тогда он мог бы выстрелить в тебя, ибо, как я видел ранее, он вдохновлен Небом и не ведает, что он делает на земле, думая только о леди Печальные Глаза, которая была украдена у него. Так что я оставил его ходить вверх и вниз, и когда я вернулся позднее, чтобы посмотреть, где он, то увидел, что он уже ушел, как я думал, в нашу хижину. Теперь, когда Ханс сказал мне, что его нет здесь, я пришел к тебе разузнать все о нем. — Его здесь тоже нет, — ответил я и пошел взглянуть на кровать, где Робертсон спал, чтобы убедиться в том, что он использовал ее в тот вечер. Тогда-то в первый раз я и увидел лежащий на ней листок бумаги, вырванный из блокнота и предназначенный для меня. Я схватил и жадно его прочитал. Там говорилось следующее: «Милосердный Господь послал мне видение Инес и показал мне, где она — на скале, расположенной далеко на западе, — и указал дорогу к ней. Во сне я слышал, как она разговаривает со мной. Она передала мне, что находится в большой опасности, что они собираются выдать ее замуж, причем обращаются грубо, и призвала меня к себе на помощь. Да, и чтобы я пришел один, никому ничего не сказав. Поэтому я собираюсь быстро, не беспокойтесь. Все будет хорошо. Я все расскажу вам, когда мы встретимся». Я перевел этот полубезумный текст Умслопогасу и Хансу. Последний кивнул очень серьезно: — Не говорил ли я тебе, что он беседовал со своим духом, Макумазан? Ну, он теперь отправился на поиск дочери, и, несомненно, его дух будет заботиться о нем. Свершилось. В любом случае мы не можем вернуть его, баас, — сказал Ханс, который, я думаю, опасался, что я мог бы отправить его вслед за Робертсоном. — Я могу идти по следам, но не в такую непроглядную ночь, как эта, когда можно поломать черноту на куски и построить из нее стены. Я ответил без особого оптимизма: — Робертсон ушел, и мы ничего не можем сейчас поделать. Но про себя я подумал, что, вероятно, он не ушел далеко и его можно найти, когда взойдет луна или, во всяком случае, на следующее утро. Мысли мои сосредоточились вокруг судьбы этого человека, который, как я уже отметил, чем дальше, тем больше терял рассудок. Шок от страшного убийства его детей-метисов и похищение Инес злобными дикарями лишь способствовал его внезапному переходу к полной трезвости после многих лет беспробудного пьянства. Когда я убедил его отказаться от алкоголя, то очень этим гордился, думая, что поступил умно, но сейчас я уже не был в этом так уверен. Возможно, было бы лучше, если бы он продолжал пить понемногу, по крайней мере некоторое время, но беда в том, что в таких случаях, как правило, человек проявляет слабость либо агрессивность. В любом случае мне следовало наблюдать за ним и довести его лечение от увлечения спиртным до конца, иначе это могло повлечь за собой печальные последствия, что я и наблюдал в тот момент. Бог и дьявол поселились в его душе, повергая его в адские муки, и не было человека рядом, который мог бы помочь ему. Короче, бедный капитан серьезно заболел и отправился на поиски дочери, но, как верно заметил Ханс, найти его в этой темноте было невозможно. Действительно, даже если бы было светлее, я не думаю, что было бы безопасным оказаться в компании этих ночных воинов-амахаггеров, которым я не очень-то доверял. Конечно, я мог попросить Ханса взять на себя задачу помочь мне, но я не думаю, что он взялся бы за это, так как боялся амахаггеров. Поэтому не оставалось ничего, кроме как ждать и надеяться на лучшее. Так что я пребывал в ожидании, пока наконец не взошла луна и с ней не пришла Айша, как она и обещала. Одетая в плотный темный плащ, она прибыла, торжественно сопровождаемая Билали и свитой из женщин, окруженная охраной из высоких копьеносцев. Я сидел возле дома и курил, как вдруг она вышла из тени и предстала передо мной. Я почтительно встал и поклонился. Умслопогас, Гороко и другие зулусы, которые были со мной, отдали ей королевский салют, а Ханс съежился, как собака, которая боится, что ее ударят ногой. Бросив быстрый взгляд на них, я перестал смотреть на ее лицо и заметил, что ее больше всего заинтересовала моя трубка. И точно, через какое-то мгновение она не преминула осведомиться, что это такое. Я объяснил как мог, подробно остановившись на прелестях курения. — Значит, мужчины узнали еще одно бесполезное занятие, с тех пор как я ушла от мира, и, надо сказать, довольно смрадное, — произнесла она, принюхиваясь к дыму и помахивая рукой перед лицом. Я бросил трубку в карман, где она прожгла в моей накидке большую дыру. Я запомнил это замечание, поскольку оно показало мне, насколько она хорошая актриса, которая талантливо изобразила свое незнание этой привычки, неизвестной в Древнем мире. — Ты чем-то обеспокоен? — продолжала она, быстро меняя тему. — Я прочла это на твоем лице. Один из вашей компании исчез. Кто это? Ах, я вижу: белый человек, которого вы называете Мститель… Куда он ушел? — Это я хотел спросить у тебя, Айша, — осмелился я ей сказать. — Как я могу дать тебе точный ответ, Аллан, если у меня с собой нет стекла, в котором я вижу вещи, происходящие далеко? Впрочем, позволь мне попробовать… И, прижимая руки ко лбу, она какое-то мгновение молчала, а затем медленно заговорила: — Он перешел горный кряж в направлении к владениям поклонников Резу. Я думаю, что он сумасшедший. Тоска по дочери и что-то другое — я не понимаю, что именно, наверное какая-то высшая сила, — перевернули его мозг. Я думаю, что мы должны вернуть его к жизни, хотя бы на некоторое время. Но я не уверена, поскольку не могу читать будущее, мне подвластно только прошлое, а также события, которые происходят в настоящее время, хоть и далеко. — Отправитесь ли вы на его поиски, о Айша? — спросил я с тревогой. — Нет, это бесполезно, потому что он уже далеко. Кроме того, он может наткнуться на форпосты Резу. Знаете ли вы, что́ он пошел искать? — Примерно, — ответил я и перевел ей письмо, которое Робертсон оставил для меня. — Иногда душевнобольные люди оставляют после себя очень глубокие произведения, но они вовсе не ниспосланы Богом, эти письмена. В мозге, пусть больном, имеется множество тайных мест. Хотя в это трудно поверить, Аллан, но нетерпение души преодолевает завесу расстояний, и он способен видеть сквозь времена, а дураки могут подумать, что это безумие чистой воды. А теперь следуйте за мной, с желтым мужчиной и воином племени топора. Дайте мне посмотреть на топор. Я перевел ее желание Умслопогасу, тот протянул ей топор, но отказался снять его со своего запястья, к которому он был прикреплен кожаным ремешком. — Не думает ли черный воин, что я его убью его же оружием, я, такая слабая и нежная? — спросила она, смеясь. — Нет, Айша, но это его право — не расставаться с этим оружием. Он его называет Пьющим жизнь, Тем, кто заставляет стонать, и держится за него днем и ночью, крепче, чем за жену. — Действительно, он мудр, Аллан. Этот дикий командир может получить больше жен, но никогда — такой же топор. Вещь древняя, — добавила она задумчиво, изучив каждую деталь. — И кто знает, может быть, именно с его помощью ему суждено победить Резу? Теперь спроси этого воинственного вождя, может ли он найти в себе мужество столкнуться лицом к лицу с сильнейшем из людей, к тому же еще и колдуном, про которого легенда говорит, что только топор может заставить его вкусить пыль дороги. Я повиновался. Умслопогас мрачно усмехнулся и ответил: — Скажи Белой колдунье, что нет человека, живущего на земле, с кем я побоялся бы встретиться во время битвы, даже если это и приведет меня к вратам смерти… — И он коснулся большого отверстия на лбу. — Скажи ей также, что у меня нет страха перед поражением, ибо я еще далек от него. Хотя Открыватель дорог и сказал мне, что я умру на войне среди чужих людей. — Он хорошо говорит, — ответила она с восхищением в голосе. — Скажи ему, Аллан, что, если он победит Резу, он получит великую награду. Я сделаю его вождем амахаггеров. — Скажи Белой колдунье, Макумазан, — ответил Умслопогас, когда я перевел, — что я не ищу никакой награды, кроме славы, а вместе с ней и той, которая потеряна для меня, но кем мое сердце все еще живет. Если, конечно, эта колдунья в силах разрушить стену тьмы, возникшую между мной и ею. — Странно, — отозвалась после некоторого молчания Айша, — что это мрачное существо, этот разрушитель может быть связан узами любви и боготворит ту, во имя которой не жалеет отдать жизнь. Ну хватит разговоров, за мной, раб. — (Эти слова были обращены к Билали.) — Охранники приведут вас к лагерю рабов Лулалы. Мы прошли через молчащие руины. Айша шла, вернее, скользила в темноте шага на два впереди Умслопогаса и меня, в то время как в нашем арьергарде следовал Ханс, который старался не отставать от нас и находиться в сфере защиты не столько Великой колдуньи, в чьи чары он верил так же мало, как и я, сколько топора и ружья. Так мы продвинулись в сопровождении охраны от четверти до половины мили, пока наконец не поднялись на обломки могучей стены, которая когда-то охватывала город. В лунном свете мы увидели внизу огромную полость, где когда-то, в незапамятные времена, находился огромный ров, наполненный водой. Теперь, однако, было сухо, и вся его поверхность была усеяна многочисленными круглыми кострами, вокруг которых двигались воины и женщины, занимавшиеся приготовлением пищи. Неподалеку, на противоположном краю рва, вокруг большого камня стояли люди в белых одеждах. На самом же камне была растянута шкура то ли овцы, то ли козы, а вокруг собралась толпа зрителей. — Жрецы Лулалы приносят жертву Луне, ночь за ночью, за исключением случаев, когда она умирает, — объяснила Айша, поворачиваясь ко мне, как будто в ответ на мой немой вопрос. Что поразило меня во всей этой сцене, так это быстрая сменяемость персонажей. Все люди вокруг костров и вне их двигались как-то быстро и с такой живостью, какую можно было бы наблюдать утром у обычных людей. Казалось, будто они перепутали день с ночью — эту характерную особенность амахаггеров в свое время заметил Ханс. Остается только добавить, что их было намного больше, чем противников. Спускаясь зигзагами по искореженной стене, мы наткнулись на форпосты их армии под нами. Поначалу те наставили на нас оружие, но, когда увидели, с кем имеют дело, упали ниц, отбросив свои копья, похожие на масайские[397], а потом вообще воткнули их в землю. Мы прошли между костров, и я отметил, как торжественны и одновременно мрачны, хотя и красивы, были лица людей возле огня. Действительно, они были похожи на обитателей другого мира, дружественного роду человеческому. Казалось, они никогда не смогут отделаться от древнего проклятия их народа, их лица оставались непроницаемыми, за исключением некоторых случаев, когда они бросали на нас любопытствующие взгляды. Только когда Айша проходила мимо, они падали ниц, как, впрочем, и все остальные. Мы продолжали идти дальше, пересекли ров, стали подниматься по склону и тут вдруг наткнулись на отряд воинов, собравшихся в каре, по-видимому, с тем, чтобы встретить нас. Они стояли в рядах по пять-шесть человек, и наконечники их копий мерцали в лунном свете как длинные полоски стали. Когда мы вошли в открытую сторону каре, эти копья поднялись разом. Так повторялось трижды и каждый раз сопровождалось громким арабским криком «Хейя!» — «Она!», что, я полагаю, было приветствием Айше. Она прошла к центру каре, не обращая никакого внимания на церемонии. Там группа мужчин опять упала ниц перед нами в обычном порядке. Жестом приказав им подняться, она обратилась к ним с речью: — Вот уже два часа длится наш поход против Резу и солнцепоклонников, ибо, если мы не сделаем этого, как подсказывает мне мой опыт, они пойдут против нас. Та, чье слово закон, бессмертна, это известно вам уже несколько поколений, и это незыблемо, но вы, мои верные подданные, вполне смертны, и Резу, который также испил из Чаши жизни, приготовил другую королеву, которая будет править его народом и теми из вас, кто останется в живых. Хотя, — добавила она с презрительным смехом, — любая белая женщина может занять мое место. Она замолчала, а один из вождей сказал: — Мы слышим, о Хейя, и мы понимаем. Что ты посоветуешь нам делать, о Лулала, сошедшая на землю? Армия у Резу большая, а он с самого начала ненавидел и тебя, и нас. И сила его волшебства равна силе твоего. Как же мы, которых всего несколько тысяч человек, можем выстоять против Резу, сына Солнца? Разве не было бы лучше принять условия Резу, ведь они достаточно легки, и признать его в качестве нашего царя? Услышав такие слова, Айша не выдала своего волнения, не проявила ни страха, ни ярости. Вместо желания драться и победить они захотели подчиниться и сдаться Резу! Тогда ее власти неминуемо придет конец! Айша ответила тихим голосом: — Мне кажется, что я слишком мягко обращалась с вами и вашими отцами, дети Лулалы, тенью которой я сегодня являюсь здесь, на земле. Вы видите только ножны и забываете о мече внутри их, забываете, что он может сверкать и разить. Я могла бы проявить гнев и бросить вас прямо здесь, на этом месте, чтобы через некоторое время вы обратились в скотов. Я могу отдать вас в руки Резу, который бросит вас на жертвенные камни одного за другим и отдаст ваши тела богу огня, который пожрет их. Но я помню о ваших женах и детях, о ваших предках, что сейчас мертвы, как тени, и я хочу спасти вас от себя самих и ваши головы от испепеляющего гнева солнца. Решайте сейчас, будете драться против Резу или побежите. Если выберете второе, то завтра на рассвете мы с ними, — и она указала на нас, — уйдем навсегда, а ваши тела будут растянуты на жертвенных камнях, а женщины и дети попадут в вековое рабство к Резу. — А где Хейя, которой служили наши отцы? Она не вернется и не спасет нас от этого ада? — Вы будете звать ее и плакать, но она не ответит, потому что отправится в свое жилище на Луну и никогда не вернется. А теперь быстро совещайтесь и решайте, потому что я устала от вас и от дороги. Командиры разошлись и стали шептаться вполголоса. Айша тихо стояла с равнодушным видом. Я попытался взвесить наши шансы. Было очевидно, что эти люди были на грани мятежа против своей необычной правительницы, чья власть была чисто духовного свойства и исходила лишь от ее личности. И эта зыбкая власть могла в любой момент закончиться, потому что ее волшебство будет рано или поздно разгадано. Наше присутствие могло помочь ей, и для нее это был единственный шанс. Наконец главный вождь вернулся, отдал честь копьем и спросил: — Если мы пойдем воевать против Резу, кто поведет нас в бой, о Хейя? — Моя мудрость должна быть вашим вождем, — ответила она. — Этот белый человек будет у вас командующим. Также здесь стоит воин, он собирается встретиться с Резу лицом к лицу и бросить его в пыль. — И она указала на Умслопогаса, который, опираясь на свой топор, наблюдал за ними с презрительной улыбкой. Этот ответ, казалось, не понравился старшему из вождей, ибо он снова удалился советоваться со своими спутниками. После споров, которые внесли оживление в ряды амахаггеров, все они придвинулись к нам на несколько шагов, и их представитель заявил: — Такое решение, вообще-то, не радует нас, о Хейя. Мы знаем, что белый человек храбрый, он дрался против людей Резу над горой, так же как и его люди, у которых есть оружие, сеющее смерть издалека. Но у нас есть старинное пророчество о том, что Та, чье слово закон, в последней великой битве между Лулалой и Резу должна произвести на глазах у народа Лулалы определенное действо, а именно показать Великий талисман, без которого люди Лулалы проиграют. — А если этот Талисман не будет показан белым господином, что случится тогда? — спросила Айша холодно. — Тогда, о Хейя, люди Лулалы дают слово, что они не будут служить под ее началом, и это также является их решением, что они не пойдут против Резу. Мы хорошо знаем, что ты сильна, можешь убивать, если захочешь, но мы знаем также, что Резу еще сильней и против него у тебя нет власти. Поэтому убей нас сама, ибо лучше нам погибнуть таким образом, чем на жертвенном камне под раскаленным солнцем Резу. — Это наше слово! — вскричали все остальные бойцы в каре. — Мне пришла в голову мысль удовлетворить мое сердце кровью этих трусов немедленно, — проговорила презрительно Айша. Потом она помолчала и, обращаясь ко мне, добавила: — О Бодрствующий в ночи, что посоветуешь? Есть нечто, что убедит этих обладателей цыплячьих сердец, для которых я так долго служила защитой? Я лишь покачал головой, на что копьеносцы зашептались снова и собрались уходить. Тут Ханс, который не только понимал арабский, но знал и другие африканские языки, потянул меня за рукав и шепнул мне на ухо: — Великий талисман, баас! Покажи им Великий талисман Зикали! Это была верная мысль. Я повернулся к Айше и попросил ее узнать у них, хотят ли они посмотреть, за что пойдут со мной на смерть. Так она и сделала. На что они ответили: — Да. Мы пойдем на смерть за тем, кто носит Талисман и у кого есть топор, как в нашей легенде. Тогда я медленно расстегнул рубашку и вытащил Талисман Зикали, насколько хватило цепочки, сделанной из слонового волоса. — Вот эта святая вещица, воплощение власти, о которой рассказывает ваша легенда. Не так ли, амахаггеры и поклонники Лулалы? Амахаггер, державший речь, вперил в меня взор, затем выхватил горящую ветку из костра, поднес ее к Талисману и уставился на него. Другие также сдвинулись и старались разглядеть вещицу на цепочке. — Собаки! Вы опалите мне бороду! — вскричал я и, выхватив ветку из рук амахаггера, взмахнул ею над головой. Но тот не обратил никакого внимания на мою выходку, так как взгляд его был прикован к Талисману. Он вскричал: — Это святыня! Это дух власти, и мы, подданные Лулалы, пойдем за тобой на смерть, о белый господин, Бодрствующий в ночи! И за тебя, о Владыка топора, будем биться до последней капли крови! — Значит, решено, — сказал я, делано зевнув, зная, что белому человеку не следует выказывать свою заботу о дикарях. Лично я на самом деле не жаждал становиться командующим такого разношерстного воинства, о котором, кстати, ничего не знал, и поэтому надеялся, что они предоставят эту честь кому-либо еще. Я повернулся и рассказал Умслопогасу, что произошло, на что он только пожал своими широкими плечами, крутанул топором в воздухе, как всегда делал перед принятием серьезного решения. — Любители темноты… — пробормотал он, указывая на амахаггеров. Он имел в виду их привычки. Между тем Айша уже отдавала приказы. Потом она подошла ко мне и сказала: — Эти люди выступают сразу — все три тысячи человек, а к рассвету они встанут лагерем на северном гребне горы. На рассвете же носильщики придут за вами, и мы соединимся. Битва состоится перед восходом. Командуйте как знаете, но помните, что люди Лулалы могут сражаться только ночью. — Разве вы не с нами? — спросил я встревоженно. — Нет, я не пойду на войну против Резу. Но мой дух будет с вами, ибо я буду смотреть за всем, что происходит. На третий день, начиная с завтрашнего, мы встретимся снова в этом мире или за его пределами, и вы можете требовать вознаграждения — ту, которую Резу избрал в качестве замены для меня. Прощай и ты, Тот, кто носит топор, жаждущий крови Резу. Прощай, маленький желтый человечек, что по праву зовется Светочем во мраке. И прежде чем я смог сказать слово, она повернулась и скользнула прочь, окруженная своими охранниками, оставив меня стоять с разинутым ртом.Глава 16
ВИДЕНИЕ АЛЛАНА
Старый слуга Билали привел нас обратно в лагерь. Пока мы шли, он поведал мне о тех амахаггерах, из которых и он произошел, но от наиболее высшего предка, как он выразился, жившего с десяток поколений назад. Он сказал мне, что когда-то они были дикими и жили без всяких законов среди развалин или в пещерах, а некоторые из них удалились в болота и обитали там в виде небольших отдельных общин, причем каждой управлял староста, одновременно являвшийся и жрецом богини Лулалы. Первоначально люди Лулалы и народ Резу были одним и тем же племенем, поклонялись солнцу и луне одновременно, но «тысячи лет назад», как выразился Билали, они разошлись. Резуиты отправились на север к Великой горе, откуда они постоянно угрожали лулалитам, которых, если бы не было Той, чье слово закон, они уничтожили бы задолго до этого. Резуиты, похоже, были хроническими людоедами, в то время как ветвь лулалитов практиковала каннибализм лишь от случая к случаю, когда по везению они добывали чужеземцев. «Таких, как вы, о Бодрствующий в ночи, и ваши товарищи», — добавил он со значением. Если их преступления бывали обнаружены, Хейя, Та, чье слово закон, наказывала виновных смертной казнью. Я спросил, осуществляла ли она активное правление над своими подданными. Он ответил, что это ее не интересовало. Только когда Айша сердилась на отдельных лиц, она губила их своими заклинаниями, поскольку умела это делать. Большинство из подданных действительно никогда не видели ее и знали о ее существовании по слухам. Для них она была духом или богиней, которая жила в древних гробницах, лежащих к югу от старого города, куда она удалилась из-за угрозы со стороны Резу, которого она очень боялась, только Билали не знает почему. Он сказал мне еще, что Айша самая великая волшебница, которую он только знал, и что он уверен, что она никогда не умрет, так как его предки знали ее много поколений назад. И все же она находится под каким-то проклятием, как и сами амахаггеры, которые являются потомками тех, кто когда-то жил в городе Кор и вокруг него — до самого морского побережья и на сотнях квадратных километров внутренних земель. Они были могучим племенем, пока Великая чума не уничтожила многих из них. Напоследок он сказал, что она была очень несчастной женщиной, которая живет с печалью в душе, ни с кем не общаясь на земле. Я спросил его, почему она осталась здесь, в развалинах города, на что он покачал головой и ответил, что, как он думает, из-за проклятия, так как не может представить себе никакой другой причины. Он сообщил мне также, что ее настроение очень часто меняется. Иногда Айша бывает жесткой и энергичной, а в других случаях, как сейчас, — мягкой и подавленной. Возможно, из-за осложнений с Резу, потому что она не желает своему народу гибели, или, возможно, по другим причинам, с которыми он не знаком. Итак, Айша знала все, за исключением далекого будущего. Она знала, что мы придем, знала детали нашего похода и то, что мы должны быть атакованы резуитами, которые были отправлены навстречу своему отряду, посланному, чтобы найти Белую королеву. Поэтому она велела воинам идти к нам на помощь. Я спросил, почему она ходит, покрыв лицо вуалью, и он ответил, что из-за красоты, которая сводит даже диких людей с ума, так что в давние времена она была вынуждена убить некоторых из них. И это было все, что Билали знал о ней, кроме того, что она была добра к тем, кто служил ей так, как он сам, и защищала их от всех напастей. Затем я стал его расспрашивать о Резу. Он ответил, что это ужасный человек, бессмертный, как Та, чье слово закон, хотя он сам никогда его не видел, да никогда и не стремился к этому. Резуиты из племени каннибалов съели буквально всех, кого могли поймать, а в настоящее время пытаются покорить народ Лулалы, чтобы съесть их на досуге. Друг друга они не едят, потому что собака не ест собаку, и поэтому есть им стало нечего, хотя у них было много зерна и скота, благодаря которому у них есть молоко и шкуры. Что касается грядущей битвы, то он ничего не знает об этом, за исключением того, что Та, чье слово закон, сказала: все будет хорошо для лулалитов, идущих под ее руководством. Она была так уверена, что все кончится благополучно, что решила даже не сопровождать армию, потому что ненавидит шум и кровопролитие. Мне пришло в голову, что, возможно, она боится, что сама будет взята в плен и съедена, но я оставил эту мысль при себе. В этот момент мы прибыли в наш лагерь, где Билали попрощался со мной, говоря, что хотел бы отдохнуть, так как должен вернуться на рассвете с носильщиками, когда он и надеется застать нас готовыми к походу. Затем он удалился. Умслопогас и Ханс тоже ушли спать, оставив меня одного, но спать мне что-то не хотелось. Вечер был так хорош, что я решил немного пройтись в этот полуночный час, осмотреть бивуак амахаггеров, ощущая себя генералиссимусом. Нападения я не боялся, тем более что пистолет носил в кармане. Так что я медленно пошел вниз по некоему подобию главной улицы древнего города, который своим внешним видом напоминал раскопки Помпеев[398], только в бесконечно бо́льших масштабах. Гуляя, я размышлял о тех странных обстоятельствах, в которых оказался. Лулалиты в самом деле пытались уверить меня, что я страдаю от заблуждений. Может быть, я брежу и у меня лихорадка? Как разгадать тайну этой женщины, например, даже отвергнув ее рассказ о чудесным образом продленной жизни? Я не знал. Но подозревал, что сил у нее гораздо меньше, чем она о себе мнила. Это было очевидно и по тому, как она говорила с подданными, по тому, что она переложила командование своим племенем на мои плечи. Если бы она была настолько сильной, почему бы ей не принять команду на себя и не обрушить небесные, вернее, адские силы на врага? И снова я ничего не мог себе ответить, кроме одного — она была красива и необычайно умна! Но что за задачу она возложила на меня — вестилулалитов в бой с неизвестным мне врагом неустановленной силы, толпу дикарей, вероятно весьма недисциплинированных, о боевых качествах которых я ничего не знал и которых даже не мог обучить как следует. Предпринятая операция казалась безумием, и я мог только надеяться, что удача или судьба помогут мне хоть немного. Честно говоря, я верил в это, потому что сам вырос среди таких же предрассудков, в которые верили Зикали и Ханс. Конечно, их воздействие на черных копьеносцев было очень странным. В первую же ночь нашей встречи я показал Великий талисман Айше как своего рода полномочное письмо и теперь мог видеть, как она устроила эту сцену со своими бойцами, а также их племенным колдуном, чтобы занять свое место во всей этой истории. Не склонный питать иллюзий относительно характера арабских женщин, я все же расстался с ней с сожалением, как делают всегда мужчины, когда думают, что обнаружили нечто удивительное в женской сути. Но ломать голову над этим дальше было бесполезно. Погруженный в эти мысли, я брел среди руин, забыв о змеях, пораженный картиной, которая разворачивалась впереди в лунном свете. Передо мной возникла массивная стена, по толщине которой я определил, что некогда здесь были крепость или храм. Она высилась на семьдесят или восемьдесят футов над улицей. Я сел и огляделся. Повсюду вокруг покоились развалины большого города, в настоящее время такие же пустынные, как руины древнего Вавилона[399]. В этом величественном молчаливом городе было что-то жуткое. Даже отряды, пересекавшие равнину к северу с блестевшими в лунном свете наконечниками копий, мало влияли на мое ощущение одиночества. Я знал, что эти бойцы, которыми мне суждено командовать, двигаются в лагерь, где я должен был принять их. Но они шагали так тихо, что ни один звук не доносился даже в тревожной тишине этой ночи, так что я даже поверил в то, что они стали призраками старого воинства Кора. Потом они исчезли, а я, должно быть, задремал. Во всяком случае, когда я очнулся, мне показалось, что внезапно город засиял, как в дни своей былой славы. Я видел горящие огни, цветущие деревья, яркие платья мужчин и женщин, которые тысячами выстроились вдоль улиц и площадей. Даже колесницы, расцвеченные флажками, носились туда-сюда, от дворцовых стен к храмам и обратно. Огромная площадь буквально кишела жизнью. Невесты готовились вступить в брак, тут же хоронили усопших, маршировали войска в блестящих доспехах, купцы предлагали товар, проходили одетые в белое процессии жрецов и жриц, дети выбегали из школы, серьезные философы обсуждали в тени деревьев свои проблемы, важные вельможи, сопровождаемые рабами, шествовали по улицам, — словом, множество граждан жили повседневной жизнью. Были видны даже детали: как служитель закона вел арестованного нарушителя общественного порядка за веревку, привязанную к его руке, и преступник, развязав веревку, убежал. Или столкновение двух колесниц на узкой улице, около обломков которых собралась толпа, как это бывает у нас, когда два экипажа сталкиваются, полиция наводит порядок, владельцы выясняют отношения, а зеваки хлопают глазами. Но ни одного звука до меня не доносилось. Я видел, и только. Казалось, колесницы приехали сюда из дальних времен — тысяч и тысяч лет назад. Внезапно перед глазами у меня возникло облако — воздушное и прозрачное, как вуаль на лице Айши. В тот момент я не видел ее, но готов был поклясться, что она где-то рядом и, более того, смеется надо мной, вызвав этот сон, а это, несомненно, был сон. Во всяком случае, я вернулся к моему нормальному состоянию, снова передо мной были лишь мили пустынных улиц и тысячи ярдов сломанной стены, черные пятна вместо крыш домов и широкая равнина, ограниченная с трех сторон зубчатыми линиями горных хребтов, и, прежде всего, большая луна, которая тихо светила на темном небе. Еще раз взглянув на немую красоту вокруг, я направился домой, опасаясь собственной тени. Я казался себе единственной живой душой среди мертвых жителей древнего Кора. В лагере меня встретил бодрствующий Ханс. — А я как раз собирался вас искать, баас, — сказал он. — На самом деле я должен был сделать это раньше, как только узнал, что вы ушли с визитом к этой высокой белой миссис, которая прячет голову под накидкой, но подумал, что вы не захотите, чтобы вас беспокоили. — Тогда ты думал не о том, — ответил я. — И более того, если б ты пошел в город ночью, наверняка не вернулся б живым. — Ах да, баас, — хихикнул Ханс. — У высокой белой дамы плохой характер. Это вы ей понравились, потому что небесные люди любят застенчивых. Не удостоив ответом насмешку Ханса, я лег спать, подумав мимоходом, какую кровать и где занял бедный Робертсон в эту ночь, и вскоре заснул, так как это было лучшее, что я мог сделать на данный момент. Мужчины, которые спокойно засыпают, хорошо работают и успешны в делах. На рассвете меня разбудил Ханс, который сообщил мне, что Билали ждет снаружи с носильщиками и Гороко уже произвел свои заклинания и заколдовал Умслопогаса и его двух воинов перед боем по обычаям зулусов. Он добавил, что эти зулусы отказались остаться, чтобы охранять и кормить раненых товарищей, и сказали, что вместо этого они примут бой с врагами. История эта дошла (правда, каким образом, Ханс не мог догадаться) до ушей Белой леди, «которая спрятала лицо от мужчин, потому что оно было уродливым», и она послала женщин для участия в лечении, со словами, что они должны о них хорошо заботиться. Это походило на правду, но мне не хотелось вдаваться в подробности. В конце концов мы тронулись в путь: я в своем паланкине со следующим за мной Билали, со штуцером, винтовкой и большим количеством боеприпасов для обоих, и Ханс, также хорошо вооруженный, далее следовал Умслопогас, который предпочитал быть ближе к колдуну и своим зулусам. Некоторое время Ханс использовал возможность понежиться, ощущая на себе заботу других, и возлежал на подушках с меланхолической улыбкой, отпуская саркастические замечания по поводу носильщиков, которые, к счастью, не понимали его. Вскоре, однако, он устал от этих забав, и так как по-прежнему идти самому ему было не надо, то он взобрался на крышу паланкина и сидел на ней, взирая на окружающий мир, как ручная обезьянка. Наш путь пролегал через плодородные равнины, лишь небольшая часть которых возделывалась в настоящее время, но в иное время, когда населения было больше, каждый дюйм был засеян. Теперь здесь большей частью росли деревья, в основном плодоносящие, между которыми извивались потоки воды — когда-то, я думаю, они были оросительными каналами. Около десяти часов утра мы достигли подножия ближних скал и начали восхождение по склону, который был крутым и довольно сложным для подъема. К полудню мы достигли гребня и здесь обнаружили всю нашу маленькую армию, расположившуюся станом. Кроме часовых, все спали, что было неизменным обычаем этих людей в дневное время. Я приказал разбудить командиров отрядов и с ними сделал обход лагеря, считая число воинов, которых набралось более трех тысяч, и разузнал, каковы их приемы боя. Затем в сопровождении Умслопогаса, Ханса и зулусов в качестве охранников, а также трех командиров из числа амахаггеров я вышел вперед, чтобы изучить рельеф местности. Подходя к дальнему краю откоса, мы увидели, что в этом месте проходят два широких хребта, между которыми раскинулась равнина в виде пологого склона. На ней и располагался стан амахаггеров. Старший командир сообщил мне, что это те резуиты, которые, по его словам, предназначены для атаки на рассвете следующего утра, так как эти люди Резу, будучи солнцепоклонниками, никогда не станут сражаться, пока их бог не окажется выше линии горизонта. Изучив все, что можно было увидеть, я попросил командира изложить свой план боя, если таковой вообще у него имелся. Командир ответил, что он думает спуститься вниз по правому гребню до узкого плоского участка земли и ждать атаки там, где враги не смогут напасть большим числом. — А если Резу выберет другой хребет и обойдет нас? Что будет тогда? — спросил я. Он ответил, что он думает об этом. Его представления о стратегии битвы были примитивны. — Ваши люди лучше сражаются ночью или днем? — решил я пойти дальше в своих расспросах. Он сказал, что вступать в бой, несомненно, лучше всего ночью. В самом деле, за всю историю их страны не было никаких записей о военных действиях в дневное время. — И все же вы полагаете, что Резу вступит в бой с вами, когда солнце будет высоко, или, другими словами, вы признаете свое поражение? — заметил я. Потом я отошел в сторону и обсудил кое-какие вопросы с Умслопогасом и Хансом, после чего вернулся и отдал приказы, учтя все обстоятельства. В сумерках до восхода луны наши амахаггеры должны спуститься по правому гребню в полной тишине и спрятаться среди кустарников, которые здесь густо росли. А небольшие группы под руководством Гороко, которого я знал как храброго и умного командира, пройдут полпути вниз по левому гребню и там зажгут костры на большой площади, так чтобы враг думал, что все наши силы встали там лагерем. Тогда в нужный момент, который я еще не определил, можно будет атаковать армию Резу. Командиры амахаггеров, казалось, не были рады этому плану, который, я думаю, был слишком смел для них, и начали роптать. Видя, что я должен утвердить свой авторитет раз и навсегда, я вышел перед ними и обратился с речью, в основном к их главному командиру: — Слушай меня, друг мой. По вашему собственному желанию, а не по моему я был назначен вашим главнокомандующим, и я ожидаю полного подчинения. Начиная с того момента, как мы нападем, вы будете держаться близко ко мне и к черному человеку, и, если хоть один из ваших воинов заколеблется или повернет назад, вы все умрете. — И я кивнул в сторону топора Умслопогаса. — Кроме того, Та, чье слово закон, проследит, чтобы умерли даже те, которые выживут в бою. Тем не менее они колебались. Поэтому, не говоря ни слова, я вынул Великий талисман Зикали и держал его перед глазами. В результате только один вид этой статуэтки сделал то, что даже угроза смерти не могла с ними сделать. Они распростерлись на земле и поклялись Лулале и Той, чье слово закон, ее жрице, что они будут делать все, что я сказал, как бы тяжело им ни пришлось. — Хорошо, — ответил я. — Теперь приготовьтесь и отдохните пока, а завтра мы будем знать, кто чего стоит. С этого момента у меня не было больше проблем с этими амахаггерами. Я быстро перейду к рассказу о бое, поскольку предварительные детали не имеют значения. В свое время Гороко отправился с двумястами пятьюдесятью воинами и одним из двух зулусов зажечь костры по единому сигналу, а именно по двум моим выстрелам, а далее без интервала начать стрельбу и вообще наделать как можно больше шума. Мы же ушли с остальными тремя тысячами и, прежде чем взошла луна, уже спускались тихо, как призраки, вниз по правому гребню. Амахаггеры привыкли двигаться бесшумно в ночное время и могли видеть в темноте почти так же хорошо, как кошки, поэтому они выполнили этот маневр блестяще, оборачивая копья, а точнее, лезвия полосками сухой травы, чтобы свет не отражался на них и не выдавал движений. Таким образом достаточно быстро мы добрались до кустарников, где хребет расширялся на пять сотен ярдов, и залегли четырьмя ротами, вернее, полками, каждый около семисот пятидесяти воинов. Взошла луна, но из-за тумана, который затянул поверхность равнины, мы ничего не могли разглядеть в лагере Резу, который, как мы знали, был в пределах тысячи ярдов от нас, пока пелена наконец не рассеялась и в лагере врагов не началось движение. Это обстоятельство дало мне повод для беспокойства, так как я боялся, что, отказавшись от своих известных привычек, резуиты также рассматривают ночной вариант атаки Умслопогаса. А беспокоил этот фактор в основном из-за Гороко и его людей, чьи огни начали мерцать на противоположной стороне хребта в миле от нас: они не могли уйти оттуда без нашего ведома. Тем не менее, насколько я знал, могли быть и другие способы преодоления этой горы. Я не доверял амахаггерам, которые заявляли, что их не существует, так как их знания не простирались дальше привычных мест обитания и они никогда не бывали на этих северных склонах, опасаясь Резу. Я боялся, что противник преодолеет хребет и внезапно нападет на нас с тыла. От этой мысли у меня холодок пробегал по спине. Пока я размышлял, как мне выйти из этого положения, Ханс, который присел за кустом, вдруг встал и ткнул винтовкой в сторону резуитов. — Баас, — сказал он, — я собираюсь пойти посмотреть и узнать, что эти люди делают, если они все еще там, и тогда ты будешь знать, как и когда напасть на них. Не бойся за меня, баас, это будет легко сделать в тумане, к тому же, ты знаешь, я могу двигаться подобно змее. Кроме того, вернусь я или нет, не имеет значения, и этот факт сам подскажет тебе, что они там. Я колебался, поскольку не хотел подвергать отважного маленького готтентота такому риску. Умслопогас, разобравшись, в чем дело, сказал: — Пусть человек идет. Это его дар и долг, чтобы шпионить, а как раз мой долг — разить топором, а твой — командовать и поливать свинцом, Макумазан. Пусть идет. Я кивнул. Поцеловав мою руку в знак своей признательности за все, Ханс исчез, сказав, что надеется вернуться через час. За исключением большого ножа, он отправился без оружия, опасаясь, что, если он возьмет револьвер, у него может появиться соблазн использовать его, а это наделает много шума.Глава 17
ПОЛУНОЧНАЯ БИТВА
Время тянулось очень медленно. Снова и снова я смотрел на часы в свете луны, которая стояла высоко в небесах, и думал, что ожиданию никогда не придет конец. Я слушал, но все было тихо, и легкий туман — единственное, что я мог видеть, кроме костров, которые горели у Гороко и его отряда. Прошло полчаса, а Ханс все еще не появился. — Я думаю, что желтый человечек мертв или взят в плен, — сказал Умслопогас. Я ответил, что тоже боюсь этого, но у него еще есть время, а затем, если он не появится, я пойду за ним, надеясь найти врага там, где мы видели его в последний раз с вершины горы. Я заметил, что амахаггеры, которые сидели на некотором расстоянии от нас, занервничали, тогда я взял с собой ружье и повернулся лицом к холму с кострами, как и было договорено с Хансом. Для этой цели я отошел на несколько ярдов влево, чтобы встать за дерево, и уже поднес ружье к плечу, когда желтая рука отвела ствол и тихий голос сказал: — Не стреляй, баас, я еще не рассказал тебе, что видел. Я посмотрел вниз и узнал уродливое лицо Ханса с гримасой, которая могла бы напугать человека в свете луны. — Хорошо, — сказал я с деланым равнодушием, скрыв радость от его благополучного возвращения. — Но говори быстро. Я думал, что ты потерял след и никак не найдешь его. — Да, баас, я потерял дорогу, потому что туман был слишком густой. Но в конце концов я нашел след, потому что мой нос чует этих людоедов, которые пахнут очень сильно. Я уловил запах одного из их караульных. Догнать его в тумане было довольно легко. И я был вынужден перерезать ему горло, так как боялся, что он будет шуметь. Итак, я пробрался в середину их круга, что тоже было очень легко, потому что они спали, завернувшись в одеяла. Они не зажигали огня — то ли не хотели быть обнаруженными, то ли в долине было слишком жарко. Мне нужно было запомнить все, что видел, поэтому я в конце концов поднялся на невысокий холм, вершина которого возвышалась над туманом, так что я мог рассмотреть несколько сучьев с зеленевшими на них листьями. Я подумал, что смогу взобраться на дерево и понаблюдать, так как мне пришло в голову, что Резу может находиться среди этих людей и тогда я смогу убить его. Но пока я стоял, размышляя, вдруг послышался шум, какой могла бы произвести пчела в бутылке. Это жужжание кое о чем напомнило мне. Я вспомнил: когда Рыжебородый, стоя на коленях, молился Небесам, а он делал это всегда, когда ему нечего было делать, господин, то он издавал точно такой же шум, как тот, что я услышал. Я пополз навстречу звуку и нашел капитана, привязанного к камню. Он выглядел как сумасшедший бык, который завяз в болоте. Он качал головой и вращал глазами, как будто выпил две бутылки плохого джина. Все это время он продолжал молиться. Я подумал, что смогу освободить его, и даже попытался сделать это, но тут, к несчастью, он заметил меня и начал кричать: «Уходи отсюда, желтый дьявол! Я знаю, что ты пришел, чтобы забрать меня в ад, но ты слишком поторопился. Если бы мои руки были свободны, я свернул бы тебе шею!» Баас, он говорил по-английски, а я немного знаю этот язык. Я понял, что мне лучше оставить его одного. В это время из дома вышли двое стариков, одетых в ночные рубашки, какие носят европейцы, на их голове были какие-то желтые штуки с металлическим изображением солнца впереди. — Колдуны? — предположил я. — Да, господин, или предсказатели иного сорта, потому что они выглядели как ваш уважаемый отец, когда он одевался и вставал на кафедру для проповеди. Увидев их, я отполз немного назад, туда, где был туман, лег и начал слушать. Они посмотрели на Рыжебородого, поскольку его крик привлек их внимание, но он и не глянул в их сторону, продолжал шуметь, как пчела в жестяной банке. «Ничего страшного, — сказал один из стариков на том языке, на котором говорят амахаггеры. — Но когда же он угомонится? Я надеюсь, что скоро, потому что не могу спать из-за такого шума». «Не раньше, чем начнет всходить солнце, — сказал другой. — Потом выйдет новая королева, а этот белый человек будет принесен в жертву». «Какая жалость, что приходится ждать так долго», — снова сказал первый. «Сначала победа, потом придет страх, — ответил второй человек. — Хотя он не настолько хорош для еды, как та толстая женщина, которая была вместе с новой королевой». Затем, баас, они причмокнули губами, и один из них вернулся в дом. Но второй не торопился возвращаться. Он сел на землю и уставился на капитана. Он даже ударил его по лицу, чтобы тот замолчал. Я подскочил к предсказателю, пока он сидел, разглядывая Рыжебородого, и вонзил свой нож ему в спину, думая, что сразу же убил его. Но нет, он повернул лицо и начал кричать, как раненая гиена, пока я не прикончил его окончательно. Затем я услышал крики и, чтобы спасти свою жизнь, был вынужден бежать в туман, не освободив капитана и не увидев леди Печальные Глаза. Я бежал очень быстро, господин, сделав большой крюк налево, и наконец вернулся сюда. Вот и все, господин. — И все случилось достаточно тихо, — ответил я. — Впрочем, даже если они тебя не видели, смерть шамана может напугать их. Бедная Дженни! Что ж, я надеюсь попасть туда вовремя, чтобы спасти белых людей. Затем я позвал Умслопогаса и вождей амахаггеров и вкратце рассказал им о происшедшем, а также то, что Ханс обнаружил вражескую армию или ее часть. В конце концов мы решили атаковать немедленно. В самом деле я настоял на этом, потому что решил срочно освободить капитана Робертсона, этого несчастного, который, по словам Ханса, очевидно, сходил с ума. Я выстрелил два раза, как было условлено, и услышал звук отдаленных выстрелов на противоположной стороне. Несколько минут спустя мы пошли вперед: Умслопогас и я — в авангарде, вожди амахаггеров вместе со всеми воинами — за нами. Теперь читатель может подумать, что все идет правильно. Что этот хитроумный старина Аллан Квотермейн сейчас удивит и уничтожит воинов Резу, обманутых трюком, который он задумал с Гороко. Что после всего этого он освободит капитана Робертсона, который, без сомнения, придет в себя, а затем также освободит и Инес. И все то, что случилось, будет лишь приключением, а не изложением фактов. Однако вам, мой друг, предстоит увидеть, что все пошло не так, как изначально предполагалось. Начнем с того, что амахаггеры рассказали мне, что воины Резу никогда не сражаются в темноте или до того, как взойдет солнце. Наоборот, они могут поступить так, если только будут введены в заблуждение. И когда мы будем думать, что подкрадываемся к ним, они в это время будут подкрадываться к нам. Маневр Гороко в конечном счете не обманул их, поскольку от своих шпионов они знали истинное положение дел. К сожалению, эти шпионы были в наших собственных рядах, короче говоря, среди нас были предатели, которые состояли на службе у Резу и принадлежали к его необычной вере. Некоторые из них время от времени ускользали из лагеря, чтобы сообщить врагу о наших планах и продвижении, насколько они были осведомлены о нем. Более того, те, на кого наткнулся Ханс, были всего лишь охраной, расставленной вокруг места жертвоприношения и жилища, где находилась Инес. Настоящей армии он не видел. Она была разделена на две части и спрятана с правой и левой стороны хребта. Мы заметили их только тогда, когда они соединились в одну, а до этого просто шли как раз посредине между двумя армиями. Теперь предполагаемый читатель может воскликнуть: «Почему этот самовлюбленный Аллан не подумал обо всем этом раньше? Почему не вспомнил, что командует ордой дикарей, которых он не знал в действительности, если среди них были предатели, особенно той же веры, что и Резу? Почему он не принял мер предосторожности?» О мой дорогой читатель, я могу лишь сказать, что мне бы хотелось, чтобы вы оказались на моем месте. Я посмотрел, что бы вы предприняли в подобных обстоятельствах. Вы предполагаете, что я не подумал о таких вещах? Конечно думал. Но слышали ли вы когда-нибудь о том, что возможно превратить злобных варваров в тех, кому можно доверять, в достойных воинов, готовых сражаться с войском, в три раза превышающим их отряд, и победить врагов? Кроме того, мне пришлось пережить много такого, чего вы, мистер Благоразумие, не смогли бы сделать, хотя бы и с помощью других. Очень просто сидеть в мягком кресле и критиковать других. Согласитесь, это значительно легче, чем действовать самому. Вы можете сделать вывод, что я стыжусь того, что произошло потом. Поскольку мы спустились с холма лунной ночью и наша команда выглядела достаточно странно, я чувствовал себя очень неловко. Начнем с того, что мне очень не понравилось замечание того шамана, которого запомнил Ханс, о том, что страх приходит после победы, особенно поскольку он сказал это как раз перед тем, как Робертсон должен был быть принесен в жертву с восходом солнца. Я предположил, что «победа» планировалась до этого события. Пока я размышлял над этим и оглядывался вокруг в поисках Ханса, чтобы проверить на нем данные слова, я обнаружил, что он снова исчез в неизвестном направлении. Несколько минут спустя он появился, медленно подходя к нам. Я заметил его из укрытия позади деревьев и скал. — Баас, — прерывисто выдохнул он, поскольку запыхался, — будьте осторожны, люди Резу впереди нас, на другой стороне. Я побежал вперед и наткнулся на них. Они кинули в меня копья. Посмотрите! — И он показал мне порез на руке, из которого текла кровь. Внезапно я понял, что мы в засаде, надо срочно решать, что делать дальше. Когда это случилось, мы как раз пробегали через открытое пространство в семь или восемь акров в ширину. Заросли там были гуще, почва тверже, а деревья выше. У края этой равнины я и остановил свой отряд и отправил назад гонцов к оставшимся воинам, чтобы они тоже остановились, потому что хотел дать им отдохнуть, прежде чем мы двинемся снова и вступим в битву. Затем я поведал Умслопогасу то, что рассказал мне Ханс, и попросил его отправить на разведку зулусского солдата, которому он доверяет, чтобы тот смог проверить сообщенные сведения. Он сделал это очень быстро. Еще я спросил его, что следует предпринять, если это действительно правда. — Взять амахаггеров в кольцо или квадрат и атаковать, — ответил тот. Я кивнул в знак согласия, но ответил: — Если бы это были зулусы, план был бы хорош. Но как мы узнаем, что эти люди остановились? — Мы не знаем ничего, Макумазан, и можем только попытаться. Если они побегут, мы будем на холме. Затем я созвал вождей и сказал им, что ждет нас впереди. Это, кажется, очень их встревожило. Двое или трое из них хотели отступить прямо сейчас, но я сказал, что пристрелю первого, кто сделает это. В конечном счете они приняли мои планы и сказали, что выставят лучших воинов наверх, на вершину холма, в то время как остальные будут предотвращать любую попытку взобраться на гору. После этого мы выстроили самый лучший квадрат, который только могли сделать, создав в нем четыре линии. Когда мы делали это, мы уже слышали выстрелы внизу, потом вернулись зулусы и доложили, что все обстоит именно так, как докладывал Ханс, и что армия Резу двигается вокруг нас. Пока атака не началась, поскольку армия резуитов рассредоточивалась по разным сторонам дороги, одновременно окружая нас, чтобы подготовить поле для битвы. Для нас это была удача, поскольку они не пытались взломать линию наших амахаггеров, чье расположение было теперь блокировано. Когда мы сделали все, что могли, мы стали ждать. Та ночь, я помню очень хорошо, была странно тихой, лишь с обеих сторон нашего плато раздавался какой-то хруст, который в действительности был вызван шагами людей Резу. Они шли, чтобы окружить нас. В конце концов все стихло, и тишина стала полной, так что я мог слышать клацанье зубов некоторых из амахаггеров — настолько им было страшно. Этот звук придал мне некоторую уверенность и заставил Умслопогаса заметить, что сердца этих огромных людей никогда не вырастут, они останутся «младенческими». Я сказал вождям, чтобы они предупредили своих воинов о том, что те, кто останется, смогут выжить, а те, кто уйдет, определенно умрут. Поэтому, если они хотят снова увидеть свои дома, им лучше остаться и сражаться как настоящие мужчины. Многие из них могут быть убиты, а остальные — съедены людоедами Резу. Я заметил, что мое сообщение произвело укрепляющий эффект на наших воинов. Внезапно вокруг нас — сверху, снизу, с каждой стороны — раздался ужасный рев, который, казалось, многократно повторял слово «Резу», и через несколько минут со всех сторон на нас двинулось десять тысяч человек. В лунном свете они выглядели очень страшно в своих развевающихся белых одеждах и с огромными сверкающими копьями. Ханс и я выстрелили несколько раз, хотя, судя по произведенному эффекту, мы могли точно так же кидать камнями в морской прибой. Затем я подумал, что живым принесу больше пользы, чем мертвым, и отступил. Умслопогас, его зулусы и Ханс отошли вместе со мной. Наши амахаггеры выдержали атаку лучше, чем я предполагал. Враги преодолели первые заросли с потерями, а вторую зону укрепления — после долгой борьбы. Затем случилась пауза, во время которой мы перестроили наши ряды, перетаскивая раненых внутрь квадрата. Мы едва успели это сделать, как раздался другой страшный крик: «Резу!» — и наши враги снова начали атаковать нас. Это случилось через час после начала битвы. Но теперь они сменили тактику: вместо того чтобы окружать нас по всему фронту, они сосредоточили свои попытки на западном участке, который теперь выходил к долине. Когда резуиты пошли на нас, то впереди всех я заметил огромного мужчину, гиганта ростом семь футов и необъятного в ширину. Я не мог разглядеть его как следует, потому что луна светила не очень ярко, но я видел его злобный оскал и огромную бороду, которая свисала почти до колен, а волосы развевались по плечам. — Смотри, сам Резу! — закричал я Умслопогасу. — Да, Макумазан, это, без сомнения, Резу, и я рад видеть его, потому что это будет настоящая битва. Смотри! Он держит топор так же, как и я. Теперь я должен беречь свою силу, потому что мне придется сражаться с ним лицом к лицу. Я подумал, что могу разделить усилия Умслопогаса и использовать свои возможности, пустив пулю в гиганта. Но я никогда не сделал бы этого. Когда я попытался прицелиться в него, то резуит бросился на мое ружье и я не мог выстрелить. А когда выдался второй шанс, облако закрыло лицо врага. В то время, пока я предпринимал еще несколько попыток, западный край наших укреплений пал, и, крича как дьяволы, враги начали теснить наши ряды. По моему телу пробежал холодок, потому что я понял, что могу проиграть битву. Собрать снова недисциплинированных амахаггеров было невозможно, ничего, кроме паники, стремительного бегства и моря крови, я не ожидал. Я проклинал себя за глупость, за то, что ввязался в это дело, как вдруг услышал совет Ханса, что единственный шанс для нас троих и зулусов уцелеть — это удрать и спрятаться в зарослях. Я ничего не ответил ему, потому что это было бы предательством. Как могли мы пройти через эти сражающиеся массы людей, которые окружили нас со всех сторон? Мне оставалось только молиться и рассылать проклятия. Молитвы предназначались для моей души и прощения моих грехов, а проклятия — амахаггерам и всему, что с ними связано, в особенности Зикали и Айше, ведь именно они втянули меня в это дело. — Может быть, использовать Великий талисман Зикали? — снова воскликнул Ханс, выстрелив из ружья по наступающему врагу. — К черту Великий талисман! — крикнул я ему в ответ. — И Айшу вместе с ним! Не удивлюсь, если она и тут приложила свою руку. Как только я произнес эти слова, то сразу увидел старого Билали, который не был военным человеком, но приблизился к нам очень близко. Он казался таким бледным и тонким, что копье могло пройти сквозь него. Бросив на него быстрый взгляд, я попытался понять, не ранен ли он, но тут краем глаза увидел нечто странное, что мелькнуло в лунном свете. Я быстро оглянулся, чтобы понять, что это может быть, и увидел на своей стороне саму Айшу, укрытую вуалью. В руке она держала маленькую веточку черного дерева, украшенную слоновой костью, похожую на маршальский жезл или скипетр. Я не видел, как она подходила, и не мог понять, как она здесь появилась. Но тем не менее она оказалась здесь, и ее одежда была покрыта яркой краской или чем-то вроде этого, поэтому светилась каким-то слабым фосфоресцирующим светом, что в лунном свете делало ее заметной на поле битвы. Она не произнесла ни слова, лишь взмахнула веточкой в направлении толпы, бросившейся на нас: враги стали падать навзничь или убегать в обратном направлении. Теперь с обеих сторон неслись крики: «Та, чье слово закон!», «Та, чье слово закон!», а люди Резу кричали: «Лулала! Лулала! Лулала среди нас с колдовством луны!» Айша двинулась вперед, и, повинуясь какому-то странному импульсу, поскольку приказа не было, мы все двинулись за ней. Наши бойцы, которые минуту назад уже были готовы бежать в страшной панике, вдруг обрели невероятное мужество и пошли вперед. Резуиты и, я думаю, сам Резу тоже, поскольку я больше не видел его, начали пятиться к краю плато в направлении долины. И вот наконец они бросились бежать, перепрыгивая через мертвых и умирающих. Мы побежали за ними, видя впереди себя развевающиеся одежды Айши, которая двигалась так быстро, что все время была впереди на несколько шагов. Появилось еще одно любопытное обстоятельство в этом деле. Испуганные воины Резу вскоре оказались не способны замедлить шаг. Они останавливались, чтобы посмотреть назад, как будто они были женами Лота[400]. Многих из них постигла та же судьба, потому что они останавливались и замирали, оставаясь в таком положении, как кролики, зачарованные удавом, пока наши люди не подходили и не убивали их. Эта бойня продолжалась практически до самого дальнего склона горы, на котором, я предполагаю, оказалось большинство резуитов. Наши амахаггеры показали себя смелыми воинами. Как только они поняли, что враги не могут более противостоять им, мужество снова вернулось к ним.Глава 18
УБИЙСТВО РЕЗУ
В конце концов мы оказались на равнине, разгромленные остатки армии Резу все еще бежали перед нами, как стадо антилоп, преследуемое дикими собаками. Здесь мы остановились, чтобы перестроить свои ряды. Мне показалось, хотя Айша и не произнесла ни слова, что до меня каким-то образом донесся ее приказ сделать это. Рекогносцировка заняла около двадцати минут, и потом наш отряд, насчитывавший после битвы около двух с половиной тысяч человек, поскольку остальные полегли в боях, продолжил путь. Наконец-то миновали сумерки, которые скрывали восходящее солнце, и я увидел, что битва еще не окончена, поскольку впереди нас собралась сила, примерно равная нашей. Айша махнула рукой в том направлении, и мы двинулись вперед, чтобы атаковать противника. Там стояли резуиты, поджидая нас, потому что наступал день и, кажется, они преодолели свой страх. Битва была жестокая, стороны сражались в сумеречном неярком свете, который едва позволял нам отличить друга от врага. В самом деле я не был убежден в нашей победе, поскольку Айши больше не было видно, чтобы внушить нашим бойцам уверенность. Мужество воинов Резу возрастало, у лулалитов оно, наоборот, падало с окончанием ночи. К счастью, однако, в тот момент, когда победа была уже под сомнением, я услышал крик слева. Обернувшись, я увидел Гороко, колдуна, с другими зулусами, которых было около двухсот пятидесяти человек. Они подошли к флангу, где стояли воины Резу, что и решило исход битвы. Враг растерялся, стал отступать, и как раз в этот момент появились первые лучи восходящего солнца. Я посмотрел вокруг в поисках Айши, но ее нигде не было видно, поэтому в первый миг я даже испугался, что она может быть убита в этой заварухе. Затем я посмотрел на небо и подумал, что именно сейчас настало время действовать. Крикнув амахаггерам, что надо идти в атаку, сопровождаемый Умслопогасом и Гороко, который присоединился к нам, а также Хансом, я двинулся вперед, подавая им пример, который, к их чести, они повторили. — На этом холме должен быть Рыжебородый! — закричал Ханс, когда мы подошли к подножию. Я поднялся наверх и сквозь туман, который скрывал утреннюю зарю, увидел группу людей. — Капитан на холме! Они убивают его! — закричал Ханс. Это было именно так. Несколько жрецов, одетых в белое, с ножами в руках, окружили фигуру, распростертую на земле. Около них стоял огромный мужчина, который, видимо, и был Резу. Он смотрел на восток, ожидая восхода солнца, перед тем как отдать какой-то приказ. В этот самый момент, как только над горизонтом показался маленький лучик, он повернулся и отдал приказ о наступлении. Слишком поздно! Мы были уже рядом. Умслопогас расправился с одним из жрецов своим топором, а мы с остальными, в то время как Ханс парой ударов своего длинного ножа разрезал веревки, которыми был связан Робертсон. Бедный капитан! Я видел в первых лучах солнца, что он лишился рассудка. Робертсон поднялся с земли, выкрикнув на шотландском наречии что-то про «дьявола». Размахивая огромным копьем, которое выпало из рук какого-то жреца, он внезапно бросился на великана, отдавшего приказ, и вонзил копье ему в грудь. Я увидел, как копье отскочило, — вероятно, на мужчине было надето что-то вроде доспехов. В следующий момент топор, который он держал, поднялся вверх и опустился с ужасным треском на Робертсона. Мы увидели, что капитан был практически разрублен на две части. Смерть моего бедного приятеля потрясла меня. В моих руках было двуствольное ружье, заряженное заточенными пулями. Я прицелился в гиганта и выстрелил сначала одной пулей, потом второй, почувствовав, что они обе достигли цели. Однако он не упал. Резу немного постоял, затем повернулся и зашагал к хижине, которая, по рассказам Ханса, находилась в пятидесяти ярдах отсюда. — Оставь его мне! — крикнул Умслопогас. — Стальные пули не могут победить его! — И, нагнувшись, как бык, огромный зулус с криком помчался за ним. Я думаю, что Резу собирался войти в хижину, но Умслопогас, бегущий по его следам, двигался быстрее и вскоре достиг другой стороны небольшого холма, где остатки нашей армии пытались перестроиться. Гигант остановился перед ними и встал, загнанный в угол. Умслопогас также остановился, ожидая нашего прихода. Мы прибыли спустя тридцать секунд и обнаружили его изготовившимся к бою, маленький щит был при нем, а огромный топор поднят для удара. В лучах восходящего солнца сверкало лезвие этого страшного оружия. В десяти шагах от него стоял великан с топором, который был очень похож на те, которыми лесорубы валят деревья. Было видно, что это злой человек, и в первый момент я сравнил его с Голиафом, которого победил Давид. Он был огромный и волосатый, с глубоко посаженными злыми глазками и крупным крючковатым носом. Его лицо было старым, ноги и руки были как у Геркулеса, а движения полны мощи. Мотнув головой, он взмахнул своими длинными волосами. Он был больше похож на дьявола, чем на человека. Его вид в самом деле напугал меня. — Позволь же мне застрелить его! — закричал я Умслопогасу, потому что во время бега успел перезарядить ружье. — Нет, Бодрствующий в ночи, — ответил зулус, не повернув головы. — У твоего ружья был шанс, оно его не использовало. Теперь давай посмотрим, что может топор. Если я не убью этого человека, то мне незачем было рождаться на свет и предпринимать это путешествие. Гигант что-то зарокотал низким голосом, который словно отражался от подножия маленького холма позади нас. — Кто вы? — спросил он на том же языке, на котором разговаривали амахаггеры. — Кто вы, осмелившиеся встать лицом к лицу с Резу? Черная собака, разве ты не знаешь, что я не могу быть убит, потому что год моей жизни равен неделе вашей жизни и моя нога наступала на горло тысяч людей? Разве ты не видел, что копья и железные пули отлетают от моей груди, как дождевые капли? А ты собираешься поразить меня тем, что принес с собой? Моя армия повержена — я знаю это, потому что жертвоприношение не завершено, а Белая королева не вышла замуж. Моя армия была побеждена магией Лулалы, Белой ведьмы, которая находится поблизости. Но я не покорен и не могу погибнуть, пока не покажу свою спину, и тогда смогу быть убит единственным топором, который много лет назад был погребен в прахе. Умслопогас не понял ничего из этой речи, поэтому я коротко ее пересказал, весьма кстати, потому что история Айши о топоре вспыхнула в моей памяти. — Единственный топор! — вскричал я. — О! Единственный топор! Посмотри на тот, что держит в руках черный воин, древний топор, о котором говорила правительница, ведь если бы она захотела, она могла забрать жизнь у любого. Посмотри хорошенько, Резу, гигант и колдун, и скажи, не его ли потерял твой отец, не он ли приведет тебя к твоей судьбе? Я говорил это громко, чтобы каждый мог слышать, но и медленно, делая паузы между словами, потому что таким образом надеялся усилить их смысл. Я видел, что лучи солнца медленно пробегают по лицу гиганта, а глаза Умслопогаса сверкают в их свете. Резу слушал и глядел на топор, который держал Умслопогас, и руки его непроизвольно дергались. Я видел, что выражение его лица менялось и впервые на нем появилось что-то похожее на страх. Его последователи, стоявшие у него за спиной, не сводили глаз с топора и начали перешептываться. Похоже, Резу задумался. Затем он громко сказал, как будто самому себе: — Он похож, очень похож. Ручка такая же, той же формы. Лезвие в форме молодой луны. Могу ли я думать, что передо мной древний топор? Не может быть это делом рук богов, это всего лишь трюк Лулалы из Пещер. Так он говорил. Но на мгновение заколебался. — Умслопогас, — сказал я в повисшей глубокой тишине, — послушай меня. — Я слушаю тебя, — отвечал воин, не поворачивая головы и не шевеля рукой. — Какой совет ты дашь, о Бодрствующий в ночи? — Целься не в лицо или грудь, поскольку, я думаю, он защищен колдовством или кольчугой. Зайди сзади и ударь в спину. Ты понял? — Нет, Макумазан, я не понял. Я прошу тебя повторить, потому что ты мудрей меня и не бросаешь слов на ветер. Но постой-ка! Умслопогас подбросил свой топор вверх и поймал его, когда тот падал. Делая это, он произносил зулусские слова. — О! — распевал он. — Я сын льва, льва с черной гривой, чьи когти никогда не выпускали добычу. Я предводитель волков, который охотился на Ведьминой горе с моим братом, членом семьи тех, кто ищет брод. Я тот, кого называли непобежденным, вождь племени топора, я тот, кто унаследовал древний топор. Я тот, кто победил людей Халакази в их пещерах и получил Наду Лилию в жены. Я тот, кто принес королю Дингаану подарок, который он не очень любил и который потом вместе с Мопо, моим приемным отцом, привел его к смерти. Я царской крови, по имени Булалио, Убийца, вождь Умхлопекази, против которого ни один человек не может выстоять спокойно в открытой борьбе. Теперь ты, грозный Резу, человек-призрак, сразись против меня, перед тем как поднялось солнце. И все увидят, кто из нас лучше в этом бою. Подходи же! Моя кровь кипит, а мои ноги холодеют. Подойди, собака, чудовище, поедающее людей, хищник, старый волк! Он говорил нараспев по-зулусски, в своей устрашающей манере, а два оставшихся зулуса хлопали руками и эхом повторяли его слова, а колдун Гороко бормотал заклинания. Умслопогас пел и одновременно двигался. Сначала пришли в движение лишь голова и плечи, и это было похоже на развевающийся флаг или на змею, готовую к нападению. Затем он начал размахивать ногами, как танцор, вынуждая Резу напасть. Но гигант не делал этого, его щит был прямо перед ним, он молча стоял и ждал, что будет дальше делать черный воин. И вот змея напала. Умслопогас размахнулся и выскочил вперед со своим длинным топором. Резу поднял щит над головой и отразил удар. По звуку я понял, что щит был обит железом. Резу отскочил и нанес, со своей стороны, удар, но Умслопогас успел его отразить. Я понял, насколько велика его сила, поскольку удар был тяжел, как тот топор, который держал вождь. Резу махал оружием в воздухе, что мог сделать только очень сильный мужчина. Умслопогас тоже это заметил и сменил тактику. Его топор был на шесть или восемь дюймов длиннее, чем топор врага, поэтому он мог попасть туда, куда не достал бы топор Резу. К тому же у гиганта были короткие руки. Умслопогас начал целиться сзади в голову и руки Резу, что было его излюбленным трюком. Именно за него он получил прозвище Дятел. Резу защищал голову щитом против острых взмахов топора насколько мог. Дважды мне казалось, что удары зулуса достигнут груди гиганта, но они не причиняли ему вреда. Резу рычал от боли и злости и бешено крутился, в то время как Умслопогаснападал на него с удвоенной силой. Зулус отражал удар за ударом своим щитом, с легкостью орудуя им, как будто он был бумажным. Однако его топор не наносил Резу никакого вреда. — Проклятие! Он заколдован! — закричали зулусы. — Этот удар должен был разрубить его надвое! Я же в это время думал о том, насколько хороша кольчуга у этого человека. Резу громко засмеялся, а Умслопогас раздосадованно отскочил назад. — Что это?! — закричал он по-зулусски. — У всех колдунов имеется какая-то дверь, через которую все духи приходят и уходят. Я должен найти дверь! Я должен найти эту проклятую дверь! Он говорил, тем временем пытаясь обойти Резу, сначала справа, потом слева. Но все без толку. Резу поворачивался к нему лицом, шаг за шагом отступая к маленькому холму и периодически делая выпады. Но достать Умслопогаса он не мог. К тому же его слепило солнце. Мне почудилось, что он начал уставать. Или так мне показалось? В любом случае он решил закончить эту игру, поскольку быстрым движением отбросил щит и, взяв железную рукоятку топора в обе руки, ринулся на зулуса как бык. Умслопогас отскочил. Затем внезапно повернулся, подпрыгнул, и, о боже, Булалио-убийца побежал с поля боя! Взрыв смеха раздался позади. Смеялись амахаггеры, а Гороко и зулусы стояли, оцепенев от стыда. Лишь я понимал, что у него в голове созрел какой-то план, и гадал, что же он придумал. Он побежал, а Резу бросился за ним, но не смог догнать одного из лучших бегунов в Зулуленде. Он бежал за ним, но тот проделывал такие неимоверные зигзаги, что Резу остановился, выбившись из сил. Однако Умслопогас пробежал еще двадцать ярдов и остановился у подножия холма, где решил отдохнуть. Десять секунд или около того он ждал, чтобы отдышаться. Глядя на его лицо, я угадывал в нем черты волка. Его губы были растянуты в зловещей ухмылке, показывающей ослепительно-белые зубы. Щеки опали, а глаза блестели, кожа над шрамом поднималась и опускалась. Он как бы собирался для последнего броска. — Беги! — закричали зрители. — Возвращайся в Кор, черная собака! Умслопогас знал, что они смеются над ним, но не обращал на них внимания. Он лишь ударил рукой по сухой земле. Затем поднялся и бросился на Резу. Я, Аллан Квотермейн, наблюдал много боев, но никогда, ни до ни после, я не видел подобных. Зулус был быстр, как львица, настолько быстр, что ноги его едва касались земли. Он несся, словно пущенное копье, пока не остановился в десяти футах от замершего Резу и бросился на него одним прыжком. О, что это был за прыжок! Конечно же, зулус подсмотрел его у льва или спрингбока[401]. Он подпрыгнул очень высоко, и тут я понял, что, очевидно, зулус стремился атаковать врага сверху. Умслопогас ударил топором так, что лезвие обрушилось на затылок Резу. Все было кончено, поскольку я видел, что кровь потекла у того по лицу. Умслопогас отпрыгнул назад, пробежал немного и снова напал на него. Резу встал, но, прежде чем он поднялся на ноги, топор Инкози-каас коснулся того места, где шея соединяется с плечами, и врубился в него. Запас выносливости Резу был настолько велик, что у него еще хватило сил встать на ноги. Но теперь его движения были замедленными. Умслопогас снова оказался у него за спиной, целясь в нее. Один, два, три удара… После третьего удара топор выпал из рук Резу, и он медленно осел на землю как груда мусора. Не сразу поверив в то, что все кончено, я подбежал к месту, где лежал Резу. Над ним стоял Умслопогас — как мне показалось, обессилевший вконец, потому что опирался на топор, а его ноги дрожали. Но Резу еще не был мертв. Он открыл глаза и уставился на зулуса с дьявольской ненавистью. — Ты еще не победил меня, чернокожий, — выдохнул он. — Это топор дал тебе победу. Древний святой топор, который когда-то был моим, пока женщина не украла его. Да, это дар ведьмы из пещеры, которая велела тебе войти туда, где живет дух жизни. Он не поцеловал мою плоть и оставил умирать. Черный человек, мы можем встретиться где-нибудь снова и сразиться. Как бы я хотел задушить тебя вот этими руками и отправить вместе со мной во мрак. Но Лулала победит только в том случае, если ее судьба будет хуже моей. Ах, где я увижу волшебную красоту, которой она так бесстыдно хвастает… Здесь жизнь покинула его, широкие руки раскинулись по земле, последнее дыхание сорвалось с губ. Я стоял, оглядывая огромное тело, которое казалось мне человеческим лишь наполовину. Наши амахаггеры подошли и отвели меня в сторону, потом кинулись на тело своего древнего врага, как гончие на беспомощную лису, и руками и копьями начали вытаскивать внутренности, пока ничего человеческого в нем не осталось. Их невозможно было остановить. Я был слишком утомлен прошедшим днем, чтобы хотя бы попытаться помешать им. Я жалею об этом, поскольку упустил возможность исследовать тело этого странного человека, а также понять, что же за кольчуга была на нем, которая остановила мои пули и даже лезвие Инкози-каас в сильных руках зулуса. Когда я посмотрел снова, от мощного гиганта остались только фрагменты тела, а кольчуга была разломана на маленькие кусочки амахаггерами, возможно, для того, чтобы стать для них талисманами. Итак, я знал о Резу только то, что он был огромным и самым страшным человеком, какого я когда-либо видел. Он пронес свою силу через всю жизнь, поскольку по некоторым признакам ему было около пятидесяти лет, а его бессмертие было лишь сказкой, которую местные жители использовали в собственных интересах. Наконец Умслопогас пришел в себя, открыл глаза и огляделся. Первым человеком, которого он увидел, был Билали. Он стоял, поглаживая свою белую бороду и жалуясь на все происходящее с философским, но вполне удовлетворенным видом. Это рассердило Умслопогаса, и он закричал: — Я думаю, это был ты, древний мешок со словами и чистильщик дорог для ног того гиганта, который посмеялся надо мной! Неужели ты думал, что я паду под ударами этого пожирателя людей? — И он показал туда, где валялись останки Резу. — Теперь найди его топор, и, хотя я слаб и устал, я выпущу твою кровь. — Что говорит этот черный герой, о Бодрствующий в ночи? — спросил Билали как можно вежливей. Я передал ему все слово в слово. Билали вознес руки в ужасе, повернулся и тут же исчез. Больше я не видел его до нашего возвращения в Кор. Увидев смерть своего вождя, члены племени, которые считали Резу непобедимым, стали испускать самые странные и неестественные крики, какие я только слышал в жизни. Так кричали, я думаю, филистимляне, когда Давид сразил Голиафа своим удачным ударом камня. Затем они отправились по домам, если они у них, конечно, были, с рекордной скоростью и в полном беспорядке. Наши амахаггеры преследовали их некоторое время, но потом остановились. Они удовлетворились тем, что добили некоторых раненых, которых смогли найти, и вернулись в свое расположение. Я не следил за ними — битва была выиграна, я умывал руки. В моих воспоминаниях они остались людьми, о которых можно сказать, что у них отсутствует воспитание, а их привычки ужасны. Кроме того, они не были такими уж хорошими воинами. В любом случае я не хотел бы вновь оказаться в их команде. Более того, у меня было еще одно дело. Мне предстояло разыскать бедную Инес, поэтому я не хотел давать согласие на то, чтобы возглавить амахеггеров в битве против их черных братьев, резуитов. Но где была Инес? Если Ханс правильно понял их шамана, она находилась в хижине. Я надеялся, что именно там она и есть, в таком случае охоту можно было прекращать. Этот вопрос решался просто. Я позвал Ханса, который наслаждался тем, что стрелял по убегающему врагу, чтобы они подольше не могли забыть его и зулусов. С ним я отправился к хижине или, скорее, палатке из сучьев, которая была двадцать футов в длину и двенадцать-пятнадцать в ширину. На восточной стороне я нашел отверстие, прикрытое тяжелой занавеской из древесных волокон. Я постоял около него в нерешительности, меня немного трясло, потому что, по правде говоря, я боялся отдернуть эту занавеску и увидеть то, что за ней находится. Собрав все свое мужество, я отодвинул ее и вошел внутрь с револьвером в руке. Сначала я не увидел ничего, поскольку попал из света в темноту. Когда глаза мои привыкли к мраку, я заметил некое светлое пятно на троне в конце этой хижины. Вокруг него был двойной ряд из женщин в белых одеждах. У них на шеях висели цепочки, а вокруг пояса были длинные ножи. Между троном и этими женщинами на полу лежал мертвый мужчина, один из жрецов, как я понял по его одеянию. В его руке все еще было огромное копье. Фигура на троне молчала, как и те, кто стоял вокруг нее на коленях; я даже подумал, не мертвы ли они. — Леди Печальные Глаза, — прошептал Ханс. — И ее служанки. Без сомнения, у ее ног лежит тот старый жрец, что пришел сюда, чтобы убить ее, когда понял, что битва проиграна. Но ее подружки закололи его своими ножами. Могу подтвердить, что предположение Ханса оказалось правильным, это доказывало, насколько быстр его ум. Фигурой на троне была Инес, а жрец действительно пришел, чтобы убить ее. Подружки невесты убили его своими ножами, прежде чем он смог напасть на Белую королеву. Я попросил зулусов поднять занавеску, чтобы стало немного светлее. Затем мы все вместе вошли в хижину с пистолетами и копьями наготове. Женщины на коленях повернулись к нам, и мы увидели, что это молодые девушки. А еще я увидел, как они потянулись к своим ножам. Я сказал им, что они могут уходить, и если они сделают это, то бояться им нечего. Но если они и поняли меня, то не последовали моему совету. Мы с Хансом, наоборот, боялись, что они воспользуются своим оружием против той, кто сидела на троне, которую мы приняли за Инес. По слову одной из них они немедленно поклонились ей, а потом, повинуясь другому слову, вонзили ножи в собственные сердца. Это было ужасно, я никогда прежде такого не видел. Должно быть, женщины, поклявшиеся служить новой королеве, испугались, что не смогут защитить ее, и заранее были приговорены к такому ужасному концу. Мы вытащили их наружу умирающими, поскольку их удары были точными и сильными. Ни одна из них не прожила больше нескольких минут. Затем я направился к фигуре на троне, или на стуле, из черного дерева, обитом слоновой костью. Фигура была настолько молчалива и неподвижна, что я подумал, может, она уже мертва. Особенно когда увидел, что она привязана к трону кожаными лентами, которые были обшиты золотыми нитками. На ней была вуаль, из-под которой спускались две длинные черные косы, на кончике каждой висела жемчужина. На ногах были сандалии, а на шее висело огромное ожерелье с золотым орнаментом, с которого свисали подвески, тоже из золота, представлявшие собой диск солнца, грубой, но хорошей ручной работы. Я подошел к ней и снял ремни, которые сначала никак не мог развязать. Потом откинул вуаль. Это была Инес, живая — ее грудь поднималась и опускалась. Ее глаза были широко открыты, но она была без чувств. Возможно, ее накачали какими-то снадобьями, может, причиной был ужас, который она повидала и который отнял ее силы. Я, признаюсь, был даже рад этому, потому что иначе мне пришлось бы рассказывать ужасную историю смерти ее несчастного отца. Мы вывели ее из этой хижины почти невредимой и положили в тень дерева, чтобы она немного пришла в себя. Я не знал, чем еще можно помочь ей в ее состоянии: у меня не было ни лекарств, ни алкоголя, чтобы привести ее в чувство. Таким был конец нашего долгого путешествия. Мы освободили Инес, которую зулусы называли леди Печальные Глаза.Глава 19
ЗАКЛИНАНИЕ
Я не могу ничего сказать о нашем возвращении в Кор, за исключением того, что мы все-таки достигли этих развалин. Это было замечательное путешествие, которое стоило запомнить хотя бы потому, что в первый и последний раз в его жизни Умслопогас согласился на то, чтобы его несли на носилках, хотя бы часть пути. Как я уже сказал, он не был ранен — топор его могучего врага лишь оцарапал ему кожу. Он устал от потрясений, чувствовал упадок сил после напряженного боя, ведь этот великий бесстрашный воин в глубине души был нервным и чувствительным человеком. Лишь такие люди достигают вершины чего-либо, и это касается всех сторон жизни. Та страшная битва с Резу была огромной нагрузкой для зулуса. Как он потом сказал себе, «мудрец высосал всю силу», особенно когда он понял, что кольчуга не позволяет ему нанести Резу смертельный удар, а из-за изворотливости врага он не может оказаться у него за спиной. Именно тогда он и предпринял этот трюк с высоким прыжком и отскакиванием назад. Зулус делал это когда-то в молодости, чтобы разбить круг из щитов и оказаться в его середине. Умслопогас знал, что преуспеет в этом необычном прыжке через голову Резу или будет убит, что, в свою очередь, означало смерть всей нашей команды. Ему надлежало преодолеть страх взлететь и оказаться на вершине, поскольку только так, один на один с врагом, он мог развить скорость, необходимую для такого ужасного прыжка. Главное, он сделал это и потому победил, хотя в результате оказался, как он сам выразился, «слабым, как змея, которая выползает на солнце из своей норы после окончания зимней спячки». Умслопогас потом сказал, что благодарен тому обстоятельству, что Резу не удалось сжать руки на его горле, иначе солнцепоклонник убил бы его, «как бабуин ломает стебель». Никакой силы, даже его, Умслопогаса, не хватило бы, он не смог бы сопротивляться железной силе этого гориллоподобного человека. Я согласился с ним, потому что мы видели его широкую грудь и развитые мускулы, а также его силу, с которой он обрушился на зулуса со своим топором (который, между прочим, пропал или был украден — думаю, одним из амахаггеров). Откуда могла взяться сила в человеке, чье лицо доказывало, что он далеко не молод? Может быть, была какая-то правда в легенде про Самсона[402], чья сила перешла в его огромную бороду и длинные локоны? Тут нечего сказать, может быть, этот человек был поклонником Геркулеса[403], потому что был сильным, как Геракл. Все истории, которые я слышал о его подвигах, не давали повода для сомнений, но я был все же склонен считать, что эти истории о его сверхъестественных способностях — просто обман. Он был всего лишь представителем семьи «сильных людей», тренировавшихся всю жизнь напролет. К сожалению, он был растерзан теми жестокими амахаггерами еще до того, как я смог осмотреть его или его кольчугу. Но только когда я осмотрел тело бедного Робертсона, которое мы похоронили там, где он погиб, и увидел, что оно разрублено топором Резу на две части единственным ударом, лишь тогда я понял, какой силой обладал этот дикарь. Я говорю — дикарь, но не уверен, что это правильная характеристика Резу. Очевидно, он придерживался определенной веры, кроме того, имел бурное воображение, что продемонстрировал, похитив Инес, чтобы она стала его королевой, прикрыв ее вуалью, как у Айши, с намерением принести ее в жертву. Он окружил девушку охраной, состоящей из женщин, которые уничтожили жреца-убийцу, а потом и сами совершили самоубийство, когда потерпели поражение. Все это указывало на нечто большее, чем простое дикарство, — возможно, на следы какой-то забытой древней цивилизации. Я не знаю, что все это означало. Резу мертв, и мир избавился от него. Те же, кто хотел узнать больше об этой народности, могли лишь довольствоваться их останками в местах обитания, которые, со своей стороны, я не собирался посещать больше никогда. Во время нашего путешествия в Кор Инес так ни разу и не пошевелилась. Когда бы я ни смотрел на нее, я видел, что она лежит с широко открытыми глазами. Выражение ее лица сильно пугало меня: я начал бояться, что она умрет. Однако я не мог ничем помочь ей, только попросил носильщиков ускорить шаг. Итак, мы спустились с холма и, пройдя через долину, достигли Кора в тот момент, когда садилось солнце. Когда мы подошли ко рву перед стенами города, я увидел, что старый Билали вышел нам навстречу. Он несколько раз поклонился, тревожно глядя на повозку, в которой, как он знал, находился Умслопогас. В самом деле, его отношение даже к Хансу стало раболепным после нашей победы над Резу и его смерти от топора зулуса. После этого все они стали считать нас наполовину божествами и относились к нам соответственно. — О всемогущий вождь, — сказал он, — Та, чье слово закон, попросила меня привезти больную леди в то место, которое уже готово для нее. Оно находится рядом с твоим, так что ты сможешь видеть ее, когда захочешь. Я удивился, как Айша могла узнать, что Инес больна, но слишком устал, чтобы задавать вопросы, просто позволил ему отвести нас к жилью. Он так и сделал, проведя нас в полуразрушенный дом, стоящий недалеко от нашего. Он был чисто вымыт и обставлен по последней моде. Кроме того, пол там был покрыт коврами, поэтому в нем было более уютно. Здесь мы нашли двух женщин среднего возраста, довольно высокомерных, которые, как сказал Билали, были сестрами, приставленными, чтобы ухаживать за больной. Уложив Инес на кровать, я передал ее в их полное распоряжение. Я не хотел сам быть ее доктором, поскольку не знал, какие из моих лекарств подойдут ей. Более того, Билали успокоил меня, сказав, что Та, чье слово закон, скоро появится здесь и «вылечит ее», как только она может сделать. Я ответил, что надеюсь на это, и отправился к нашей стоянке, где обнаружил прекрасно приготовленный обед и незнакомый мне напиток. Билали заявил, что по приказу Айши мы должны его выпить, потому что это избавит нас от слабости. Я попробовал этот напиток бледно-желтого цвета, напомнивший шерри. Мысль о яде, конечно, мелькнула у меня в голове, но я был слишком усталым, чтобы долго раздумывать об этом. Конечно же, эффект оказался удивительным, поскольку моя усталость мгновенно испарилась. Я обнаружил у себя зверский аппетит и чувствовал себя лучше и уверенней, чем было многие годы до этого. Короче говоря, это был лучший «коктейль», какой я когда-либо пробовал. Я захотел узнать его рецепт, и Айша сказала мне, что напиток выгнан из достаточно безвредных трав и не содержит ни капли алкоголя. Я дал немного попробовать Хансу, потом Умслопогасу, который оставался с ранеными зулусами. Он почувствовал себя намного лучше, а потом и Гороко, который тоже его попробовал. Эффект был потрясающий. Затем, умывшись, я приступил к обеду, но здесь надо отдать должное Хансу. — Баас, — сказал он, — все это выглядит очень хорошо, хотя все могло бы кончиться плохо. Рыжебородый мертв, что тоже хорошо, потому что за сумасшедшим человеком очень трудно ухаживать, а голова, полная лунного света, не очень-то хороший советчик для любого человека. О, без сомнения, ему лучше быть мертвым, хотя вашему преподобному отцу будет трудно смотреть за ним в огненном месте. — Возможно, — вздохнул я, — лучше быть мертвым, чем лунатиком. Но я боюсь, как бы его дочь не последовала за ним. — О нет, баас! — весело вскричал Ханс. — Хотя я должен сказать, что она немного тронулась и, без сомнения, видела много ужасных вещей. Но Великий талисман знает, что она не умрет после всего того, через что нам пришлось пройти, и после тех опасностей, которые мы пережили, чтобы спасти ее. Великий талисман — удивительная вещь, баас. Сначала он делает бааса вождем над амахаггерами, которые без него никогда не согласились бы сражаться, — ведьма, чья голова скрыта под накидкой, знает это очень хорошо. Затем он оберегает нас во время битвы, дает силу Умслопогасу, для того чтобы он убил этого гигантского людоеда. — Почему он не дал мне силу, чтобы убить Резу? Я ведь выпустил в его грудь две скорострельные пули, которые причинили ему вреда не больше, чем удар палкой по рогам быка. — О, может, баас упустил что-то из виду, потому что баас иногда пропускает кое-что, думая, что всегда успеет это сделать. — Ханс подождал, не отвечу ли я на его наглый выпад, чего я, конечно же, не сделал, и снова продолжил, слегка унижая меня: — Или, может быть, у Резу была слишком хорошая кольчуга, потому что я видел, как несколько амахаггеров разрезали ее на кусочки, забрав то, что было очень похоже на кусочки меди. Также Великий талисман означал, что Резу будет убит Умслопогасом, но не баасом, потому что в противном случае Умслопогас остался бы разочарованным до конца своих дней. Зато теперь он может идти по жизни гордо, как петух с двумя хвостами. Кроме того, господин, когда Резу разбил наш квадрат и амахаггеры побежали, без сомнения, именно Великий талисман вселил в их сердца смелость, потому что все изменилось в тот момент, когда они увидели его на груди бааса и, вместо того чтобы съесть бааса, сожрали каннибалов. — В самом деле! Я думал, что госпожа, которая обитает вон в той стороне, приложила к этому свою руку. Ты видел ее, Ханс? — О да, я видел ее, баас, я думаю, что это она размахивала одеждой у нас над головой, а когда люди Резу увидели, насколько уродливо ее лицо, это напугало их. Но без сомнения, это тоже результат действия Великого талисмана, потому что такая мысль никогда не пришла бы в голову глупой женщине. Знает ли баас хоть одну женщину, которая принесла бы пользу на поле битвы или в чем-то еще, за исключением ухода за младенцами? И если она не занимается семейными делами, то, без сомнения, только потому, что настолько уродлива, что ни один мужчина не женится на ней. Я случайно поднял глаза и в свете ламп увидел Айшу, которая стояла с нами в комнате, куда вошла через открытую дверь, в шести футах позади Ханса. — Будьте уверены, баас, — продолжал Ханс, — что этот трюк с одеждой не более чем старая уловка, которой пугают людей. И если она скажет, что это она, а не Великий талисман заставила амахаггеров измениться, я скажу это ей в лицо. Я был не в силах что-то возразить и только втайне радовался тому, что, на наше счастье, Айша не понимает голландского языка. Она придвинулась ближе, и ее тень упала на Ханса и на пол перед ним. Он увидел это и в ужасе уставился на странную тень, затем медленно оглянулся. Некоторое время он не двигался, будто был заморожен, затем, выкрикивая дикие проклятия, вскочил на ноги, выбежал из дома и исчез в ночи. — Мне кажется, Аллан, — сказала Айша, — что этой глупой желтой обезьяне хватает смелости только на то, чтобы бросать палки, когда самки леопарда нет под деревом. Но когда она приходит, он, по своей глупости, все равно продолжает. О, не извиняйся, ведь я знаю очень хорошо, что он говорил обо мне гадости, что он любопытен, как все обезьяны, и очень хочет узнать, что под моей вуалью. Проще говоря, он верит, что ни одна женщина не будет скрывать свое лицо, пока не будет знать, что это потакает вкусам мужчин. Затем, к моему облегчению, она тихо рассмеялась, показав, что чувство юмора ей не чуждо, затем снова продолжила: — Ладно, оставь его в покое, потому что это хорошая обезьяна, по-своему мужественная. Он показал это, когда выследил место, где находится Резу, и нанес смертельный удар убийце-жрецу. — Каким образом ты поняла слова Ханса, Айша? Ведь он говорил на языке, которого ты никогда не знала. — Потому что я читаю по лицам, Аллан. — Или по спинам, — предположил я, вспоминая, что Ханс стоял к ней спиной. — По спинам, голосам или сердцам. Не важно как, но я могу читать. Однако давай закончим этот бесполезный разговор. Отведи меня к той девушке, которая вырвалась из когтей Резу и от судьбы, которая была бы для нее гораздо хуже, чем смерть. Понимаешь, Аллан, этот демон Резу собирался взять ее в жены и планировал принести отца девушки в жертву, а затем съесть его, как была съедена на ее глазах служанка! Теперь отец девушки мертв, и, может быть, это и к лучшему. Я думаю, что маленький желтый человек сказал тебе именно об этом… нет, не начинай, я прочитала это по его спине. Поскольку его мозг был разрушен, до конца жизни он бы страдал. Лучше, что он погиб как мужчина, в борьбе против врага, тем самым спасая остальных. Но хорошо, что она все еще жива. — Да, но безумна, Айша. — После того, что она пережила, — это наилучший выход, Аллан. Вспомни, разве в твоей жизни не было дней и месяцев, когда ты хотел бы заснуть и проснуться безумным? И разве мы не были бы счастливы, если бы, подобно животным, могли о плохом забыть, не знать и не понимать? Люди говорят о небесах, но, поверь мне, небеса — это сон без сна, потому что жизнь и пробуждение означают борьбу, которая часто бывает слишком иллюзорна, вызывая печаль или угрызения совести, которые разрушают нас. А теперь пойдем со мной. Я проследовал за ней в другой разрушенный дом, где мы нашли Инес простертой на кровати, все еще в варварской одежде, хотя вуаль была поднята с ее лица. Она лежала с широко раскрытыми глазами, пока женщины осматривали ее. Айша взглянула на нее, потом сказала мне: — Они пытались обмануть амахаггеров одеянием Айши и ее изображением и даже принесли ей клятву верности. — И она указала на золотые диски, похожие на солнце. — Да, она честная девушка, белая, благородного происхождения, это первое, на что я обращаю внимание. Она не хотела такого обмана. Более того, ей не причинили вреда, ее душа была погружена в море страха, вот и все. Лучше, чтобы она пока ничего не вспомнила, потеряв при этом разум, как случилось с ее отцом. Через некоторое время память вернется к ней, и весь этот ужас превратится в печальные тени, которые она будет видеть. Но и эти тени вскоре забудутся и уйдут, обернувшись в полузабытые воспоминания. Отойди в сторону, Аллан, и вы, женщины, оставьте нас. Я повиновался, женщины поклонились и вышли. Тогда Айша подняла вуаль и опустилась на колени возле кровати Инес так, чтобы я не видел ее лица, хотя должен признаться, что мне хотелось взглянуть на него. Однако я мог видеть, что она приблизила свои губы к губам Инес, и по ее движениям мне показалось, что она что-то вдохнула в ее губы. Еще она раскинула руки и положила одну из них на сердце Инес. Минуту или около того она размахивала руками в разные стороны, время от времени останавливаясь, чтобы коснуться кончиками пальцев ее лба. Внезапно Инес зашевелилась и села. Айша взяла сосуд с молоком, который стоял на полу, и поднесла его к губам девушки. Инес выпила все до последней капли и снова упала на кровать. Еще некоторое время Айша продолжала водить руками, затем опустила вуаль и встала. — Посмотри, я произнесла над ней заклинание, — сказала она, подзывая меня. Я подошел и увидел, что глаза Инес закрылись, и казалось, что она погрузилась в глубокий естественный сон. — Она будет так лежать всю ночь и следующий день, — сказала Айша. — И когда проснется, то поверит, что она просто счастливый ребенок. Лишь когда она снова увидит свой дом, тогда вспомнит, где прошла ее жизнь, а затем вся эта история забудется. Вы можете сказать ей, что ее отец погиб, когда вы вместе ходили охотиться на речных чудовищ. Но я думаю, что она не будет много спрашивать, узнав, что он погиб, поскольку я дала ее душе такую команду. «Гипноз, — подумал я. — О Небеса, это наверняка поможет». Казалось, Айша поняла, что творится в моей голове, потому что кивнула и сказала: — Не бойся, Аллан, ведь черный владелец топора и желтая обезьяна называют меня ведьмой, а ведьмы, как ты знаешь, разбираются в медицине и других вещах и владеют ключом к тайнам природы. — Например, — предположил я, — как перенести себя в пространстве и во времени в битву в нужный момент и уйти из нее — тоже в нужный момент. — Да, Аллан, заметив, что амахаггеры собираются бежать, я поняла, что нужна там, чтобы дать им силу и внушить страх армии Резу. И я пришла. — Но как ты пришла, Айша? Она рассмеялась в ответ: — Может быть, я вовсе не приходила. Может, ты только думал, что я пришла. Я была там, все остальное не имеет значения. Поскольку меня трудно было так быстро убедить, она продолжала: — О! Глупый человек, не старайся понять то, что выше твоего понимания. Просто слушай. В своем неверии ты убежден, что душа живет в теле, не так ли? Я кивнул, потому что всегда так думал. — Иначе говоря, тело живет в душе. — Как жемчужина в раковине, — предположил я. — Да, но жемчужина, которая кажется тебе прекрасной, для раковины — болезнь и яд, так же и тело для души — одни проблемы и порча. Белая и святая душа ищет пути, чтобы дать мерзкому телу свои собственные чистоту и цвет, хотя это ей редко удается. Аллан, плоть и дух — это злейшие враги друг для друга, которые соединены вместе велением высшего разума. Они могут забыть свою ненависть и наслаждаться друг другом или разлучиться: дух должен отправиться в свое место, а плоть — в свой разрушительный мир. — Странная теория, — сказал я. — Да, Аллан, она нова для тебя. Но это правда. Душа человека, будучи на свободе и не связана с телом, касается души Вселенной, и эту душу люди называют Богом, которого многие знают под другими именами. У Него есть, возможно, власть. И пока душа в теле, если это мудрое тело, она может извлечь из этого знание. Теперь ты понимаешь, почему я настолько добра в роли доктора и как я появилась на этой битве, как ты сказал, в нужное время и покинула ее, когда моя работа была сделана. — О да, — ответил я. — Я понял, ты так ясно все объяснила. Она засмеялась, оценив мое признание, посмотрела на спящую Инес и сказала: — Хрупкое тело этой девушки размещено в огромной душе темного оттенка, потому что души имеют свои цвета и несут тот, который внутри их. Она никогда не будет счастливой женщиной. — Черные люди называли ее леди Печальные Глаза, — сказал я. — Правда? Да, я называла ее Печальное Сердце, хотя многим это может показаться шуткой. Кроме того, она забудет плохое и то, какой узкой была грань между ее жизнью и смертью Резу. — Как раз на длину Инкози-каас, — ответил я. — Но объясни мне, Айша, почему случилось так, что топор помог, а мои пули пролетели мимо? — Потому что у него была хорошая кольчуга, Аллан, — ответила она равнодушно. — А спина оставалась без защиты. — Тогда почему же ты поведала мне совершенно иную историю о том, что этот свирепый гигант выпил Чашу жизни? — спросил я с раздражением. — Я забыла, Аллан. Потому что любопытные, как ты, люди любят слушать истории еще более странные, чем их собственные. К тому же ты очень веришь только в то, что я делаю. А в то, что говорю, нет. — Вовсе нет! — воскликнул я возмущенно. Она снова засмеялась и ответила: — В будущем, возможно, наши представления изменятся, поскольку иногда алхимия ума превращает сказки молодости в факты нашего возраста. Мы начинаем верить во все, как твой маленький желтый друг верит в знахаря по имени Зикали, а амахаггеры чтят Талисман на твоей шее, я, как самая сумасшедшая из всех вас, верю в любовь и мудрость, а черный воин Умслопогас уважает силу своего великого топора больше, чем свое мужество. Все мы дураки, каждый из нас. Хотя я, может быть, самая большая дура из всех. Теперь проведи меня к воину Умслопогасу, которому я хочу выразить огромную благодарность, как поблагодарила тебя, Аллан, и маленького желтого человечка, хотя он бесит меня своим острым языком, не зная, что, если бы я рассердилась, я могла бы оборвать его жизнь. — Тогда почему ты не выбрала Резу, чтобы убить его вместе с его армией, Айша? — Мне кажется, что я сделала это благодаря топору Умслопогаса и с помощью твоего командования, Аллан. Почему тогда ты использовал мою силу, когда твоя была в моих руках? — Потому что у тебя не было власти над Резу. Или ты просто так сказала мне об этом? — Разве я не говорила, что мои слова всего лишь снежинки, которые тают и не оставляют следов, скрывая мои мысли, как моя вуаль скрывает мое лицо. Как моя красота под вуалью, так и правда может прятаться в словах, хотя это не та правда, о которой ты думаешь. Итак, ты получил ответы, хотя я удивляюсь, почему Резу думал, что я не имею власти над ним, когда вон на той горе он видел меня летящей над его товарищами, как дух ночи. Да, возможно, когда-нибудь я узнаю свою правду, как и многие другие вещи. Я ничего не ответил. Не было никакого проку спорить с женщиной, которая объяснила, что все рассказанное ею было выдумкой. И все же я продолжал спрашивать ее, почему амахаггеры так верят в талисман, который Ханс называет Великим. Когда мы выходили из дома, она, по какому-то невероятному совпадению, вернулась к этой теме. — Я хочу сказать тебе, Аллан, — обратилась она ко мне, — почему амахаггеры не приняли тебя в качестве вождя до тех пор, пока не увидели, чтó ты носишь на своей груди. Их рассказ о легенде кажется выдуманным жрецами, и такой мудрый человек, как ты, не мог в нее поверить, как некоторые другие, которых ты слышал в Коре. В ней есть доля истины, поскольку много столетий назад старый мудрец, чье изображение высечено на слоновьих волосах, пришел к той, чье место я потом заняла как правитель этого племени, — она была очень похожа на меня, я верю, что это была моя мать, поскольку о ее мудрости ходили легенды. В то время обсуждался вопрос о войне между почитателями Лулалы и отцом Резу. Однако Зикали сказал людям Лулалы, что они не должны воевать с людьми Резу до того дня, пока в Кор не придет белый мужчина и не принесет с собой кусок сплетенных слоновьих волос, на котором будет изображение карлика, похожего на Зикали. Именно тогда они должны будут сражаться и победить Резу. Эта история распространилась среди нашего народа, и ты, который считал первую историю магической, должен понять ее простоту. Разве это не так, о мудрый Аллан? — О да! — ответил я. — Кроме того, что я не могу понять, каким образом Зикали мог оказаться здесь сто лет назад, потому что люди не существуют так долго, хотя он притворяется, что жил в далеком прошлом. — Нет, Аллан, возможно, это был его отец или его дед. Поскольку его образ видели, ты не можешь сказать, что его не существует, кроме того, мудрость во все времена приходит вместе с кровными узами. И снова я ничего не ответил, потому что после слов Айши я чувствовал себя дураком. До того как она сумела насладиться моим изумлением, мы подошли к тому месту, где вокруг костра расположились Умслопогас и его зулусы. Он сидел молчаливо, но Гороко красочно описывал само сражение, особенно ту часть, которую он видел, к удовольствию тех раненых, которые не принимали в ней участия. Внезапно они увидели Айшу, и те, кто смог, встали, чтобы приветствовать ее королевским салютом: «Байете!» Она подождала, пока звуки не затихнут, затем сказала: — Я пришла сюда, чтобы поблагодарить тебя и твоих людей, о Тот, в чьих руках летает топор. Ты показал себя великим воином в битве. Мой дух говорит мне, что все вы, даже те, кто лежит сейчас раненый, благополучно доберетесь до своих земель и проживете свою жизнь со славой. Они снова отсалютовали ей в знак благодарности, когда я перевел им ее слова, поскольку они, конечно, не знали арабского. Затем она продолжала: — Умслопогас, сын Льва, как называют царя в ваших землях, твоя схватка с Резу была сражением не на жизнь, а на смерть. А твой прыжок над его головой, когда ты поразил его топором в те места, которые не были защищены кольчугой, что привело к его смерти, никто не делал раньше и никто не сможет сделать в будущем. Я перевел и эти ее слова, и Умслопогас, предпочитающий правду хвастовству, сказал, что это произошло совершенно случайно. — После этого боя и прыжка, — продолжала Айша, — а также после всех славных дел, которые ты сделал и еще сделаешь, мой дух говорит, что твое имя останется в веках в течение многих поколений. Для чего известность мертвым? Я хочу сделать тебя великим вождем. Пойдем со мной, и ты станешь править амахаггерами, а вместе с ними и остатками армии Резу. У тебя будет бесчисленное количество скота, а твои жены будут самыми красивыми на земле, у тебя будет много детей, поскольку я произнесу заклинание и ты не будешь больше бездетным. Ты принимаешь мое предложение, о Владыка топора? Умслопогас понял то, что ему предложили, и после минутной паузы спросил меня, не планирую ли я остаться на этой земле и жениться на белой властительнице, которая произносит такие мудрые слова и может появляться и исчезать в битве, а ее голова — как вершина горы в облаке, намекая на ее вуаль. Я сразу же решительно сказал, что не имею таких намерений, но немедленно пожалел о своих словах, поскольку, хоть и говорил на зулусском, думаю, что Айша все прочитала на моем лице. В любом случае она поняла смысл моих слов. — Скажи ему, Аллан, — произнесла она с холодной любезностью, — что ты не останешься здесь и не женишься на мне, потому что, если я выберу мужа, это не будет маленький человек, в чье сердце стучалось так много женщин, и, я думаю, небезответно. Тебе кажется, что твое сердце так умно, что ему уже нечего знать, и в каждом цветке правды оно чувствует яд и видит только траву фальши. Скажи ему это, Аллан, если тебе понравились эти слова. — Мне не нравится то, что ты говоришь, — сказал я, разозлившись на ее выступление. — В этом нет необходимости, Аллан, поскольку я поняла значение того варварского языка, который ты используешь. Ты уже все ему сказал, о человек, который меньше всего в жизни желает стать мужем Айши и которого Айша меньше всего желает видеть в качестве мужа. И передай воину, владеющему топором, что мой дух сказал мне то, что он скрыл от меня сначала. Этот воин погибнет в великой битве далеко отсюда. А до этого момента его ожидает множество печалей того, кто не знает, как вернуть любовь женщины, ушедшей в иные края. Спроси у него, какую награду он желает, и если я смогу дать ее, он ее получит. Снова я перевел. Умслопогас выслушал все это в полном молчании и, как мне показалось, равнодушно. Лишь произнес в ответ: — Слава, которую я получил в битве, и есть моя награда. Единственный дар, который я хотел бы получить из рук Белой королевы, — это возможность увидеть женщину, по которой тоскует мое сердце, и знать, что она живет в том месте, куда отправлюсь и я. Услышав эти слова, Айша ответила: — Да, я забыла. Твое сердце тоже страдает, Аллан, потому что ты хочешь увидеть лица тех, кого больше уже нет с нами. Я сделаю все, что зависит от меня, но лишь вера поможет вам двоим, ибо как я могу открыть ворота в неизвестность тем, кто не верит, что они открываются по моему слову? Вы оба отправитесь со мной завтра на закате солнца. Затем, чтобы сменить тему разговора, она долго говорила со мной о Коре, рассказав его длинную историю, правдивую или нет, которую я здесь пропускаю, чтобы не утомлять читателя. В конце концов, словно внезапно устав, она махнула рукой, желая показать, что разговор окончен. Айша отправилась к раненым воинам и прикоснулась к каждому по очереди. — Теперь они быстро поправятся, — сказала она и пропала в темноте.Глава 20
ВОРОТА СМЕРТИ
Перед тем как лечь спать, я сам проверил, как себя чувствуют раненые зулусы. Мне необходимо было понять их истинное состояние, чтобы я мог оценить, когда мы сможем покинуть Кор, пребывание в котором нам весьма надоело. И кому захочется оставаться в том месте, где мы пережили такую тяжелую и очень опасную битву, в которой отсутствовал мой личный интерес и где я был в такой опасности? Тем более Айша использовала любую возможность, чтобы подшучивать и оскорблять меня. За что? Лишь потому, что я не поверил во все сказочные истории, рассказанные нам за это время. Как она могла ожидать, что я, взрослый мужчина с большим жизненным опытом, могу поверить в подобные басни, которые за полчаса до этого она в своей непререкаемой манере объявила ложью, и ничем больше, да и рассказывала мне все лишь ради собственного удовольствия? Например, бессмертный Резу, который вроде бы выпил чудодейственный напиток из Чаши жизни или что-то тому подобное, теперь стал всего лишь мускулистым дикарем, потомком поколений вождей, которых тоже называли Резу. Более того, потерявшая память Айша, которая тоже выпила из той же чаши и, согласно ее собственной истории, прожила в этих местах тысячи лет, придя сюда с матерью, которая играла такую же мистическую роль до нее в жизни мрачных и непокладистых семитских племен. Она вступила в некую конфронтацию со мной, потому что я не поверил ее фантазиям и непереваримой смеси сказок и философии. В конце концов я пришел к выводу, что именно в этом была причина, хотя и иное возможное объяснение приходило мне в голову. Я не поддался ее чарам не потому, что был бесчувственным человеком: кто же может оставаться слепым к такой красоте? Имея печальный опыт, я пришел к выводу, что лучше быть одному. Может быть, это разозлило ее особенно потому, что белый человек не согласился разделить с ней ее путь и ее знаменитый любовник Калликрат не объявился в первозданном виде. К несчастью, была еще одна причина, хотя я так и не мог понять, как она могла воспринять всерьез обращенный ко мне вопрос Умслопогаса о женитьбе на ней и мой нелицеприятный ответ. В тот момент — и я ясно это видел — она не хотела выходить за меня замуж. Но, как подсказывала мне моя интуиция, она не могла не разозлиться, потому что я разделял ее взгляды на этот важный вопрос. Но вскоре я увидел последнее проявление характера этой закрытой вуалью леди. Было очевидно, что мне нужно как можно скорее отправляться домой с несчастной молодой женщиной, которая лишилась рассудка из-за гибели своего бедного отца. Однако я признался себе, что было нечто положительное в том, что именно так распорядилось Провидение, потому что, с тех пор как Робертсон бросил пить, он перестал быть веселым приятелем, а двоих сумасшедших я вряд ли выдержал бы. Итак, я обследовал двух раненых зулусов, выказав тревогу по поводу их состояния, что вызвало лишь очередной шквал придирок со стороны Айши. Я хотел определить, здоровы ли они. Их раны, которые не были слишком серьезными, быстро зажили на свежем воздухе, и они сами утверждали, что готовы к новому походу. Правда, Айша резко убеждала меня в том, что потратила много сил, чтобы вылечить их, хотя, на мой взгляд, они и так уже выздоровели. Таково было ее поведение, и мне не оставалось ничего другого, как отправиться спать, что я сделал с огромной благодарностью за столь цивилизованный быт. Последней мыслью, которая овладела мной перед сном, была та, как же все-таки удалось Айше появиться и исчезнуть во время битвы. Я не мог найти ответа на этот вопрос, хотя понимал, что разгадка придет позднее, как уже часто случалось. Ночью я спал как убитый, так что даже подумал, не подмешано ликакое-либо снотворное, которое выглядело как шерри, поскольку все остальные, кто пил его, также крепко спали. Я проснулся на следующий день около десяти часов утра и был в отличном настроении, как будто только что прогулялся по морскому берегу, а не пережил недавние приключения, в том числе ужасную битву и некоторые другие боевые эпизоды, когда я уже считал, что нахожусь на пути в царство Аида. Бóльшую часть дня я провел, прогуливаясь по окрестностям, обедая, обсуждая запомнившиеся детали битвы с Умслопогасом и зулусами и куря больше обычного (я забыл упомянуть, что амахаггеры выращивают какой-то особенный табак, который я попробовал, хотя большинство африканцев лишь нюхают его). После всех тревог, умственных и физических усилий я чувствовал себя как домохозяйка, мечтающая, чтобы на ее могильной плите было написано: «Я ушла в лучший мир, где никому не буду нужна». Я лишь хотел ничего не делать хотя бы в течение месяца, однако знал, что могу рассчитывать лишь на короткий отдых, как клерк из Сити на пикнике, но и из этого я решил извлечь максимум выгоды для себя. В результате к вечеру я ужасно устал. Я сходил посмотреть на Инес, которая все еще спала, но черты ее лица казались сейчас более естественными. Я узнал, почему это происходит, от девушек, ухаживающих за ней. Оказывается, через определенные интервалы она получала молоко или сливки, которые, я надеялся, не дадут болезни развиться. Я поболтал с ранеными зулусами. Они бродили вокруг и скучали еще больше, чем я, выкрикивая проклятия в адрес своих древних духов, поскольку еще не выздоровели окончательно. Я даже отправился на поиски Ханса, который неожиданно исчез, в своей обычной странной манере. Однако полдень был настолько жарким и душным, что мне показалось, будто приближается гроза, и вскоре я вернулся обратно и предался размышлениям о своих дальнейших планах. Пока я медитировал подобным образом, ощущая какое-то смутное беспокойство, как будто после захода солнца меня ожидали тяжелые испытания, появился Ханс и сказал, что армия амахаггеров собралась на том месте, которое я выбрал. Он добавил, что Белая леди собирается отправиться туда, чтобы вручить им награды, которые они заслужили в сражении. Услышав об этом, Умслопогас и другие зулусы пожелали присутствовать при этой церемонии, если я, конечно, соглашусь сопровождать их. Хотя я не хотел этого делать и вообще не желал смотреть на амахаггеров, но не стал спорить и согласился, при условии, что мы будем находиться не с ними вместе, а, скажем, на некотором расстоянии. Итак, вместе с ранеными мы отправились в путь и вскоре подошли к стене старого города, под которой находился огромный ров, сейчас сухой, а когда-то наполненный водой. Мы уселись на вершине стены и могли наблюдать за происходящим, сами оставаясь незамеченными. Мы оглядывали отряды амахаггеров, выживших после сражения. Они маршировали под командованием своих вождей в двухстах ярдах от нас. Также мы видели несколько групп людей под охраной. Очевидно, это были пленные, взятые в битве с Резу; как заметил Ханс, наверное, это были будущие жертвы. Полдень был очень жарким и погода необычной. Солнце спряталось за облаками, и испарения висели в воздухе настолько густые, что небо иногда было почти черным. Когда небеса на некоторое время очищались, в сером свете ландшафт выглядел неестественным, как будто начиналось затмение солнца. Зулусский колдун Гороко, оглянувшись по сторонам, понюхал воздух и заметил, что это «погода для вынюхивания» и что вокруг много духов. Честно говоря, я был склонен поверить Гороко, потому что чувствовал себя неважно, но лишь ответил, что, если так, я буду очень обязан ему как искусному чародею, если он оградит нас от духов. Конечно, я знал, какие электрические токи ходят вокруг, поэтому лучше было бы не покидать лагерь. Именно в один из этих периодов затмения солнца должна была появиться Айша. В конце концов она появилась в своих белых одеждах, окруженная женщинами и охраной, возникла внезапно, произнося заклинание, и, хотя я не мог слышать ни слова, по движениям ее рук я понял, что она говорит. Будучи центральной фигурой этого представления, она не могла бы выбрать лучшего места, чем то, которое за нее выбрали небеса. Внезапно в покрывале из облаков появилось отверстие, похожее на глаз, и возник красный луч, который упал прямо на нее, так что лишь она одна была видна, а все остальные оказались погружены во тьму. В это время Айша стала выглядеть странно и даже зловеще в красном свете. Я вспомнил о неких «красных одеждах», о которых часто читал в моем любимом Ветхом Завете. Она была в красном с ног до головы, этакий символ ужаса и гнева. Но вот глаз в небесах закрылся и луч исчез. Затем появились серые лучи, и в них я заметил мужчину, вышедшего, очевидно, из группы пленников, под охраной и вставшего перед Айшей. Затем я долгое время ничего не видел, потому что казалось, что тьма сочится из каждого уголка неба и закрывает все пространство под собой. В конце концов после пятиминутной паузы, когда тишина стала гнетущей, разразилась буря. Это была самая необычная буря из всех виденных мной в Африке. Просто я не могу вспомнить ни одну, которая была бы на нее похожа. Она началась, как обычно, с холодного, пронизывающего ветра. Затем ветер стих, внезапно небеса ожили и заблестели маленькими огоньками. Казалось, они летели горизонтально, оставляя за собой сияющую паутину. В свете этих огоньков, которые, если бы не их мягкое свечение и большая яркость, напоминали бы падающие звезды, я заметил, что Айша обращается к людям, стоявшим перед ней с опущенной головой, без движения, а охрана отошла назад. — Если бы я хотел получить награду в виде скота или жены, я выглядел бы счастливее, чем эти обожатели луны, баас, — заметил задумчиво Ханс. — Может быть, все зависит от того, что это за скот и что за жены, — ответил я. — Если скот мочится кровью и может заразить стадо, или дикие быки могут затоптать тебя, или жены — старые вдовы со злыми языками, я думаю, ты выглядел бы так же, как и они, Ханс. Я не знаю, что заставило меня произнести эти слова, но мне кажется, что это было некое предчувствие надвигающейся опасности, которая предопределялась самим характером этого места. Сама природа, похоже, выбрала эту сцену, окруженную развалинами, для любопытной драмы, свидетелями которой мы оказались. — Я никогда не думал об этом, баас, — ответил Ханс. — Но правда в том, что не все подарки хороши, особенно дары ведьмы. Пока он так говорил, маленькие лучи света потихоньку пропадали, оставляя позади себя темноту, сквозь которую, далеко над нами, снова подул ветер. Внезапно в небе возникло светящееся лезвие, и я увидел, как Айша высится, высокая и строгая, а ее рука протянута в сторону линии мужчин, стоящих перед ней. Лезвие исчезло, за ним последовала темнота и почти мгновенно обернулась еще более ярким лезвием, которое, казалось, упало на землю потоком огня и сконцентрировалось в пятне пламени в том месте, где стояла Айша. Сквозь это пламя, или в сердце его, я увидел Айшу и группу людей впереди нее. Эти люди отступили назад, пока Айша стояла в одиночестве, протянув руку. Затем стало еще темнее, один раскат грома следовал за другим, так что земля тряслась и вибрировала. Никогда в своей жизни я не слышал такого ужасного грома. Он так напугал зулусов, что они опустили голову, кроме Гороко и Умслопогаса, чья гордость не позволила им упасть на колени, ведь Умслопогас имел репутацию укротителя небес или хозяина бурь. Признаюсь, что хотел бы последовать их примеру и лечь на землю, поскольку был смертельно напуган. Но я не лег. В конце концов гром утих и самый страшный ураган внезапно закончился. Дождя не было, что само по себе было удивительно и необычно, но наступила странная тишина. Темнота постепенно проходила, солнце снова появилось на западе. Его лучи упали на то место, где стояла группа амахаггеров, но сейчас ни одного из них не было видно. Они все ушли, и Айша вместе с ними. Они так быстро исчезли, что я подумал, что мы стали жертвой иллюзии, если бы не мертвые люди, которые лежали на земле и выглядели очень маленькими и одинокими; они казались точками на таком большом расстоянии. Мы посмотрели друг на друга и на них, затем Гороко заявил, что он должен проверить тела людей, чтобы понять, свет ли Кора убил их, как это бывало всегда, или что-то иное покарало их и отбросило друг от друга. Он объявил, что может это определить по следам на этих несчастных. Поскольку я тоже причислял себя к любознательным и хотел посмотреть, что случилось, я согласился пойти с ним. Итак, за исключением раненых, которым, по моему мнению, стоило избежать подобного напряжения, мы отправились через обломки упавшей стены и, пройдя открытое пространство, достигли места трагедии, не встретив никого по дороге и не увидев ничего особенного. Погибшие, все одиннадцать человек, лежали в одну линию, как стояли перед этим. Все они лежали на спине, с широко открытыми глазами и выражением ужаса, застывшего на их лицах. Некоторых из них я узнал, как и Ханс и Умслопогас. Это были воины или вожди, маршировавшие передо мной до атаки Резу, хотя до того момента я не видел никого из них, пока мы не начали приближаться к месту битвы. — Баас, — сказал Ханс, — мне кажется, что это предатели, которые убежали и выдали Резу все тайны, в результате чего он атаковал нас на границе, вместо того чтобы ожидать нашего нападения в долине, как мы планировали. В конце концов, никто из них не участвовал в битве, а еще я слышал, как амахаггеры разговаривали с несколькими из них. Я ответил, что, если бы это было так, свечение пометило бы их очень хорошо. В это время Гороко исследовал один труп за другим и сказал: — Эти несчастные погибли не от лучей света, а от колдовства. На них нет ожогов, и одежда не обожжена. Я подошел поближе, чтобы осмотреть тела, и нашел, что это действительно так: внешних повреждений на всех одиннадцати не было никаких. Единственное, что бросалось в глаза, так это их испуганный вид. — Всегда ли свет сжигает людей? — спросил я Гороко. — Всегда, Макумазан, — ответил он. — Кроме того, большинство из этих мертвецов носили ножи, которые должны были расплавиться. А их ножи выглядят так, как будто только что вышли из кузницы и отлично заточены! — И он поднял некоторые из них, чтобы показать мне. Это было действительно так, и здесь я должен отметить, что мои наблюдения совпали с опытом Гороко, поскольку я никогда не видел никого, кто был бы убит светом и при этом его одежда была бы совершенно цела. — О, — сказал Умслопогас, — это проделки ведьмы, а не возмездие Небес. Это место заколдовано. Давайте уйдем отсюда, пока нас не постигло наказание, потому что мы не заслужили такой кары, как эти предатели. — Нам нечего бояться, — ответил Ханс. — С тех пор как у нас появился Великий талисман Зикали, который может загасить любой огонь, как старуха связку прутьев, нам ничего не страшно. — (Тут я могу отметить, что Ханс первым побежал со страшного места, причем с невероятной скоростью.) Мы вернулись в лагерь без дальнейших разговоров, поскольку зулусы были напуганы, и я признался себе, что не могу ничего понять, хотя, без сомнения, этому природному явлению должно было быть простое объяснение. Оно обязательно должно быть! Этот Кор поистине странное место, у которого есть свои легенды, сердитые амахаггеры и их таинственная королева. Ею я, несмотря на то что совершенно этого не хотел, все время интересовался, заинтригованный ее властью, присущей всем красивым и талантливым женщинам. Я вспомнил, как она обещала дать дальнейшие объяснения своей силы не позднее чем через один-два часа. Но теперь я начал сожалеть, что вообще когда-то попросил ее об этом. Поскольку кто мог знать, чем все это закончится? Умслопогас думал приблизительно так же, как я, в любом случае он отправился на ужин, не вспомнив о ней. Я же, убедившись, что Инес до сих пор спит, последовал его примеру и пообедал, хотя и без своего обычного аппетита. Когда я закончил, солнце клонилось к закату в абсолютно чистом небе. Я решил, что могу отправиться спать пораньше, отдав приказ, чтобы меня не беспокоили. Но удача отвернулась от меня, потому что, как только я снял накидку, прибыл Ханс и сказал, что снаружи ждет Билали, чтобы отвести меня кое-куда. Мне ничего не оставалось, как снова одеться. Еще до того, как я завершил туалет, прибыл сам Билали. Он не был так величествен и необычно спешил. Я спросил его, в чем дело, и он ответил не очень убедительно, что чернокожий, убийца Резу, стоит у двери со своим топором. — Он всегда ходит с топором, — сказал я. Затем, вспомнив тревоги Билали, я объяснил, что он не должен обращать слишком большого внимания на несколько грубых слов, которые были сказаны обычно мягким и спокойным человеком, чьи нервы просто не выдержали. Старый человек поклонился и покачал бородой, но я заметил, что, пока Умслопогас был рядом, он прикрывался мной как щитом. За домом я нашел Умслопогаса, который опирался на топор и глядел в небо, где мелькали последние красные лучи заката. — Солнце село, Макумазан, — сказал он. — Время пойти к Белой королеве, как она просила, и узнать, сможет ли она действительно провести нас вниз, где живут мертвые. Значит, он не забыл, что привело меня в замешательство. Чтобы не показывать своих сомнений, я спросил его с напускной доверчивостью, не боится ли он рискнуть отправиться в это путешествие в мир смерти. — Почему я должен бояться дороги, по которой все равно когда-нибудь пройду, и ворот, в которые все стучатся время от времени, особенно те, кто ведет войны, как я и ты, Макумазан? — спросил он с тихим почтением, что заставило меня устыдиться. «В самом деле — почему? — спросил я, обращаясь к самому себе. — Хотя я предпочел бы другую дорогу». После этого мы отправились в путь, не говоря ни слова. Я старался выглядеть спокойным, думая о том, что все это мероприятие является сущей ерундой и бояться совершенно нечего. Вскоре мы прошли мимо разрушенной арки, и нам было позволено войти к Айше. Когда Билали, оставшись позади нас, поднял занавески, я увидел, к своему изумлению, что Ханс вполз за нами и сидел рядом, достаточно близко, очевидно в надежде увидеть все, что можно. Позднее я понял, что он каким-то образом угадал или даже был уверен в нашем визите и его любопытство пересилило страх перед Белой ведьмой. Или, возможно, он мечтал наконец посмотреть, так ли ее лицо уродливо под вуалью, как он предполагал. В любом случае он тоже был здесь, и если даже Айша заметила Ханса — думаю, так и было, я понял это по ее кивку, когда она посмотрела в его сторону, — она промолчала. Какое-то время она сидела, молча разглядывая нас. Затем сказала: — Почему вы пришли так поздно? Те, кто хочет встретиться со своей умершей любовью, обычно торопятся, а вы не спешили. Я пробормотал какие-то извинения, но она не стала слушать их, а продолжала: — Я думаю, Аллан, что твои сандалии, которые должны летать на крыльях, как у римского Меркурия, отяжелены страхом. Это не кажется мне странным, поскольку вы собираетесь к Воротам смерти, а их боятся все, даже сама Айша, потому что кто знает, что может там произойти? Спроси Того, кто носит топор, боится ли он? Я повиновался, переведя все, что она сказала, на зулусский, насколько мог. — Скажи Королеве, — ответил Умслопогас, когда все понял, — что я ничего не боюсь, кроме женского языка. Я готов пройти Ворота смерти и, если надо, никогда не возвращаться оттуда. Я знаю, что у белых людей все иначе, потому что темнота учит страху, наполнена ужасами, которые неведомы черным людям. Мы верим, что существуют привидения и духи наших отцов живут там, и поскольку мне представился хороший случай узнать, так ли это на самом деле, я превыше всего желаю встретить там одно привидение, из-за которого я и оказался на этой далекой земле. Скажи это Белой королеве, Макумазан, и еще скажи ей, что, если она захочет отправить меня в то место, откуда нет возврата, я, тот который не любит этот мир, не буду винить ее, хотя, по правде говоря, для себя уже решил умереть в сражении. Теперь я все сказал. Когда я перевел Айше его слова, она ответила так: — Его дух так же силен, как и его тело, а как насчет твоего духа, Аллан? Ты также готов рисковать до последнего? Знай, что я ничего не могу пообещать тебе, кроме как отправить твою душу в глубины смерти. И — хотя в этом я не уверена — ты должен пройти через Ворота смерти, которые могут закрыться за твоей спиной, и сделает это рука более сильная, чем моя. Более того, я не знаю, что ты найдешь там, потому что у каждого из нас есть свой рай и свой ад, куда рано или поздно он все равно отправится. Пойдешь ли ты вперед или назад? Ты должен сделать выбор, пока у тебя есть время. Во время этого разговора я чувствовал, что мое сердце трепещет, как засохший лист, если я могу использовать это слово, а моя кровь охладилась до состояния льда. Мог ли я проклинать себя за то любопытство, которое привело меня к тому, что сейчас я стою на краю ужаса, получив такой шанс. Я колебался и спросил Айшу, будет ли она сопровождать меня в этом странном путешествии. Она засмеялась: — Подумай сам, Аллан. Могу ли я сопровождать мужчину, который хочет встретить свою любовь, которую когда-то потерял? Что там подумают или скажут, если они увидят мою руку в твоей? — Я не знаю и не думаю об этом, — ответил я в отчаянии. — Но это такое путешествие, в котором каждый ищет проводника, знающего дорогу. Не может ли Умслопогас пойти первым и затем вернуться, чтобы рассказать, как все было? — Смелый и вооруженный белый господин, посвященный в последнюю веру мира, не постыдится бросить дикаря, как перо, чтобы проверить ветер и посмотреть, прилетит ли оно обратно, или бросит его в огонь? Что ж, такой приказ может быть отдан. Спроси его сам, Аллан, хочет ли он исполнить твое поручение ради тебя. Или, может быть, маленький желтый человечек… — И она замолчала. В этом месте Ханс, который знал арабский и понял кое-что из нашего разговора, больше не мог сдерживаться. — Но, баас, — он выбежал из своего укрытия за занавеской, — только не я! Я не хочу охотиться за привидениями, баас, они не оставляют следов, по которым вы сможете идти, и всегда находятся позади нас, когда мы думаем, что они впереди. И потом, так много людей ждет меня обратно, и как я могу бросить их, пока я сам чего-то боюсь? И если вы хотите погибнуть, когда ваш дух покинет вас, я должен быть рядом, чтобы достойно предать моего господина земле. — Помолчи! — сказал я жестко. Затем, не в силах больше выносить насмешки Айши, потому что чувствовал, что она смеется надо мной, я добавил со всем благородством, на которое был способен: — Я готов пройти сквозь Ворота смерти, Айша, если ты покажешь мне дорогу. Я пришел в Кор именно с этой целью — узнать, если смогу, живут ли где-то в другом месте те, кто уже покинул наш мир. Итак, что я должен делать?Глава 21
УРОК
— Да, — ответила Айша, тихо засмеявшись, — ты пойдешь один, о искатель правды Аллан, чье любопытство так сильно, что целый мир не может удовлетворить его, даже если ты пришел в Кор не искать богатства и новых земель или сражаться с дикарями. Здесь ты даже не для того, чтобы посмотреть на некую Айшу, о которой тебе говорил старый мудрец, хотя я думаю, что тебе всегда нравилось срывать вуали, которые скрывают женские лица, если не их сердца. Да, это именно я привела тебя в Кор в своих собственных интересах, а не для твоего удовольствия. Советы Зикали и его Талисман здесь ни при чем. Хотя если бы не белая женщина, похищенная Резу, ты никогда не предпринял бы такое путешествие и даже не нашел бы дороги. — Как ты могла связаться с этим делом? — спросил я в гневе, поскольку нервы мои были на пределе. Я и сказал первое, что пришло мне в голову. — Это вопрос, над которым ты должен подумать, Аллан, какое-то время, над солнцем или под солнцем, обдумать многие другие вещи, связанные со мной, которые твой разум, запертый в железном ящике равнодушия и гордости, до сих пор не может понять. Например, ты не можешь понять, и я уверена в этом, каким образом огни убили те одиннадцать человек, чьи тела ты ходил осматривать час назад, и остальных, которые не тронуты. Да, я должна сказать тебе, что это не огонь убил их, хотя сила, которая бушевала во мне, могла многим принести смерть. Их убило то, что зулусский шаман называл мудростью. Я убила их своим колдовством, потому что они выдали твою армию Резу. О, ты не веришь, но ты вскоре все поймешь, хотя бы мне пришлось убить тебя. Вот в чем дело, Аллан. Убить тебя достаточно просто, но убить тебя, чтобы освободить твой дух, который может вернуться, значительно сложней. Это единственное, что я могу сделать, — и даже тут я не уверена в себе. — Помолись, чтобы эксперимент не удался… — встревожился я. Но она остановила меня: — Не прерывай меня больше, Аллан. Своими сомнениями и тревогами ты можешь вызвать большее зло, чем есть на самом деле, и сделаешь меня неуверенной тоже, тем самым лишив меня дара. Не пытайся улизнуть, потому что сеть вокруг тебя уже свита и тебе не укрыться, ты как маленькая оса в паутине или как птицы перед глазами василиска. Это была правда, потому что я не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Я был словно приморожен к этому месту, и мне не оставалось ничего, как только проклинать свою глупость и молиться. Все это время Айша продолжала говорить, но из всего того, что она произносила, я не извлек ни малейшей идеи, потому что рассудок, который еще у меня оставался, был поглощен этими колдовскими заклинаниями. Внезапно я обнаружил Айшу сидящей в башне, вокруг нее были колонны, а позади алтарь, на котором горел огонь. Все люди вокруг нее были в капюшонах, как у змеи, похожих на тот золотой, что был одет на ней. Этим змеям она пела, а они танцевали вокруг нее, да, танцевали вокруг на своих хвостах! Я не понял, что означала эта сцена, пока не догадался, что так богиня магии консультировалась со своими подопечными. Затем видение исчезло, и голос Айши показался мне очень тихим и далеким, и ее красота представилась мне словно сквозь вуаль, как будто я обнаружил в себе новое чувство, которое не поддавалось обычному объяснению. Даже в этом состоянии я понял, что это последняя вещь, на которую я смотрел, которая должна быть такой великолепной. Хотя на самом деле нет, это была не последняя вещь, потому что краем глаза я заметил, что Умслопогас, который сидел, упал назад, как мертвый, вместе с топором, который он все еще сжимал в руках, как будто его рука превратилась в лед. После этого со мной стали происходить всякие непонятные вещи, мне даже показалось, что я умираю. Как будто бы меня подхватил сильнейший ветер и стал носить меня, как лист на зимнем ветру. На меня обрушилась страшная темнота, которая сопровождалась вспышками света, яркими как молнии. Я почувствовал обрыв под ногами, затем какая-то страшная сила подняла меня к небесам… С небес я был скинут вниз, в водоворот чернильной ночи, в котором я постоянно кружился, как мне показалось, много часов. Но хуже всего было ощущение ужасного одиночества, от которого я очень страдал. Мне казалось, что вокруг во всей Вселенной не было ни одной близкой мне живой души. Я чувствовал себя частью Вселенной, которая в одиночестве вращается в космосе из века в век в неистовых поисках близкого человека и никого не находит. Затем что-то сжало мне горло, и я понял, что умираю — потому что жизнь как будто покидала меня. Теперь страх и все иные смертные чувства оставили меня, сменившись новым, духовным страхом. Я или, точнее, мое бестелесное сознание, казалось, просыпается для Страшного суда, и ужас состоял в том, что я представлялся своим собственным судьей. Мой дух, воплощение холодного суда, вырос, сел на трон, и с беспристрастностью я начал разбирать свои злодеяния. Будто какая-то часть меня оставалась смертной, поскольку я мог видеть свои глаза, рот и руки, но больше ничего, но и они как-то странно выглядели. Из глаз текли слезы, изо рта вылетали слова, руки соединены, словно в молитве тому духу на троне, которым был я сам. Казалось, мой дух спрашивал, как мое тело служит своим целям и использует свою силу. И в ответ — исповедание несчастной истории моей жизни. Ошибка за ошибкой, слабость за слабостью, грех за грехом, никогда прежде я не понимал, насколько страшными были мои воспоминания. Я пытался облегчить жуткое впечатление несколькими случаями добра, но небеса этого не слышали. Казалось, что они уже собрали все мое добро и знают о нем. Они хотели знать о зле, а не о добре, которое улучшало жизнь, — о зле, которое приносило вред. В моей памяти стало пробуждаться нечто из того, о чем говорила Айша: то, что тело живет в духе, часто сопротивляясь, а не дух в теле. Я услышал мой собственный приговор самому себе, я знал, что он будет безусловно принят и записан, хорошо это или плохо. Но ничего не случилось, хотя весы склонялись то в одну, то в другую сторону. Если можно так сказать, некие силы оттолкнули меня назад. Я был выкинут через бесконечность, и, пока я летел быстрее скорости света, ко мне пришло значение того, что я увидел. Я знал или думал, что в конце концов каждый человек должен ответить самому себе или, может быть, тому божественному, что есть в каждом, вне его собственной воли. Через множество лет он поднимается или падает согласно его природе; из того, чем он был, он превращается в то, что есть, рождая то, чем он должен быть. Теперь я увидел бессмертие, и его лицо было прекрасным и ужасным. Оно сжало меня своим дыханием, и в его руках я родился заново, я, который знал самого себя без начала и без конца и все-таки не знал ничего о прошлом и будущем, считая, что они полны тайн. Когда я вышел из этого состояния, я встретил остальных, проделав то же самое путешествие. Робертсон плелся за мной и говорил, но я не понимал его языка. Я заметил, что безумие покинуло его глаза и его тонкие черты спокойны и одухотворенны. Остальных путников я не знал. Я пришел туда, где горел яркий свет. В моей голове возникла мысль, что я должен достичь солнца, хотя и не чувствовал жары. Я стоял в прекрасной солнечной долине, которую окружали сполохи огня. В долине стояли огромные деревья, но они сверкали как золото, а их цветы и фрукты были расцвечены разными красками. Это было поистине райское место, вне всякого сомнения, но мне оно казалось очень странным, и описать его я не могу. Я сел на большой камень, который сиял, как рубин, не знаю, от жара или от света, на краю потока, который был похож на огонь и источал красивую музыку. Я опустился и выпил этой воды из огненного потока, аромат и вкус которой были похожи на дорогое вино. Потом я сел под раскинувшимися ветками дерева, переливающегося всеми красками, и увидел странные цветы, которые росли вокруг, раскрашенные, как бриллианты, и пахнувшие так, что невозможно себе представить. Рядом кружились птицы, чьи перья были украшены сапфирами, а их песни были такими печальными, что я плакал, слушая этих птиц. Вся окружающая картина была такой восхитительной, что наполнила меня восторгом. Я подумал, что на земле, которая рождает такие чудеса, никогда не бывает ночи. Начали появляться люди: мужчины, женщины и даже дети, хотя я не видел, откуда они выходили. Они не летели и не шли, казалось, что они плыли ко мне, как дрейфуют неуправляемые лодки. Они были симпатичны мне, но это была не земная красота, хотя их внешность и формы напоминали обычных, но красивых людей. Они не были старыми, но все, за исключением детей, не выглядели молодыми. Казалось, что они достигли среднего возраста и решили, что это лучшие годы жизни. И вдруг произошло чудо: все эти люди оказались известны мне, хотя, насколько я помню, я никогда раньше не видел большинство из них. И все-таки я был уверен, что в какой-то прошлой, забытой жизни я был близко знаком с каждым из них. И именно мое присутствие и подсознание привели их сюда. Да, именно присутствие и то, что меня нельзя было ни увидеть, ни услышать, я думаю, вызвало исключительно сильный поток симпатии, а почему — они не понимали. Как будто это было хорошо, что они меня не видели, как будто они не общались со мной и я не мог говорить и сказать им о моем присутствии. Некоторых из них я, однако, знал достаточно хорошо, даже если мы расстались много лет назад. Кроме того, я понял, что к каждому из них я чувствовал симпатию или дружбу. Не было ни одного человека, которого я бы не любил или не хотел бы увидеть еще раз. Если они говорили, а я не мог слышать, я мог понимать, о чем они думают. Многое я не мог понять, потому что имел недостаточно знаний, или их мысли были достаточно трудны для меня, но некоторые были просты, например наше пребывание на земле, дружба, путешествия, искусство, литература, чудеса природы. Каждая мысль, как я заметил, была высказана и заключена в форму молитвы или небесного послания, как фрукт в его ароматной кожуре. И эта молитва была слышна повсюду, я не знаю почему. Более того, все эти мысли, даже самые скромные, были красивыми и одухотворенными, и в них не было ничего жестокого или грязного, они излучали чистоту, доброту и милосердие. В этой долине, как я заметил, не было ничего общего с нашим земным бытием. Когда эта истина пронзила мою душу, я понял, что был чужаком в этой компании. Что еще хуже, хотя я сознавал, что все эти яркие люди были возле меня в какой-то момент времени и пространства, но их жизнь, как незнакомая мелодия, пролетала мимо меня и не имела ничего общего со мной. Между ними и мной существовали огромная пропасть и высокая стена. О, посмотрите-ка! Прошла одна, сияющая, как звезда, и издали шествовала другая, чьи глаза были похожи на голубиные. Они выглядели превосходно, а последней шла девушка, чьи глаза напоминали глаза той, которую мое сердце назвало матерью. Да, я знал их всех. Сюда явились именно те женщины, ради которых я пришел. Те, которые жили на земле, и при виде их мой дух затрепетал. Неужели они не обнаружат меня? В конце концов, они должны были почувствовать мое присутствие. Но хотя они стояли в шаге или двух от меня, ничего не произошло. Кажется, они поцеловались и обменялись любезностями о таких вещах, о которых я не имел представления. Их одежды сияли. Я встал, чтобы подойти к ним, но не смог, я хотел заговорить, но не мог, я хотел, чтобы они уловили мои мысли, но и этого не произошло. Все это отскочило от меня, как резиновый мячик. Они оказались далеко от меня, очень далеко. По моим щекам текли горькие слезы, потому что я был так близко и так далеко, неистовая ярость бушевала в моем сердце. Мне казалось, что они чувствовали это, или я все это придумал? В любом случае они отступали все дальше и дальше от меня, как будто что-то причиняло им боль. Да, моя любовь не могла настичь их совершенные натуры, но мой гнев ранил их. Пока я сидел, испытывая горечь разочарования, появился мужчина, по виду очень знатный, в нем я узнал своего отца, он выглядел более молодым и счастливым, чем я его помнил, но все-таки это был именно он. С ним шли другие люди, мужчины и женщины, в которых я узнал своих братьев и сестер, умерших в молодости далеко в Оксфордшире. Я ощутил радость, потому что подумал: они действительно узнали меня и должны поприветствовать, ведь голос крови должен был остаться… Но этого не случилось. Они разговаривали, обменивались репликами, но не со мной. Я улавливал что-то переходившее от моего отца к ним. Это были некие мысли насчет того, что привело их всех сюда, ответ был неожиданным: они должны были встретить кого-то, кто придет издалека и будет выглядеть одиноким и неприветливым. Затем мой отец сказал, что он не видит и не чувствует этого пришельца, хотя это может быть не так, поскольку его миссией было встретить этого человека. Неожиданно все исчезли, и цветущая долина опустела, к счастью для меня, сидящего на камне, похожем на рубин, и роняющего слезы стыда, которые исходили из моей души. Так я просидел достаточно долго, пока не почувствовал, что кто-то появился поодаль. Темная и прекрасная фигура в богатой, но варварской одежде. Она быстро подошла ко мне, как копье, пущенное издалека, и я узнал в ней женщину королевской крови, дикарку, которую на земле называли Мамина, Завывающий ветер. Более того, она двинулась ко мне, хотя не могла меня видеть. — Ты здесь, Бодрствующий в ночи, глядишь на свет? — Она спросила или подумала, я не знаю, но слова звучали на зулусском языке. — О, — продолжала она, — я знаю, что ты здесь, на расстоянии тысяч миль отсюда я почувствовала твое присутствие и прибыла сюда, чтобы поприветствовать тебя, хотя я должна заплатить за это рабством. Как здесь оказались те, кого ты искал? Пожали ли они руки, поцеловали тебя? Или они убежали, потому что на моих руках и губах запах земли? Я отвечал, что они так и не появились, узнав, что я здесь. — Они не ведают, потому что их любовь достаточно велика, потому что они слишком хороши для любви. Но я грешница, я знаю это хорошо, и я здесь и готова страдать за тебя и найти место, где нет бури. Забудь их и пойдем со мной править, я еще королева в своем доме, который ты разделишь со мной. Мы будем жить роскошно, и когда придет наш час, мы проживем свою жизнь достойно. Прежде чем я смог ответить, какая-то сила схватила это прекрасное создание и унесла его. Женщина исчезла, оставив на прощание лишь слова: — Прощай, но ненадолго, и всегда помни, что Мамина, Завывающий ветер, всего лишь грешная женщина — женщина, которая любит, она нашла тебя там, где все остальные забыли про тебя. О Макумазан, взгляни на меня в ночи, и тогда ты найдешь меня, Дитя Бури, снова и снова. Она ушла, и я опять оказался в полном одиночестве на этом рубиновом камне, глядя на бриллиантовые цветы, и пылающие деревья, и журчащие огненные воды ручья. Я гадал, что за смысл во всем этом, и почему я был оставлен всеми, даже дикаркой, и как она смогла найти меня, чего никто не мог сделать? Да, она дала мне ответ, потому что была «грешной женщиной с женской любовью», в то время как другие относились иначе. Я погрузился в размышления в этом пылающем мире, столь враждебном, в котором я оказался нежеланным и ненайденным. И все равно хорошо, что так случилось. Тут в воду прыгнула собака и поплыла ко мне. Взглянув на пса, я узнал его. Это был полукровка, наполовину спаниель и наполовину бультерьер, верный друг дней моей молодости. Однажды я свалился с лошади в поле и на меня напал бешеный бык. Пес бросился на него и был поднят на рога, я же успел перезарядить ружье и выстрелить. Бедный пес отдал за меня свою жизнь. Он умер растерзанным, но лизал мою руку, забыв о своей агонии. Эта собака, по имени Смут, казалось, плыла через поток огня. Она выбралась на ближний берег, понюхала землю, побежала к моему камню и уставилась на него, скуля и принюхиваясь. Наконец она, кажется, увидела или почувствовала меня, потому что встала на задние лапы и начала лизать мое лицо, тявкая с сумасшедшей радостью. Я видел это, но услышать не мог. Я упал, обливаясь слезами, хотел схватить собаку в объятия и целовать это верное создание. Но и этого я сделать не мог, потому что, как и я, она была всего лишь тенью… Затем внезапно все растворилось в потоках цветного огня, и я полетел в бесконечную пропасть темноты. Конечно, Айша говорила со мной! Что она говорила? Я не мог понять ее слов, но я поймал ее смех и узнал ее манеру насмехаться надо мной. Мои ресницы опустились, как будто я заснул, их трудно было поднять. В конце концов они открылись, и я увидел Айшу, сидевшую передо мной на своем стуле, и я заметил: с ее прекрасного лица была снята вуаль. Я оглянулся вокруг, ища Умслопогаса и Ханса. Однако их не было, поскольку в ином случае Айша не открыла бы свое лицо. Мы были совсем одни. — Ты совершил свое путешествие, Аллан, — сказала она. — И должен мне рассказать о том, что ты там видел. Ты рад теперь увидеть после компании духов обычную смертную женщину из плоти и крови? Подойди, сядь рядом и расскажи мне, как все было. — Где остальные? — спросил я и медленно поднялся. Моя голова кружилась, и ноги не слушались. — Иди, Аллан, ты человек, который видел много привидений, что тоже бывает не с каждым. Подойди, выпей и будь мужчиной еще раз. Выпей это для меня, чей дар и сила привели тебя из тех земель, по которым никогда не ступала нога человека. — Она взяла чашу странной формы со стола, который стоял рядом с ней, и протянула ее мне. Я выпил до последней капли, не зная и не заботясь о том, вино это или яд, потому что мое сердце было в отчаянии от своего падения, а мой дух был разрушен под весом своего великого предательства. Мне кажется, что это было последнее испытание, потому содержимое чаши пронеслось по моим венам как огонь и вернуло мне мужество и радость жизни. Я шагнул к ней и встал рядом, снова склонившись так, что мое лицо было рядом с лицом Айши, которая повернулась ко мне. Таким образом я мог изучить ее одухотворенное лицо. Какое-то время она молчала, лишь смотрела на меня сверху вниз и улыбалась, как будто ожидала, когда подействует вино. — Теперь, Аллан, ты снова мужчина, и скажи мне, что ты видел. Я рассказал ей все, потому что какая-то сила внутри ее заставляла меня исторгать правду. Моя история не сильно ее удивила. — Эта правда в твоем сне, — сказала она, — тоже урок. — Так это был сон? — прервал я ее. — Разве все не является сном, даже жизнь, Аллан? Если так, то то, что ты видел, было просто сном во сне и само содержит другие сны, как шар из слоновой кости, изготовленный восточными мастерами, содержит в себе другой шар, а тот, другой — еще один, пока в самом конце не обнаруживается шарик из золота или бриллиант, который становится призом для того, кто мог вынуть один шарик из другого и не разбить их. Этот поиск был сложным и редко увенчивался успехом благодаря умению мастера. Да, я видела человека, который сошел с ума, потому что упорно искал решение данной проблемы и так и умер. Насколько сложно найти бриллиант Правды, который лежит в центре нашего гнезда снов и без которого они не могут стать реальностью? — Но это был действительно сон? И если так, то где же истина и в чем урок? — спросил я, твердо решив не позволить ей смутить меня или запутать метафизическими пояснениями. — На первый вопрос ответ есть, Аллан, насколько я могу ответить, ведь я не являюсь архитектором этого великого космоса снов, а ты не можешь видеть прекрасный камень внутри, чьи лучи освещают их субстанцию. Лишь те, кто имеет внутренний взгляд, могут разглядеть их, этот блеск в ночи мысли, но для большинства они так и остаются темными, как светлячки в ночи. — Так в чем же правда и в чем урок? — настаивал я, понимая, что безнадежно пытаться выудить у нее признание о реальной природе моих экспериментов и я вынужден согласиться с ее выводами. — Ты говорил, Аллан, что во сне видел самого себя на троне, искавшего собственного суда. Вот та правда, о которой я говорила, хотя как можно найти ее в черной равнодушной раковине того, чей ум так мал, я не могу угадать, потому что верю, что это было открыто мне одной. (Тогда я подумал, что начал было познавать происхождение этих фантазий и что Айша просто ошиблась. Если у нее была своя теория и я обнаружил ту же теорию в состоянии гипноза, было бы нетрудно угадать ее шифр. Однако мой рот был закрыт, и, к счастью для меня, она не пыталась прочитать мои мысли, может быть, потому, что была слишком занята раскидыванием сети запутанных слов.) — Все люди почитают своего собственного Бога, — продолжала она, — и зачастую не знают, что Бог живет в них самих и что они часть его. Он живет внутри их, и мы сами формируем его по собственному вкусу, как гончар мнет глину и под его пальцами она принимает ту форму, какую он захочет, хотя он оставляет Бога бесконечным и неизменным. Он все еще ориентир и искатель, молящийся и выполняющий молитву, любовь и ненависть, добродетель и порок, поскольку все эти качества его духа воплощаются в едином и вечном Боге. Поскольку Бог во всех этих вещах и они в нем, люди одевают его в такие различные одежды и его присутствие скрывается под многими масками. В дереве накапливается сок, хотя кто знает, питается ли дерево только соком? В чреве мира горит огонь, который дарит жизнь, хотя этот же огонь может погубить землю. В небесах парит воздушный шар, и никто не знает, что за сила заставляет его вращаться и время от времени поворачиваться на другой курс. Для всех Бог — судья или множество судей, потому что каждое создание само вершит свой суд, согласно своим законам, которые Бог установил в самом начале. Таким образом, в груди каждого существа есть правило, и по этому правилу продолжается работа в бесчисленной цепочке жизней, в конце которой мы отправляемся на небеса или вниз, туда, где ад и смерть. — Ты имеешь в виду совесть? — тихим голосом предположил я, потому что ее мысли и образы взяли верх надо мной. — Да, совесть, если хочешь, и можешь усвоить только этот термин, хотя он не совсем верен. В моем понимании совесть не одна, их много. У меня одна, у тебя — другая, у черного Владыки топора — третья, у маленького желтого человечка — четвертая и так далее. Даже у собаки есть своя совесть и, подобно тебе или мне, в конце концов, свой собственный суд, потому что искра, которая ниспослана сверху, рождает огонь во мне, и он горит, как тлеющий янтарь зеленого дерева… — Когда придет день твоего суда, Айша, — прервал я ее, — я надеюсь, ты вспомнишь, что смирение не является твоей добродетелью. Она улыбнулась в своей обычной живой манере — я видел эту улыбку лишь дважды или трижды в жизни, и она была как вспышка молнии в облачном небе, потому что бóльшую часть времени ее лицо было надменным. — Хороший ответ, — сказала она. — Принудить смирного быка — и он станет сильным и будет рыть копытом землю. Смирение! Что мне делать с ним, Аллан? Позволь смирению стать частью тех, у кого слабая душа, а для тех, кто правит, как я, оно не нужно. Нас мало, и нужно быть гордой и величественной, чтобы заслужить это. Помолчав немного, она продолжила: — Итак, я сказала тебе про правду, которую ты видел, теперь ты хочешь услышать урок? — Да, — ответил я, — я готов сделать это сейчас, и, без сомнения, это будет полезно для меня. — Урок, Аллан, в том, чему ты поучал, — в смирении. Тщеславный человек и глупый, как ты, не пожелает отправиться в подземный мир в поисках тех, кто когда-то был всем для него, — их было немного, пара человек, и все. Тысделал это потому, что искал ответ на вопрос: живы ли они за Воротами тьмы. Да, ты говорил это, но не надеялся узнать правду, что они живут в тебе, и только в тебе. Ты в своем тщеславии не мог нарисовать себе такую картину, в которой они живут как отвергнутые души в небесах, ты думал, что они все еще на земле и освещают твой путь поцелуями. — Никогда! — воскликнул я возмущенно. — Это неправда! — Тогда я прошу прощения, Аллан, потому что сужу о тебе по другим, которые такие, какими созданы мужчины, и не вини себя, если время от времени они смотрят на женщин, которые таковы, какие они есть. По крайней мере, это было, когда я знала мир, но с тех пор вино превратилось в воду, и я думаю, что оно улучшилось. Поэтому не забывай, что могут быть и другие, даже более непохожие, чем ты, более подходящие для любви женщины, которые, как мы знаем, очень изменчивы, и возможно, загорятся новые огни и придут новые удовольствия. Ты понимаешь меня, Аллан? — Думаю, что да, — вздохнул я. — Я понимаю, что ты имеешь в виду, что образы Вселенной вскоре ослабнут и люди, которые ушли в иные миры, смогут сформировать новые отношения и забыть старые. — Да, Аллан, как и те, кто остается на этой земле в то время, как другие ушли. Разве мужчины и женщины не вступают повторно в брак, как они хотели делать в мое время? — Конечно, это позволено. — Как и многое другое, это возможно, поскольку есть так много людей, из которых можно выбрать, так почему же надо все время оставаться в одном из них, обедняя себя? Я понял, что это было сказано про меня, и рассердился, поскольку чувство юмора тут не пришло мне на помощь, напомнив, что Айша все-таки права. Это было еще одно крушение иллюзий, только и всего. — Понимаешь ли ты, Аллан, — продолжала Айша, видимо решив, что я должен испить чашу до последней капли, — что эти жители далекой планеты, на которой ты побывал, судя по твоей истории, не видели тебя и ничего о тебе не знают? Может случиться, однако, что они не думали о тебе в то время, как в умах других ты оставался постоянно. Или может случиться так, что они вообще никогда не думали о тебе, забыли тебя, как отнятый от матери щенок забывает о ней. — По крайней мере, было одно существо, которое, кажется, помнило! — воскликнул я, отравленный ее словами обо мне. — Одна женщина. И одна собака. — Да, дикарка, дитя природы, грешница, которая ушла из жизни по собственной воле. — (Как Айша узнала об этом, не знаю, я не говорил ей.) — Это еще не конец, все еще остается тот, кто помнит, чей поцелуй был последним на ее губах. Но будь уверен, Аллан, это небольшое удовольствие — уходить от тех, чьи светлые души служат для бурных объятий. И кто знает, что может сделать мужчина, ревнующий или разочарованный в любви? И собака, которая помнит, потому что собаки более верные и преданные, чем люди. Вот в этом и состоит урок — становиться смиренным и никогда не думать, что ты держишь навечно при себе душу женщины, потому что когда-то она была к тебе добра. — Да, — ответил я, подпрыгивая в ярости. — Как ты говоришь, я получил урок, и даже больший, чем хотел. Когда ты будешь уходить, я попрощаюсь с тобой, надеясь, что когда-нибудь придет время и для твоего урока, Айша, а я уверен, что такой день настанет. Что-то говорит мне об этом, и ты получишь от него больше удовольствия, чем получил сегодня я.Глава 22
ПРОЩАНИЕ
Мои нервы были на пределе. Неужели мне все это не почудилось? Как я мог поверить, что мои видения не были вызваны сильной волей Айши? Я уже придумал свою теорию. Она состояла в том, что Айша была сильным гипнотизером, который, после того как вложил слова в уста некоего субъекта, мог направить в его мозг разнообразные фантазии. Лишь два момента были мне непонятны. Первый: как она добывала необходимую информацию о личных делах такого скромного человека, как я? Ведь они не были известны никому, даже колдуну Зикали, с которым она была тесно связана, или Хансу, который точно многое знал, однако далеко не все. Я мог предположить, что каким-то невероятным образом она добыла от них эту информацию или стимулировала мои собственные ум и память, так что я увидел тех, с кем когда-то был близок. Для ее ума было нетрудно, используя накопленные знания греков и египтян, создать целостную картину и пройтись по всем моим родным и знакомым, погрузив меня в состоянии суггестии[404]. Я не слышал и не видел того, что она делала, зная, что у нее есть доступ к необходимым фактам, которыми я один мог ее снабдить. Теперь возникает второй вопрос: что могло быть объектом ее продуманных злых чар? Я думал, что могу угадать. Во-первых, она хотела показать свою власть или, скорее, заставить меня поверить, что она имеет очень необычную силу внушения. Во-вторых, она была в долгу передо мной и Умслопогасом за победу над Резу, за что отплатила таким образом. В-третьих, я лично обидел ее как женщину, и она не упустила возможности, чтобы сравнять счет. Была и четвертая возможность — она действительно считала себя вполне хорошей учительницей и получила удовольствие, как она сама говорила, преподав мне урок, показав, насколько слабыми могут быть человеческие надежды и тщеславие в отношении к ушедшим и их привязанностям. Я не хочу утверждать, что такой анализ мотивов Айши пришел ко мне в момент моего с ней разговора, в самом деле я завершил его позднее, когда внимательно обо всем подумал, когда я нашел его отзвуки в своем сердце. А в то время, даже имея кое-какие предположения, я был слишком потрясен, чтобы составить подобные суждения. Кроме того, я был слишком рассержен и именно из-за этого и сказал ей насчет того путешествия и урока, которые ожидали ее. Может быть, слова умирающего Резу побудили меня к этим высказываниям. А может быть, тень ее будущего просто упала на мое лицо. Успех удара, однако, был впечатляющим. Очевидно, он преодолел защиту доспехов Айши и попал ей в самое сердце. Она побледнела, румянец сошел с ее лица, большие глаза потускнели, уменьшились и стали темнее, щеки побледнели. В какой-то момент она стала выглядеть весьма постаревшей, как обычная земная женщина в пожилом возрасте. Более того, она заплакала, потому что я увидел, как две слезы скатились на ее одеяние. Я был в ужасе. — Что случилось? — спросил или, скорее, выдохнул я. — Ничего, — ответила она. — Твои слова ранили меня. Разве ты не знаешь, Аллан, что это жестоко — предсказывать болезнь кому-либо, особенно если такие слова идут из самой души и жалят ядом, проникают в грудь и, возможно, приводят к концу. Самое жестокое в них то, что они становятся платой за дружбу и доброту. Я заглянул внутрь себя — да, дружба, похожая на безразличие, и доброта, которая спрятана в мягких когтях кошки. Но я убедил себя задать ей вопрос: как так получилось, что она, которая, по ее словам, обладает властью, боится чего-то? — Потому что, Аллан, как я тебе уже говорила, нет защиты, способной предотвратить удар судьбы, который, как я слышала, но не знаю почему, готовится нанести твоя рука. Посмотри на Резу, он тоже думал, что он непобедим, но был сражен топором Черного вождя, и его кости достались шакалам. Более того, я проклята тем, кто хотел украсть своего слугу с небес, чтобы стать моей любовью, и как знать, чья месть настигнет меня в конце концов? Она уже настигла меня, которая прожила долгое время среди дикарей совершенно одна, — и это не все! Я думаю, еще не все. И она заплакала — горько, по-настоящему. Глядя на нее, я впервые понял, что это возвышенное создание, которое кажется таким сильным, одновременно является самой несчастной женщиной и так же борется с одиночеством, испытывает страсть и страх, как любой смертный. Если, как она сказала, она нашла секрет жизни, во что я, конечно, не верил, для меня было очевидно, что она потеряла счастье. Она тихо плакала, и в это время ее красота, которая покинула ее на некоторое время, снова вернулась, как луч в сером и мрачном небе. О, какой неотразимой она казалась, когда сошел лоск с ее залитого слезами лица! Мое сердце таяло, когда я любовался ее лицом, я не мог думать ни о чем, кроме ее удивительного очарования и величия. — Молю тебя, не плачь, — сказал я. — Это ранит меня, и прощу прощения, если я сказал нечто такое, что могло причинить тебе боль. Но она лишь качнула головой так, что волосы упали ей на лицо, и снова заплакала. — Знаешь, Айша, — продолжал я, — ты сказала мне много неприятных вещей, сделав мишенью твоей горечи, поэтому что странного в том, что я в конце концов ответил тебе? — А разве ты не заслужил их, Аллан? — прошептала она тихо из-под вуали. — За что? — спросил я. — Потому что с самого начала ты бросал мне вызов, показывая мне всякий раз, что считаешь меня лгуньей, не реагируя на те добрые взгляды и слова, которые я обычно раздавала мужчинам. Это сильно ранило меня, и я отплатила тебе тем оружием, которым владеет бедная женщина, хотя ты и нравился мне. И она снова зарыдала, погружаясь в свою печаль глубже и глубже. Это было уже слишком. Не зная, чем еще успокоить Айшу, я взял ее руку и, поскольку это не произвело эффекта, поцеловал. Она не обиделась. Однако внезапно я все вспомнил и отпустил ее руку. Она убрала волосы с лица и посмотрела на меня. Потом, глядя на свою руку, произнесла мягко: — Что случилось, Аллан? — О, ничего, — ответил я. — Я просто вспомнил историю, которую ты рассказала мне о некоем мужчине по имени Калликрат. Она нахмурилась: — И что такого, Аллан? Разве не достаточно того, что за свои грехи я должна расплачиваться слезами, пустой постелью и раскаянием? Я должна ждать его много столетий? Могу ли я надеть его цепи, того, кому я столько должна, когда он далеко? Скажи, не видел ли ты его на небесах, Аллан? Я покачал головой и постарался обдумать то, что все это время ее лучистые глаза, казалось, вытягивали из меня душу. Мне показалось, что она склонилась к моему лицу. Я потерял здравый смысл и тоже наклонился к ней. Она сводила меня с ума, из-за нее я забывал обо всем на свете. Она нежно положила мне руку на грудь, сказав: — Останься! Что мешает тебе? Разве ты не любишь меня, Аллан? — Думаю, да, — ответил я. Она откинулась на своем троне и тихо засмеялась. — Что за слова! — сказала она. — Они слетают с губ так легко и ничего не значат. Может быть, это от долгой жизни? Аллан, я потрясена. Это тот самый мужчина, который несколько дней назад говорил мне, что соблазнить меня — все равно что соблазнить Луну? И это ты, который минуту назад говорил, что нет сердца, а его губы холодны и безучастны? А теперь? Я покраснел и встал, пробормотав: — Позволь мне уйти! — Нет, Аллан, отчего же? Я не вижу в этом ничего плохого. — И она подняла руку, тихо взмахнув ею. — Ты не такой, каким был раньше, хотя, может быть, в твоей душе есть что-то, чего сразу и не видно, — добавила она с долей досады. — Нет, я не злюсь на тебя, в самом деле, за то, что ты не поддался моим чарам, ты просто несчастный человек. Давай оставим все как есть и забудем об этом. А что касается моего ответа на твои слова о Калликрате… как ты думаешь, почему тебя не нашли те, кто когда-то обожал тебя? Потому что они не верили. Ты тоже хочешь быть неверующим? Стыдись, Аллан, своего непостоянства! Она ждала, что я что-нибудь скажу в ответ. Конечно, я промолчал. Что я мог сказать той, которая лишила меня милости и была обижена? — Ты думаешь, Аллан, — продолжала она, — что я свила вокруг тебя свою паутину, и это правда. Подумай об этом и никогда не перечь женщине, потому что она сильней тебя, ведь именно природа сделала ее такой. Что бы я ни сделала слезами, это мое древнее оружие, которое защищает и приносит мне пользу. Я снова вскочил, выкрикивая английские слова, которых, надеюсь, Айша не понимала, и она снова предложила мне сесть, продолжая: — Не оставляй меня сейчас. Даже если свет освещает мужчину, который приходит и уходит, как вечерний ветер, и делает тебя дорогим для меня человеком, все равно остается дело, которое мы должны совершить вместе. Хотя, думая только обо мне, ты забыл о Зикали, старом мудреце в далеких землях, который послал тебя в Кор и ко мне, как и оставил меня в течение часа. Это странное заявление отвлекло меня от моих личных беспокойных мыслей и заставило решительно посмотреть на нее. — Ты снова не веришь мне! — сказала она, слегка топнув ногой. — Еще раз не поверишь, Аллан, и я клянусь, что ты падешь передо мной ниц и будешь целовать мои ноги и шептать всякие глупости, которые мужчина шепчет женщине, так что потом ты не сможешь без стыда вспомнить этот день. — О нет, — перебил я торопливо. — Уверяю, что ты ошибаешься, я верю каждому твоему слову, которое ты сказала или скажешь, честное слово. — Ты лжешь. Это еще одна ложь из множества других? Продолжай. — Что продолжать? — эхом отозвался я. — А что касается послания Зикали… — Тут я замолчал. — Мой разум напомнил мне, что знахарь хотел что-то узнать о каком-то великом предприятии — будет ли оно удачным, но его детали он сообщит только тебе. Повтори мне все. Так, втайне довольный, что удалось уйти от более опасных тем, я вкратце рассказал ей все, что знал об истории старого колдуна и его вражде с королевским домом зулусов. Она слушала, внимая каждому слову, затем сказала: — Итак, Зикали хочет знать, победит ли он или окажется побежденным, именно поэтому он отправил тебя в это путешествие. Но я не могу сказать этого, потому что не имею ничего общего с предприятием, которое кажется для него таким важным. Но поскольку я обязана ему за то, что он прислал сюда черного человека с топором, чтобы победить моих врагов, и тебя, чтобы осветить ненадолго мое одиночество, я постараюсь. Поставь эту чашу передо мной, Аллан. — Она указала на мраморную треногу, на которой стоял сосуд, наполовину наполненный водой. — И подойди, сядь рядом со мной и посмотри в него. Потом скажи, что ты видишь. Я последовал ее указаниям и склонил голову над водой, пристально глядя туда в положении человека, которому будут мыть голову. — Это довольно глупо, — сказал я униженно, потому что в этот момент, как мне показалось, узнал царицу Савскую[405], поскольку никаких других духов во мне не было. — Что я должен увидеть? Я ничего не вижу. — Посмотри снова, — сказала она, и вода затуманилась. Затем возникла картинка. Я видел внутренний двор кафрского дворца, слабо освещенный единственной свечой, которая находилась в горлышке бутылки. Слева от двери стоял остов кровати, на нем лежал связанный умирающий мужчина, в котором, к моему ужасу, я узнал Кечвайо, короля зулусов. У кровати стоял другой человек, — (и тут я постарел на несколько лет), — он, склонившись над кроватью, что-то шептал в ухо умирающему. В гротескной фигуре я узнал Зикали, Открывателя дорог, чьи светящиеся злые глаза были направлены на испуганное и измученное лицо короля. Все, что случилось потом, я описал в книге «Все кончено». Я описал Айше все то, что видел, и, пока я это делал, картинка в сосуде исчезла, ничего не осталось, лишь чистая вода в мраморной чаше. Эта история, казалось, не заинтересовала ее, она отклонилась и зевнула. — Это хорошее видение, Аллан, — сказала она равнодушно, — и очень далекое. Ты не можешь увидеть того, что происходит на Солнце или других звездах, а те изображения, что ты увидел в воде, ничего не говорят о картинках в глазах женщины. И все это случается в течение одного часа. Дела дикарей не касаются меня, и я ничего больше не знаю об этом. Хотя мне кажется, что колдун, твой друг, будет доволен тем, что ты увидел. На этой картине король, которого он ненавидит, лежит умирающий, а он сам что-то нашептывает ему на ухо, и ты видишь его конец. Что еще ему нужно? Скажи ему это, когда вы встретитесь, а еще скажи, чтобы в будущем он меня больше не беспокоил, потому что я не люблю просыпаться и слушать его невнятную болтовню и фантазии дикарей. В самом деле, он хочет слишком много. И довольно о нем и его темных делах. Ты хотел получить желаемое удовольствие, и вы все его получили. — Даже более чем, — вздохнул я. — Я думаю, что урок, который тебе преподнесли, не слишком тебе понравился. Удовлетворись тем, что это обычное дело. Разве ты не испытываешь горечи после того, как все твои желания удовлетворены? Поверь мне, мужчина не может быть счастлив, пока не достигает земли, где нет никаких удовольствий. — Это то, чему учит Будда[406], Айша. — Да, я очень хорошо помню учение этого мудрого человека, который, без сомнения, нашел ключ к Воротам правды, только лишь ключ, хотя их много, этих ключей. Да, мужчина должен познать удовольствие, потому что без них, одетое в борьбу, надежды, страхи и в саму жизнь, человечество может вымереть. Но это не является желанием Господина жизни, который хочет нянчить души своих слуг, в чьих руках находятся мечи добра, и я придам им форму, соответствующую каждому. Так получается, Аллан, что то, что мы считаем худшим, обычно лучшее для нас. Зная это, мы умнеем, а горечь уходит от нас сквозь слезы. — Я часто думал об этом, — сказал я. — Я не сомневаюсь в этом, Аллан, и, хотя мне нравится подшучивать над тобой, я знаю, что ты разделил со мной мою мудрость, хотя бы маленькую ее часть, которую не собрать за несколько лет. Я знаю и то, что у тебя доброе сердце, которое стремится ввысь, и знаю, что ты мой друг, потому что нашла в тебе друга, я думаю, не в последний раз. Заметь, Аллан, я сказала «друг», а не «любовник», что гораздо значительней. Потому что, когда любовь умирает вместе со страстью плоти, разве не остается дружба, которая хранит незабываемые воспоминания? Как могут потом встречаться любовники, если они только любовники? Я думаю, что с разочарованием, потому что смотрят в пустые души друг друга. Или даже с глубоким неудовольствием. — Значит, мудрость должна найти их, чтобы превратить в друзей, потому что иначе они будут потеряны друг для друга. Если они достаточно мудры, то, оставаясь друзьями, они будут страдать, находя любовников. Хорошая мысль, не так ли? Этому трудно следовать, но… подумай об этом. Она замолчала и задумалась, положив подбородок на руку, потом она пристально посмотрела на потолок. Ее лицо изменилось, таким я его еще не видел. В нем больше не было очарования Афродиты или величия Геры[407], оно скорее было похоже на лицо Афины[408]. Оно казалось таким мудрым, спокойным, таким опытным и благоразумным, что даже испугало меня. Я думал, какова же ее истинная история и какими знаниями она обладала? Возможно, случайно, но она снова прочитала мои мысли. В любом случае ее следующие слова были ответом на эти размышления. Подняв глаза, она всматривалась в меня некоторое время, а потом сказала: — Мой друг, мы расстаемся и больше не увидимся в этой жизни. Ты будешь часто думать обо мне, о том, кто же я в действительности, и в конце концов запомнишь, что я лживая и прекрасная странница, которая отрицает мир или минует его преступления, получает шанс управлять дикарями, играя роль оракула для них и рассказывая странные истории тем нескольким путникам, которые оказываются рядом с ней. Возможно, я и в самом деле играю эту роль среди других, поэтому не суди меня строго. В старые времена моряки, которые приплывали из северных морей, рассказывали мне, что среди штормов и туманов есть горы льда, покрывающие мерзлые утесы, которые скрыты в темноте и где нет солнца. Они рассказали мне, что над океанскими просторами возникает голубая ослепительная точка, которая тонет в замерзшем острове, невидимая для человека. Так и я, Аллан. От меня останется лишь маленькая точка, мерцающая или спрятанная в буре, когда небеса поглотят все живое. Но в глубине времени спрятана ее широкая основа, покрытая морями времени, где есть дворцы, в которых обитает мой дух. Поэтому представь меня мудрой и верной, но с неведомой душой и молись, что когда-нибудь придет время и ты увидишь ее очарование. Теперь я исчезну. Ты подарил мне любовь, но она была получена женскими уловками. Ты не веришь мне. Для тебя оракул не действен и воды освобождения не текут. Я не виню тебя, потому что тебя сотворил этот жестокий мир. Итак, мы расстаемся. Не думай, что я далеко от тебя, когда не увидишь меня в ближайшие дни, я, как Исида, чье величие я воплощаю на этой земле, я, кого мужчины зовут Айша, во всем. Я не одна, меня много, я здесь и везде. Когда ты посмотришь ночью на небо и звезды, помни, что в них отражаются мои и твои глаза; когда дует мягкий ветер, это мое дыхание; когда гремит гром, это я лечу на молнии и спешу вместе с бурей. — Ты хочешь сказать, что ты и есть богиня Исида? — спросил я, пораженный. — Потому что если это так, почему ты говорила мне, что всего лишь одна из ее прислужниц? — Не думай об этом, Аллан. Не все звуки достигают твоих ушей, не все знаки открываются твоим глазам, поэтому ты наполовину глух и слеп. Может быть, сейчас, когда ее усыпальницы покрыты пылью, а ее культ забыт, некоторые искры духа бессмертной госпожи, чьей колесницей была Луна, часть ее существования перешли ко мне, хотя сама она блуждает далеко. Отсюда, может быть, ее второе имя — Природа, моя мать и твоя, Аллан. Может быть, это душа мира — и я не просто часть этой души, и ты тоже? И разве священник и то Божественное, чему он поклоняется, — не одно и то же? На моих губах был ответ: да, если священник — жулик и обманщик. — Прощай, Аллан, да пребудет с тобой благословение Айши. Ты благополучно доберешься до дому, как и твои товарищи, для этого все уже готово. Ты спокойно проживешь свою жизнь, а потом, может быть, найдешь тех, кого ты потерял, как сегодня ночью. Она немного помолчала и продолжила: — Слушай мои последние слова. В том, что я сказала тебе, может быть двойной смысл, который ты можешь расценивать так, как хочешь сам. Но одно правда. Я люблю человека, в старые времена его звали Калликратом, лишь ему я отдана Божественным провидением, и я жду его здесь. Если ты найдешь его, скажи, что Айша уже устала ждать. Хотя ты вряд ли встретишь его, если только он не родился во второй раз. Храни мои секреты, иначе на тебя падет проклятие Айши. Ты клянешься хранить мои секреты, Аллан? — Клянусь, Айша. — Спасибо тебе за это, Аллан, — ответила она и снова умолкла. Затем Айша встала и, выпрямившись во весь рост, вновь стала величественной. Она поманила меня к себе, поэтому я тоже встал. Я повиновался. Наклонившись ко мне, она положила руки мне на плечи, как будто благословляя, затем указала на занавески, которые в этот момент раскрылись. Я вышел и бросил на нее последний взгляд. Она стояла такая же, как была, когда я покинул ее, но сейчас ее глаза были опущены к земле, а лицо выглядело отсутствующим, как будто такого человека, как я, никогда не существовало. Я понял, что она уже забыла обо мне, игрушке на час, о том, кто помог ее возвращению и был отправлен восвояси.Глава 23
ЧТО УВИДЕЛ УМСЛОПОГАС
Как пьяный, пошатываясь от выпавших на мою долю испытаний, я проследовал к наружной двери, где как статуи стояли охранники, и вышел через арку. Там я остановился на мгновение, во-первых, чтобы успокоиться в знакомой обстановке, а во-вторых, потому, что мне показалось, что я услышал, как кто-то приближается ко мне сквозь темноту, да еще в таком месте, где у меня было много врагов. Так что надо было подготовиться. Однако моим предполагаемым убийцей оказался лишь Ханс, который вынырнул откуда-то, где он прятался. Ханс выглядел очень испуганным. — О баас, — прошептал он торопливым шепотом, — я рад видеть вас снова стоящим на ногах, а не унесенным вдаль, как я ожидал. — Почему ты так решил? — спросил я. — О баас, из-за того, что случилось здесь. Высокая ведьма, которая выглядит так, будто у нее болят зубы, сидит, как паук в своей паутине. — Так что же случилось? — спросил я, в то время как мы продолжали путь. — А вот что. Эта ведьма говорила и говорила с вами и Умслопогасом, и, пока она беседовала, ваши лица начали выглядеть так, словно вы выпили половину фляжки очень хорошего джина, такого, какой я хотел бы иметь сегодня, вы были мудрыми и глупыми одновременно, полными и пустыми, баас. Затем вы оба лежали как мертвые, и, пока я раздумывал, что можно сделать и как я дотащу ваши тела, чтобы похоронить их, ведьма сошла со своего возвышения и наклонилась сначала над вами, баас, потом над Умслопогасом, что-то прошептав вам в уши. Затем она вытащила из своей одежды змею, золотую, с зелеными глазами. Змея была обвита вокруг нее, господин, и сначала она поднесла ее к вашим губам, потом к губам Умслопогаса. — Что же было дальше, Ханс? — После этого случилось многое, баас, я чувствовал себя так, как будто дом вращается в воздухе в два раза быстрее, чем пуля, выпущенная из ружья. Внезапно комната наполнилась огнем, таким жарким, что он обжег меня, и таким ярким, что мои глаза закрылись, а ведь я могу смотреть на солнце не моргая. Огонь был полон привидений, которые бродили вокруг, я увидел тех, которые стояли возле вашей головы и у тела Умслопогаса, в то время как остальные ходили и говорили с Белой ведьмой так тихо, как будто встретили ее на рынке и хотели продать ей масло или яйца. Затем, господин, я увидел вашего благочестивого отца, который выглядел так, словно он накалился докрасна, без сомнения в геенне огненной. Я подумал, что он пришел ко мне, баас. Предикант сказал: «Уходи отсюда, Ханс. Это не место для доброго готтентота, как ты, потому что лишь истинные христиане могут долго выносить такую жару». Это доконало меня, баас. Я лишь ответил, что я привел его сына Аллана, надеясь, что он позаботится, чтобы баас не сгорел в огне, и бог с ним, этим Умслопогасом. Затем я закрыл глаза и рот, зажал нос и выполз из-под этих занавесок как змея, а потом побежал через двор крааля и через арку в ночь, где сидел, замерзая, ожидая бааса, чтобы увести отсюда. И вот баас пришел сюда, живой, с неопалёнными волосами, что показывает, насколько хорош Великий талисман Зикали, потому что ничто не могло спасти бааса, даже ваш благочестивый отец. — Ханс, — сказал я, когда тот закончил, — ты прекрасный товарищ, потому что можешь достать спиртное из воздуха. Пожалуйста, помни, Ханс, что ты был пьян сегодня ночью, да, очень пьян, и никогда не повторяй того, что, как тебе кажется, ты видел в столь непотребном виде. — Да, господин, я понимаю, что был пьян, и уже практически все забыл. Но, господин, здесь бутылка, которая все еще полна бренди, и, если бы я мог достать еще одну, я запомнил бы все гораздо лучше! К тому времени мы достигли нашего лагеря, здесь я нашел Умслопогаса, который сидел около двери и смотрел в небо. — Добрый вечер, Умслопогас, — сказал я самым беспечным тоном и стал ждать ответа. — Добрый вечер, Макумазан, я думал, что ты потерялся во тьме, поскольку конец ночи сильнее, чем все бодрствующие в ночи. Этой загадочной реплике я удивился, но ничего не сказал. В конце концов Умслопогас, отличавшийся импульсивной натурой, потерял терпение и сказал: — Ты путешествовал этой ночью, Макумазан? Если да, то что ты видел? — Ты видел сон сегодня ночью, Умслопогас? — ответил я вопросом на вопрос. — И если так, что это было? Мне кажется, я видел тебя с закрытыми глазами в доме Белой королевы, без сомнения, ты очень устал от разговоров, которые тебе скучны. — Да, Макумазан, как ты верно предполагаешь, я очень устал от разговоров, которые слетали с губ Белой ведьмы, как музыка, которая приходит из маленького потока, бегущего по камням, когда солнце горячо, и, устав, я задремал и видел сон. Что я видел, не имеет значения. Достаточно сказать, что я чувствовал себя как камень, подброшенный мальчиком, который сидит на земле и пугает птиц. Я был быстрее, чем камень, быстрее, чем падающая звезда, пока не достиг одного прекрасного места. Не имеет значения, что это было на самом деле, я уже начал забывать, но там я встретил тех, кого знал когда-либо. Я встретил зулусского Льва, черного разрушителя земли, у которого была сестра по имени Балека, она глядела на него подозрительно. Она родила ребенка, назвав его Мопо, этот Мопо потом убил Черного принца. Теперь, Макумазан, у меня появился личный счет к этому черному человеку, несмотря на то что наша кровь одного цвета. Потому что его сестра была убита вместе с племенем лангени. Я подошел к нему, взял его за горло, наклонил голову, заставил найти копье и щит и встретиться со мной, как мужчина с мужчиной. Да, я сделал это. — И что случилось потом, Умслопогас? — спросил я, когда он замолчал. — Макумазан, ничего не случилось. Моя рука, кажется, прошла через его горло и череп, он продолжал говорить с кем-то. Это был вождь, которого я узнал. Его звали Факу. В дни Дингаана я убил его на Ведьминой горе. Факу рассказал историю о том, как я убил его, и о битве, которую вели я и мой брат по крови и волки, затем о старой ведьме, которая сидела на горе, ожидая, пока умрет мир. Каким-то образом я мог понять их разговор, хотя сам проходил сквозь них, как ветер. Они проходили мимо, с ними шли остальные, Дингаан среди них, который тоже знал кое-что про Белую ведьму. Я видел, что там Мопо, и я набросился на него. С ним я тоже говорил, но случилась такая же история, он поймал взгляд черного человека — Чаки, которого он убил, ударил маленьким красным острым ассегаем, свалил и убежал, потому что на этой земле, я думаю, он все еще боится Чаку. Так говорил мой сон. Я пошел дальше и встретил остальных, с кем я боролся в тот день, среди них был Жикиза, который правил племенем топора до тех пор, пока я не убил его собственным топором. Я поднял этот топор и приготовился к новому бою, но никто из них не обратил на меня внимания. Они ходили вокруг, или сидели и пили пиво, или нюхали табак, но никто из них не предложил мне пива или табака, даже те, кого убивал не я. Я покинул их и пошел дальше в поисках Мопо, моего приемного отца, и некоего человека, моего брата по крови, на чьей стороне я охотился на волков. Да, я искал его и других. — И ты нашел их? — спросил я. — Мопо я не нашел. И это заставило меня вспомнить, Макумазан, как ты однажды намекнул мне, что он, кого я считал давно умершим, все еще бродит по земле. Но остальных я встретил. — И он замолчал, задумавшись. Теперь я знал достаточно историю Умслопогаса, чтобы быть уверенным, что он любил этого человека и женщину, о которых говорил больше, чем обо всех остальных на земле. «Брат по крови», чье имя он не произносил, не означало, что это был действительно его брат по крови, просто человек, с которым он произвел определенную церемонию обмена кровью, или братание, ходил с ним на Ведьмину гору, хотя я едва ли мог поверить в то, что они охотились со сворой гиен. Там, как он говорил, у них была великая битва с отрядом, посланным королем Дингааном под командованием того самого Факу, которого упоминал Умслопогас. В этой битве «брат по крови», представитель клана Ищущих брод, встретил свою смерть после многочисленных битв. Там была, как я слышал, Нада Лилия, чья красота была известна по всей земле, которая умерла при странных и печальных обстоятельствах[409]. Естественно, вспоминая свои встречи и переживания, о которых я внушил себе, что все это было сном, я встревожился, узнав, что те, кто были дороги этому страшному зулусу, узнали его. — И что же они сказали тебе? — спросил я его. — Макумазан, они не сказали ничего. О Небеса! Эта пара стояла там, или мне казалось, что они ходят туда-сюда: мой брат, человек более известный, чем можно себе представить, подпоясанный шкурой волка, и, возле его плеча, человек из клана Ищущих брод, с которым лишь он один мог управляться. И Нада, более прекрасная, чем когда она была жива, такая родная, что мое сердце подскочило к горлу и дыхание остановилось, когда я ее увидел. Да, Макумазан, они стояли или ходили вокруг, держа друг друга за руки, как любовники, и смотрели друг другу в глаза и говорили о том, как знали друг друга на земле, потому что я мог понять их слова и мысли, и о том, как им хорошо в конце концов там, где они оказались. — Умслопогас, они же старые друзья, — сказал я. — Да, Макумазан, очень старые друзья, как я понимаю. Настолько старые, что они ни слова не сказали обо мне, о том, кто был их другом. Мой брат, чье имя я поклялся не произносить, женоненавистник, который говорил, что любит только меня и волков, улыбался, глядя в лицо Нады Лилии, Нады, невесты моей юности. Ни слова обо мне, хотя она должна была улыбнуться и рассказать ему, каким великим воином я был; и ни слова обо мне, чьи дела она хотела восхвалять; ни слова обо мне, спасшем ее в пещерах Халакази и от Дингаана; ни слова обо мне, хотя я стоял рядом и смотрел на них! — Я думаю, что они не видели тебя, Умслопогас. — Это так, Макумазан, я уверен, что они меня не видели, поскольку, если бы видели, вели бы себя по-другому. Но я их видел, а они не обратили внимания на мои выстрелы, я побежал к брату, чтобы защитить его и всю компанию. Он снова не обратил на это никакого внимания, тогда я поднял Инкози-каас, вращая лезвием на свету, и поразил всех своей силой. — И что случилось, Умслопогас? — Только топор прошел сквозь моего брата сверху донизу, разрубив его на две части, а он все еще продолжал говорить! Более того, он нашел белую лилию и подарил ее Наде, которая понюхала ее и засмеялась, поблагодарила его и воткнула цветок в пояс. Я видел это своими глазами, Макумазан. Голос зулуса дрогнул, и я подумал, что он плачет, — при слабом свете я увидел, как он коснулся глаз рукой. Я отвернулся и зажег свою трубку. — Макумазан, — продолжал он, — мне кажется, что я ненадолго сошел с ума, потому что я яростно кричал на них, думая, что слова могут ранить их так, как не может сделать холодная сталь. И когда я это сделал, они исчезли, все еще улыбаясь и разговаривая. Нада нюхала цветок, который теперь переместился ей на грудь. После этого я заторопился и внезапно встретил короля дикарей, Резу, которого я убил несколько дней назад. Я подступил к нему с топором, думая, не хочет ли он вступить в борьбу еще раз. — И что же он, Умслопогас, сделал? — Я думаю, что он почувствовал меня, потому что повернулся и отпрыгнул, а когда я попытался догнать его, то уже никого не увидел. Я побежал и нашел Балеку, сестру Чаки, которая — не говори это никому, Макумазан, — была моей матерью. И она увидела меня. Ненадолго она увидела меня, того, кто теперь стал старше и суровее, она увидела и узнала меня, потому что подошла и улыбнулась и, кажется, прижалась губами к моему лбу, хотя я не почувствовал поцелуя, и она уняла боль моего сердца. Потом она тоже ушла, а я внезапно упал куда-то, оказавшись в какой-то глубокой норе или, возможно, в аду. Затем я проснулся в доме Белой ведьмы и увидел тебя спящим рядом, а ведьма склонилась над моей кроватью и улыбалась через тонкое покрывало, которым она была накрыта, — я увидел смех в ее глазах. Я разозлился на нее из-за тех вещей, которые я видел во Дворце снов, мне в голову пришла мысль убить ее, чтобы избавиться от нее и от магии, которая приносит людям зло. Я совсем потерял рассудок, поэтому вскочил, поднял топор и направился к ней, а она стояла передо мной, громко смеясь. Затем она сказала что-то на языке, которого я не понимал, и показала на меня пальцем. В следующий момент я почувствовал, что меня как будто схватили гиганты и крутили до тех пор, пока я не стал бездыханным, но не раненым. Что все это значит, Макумазан? — Ничего особенного, я так думаю, Умслопогас, кроме того, что королева имеет такую власть, по сравнению с которой власть Зикали ничто, и может вызвать видения, проплывающие перед глазами мужчины. Я видел те же самые вещи, что и ты. И те, кого я любил, тоже не обратили на меня внимания и были заняты только собой. Более того, когда я проснулся и рассказал это королеве, которую называют Та, чье слово закон, она посмеялась надо мной, как и над тобой, и сказала, что это был хороший урок для моей гордыни, поскольку в гордыне я подумал, что мертвые думают только о живых. Но я думаю, что ее урок состоял в том, чтобы унизить нас, именно ее ум создал те картинки, которые мы видели. — Я тоже так думаю, Макумазан, но как она узнала о деталях твоей и моей жизни — не знаю, если только Зикали не рассказал ей об этом, говоря с ней, как мудрецы говорят друг с другом. — Я думаю, что с помощью своей магии она вытянула из нас эти истории, а затем показала их нам, повернув их по-своему. Может быть, она что-то вытянула из Ханса или Гороко, других зулусов и так отплатила нам за нашу службу, но больные быки и бесплодные коровы — не очень хороший скот, Умслопогас. Он кивнул и сказал: — Хотя все это время я считал себя сумасшедшим и думал, что знаю, что все женщины лживы, а мужчины последуют туда, куда их поманят, я никогда не верил, что мой брат, женоненавистник, и Нада — любовники в подземном мире и забыли меня, товарища одного из них и мужа другой. Я думаю, Макумазан, что мы встретились с наградой за нашу глупость. Мы пошли искать такие вещи, которые Великий, живущий на небесах, не разрешает видеть никому, и от того, что мы узнали, мы стали еще несчастней, чем были. Потому что такие сны сжигают сердце, как горячее железо, прижигающее ногу быка, когда на нее ставят клеймо, не позволит никогда вырасти волосам на том месте, где обожжена кожа. Тебе, Бодрствующий в ночи, я скажу так: «Смирись с тем, что ты видел, что бы это ни принесло тебе — богатство или известность». А себе я скажу: «Тот, кто носит топор, довольствуйся им, ведь он может принести тебе удачную битву и славу». А нам обоим я скажу: «Пусть мертвые спят спокойно, пока мы не присоединимся к ним, что случится уже скоро». — Хорошие слова, Умслопогас, но они должны были быть произнесены тогда, когда мы начинали наше путешествие. — Нет, Макумазан, в этом путешествии мы должны были спасти леди Печальные Глаза, и, как мне сказали, все прошло хорошо. Также Зикали хотел этого, а кто может сопротивляться воле Открывателя дорог? И это было совершено, мы встретили массу странных вещей, и завоевали славу, и увидели, насколько глубока пропасть нашей собственной глупости, потому что мы думали, что откроем секреты Смерти, а мы нашли лишь тех, кого разум ведьмы и ее яд отразили в воде. И, найдя все это, я хотел бы поскорей отправиться с этой призрачной земли. Когда мы уйдем, Макумазан? — Я думаю, завтра утром, если леди Печальные Глаза и остальные будут чувствовать себя лучше, а Та, чье слово закон, сказала, что это будет именно так. — Хорошо, тогда я посплю, потому что сейчас я устал больше, чем тогда, когда убил Резу в горах. — Да, — ответил я. — Потому что с призраками сложней бороться, чем с людьми, а сны, если они плохие, более утомительны, чем подвиги. Спокойной ночи, Умслопогас. Он ушел, а я отправился посмотреть, как себя чувствует Инес. Я увидел, что она спит, но этот сон не был похож на тот, в который ее погрузила Айша. Сейчас это был абсолютно естественный сон, и, глядя на нее, лежащую на кровати, я думал о том, как она молода и красива. Женщины, которые прислуживали ей, рассказали мне, что она просыпалась, разбуженная Той, чье слово закон, — как им показалось, в хорошем состоянии, — у нее пробудился аппетит, хотя, казалось, она была удивлена тем, что ее окружает. После того как она поела, добавили они, ваша девушка «спела песню», которая, возможно, была гимном, потом помолилась на коленях, «делая знаки на своей груди», и затем снова заснула. Моя тревога относительно Инес утихла, и я вернулся к себе. Я не хотел спать, поэтому сел около входа, всматриваясь в темноту ночи. Я видел бесчисленные огоньки, которые, казалось, пронзают небо горящим золотом. Громадные совы и другие редкие птицы летали в темноте. Они поднимались в огромном количестве из своих укрытий среди руин и летали туда-сюда, как белокрылые духи, то видимые, то невидимые. Сидя в одиночестве, я много думал, вспоминая, что произошло со мной за эти несколько дней. Мог ли другой человек пройти через все это? Как бы он воспринял все увиденное? И кто такая Айша? Была ли она воплощением Природы, как и все остальные женщины? Была ли она человеком или духом, который символизировал ушедших людей, веру и цивилизацию, и руины, где она царствовала? Нет, мысль об этом была смешна, потому что подобные создания не существуют, хотя можно не сомневаться в том, что она обладает некоей силой, которая неподвластна простым смертным, так же как ее красота и обаяние больше, чем это дано любой другой женщине. В одном, однако, я был убежден: тени, которые я, казалось, видел, реально существовали в круге ее собственного воображения и разума. Здесь Умслопогас был прав: мы не видели мертвых, мы лишь видели картинки и образы, которые она нарисовала и раскрасила. Я гадал, зачем она это сделала. Может быть, чтобы показать силу, которой она в действительности не имеет, может быть, чтобы причинить нам боль или, как она сама говорила, для того, чтобы преподать нам урок и унизить нас для нас же самих. Если это так, в этом она преуспела, потому что никогда я не чувствовал себя столь опустошенным и униженным, как в тот момент. Казалось, я спустился — или поднялся — в царство Гадеса[410] и там только увидел те вещи, которые доставили мне небольшую радость, но открыли старые раны. Проснувшись, я был ошеломлен. Да, едва оправившись от видения дорогих мне мертвых людей, я был околдован всепоглощающей магией любви и очарования этой женщины и свалял дурака, поскольку она оттолкнула меня своим злым коварством. Да, я был унижен, но странно, что не мог на нее сердиться, и, более того, из своего тщеславия я поверил в искренность ее дружбы ко мне. В результате я, как и Умслопогас, ничего в мире не желал больше, как уйти из этого проклятого Кора и похоронить все воспоминания среди тех дел, которые фортуна может принести мне. И все равно мне нравилось видеть это и срывать цветок такого прекрасного опыта, потому что я никогда не смог бы изгнать из памяти воспоминания об Айше, совершенной в любви и полубожественной в своей силе. Когда я проснулся на следующий день, солнце уже встало, и после купания в старой ванне, одевшись, я отправился посмотреть, как чувствует себя Инес. Я увидел, что она сидит возле двери своего дома, совершенно здоровая, с сияющим лицом. Она была занята изготовлением венка из маленьких голубых цветов вроде ирисов, которые в большом количестве росли вокруг. Она связывала их между собой сухими травинками. Когда венок был готов, она повесила его себе на шею, так что тот свисал с еебелой одежды, делая похожей на арабскую женщину, хотя и без вуали. Я смотрел на нее, оставаясь для нее незамеченным некоторое время, затем подошел и заговорил. Она странно посмотрела на меня и даже хотела убежать, но внезапно, успокоенная моим видом, выбрала самый красивый цветок и протянула его мне. Я понял, что она не помнит меня и думает, что никогда не видела раньше. Ее рассудок покинул ее, как и говорила Айша. Чтобы поддержать разговор, я спросил, как она себя чувствует. Она ответила, что ей гораздо лучше, потом добавила: — Папочка отправился в далекое путешествие и вернется очень не скоро. Мне в голову пришла идея, и я ответил ей: — Да, Инес, но я его друг, и он послал меня, чтобы я забрал тебя в то место, где мы найдем его. Только это очень далеко и нам предстоит долгое путешествие. Она захлопала в ладоши и ответила: — О, это прекрасно, я люблю такие путешествия, особенно чтобы найти папочку, у которого, я думаю, хранится моя одежда. На мне очень удобная одежда, но она отличается от той, которую я носила. Ты кажешься мне хорошим человеком, я уверена, что мы будем добрыми друзьями, чему я очень рада. Я ведь ужасно одинока с тех пор, как моя мама ушла на небеса, а мой папочка очень занят, я редко вижу его. Честно говоря, я чуть не зарыдал, услышав эти слова. Это было так неестественно, так ужасно — слушать, как взрослая девушка говорит и ведет себя как ребенок. Однако в данных обстоятельствах, я думаю, это был лучший выход для нее и всех нас. Вспоминая, что говорила Айша о выздоровлении ее рассудка как о его потере, я почувствовал облегчение. Оставив ее, я отправился навестить двух зулусов, которые были ранены. К своей радости, я увидел, что они совершенно здоровы и готовы к путешествию, так что и здесь пророчество Айши оправдалось. Другие люди также отдохнули и желали тронуться в путь, как и мы с Умслопогасом. Пока я заканчивал свой завтрак, Ханс объявил о приходе почтенного Билали, который с поклоном сказал, что пришел осведомиться, когда мы будем готовы к выходу, поскольку он получил приказание отдать необходимые распоряжения. Я ответил, что мы будем готовы через час, и он поспешно удалился. Он появился немного позднее назначенного времени с большим количеством носилок и носильщиков, с охраной из двадцати пяти вооруженных воинов. Все эти рослые ребята участвовали с нами в битве. Билали произнес перед ними напутствие о том, что они должны сопровождать, нести и охранять нас на другой стороне огромного болота или дальше, если нам понадобится. Он сказал, что это приказ Той, чье слово закон, и если хотя бы малейший вред будет нанесен кому-то из нас, даже случайно, каждый из них будет убит страшным способом. Затем он спросил, поняли ли они то, что он сказал. Воины ответили с жаром, что все отлично поняли и будут вести и охранять нас так, как будто мы их родные люди. И они делали бы это, думаю, даже независимо от приказа Айши, потому что смотрели на нас с Умслопогасом как на богов и думали, что мы можем уничтожить их так же, как уничтожили Резу и его отряд. Я спросил Билали, пойдет ли он с нами. Он ответил отрицательно, потому что Та, чье слово закон, вернулась к себе, а он должен незамедлительно последовать за ней. Я снова спросил его, где она живет, но он ответил, что она живет везде, сначала посмотрев на небеса, а затем на землю, как будто она обитала и там и там, добавив, что, в общем, это «в пещерах», хотя я не понял, что он имел в виду. Затем он сказал, что был очень рад, что встретил нас, и битва с Резу была великолепным спектаклем, который он с удовольствием будет вспоминать до конца жизни. И он попросил меня о подарке на память. Я подарил ему запасную ручку в маленькой немецкой серебряной коробочке, которая ему очень понравилась. Таким образом я расстался со старым Билали, о котором я всегда потом вспоминал с каким-то странным чувством симпатии. Я заметил, что, несмотря на хорошее отношение, он решительно избегает встреч с Умслопогасом, видимо побаиваясь, что тот может осуществить свои угрозы и познакомить его со своим ужасным топором.Глава 24
УМСЛОПОГАС НАДЕВАЕТ ВЕЛИКИЙ ТАЛИСМАН
Немного позднее мы отправились в путь. Некоторые из нас были на носилках, включая раненых зулусов, поскольку я настоял на том, чтобы их несли день-два, другие были на ногах. Инес несли впереди меня, чтобы мне удобнее было следить за ней. Более того, я поручил ее особым заботам Ханса, которому она, к счастью, симпатизировала, может быть, потому, что смутно помнила, что когда-то знала его и он был добр к ней, хотя, когда они встретились после ее долгого сна, как и в случае со мной, она сначала не узнала его. Вскоре, однако, они стали близкими друзьями, да так, что в течение пары дней Ханс оказался для нее кем-то вроде служанки, предупреждая каждое ее желание, присматривая за ней, как приглядывает нянька за ребенком. В результате Инес стала зависеть от него, называя «своей обезьянкой», а он очень полюбил ее. Проблема возникла всего один раз, когда, услышав шум, я вышел и увидел Ханса, разгневанного до ужаса и угрожающего застрелить одного из зулусов, который, по глупости или случайно, постучал в паланкин Инес и почти открыл его. В остальном леди Печальные Глаза, как называли ее зулусы, на время стала леди Веселые Глаза, потому что смеялась, пела и играла, как и должен вести себя здоровый ребенок. Лишь однажды я увидел ее огорченной и рыдающей. Это случилось тогда, когда котенок, которого она взяла с собой, внезапно выпрыгнул из носилок и исчез в чаще и его не смогли найти. Но и тогда она быстро успокоилась, и ее слезы высохли, когда Ханс объяснил ей на смеси плохого английского и еще худшего португальского, что он убежал, потому что хотел вернуться к своей матери, по которой сильно скучал, и было жестоко разлучать его с ней. Мы хорошо продвинулись вперед и к вечеру первого дня уже были у подножия вулкана, который высился над великой долиной Кора, и быстро расположились в пещере на его внешней стороне, где и разбили на ночь лагерь. Как я уже упоминал, недалеко от этого места стояла достаточно любопытная остроконечная горка, очевидно сложенная из лавы, которая оставалась здесь на протяжении миллионов лет. Утес был высотой около пятидесяти футов и такой гладкий, словно отшлифован руками человека. Я вспомнил: то ли Ханс, то ли Умслопогас говорили, когда мы шли здесь в первый раз, что здесь стоит колонна, на которую не может взобраться даже обезьяна. Когда мы проходили во второй раз, солнце уже скрылось за западным холмом, но один его сильный луч проник сквозь грозовое небо, которое нависало над нами, отражая свет, который падал как раз в центр похожей на обелиск горы. В этот момент я вышел из своих носилок и шел с Умслопогасом в самом конце процессии, чтобы удостовериться, что никто не отстанет в темноте. Когда мы проходили в сорока или пятидесяти ярдах от скалы, что-то заставило Умслопогаса обернуться. Он издал восклицание, после которого я оглянулся по его примеру и увидел удивительное явление. На вершине горы стояла, как святой Симеон на своем знаменитом столпе, Айша! Она мерцала в лучах заходящего солнца, как будто горела на костре! Это было странное и величественное зрелище, потому что, оказавшись между небом и землей, она представлялась скорее ангелом, чем женщиной. На ней был сфокусирован яркий свет, так что мы могли видеть каждую деталь ее лица и одежды, потому что вуаль была снята: огромные глаза, которые смотрели поверх нас (в этот момент они были очень нежными), и маленькие золотые застежки, которые блестели на ее сандалиях, и блеск пояса из змеиной кожи, который обвивал ее талию. Мы смотрели и смотрели, пока я не пробормотал: — Посмотри, Умслопогас, как нас обманул Билали. Он ведь говорил, что Та, чье слово закон, отправилась из Кора к себе домой. — Может быть, эта скала и есть ее дом. Если она вообще есть, Макумазан. — Как же ее нет? — ответил я с раздражением, потому что очень нервничал. — Не говори глупостей, Умслопогас, где еще она может быть, если мы видели ее своими глазами? — Кто я такой, чтобы знать дороги ведьм, которые, подобно ветрам, могут передвигаться? Может ли женщина взобраться на стену, как ящерица, Макумазан? — Без сомнения. — И я начал объяснения, которые сейчас уже забыл. В тот момент проходящее облако закрыло свет, так что скала и Айша, стоявшая на ней, стали невидимы. Минуту спустя оно появилось снова, был виден лишь край скалы, похожей на иголку, но скала была пуста. Были видны лишь несколько птиц, обитающих на ней. Мы с Умслопогасом покачали головой и продолжили свой путь в молчании. Тогда я видел величественную Айшу в последний раз, если в самом деле я видел ее, а не ее призрак. Правда в том, что во время первой части нашего путешествия, пока мы шли через великие болота, мне время от времени казалось, что я чувствовал ее присутствие. Более того, остальные тоже видели ее или кого-то, кто был ею. Вот такие дела. Мы снова были в центре болота, и сопровождающие привели нас в то место, где дорога разделялась на две части, и мы засомневались, куда идти дальше. В конце концов те, кто нес носилки с Инес, свернули на правую тропинку, и мы уже были готовы последовать за ними. В этот момент, как потом Ханс рассказывал мне, проводники опустили лица вниз, и он увидел стоящую перед ними фигуру в белой вуали, которая указала на левую тропинку, а затем исчезла в тумане. Без слов проводники подняли голову и пошли по левой тропинке. Ханс остановился у моих носилок, чтобы все мне рассказать, а Инес в своей повозке начала напевать детскую песенку про Белую госпожу. Из любопытства я немного прошел по правой тропинке, которую мы вначале хотели выбрать. Через несколько ярдов я оказался в глубоком болоте, из которого выбрался с большим трудом, но как раз вовремя, потому что к этому моменту вода под устилающими все тростниками была уже глубока. Ночью я спросил проводников, почему мы свернули на левую тропинку. Они сказали, что ничего не видели и вообще не понимают, что я имею в виду. Нет необходимости описывать здесь все подробности долгого путешествия домой. Могу только сказать, что мы расстались с нашими носильщиками и эскортом, как только достигли большой земли после этого ужасного болота. Оставили лишь один паланкин для Инес, в котором ее несли зулусы, когда она уставала. В таком составе мы благополучно достигли Замбези, пересекли ее и однажды вечером добрались до усадьбы, которая называлась Стратмур. Здесь мы нашли наш фургон и быков в полной безопасности, нас с восторгом приветствовали зулусский погонщик и вурлупер, которые считали, что нас давно нет в живых, и уже подумывали о том, чтобы отправиться домой. Нас также встретил Томазо, который, как и зулусы, был удивлен нашим благополучным возвращением и выказал явно преувеличенную радость, увидев нас. Я сказал ему, что капитан Робертсон убит в битве и мы спасли его дочь от каннибалов, которые украли ее (я попросил его держать эту информацию при себе). Но не сказал ничего больше. Также я попросил зулусских воинов, через Умслопогаса и Гороко, чтобы они не упоминали о наших приключениях ни сейчас, ни потом, поскольку иначе на них падет проклятие Белой королевы и принесет им болезни и смерть. Я добавил, что имя этой королевы и все, что связано с ней, а также ее поступки должны быть спрятаны в их собственных сердцах, как имена мертвых королей, которые нельзя произносить. Кроме того, они никогда не должны рассказывать о наших поисках. Мне без труда удалось убедить их держать язык за зубами, потому что они очень боялись и Айши, которую считали величайшей из колдуний, и топора своего вожака Умслопогаса. Инес отправилась в кровать, кажется не узнав своего старого дома. Она выглядела как неразумный ребенок. В этом состоянии она пребывала с тех пор, как очнулась от транса в Коре. Однако на следующее утро Ханс пришел, чтобы рассказать мне, что она изменилась и хочет поговорить со мной. Я пошел и нашел ее в гостиной, одетую в европейскую одежду, которую она где-то отыскала. Она выглядела уже вполне нормальной женщиной. — Мистер Квотермейн, — сказала она, — мне кажется, что я была больна, потому что последнее, что я помню, — это как я отправилась спать в ночь перед охотой на гиппопотама. Где мой отец? Он ранен после этой охоты? — Боже… — ответил я, неумело солгав, потому что боялся, как бы правда снова не отняла у нее остатки рассудка. — Он был растоптан гиппопотамом и убит, мы похоронили его там, где он погиб. Она склонила голову и прочитала молитву об успокоении его души, затем внимательно посмотрела на меня и произнесла: — Я думаю, что вы не все сказали мне, мистер Квотермейн, но что-то подсказывает мне, что я не должна знать все. — Нет, — ответил я, — вы были больны и на некоторое время потеряли рассудок из-за сильного потрясения. Я думаю, что вы узнали о смерти отца, о чем забыли сейчас, и были ошеломлены этим известием. Пожалуйста, поверьте мне, что если я о чем-то вам не говорю, то считаю, что в настоящее время так будет лучше для вас. — Я доверяю и верю вам, — ответила она. — Теперь, пожалуйста, оставьте меня, но сперва скажите, где все женщины и их дети? — После смерти вашего отца они ушли, — ответил я, солгав еще раз. Она снова посмотрела на меня, но ничего не сказала. Я оставил ее. На сегодняшний день я не в курсе, что узнала Инес об истинной истории нашего путешествия, но думаю, не так много. Все, включая Томазо, знали о том, что угрожало им в случае, если они скажут ей хотя бы слово. Со своей стороны, она была умной женщиной, которая считала, что лучше не задавать вопросов. Она была уверена, что страдала от помрачения ума и все это время ее отец был мертв. И что произошли другие страшные вещи. Она оставила вопросы и никогда не беседовала со мной на эту тему. Я был очень рад этому, потому что как, ради всего святого, я мог объяснить ей пророчества Айши, касающиеся помутнения ее разума, и последующее возвращение в нормальное состояние, когда она добралась до дому? Однажды она попыталась узнать, что случилось с Дженни. Я ответил, что та умерла от болезни. Это была еще одна ложь, но я знал, что бывают случаи, когда ложь необходима. По крайней мере, эти обманы никогда не тревожили мою совесть. Здесь я могу закончить историю про Инес, потому что дальше уже ничего не было. Как я рассказывал, она была женщиной меланхолической и очень религиозной, и эти качества еще усилились после ее возвращения и выздоровления. Конечно, религия имела на нее большое влияние, поскольку она постоянно была погружена в молитвы, и с этим вряд ли что-то можно было сделать. После нашего возвращения к цивилизации одним из первых людей, с которыми Инес стала общаться, был старенький священник, исповедующий одну с ней веру. Конец этого общения был неожиданным. Очень скоро Инес решила отказаться от мира, который, я думаю, никогда не был привлекательным для нее. Она вступила в один очень строгий орден Наталя, где, помимо множества ее добродетелей, ее значительные владения были приняты с большой радостью. Спустя годы я встретил ее еще раз, когда она собиралась стать матерью настоятельницей собственного монастыря. Она была в добром расположении духа и сообщила, что совершенно счастлива. И даже тогда она не попросила меня рассказать настоящую историю того, что произошло с ней в тот период, когда ее рассудок помутился. Она сказала, что в курсе того, что случилось, но, поскольку теперь земные истории ее не интересуют, она не хочет знать детали. И снова я почувствовал радость, потому что как я мог рассказать ей настоящую историю и ожидать, что она мне поверит, эта простодушная монахиня? Вернемся к более важным событиям. Когда мы уже пробыли в Стратмуре день или два и я думал, что ее рассудок достаточно пришел в себя, чтобы судить о делах, я рассказал Инес, что собираюсь отправиться в путешествие в Наталь, и спросил ее, что она собирается делать. Ни минуты не колеблясь она сказала, что с удовольствием отправится со мной, поскольку ее отец умер и ничто больше не держит ее в Стратмуре, без друзей и утешения в религии. Потом она показала мне секретное укрытие, нечто вроде подвала под полом гостиной, где ее отец хранил спиртное, которое имелось там в огромных количествах. В тайнике под несколькими кирпичами мы нашли большую сумму в золоте, которая была спрятана Робертсоном. Он всегда говорил своей дочери, что она сможет распоряжаться деньгами в случае, если с ним что-нибудь случится. Вместе с деньгами лежало его завещание, ценные бумаги, воспоминания его молодости и несколько любовных писем вместе с молитвенником, который его мать дала ему. Мы вытащили эти ценности, о существовании которых знала только она одна, а потом начали готовиться к отъезду. Наши приготовления были очень просты, все то, что мы могли нести, мы сложили в фургон и взяли с собой лучший скот. Магазин и оставшийся склад мы передали Томазо на условиях, что половину прибыли он будет отправлять для Инес в банк на побережье дважды в год. Именно там ее отец имел счет. Я не могу сказать, делал он это или нет, но, поскольку никто не хотел оставаться в Стратмуре, у меня не было другого выхода, потому что покупателей собственности в этом районе не существовало. Когда однажды утром мы двинулись в путь, я спросил Инес, не жалеет ли она о том, что оставляет это место. — Нет, — ответила она решительно. — Моя жизнь здесь была адом, и я никогда не хотела бы увидеть его снова. Именно после этого на северной границе страны зулусов Великий талисман, как называл его Ханс, сыграл свою главную роль, потому что без его помощи все мы были бы убиты. Я не буду рассказывать, как все было, в деталях, это займет много времени. Могу сказать только, что это было связано с заговорами Умслопогаса против Кечвайо, который был предан своей женой Монази и ее любовником Лоустой; обоих из них я упоминал ранее. В результате тот, кто наблюдал за ним, был отправлен далеко за пределы владений короля, потому что предположили, что рано или поздно он вернется в страну зулусов. Также было известно, что он путешествует в моей компании. Случилось так, что, когда о моем прибытии было доложено шпионами, был собран отряд под командой человека, связанного с королевским домом. Однако перед его нападением на нас командир отправил мне сообщение, что лично со мной король не ссорился, но я путешествую в сомнительной компании. Если я захочу бросить Умслопогаса, вождя племени топора, и его приспешников, я могу свободно отправляться куда угодно, взяв с собой свои вещи. В противном случае мы будем немедленно атакованы и каждый из нас будет убит, поскольку не должно остаться свидетелей того, что случилось с Умслопогасом. Доставив этот ультиматум и отклонив мои аргументы, посланцы ушли, сказав, что вернутся за ответом через полчаса. Когда они отошли и не могли услышать то, что скажет Умслопогас, который слушал их слова со зловещей гримасой, он повернулся и заговорил именно в той манере, которой от него ожидали. — Макумазан, — сказал он, — сейчас я подошел к концу своего несчастливого путешествия, хотя, возможно, это не такое уж зло, как кажется, поскольку я отправился искать смерть, но был заколдован той Белой ведьмой, ее злобными тенями. Я уже нашел смерть на той единственной дороге, на которой можно их встретить, особенно в таком количестве. — Мне кажется, что это касается всех нас, Умслопогас. — Не совсем так, Макумазан. Кечвайо ищет меня, мою кровь, потому что он имеет право так делать, поскольку в действительности я поднял восстание против него и знал, что по крови это место мое. У тебя нет места в этой ссоре, хотя ты, чье сердце такое же белое, как и твоя кожа, не обязан рисковать из-за меня. Кроме того, если ты захочешь сражаться, я должен тебе напомнить, что в том фургоне есть кое-кто, чью жизнь ты не можешь отдать, потому что она не твоя. Леди Печальные Глаза — как ребенок в твоих руках, и ее ты должен охранять. Этот аргумент был настолько неоспоримым, что я не знал, что сказать. Я только спросил его, что он собирается делать, поскольку тайком исчезнуть не получится, видя, что мы окружены со всех сторон. — Я встречу славный конец, Макумазан, — сказал он с улыбкой. — Я пойду с теми, кто верен мне, с теми, кто остался со мной, потому что моя судьба — это и их судьба. С теми, кто будет стоять спиной к спине на той скале и ждать, пока собаки короля не пойдут против нас. Подожди немного, Макумазан, и ты увидишь, как Умслопогас, владеющий топором, и воины племени топора могут сражаться и умирать. Я молчал, потому что не знал, что ответить. Мы стояли в молчании, пока я смотрел, как появляется тень копья, которое нес с собой главный посланник. Он сказал, что вернулся за ответом. В этой ужасной темноте я услышал сухой кашель, который исторгала из себя глотка Ханса. Таким образом он давал понять, что хочет что-то сказать. — Что такое? — спросил я сердито, поскольку Ханс раздражал меня, сидя на земле, нацепив рваную шляпу и глядя в небо. — Ничего, господин, или только то, что эти зулусские гиены боятся Великого талисмана даже больше, чем каннибалы с севера, поскольку тот, кто его носит, рядом с ними. Ты помнишь, господин, они упали перед ним на колени, когда мы вышли из страны зулусов? — И что из этого? Теперь-то мы идем в страну зулусов? — Затем я быстро спросил: — Ты хочешь, чтобы я показал его им? — Нет, господин. Что в нем толку, если они готовы дать уйти нам, леди Печальные Глаза, мне, даже погонщику и вурлуперу. Что мы выиграем, если покажем им Талисман? Но если мы повесим его на шею Умслопогаса и он покажет, что тот, кто носит Талисман, находится под защитой Великого талисмана Зикали, а кто будет против него, тот умрет в течение трех лун… Кто знает, господин? И он сухо кашлянул и снова уставился в небо. Я перевел Умслопогасу то, что сказал на голландском Ханс. Он отреагировал равнодушно: — Этого маленького желтого человечка не зря называют Светочем во мраке, его план можно осуществить. Если он провалится, всегда можно с честью умереть. Я подумал о том, что это именно тот случай, когда я могу так поступить, поскольку я никогда не снимал Великий талисман. Я снял его, и Умслопогас надел его на себя, спрятав под накидкой. Вскоре вернулись посланники, и их вождь пришел вместе с ними, как он сказал, чтобы поприветствовать меня, поскольку я плохо помнил его и лишь однажды мы общались с ним. После дружеской беседы он повернул разговор на Умслопогаса, объясняя эту проблему. Я сказал, что отлично понимаю его позицию, но очень страшно общаться с человеком, который является носителем Великого талисмана самого Зикали. Когда вождь услышал это, его глаза вылезли на лоб. — Великий талисман Открывателя дорог! — воскликнул он. — О, теперь я понимаю, почему этот вождь племени топора непобедим, — этот мудрец никому не даст убить его. — Да, — ответил я. — И я не знаю, помнишь ты или нет, но тот, кто обидит Великий талисман или причинит зло тому, кто его носит, умрет страшной смертью в течение трех лун, он, его домочадцы и все те, кто с ним? — Я слышал об этом, — сказал он, выдавив из себя улыбку. — И теперь ты собираешься узнать, правда это или нет? — спросил я с наигранным смирением. Тот не ответил и попросил меня оставить его с Умслопогасом наедине. Я не подслушивал их разговор, но результат был таков. Умслопогас вышел и сказал громким голосом, так что было слышно каждое слово: поскольку сопротивление бесполезно и он не хочет, чтобы я, его друг, имел какие-нибудь неприятности, со своими людьми он согласен сопровождать вождя в королевский крааль, где ему гарантировали честный суд взамен лживых обвинений, которые были выдвинуты против него. Он добавил, что вождь поклялся перед Великим талисманом, что он получит безопасный проход и не будет предпринято никаких попыток причинить ему вред. А по всей земле зулусов было известно, что такая клятва не может быть нарушена никем, если только кто-то расхочет продолжать видеть солнце. Я спросил вождя, действительно ли это так, также говоря громким голосом. Он ответил, что да, он получил приказ привести Умслопогаса живым. Он должен убить его только в том случае, если тот откажется идти. После этого, притворившись, что мне надо дать ему некоторые указания по хозяйству, я сказал наедине несколько слов Умслопогасу. Он ответил мне, что договоренность такова, что ему будет позволено скрыться с его людьми сегодня ночью. — Макумазан, — добавил он, — у нас было необычное путешествие, мы видели такие вещи, которые нельзя показать миру. Я сражался и убил Резу в сумасшедшей битве призраков и людей, которая одна стоила всех неприятностей этого путешествия. Теперь оно подошло к концу, как все подходит к концу, и мы расстаемся, но думаю, что не навсегда. Я не думаю, что погибну в этом путешествии с королевским вождем, хотя считаю, что остальные умрут в конце его, — прибавил он зловеще и добавил то, что я долго не мог понять: — Мне кажется, Макумазан, что в той стране ведьм и мудрецов дух Провидения забрался мне под мучу и проник в мои кишки. Сейчас этот дух говорит мне, что мы встретимся снова спустя годы и встанем вместе в битве, которая будет для нас последней, потому что я верю в то, что сказала Белая ведьма. Или, может быть, дух живет в Талисмане Зикали, который проник в мое горло и говорит моими словами. Я не могу сказать, но молюсь, чтобы это был настоящий дух, потому что, несмотря на то что ты белый, а я черный, я высокий, а ты маленький, ты мягкий и хитрый, а я сильный и открытый, как лезвие моего топора, я люблю тебя так сильно, как будто мы были рождены от одной матери и были воспитаны в одном краале. А сейчас я вижу, как командир отряда зулусов подозрительно посматривает в нашу сторону, поэтому прощай. Я верну Великий талисман, если останусь жив, а если умру, он пошлет одного из своих призраков, которые служат ему, чтобы найти его среди моих костей. Прощай и ты, желтый человек, — обратился он к Хансу, который возник, бегая вокруг, как собака, которая не уверена, что ей будут рады. — Тебя правильно называют Светочем во мраке. Я рад, что познакомился с тобой, я узнал от тебя, как двигается и нападает змея и как шакал думает и избегает ловушки. Итак, прощай, потому что мой дух внутри меня не говорит мне, что мы с тобой встретимся снова. Потом он поднял свой огромный топор и отсалютовал мне, обращаясь с обычными зулусскими словами прощания. И ушел вместе с командиром отряда. Я отметил его добрый настрой, но его длинные тонкие пальцы играли на рукоятке топора, который был назван Инкози-каас и Тем, кто заставляет стонать. — Я рад, что мы видели его и его топор в последний раз, баас, — заметил Ханс и нервно фыркнул. — Очень хорошо засыпать иногда с таким львом, но после того, как ты делал это в течение многих лун, ты начинаешь думать, что однажды ночью ты проснешься и увидишь, что он скидывает с тебя одеяло и собирает твои волосы в пучок. Баас слышал, что он назвал меня змеей? А яд — это единственное оружие змеи. Могу я сказать людям, чтобы запрягали быков, баас? Я думаю, что чем дальше мы уйдем от короля, вождя и его зулусов, тем более успешно мы будем идти дальше, особенно сейчас, когда у нас нет Великого талисмана для защиты. — Ты сам предложил отдать его, Ханс, — сказал я. — Да, баас, было бы лучше, если бы Умслопогас ушел вместе с Великим талисманом. Иначе все мы останемся здесь. Никогда не путешествуйте с предателем, баас, особенно на земле короля, который хочет его убить. Короли очень честолюбивые люди, господин, они не хотят быть убиты, особенно теми, кто желает сесть на их трон и увидеть королевский салют. Никто не будет приветствовать мертвого короля, баас, как бы велик он ни был перед смертью, и никто не думает плохо о короле, который до этого был предателем.Глава 25
СООБЩЕНИЕ ОТ БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ
И снова я сидел в Черном ущелье один на один со старым Зикали. — Итак, ты вернулся целый и невредимый, Макумазан, — сказал он. — Я говорил тебе, что так будет, не так ли? Оставь то, что случилось с тобой в путешествии, потому что я стар и длинные истории утомляют меня. И должен сказать, что в них нет ничего особенного. Где Талисман, который я дал тебе? Верни его мне, он сослужил свою службу. — У меня нет его, Зикали. Я отдал его Умслопогасу, чтобы сохранить его жизнь от людей короля. — О да, я и забыл об этом. Вот он. — Он открыл свои меховые одежды и показал уродливый маленький талисман, который висел у него на шее, а затем добавил: — Ты не хочешь иметь на память его копию, Макумазан? Если да, я вырежу ее для тебя. — Нет, — ответил я. — Мне не нужно. Умслопогас был здесь? — Да, он был и снова ушел, именно поэтому я не хочу слушать твою историю во второй раз. — Куда он ушел? В город племени топора? — Нет, Макумазан, он пришел оттуда, но не собирался возвращаться туда снова. — Почему не собирался, Зикали? — Потому что, действуя в своей манере, он нажил там неприятности и оставил за своей спиной мертвых; один из них — Лоуста, которого он назначил на свое место на время его ухода, и женщина по имени Монази, которая была его женой, или женой Лоусты, или женой их обоих, я забыл чьей. Говорили, что слышали истории о ней, а уши у ревности длинные. Макумазан, он отрезал голову этой женщине взмахом своего топора и заставил Лоусту драться с ним до победы, которую он выиграл еще до того, как поднял свой щит. — Куда ушел Тот, кто носит топор? — спросил я, не удивившись этой новости. — Я не знаю и не думаю об этом, Макумазан. Должно быть, он решил стать странником. Он расскажет тебе эту историю, когда вы встретитесь с ним через несколько лет, я думаю, что это случится[411]. О Небеса! Я с помощью этого львенка сделал так, что Чаки больше нет, и не по воле самого Чаки. Да, это всего лишь сражающийся мужчина с длинным копьем, точным глазом и умением махать топором. Я знаю не так много таких людей. Я трижды заставлял его пойти в мой сад, но каждый раз он бросал тяпку, хотя я обещал ему королевскую кароссу, и ничего больше. Но хватит об Умслопогасе. Я не хотел бы, чтобы ты отдавал ему мой Талисман, но иначе люди короля могли бы убить его, потому что он знает слишком много и, как все глупые драчуны, мог бы наговорить лишнего, и его топор умер бы, а он страстно желает драться. В битве он выжил, в битве и умрет, Макумазан, это когда-нибудь случится. — Судьба твоих друзей не слишком волнует тебя, Открыватель дорог, — сказал я с усмешкой. — Именно так, Макумазан, потому что у меня нет друзей. Единственные друзья старого человека те, которые могут дойти до своего конца. Если это не получается, они находят других. — Я понимаю, Зикали, и теперь знаю, чего от тебя ожидать. Он засмеялся своим странным смехом и продолжал: — Это хорошо, что ты можешь ожидать. Хорошо в будущем, как и в прошлом, для тебя, Макумазан, ожидать того, кто по-своему смел и не глуп, как Умслопогас. Как какой-то мастер-кузнец, сделавший мне ассегай из красного металла, который я дал тебе, омытый кровью людей, и все равно твой разум останется невинным, а руки чистыми. Такие друзья, как ты, нужны таким людям, как я, Макумазан, и дружба будет хорошо оплачена. Старый колдун поразмышлял некоторое время, пока я раздумывал над его удивительным цинизмом, который сейчас представлялся мне как особенный случай аморального поведения, а раньше казался невероятной добродетелью и даже более того. Затем, внезапно подняв голову, он спросил: — Какое сообщение передала тебе для меня Белая королева? — Зикали, она сказала, что ты чересчур часто тревожишь ее по ночам. — Да, но если я перестану это делать, как она станет удовлетворять свое любопытство, потому что я слышал, как она спрашивает меня голосами ветра или стремительных летучих мышей. Кроме того, она женщина, Макумазан, и ей, должно быть, скучно сидеть одной год за годом, с невозможностью утолить свой интерес, и лишь хранить пепел прошлого и мечты будущего. Так скучно, что, однажды поймав тебя в свои сети, она с трудом нашла силы, чтобы отпустить тебя до того, как полностью вверглась в твою жизнь и в твой дух. Я думаю, что она вволю поиздевалась над тобой и высушила тебя, оставив пустой сосуд. Возможно, она переманила тебя на свою сторону, а потом ты стал камнем на ее пути. Возможно, Макумазан, она ждет других путешественников и встретит их или кого-то одного, ничего не говоря о некоем Бодрствующем в ночи, который помог ее возвращению и исчез во мраке. Но какое же еще сообщение было у Белой королевы для бедного старого шамана, который так часто тревожил ее беспокойный сон? Я рассказал ему о той картине, которую Айша показала мне в воде, — зрелище умирающего в пещере короля и двоих, кто ожидал его конца. Зикали внимательно выслушал каждое слово, затем недобро улыбнулся. — О-го-го! — засмеялся он. — Все идет хорошо, хотя дорога будет долгой, поскольку, что бы Белая королева ни показала тебе в огне небес над нами, в воде она показала тебе правду, потому что это закон колдунов. Ты хорошо поработал для меня, Макумазан, и ты получил свою плату, поскольку увидел мертвых, которых ты хотел увидеть больше всего на свете. — О, — ответил я равнодушно, — плата в виде горьких фруктов, когда сок горит и обжигает рот, а камни падают в горло. Говорю тебе, Зикали, она наполнила мое сердце ложью. — Макумазан, я понимаю твое огорчение, но ведь это была приятная ложь, не так ли? Кроме того, я думаю, что в ней была мудрость, которую ты не нашел бы за много лет. Ложь, все ложь! Но выше лжи — правда, спрятанная, как Белая королева под вуалью. Ты снял вуаль, Макумазан, и то, что ты увидел, заставило тебя пасть перед ней на колени. Ты прошел Долину лжи до конца, свернул, затем, блистая на солнце как золото, ты достиг Горы вечной правды, которую ищут многие, но находят лишь единицы. Ложь, ложь, все ложь! Выше всего того, что я говорил тебе, стоит правда, Макумазан! Да! Да! Прощай, Макумазан, Бодрствующий в ночи, Ищущий правды. После ночи придет рассвет, а после смерти что придет, Макумазан? Ты это узнаешь однажды, потому что вуаль снята, ведь, в конце концов, Белая королева показала тебе, что там, Макумазан?II. СОКРОВИЩЕ ОЗЕРА
Аллану Квотермейну везёт на колдунов и приключения. В очередной раз он попадает в ловушку своего безудержного любопытства. Канеке, великан с совиными глазами и змеиным сердцем, заманивает старого следопыта в озёрный край, где полно слонов и «обитают боги», владыки земных стихий. Оказавшись первым белым, сунувшим нос в столь заповедный край, Аллан быстро начинает понимать, что его охотничьей карьере (не говоря уже про жизнь) Судьба не сулит ничего хорошего.
Предисловие Аллана Квотермейна
Дописав сию книгу до конца, я вспомнил, что совсем забыл упомянуть, когда мне впервые пришло в голову отправиться в землю народа дабанда, к священному озеру Моун, на чьих берегах — или, если быть точным, невдалеке от его берегов — я нашел приют. А посему исправляю сейчас это упущение. Есть в провинции Наталь один монастырь, куда я время от времени наведывался. Среди достойной братии там жил весьма ученый монах, ныне ушедший, как говорят зулусы. Наши взгляды во многом расходились, но я имел честь пользоваться его доверием и, смею заметить, дружеским расположением. Брат Амвросий, швед по рождению, стал называться так, приняв постриг, а настоящего имени его я не знаю. Несостоявшийся археолог и этнограф, он не свернул со святого пути, но сумел совместить недюжинные познания в этих науках с необычайным благочестием. Так, например, этот человек слыл крупнейшим знатоком бушменской росписи среди всех, кого я только встречал, и был гораздо более меня самого сведущ в истории, религиозных верованиях, нравах и обычаях обитателей Восточной, Центральной и в особенности Южной Африки. И поскольку наши пристрастия в различных областях знаний совпадали, мы с этим монахом регулярно переписывались, ибо не всегда имели возможность встретиться и поговорить лично. Одно такое весьма содержательное письмо брат Амвросий прислал мне много лет назад из Мозамбика, куда его направили в качестве миссионера. Я до сих пор храню сие послание. И дабы быть точным, процитирую некоторые места из него. Вот что писал мне монах:Ныне я нахожусь на острове, куда прибыл по просьбе человека, освободившегося из неволи. Он призвал меня, поскольку один только я мог совершить обряд крещения и позаботиться о больном в его последний час. За это время подопечный поведал мне немало секретов. Петр, каковое имя он принял, ибо вошел в лоно христианской Церкви в день памяти означенного святого, отличался весьма примечательной наружностью. Весь облик и телосложение выдавали в нем араба, а родной язык его являл собой довольно устаревшее арабское наречие. При этом глаза у него были большие и круглые, совсем как у совы (он наверняка хорошо видел в темноте), а на красивом, с правильными чертами лице неизменно лежал отпечаток грусти. Полагаю, меланхолия вообще свойственна его народу. Петр поведал мне, что принадлежит к немногочисленному племени, живущему в тени гор Руга, вблизи от крупного озера, названия коего я не знаю. Горы сии отстоят недалеко от непроходимой местности, расположенной по берегам одного из притоков реки Конго. Само поселение, как я понял, располагается в глубокой долине, окруженной скалами. Посредине в обрамлении леса лежит обширное озеро, которое у соплеменников Петра считается священным. В ответ на мои расспросы он объяснил, что там, на острове, живет жрица — обладающая магическими способностями красавица, которая считается тенью некоей богини. Она изрекает пророчества и раздает благословения своим подданным. Ей также приписывают способность вызывать дождь и избавлять их народ от всевозможных напастей. С этой женщиной у аборигенов связана масса легенд, настолько абсурдных, что мне даже жалко тратить время на их пересказ. Так, например, ее саму вместе с мужем, вождем племени, в определенном возрасте якобы приносят в жертву. И тогда место ее занимает другая — по слухам, дочь прежней жрицы. Петр поведал мне еще кое-что, и это, уверен, заинтересует Вас, мой дорогой друг. Хоть я и очень занят, но, разумеется, поспешил написать это письмо, главным образом дабы изложить суеверия и легенды, что бы они там ни значили, пока все еще свежо в моей памяти. Мы с Вами частенько беседовали о всевозможных африканских загадках, включая табу. Так вот, этот человек поведал мне о таких формах запретов, о каких я и не слыхивал. Только представьте, вся дичь для членов его племени считается табу, и никто не смеет охотиться на диких зверей и есть их. Судя по всему, они там все поголовно вегетарианцы, хотя порой и вносят разнообразие в режим питания, употребляя мясо козы или коровы, коих разводят во множестве. Но и это еще не все. Петр уверял, что его соплеменники якобы живут бок о бок с дикими зверями и умеют управлять ими точно так же, как мы — собаками, лошадьми и другими домашними животными. Якобы они запросто отсылают лесных тварей прочь и призывают обратно, куда бы те ни скрылись, заставляют выполнять любые команды и даже могут натравить их, на кого захотят. Я допытывался у Петра, в чем причина такой поразительной власти его соплеменников над дикой природой (откровенно говоря, мне это кажется совершенно неправдоподобным), но в ответ он лишь твердил о жрецах, исповедующих пифагорейское учение о переселении душ. Позволю себе заметить, что это весьма популярная в Африке теория, в особенности если имеешь дело с местными вождями-узурпаторами. Изволите ли видеть, Квотермейн, эти дикари полагают, что когда душа покидает тело человека, то она переселяется в дикого зверя. Ну а поскольку он, в известном смысле, остается для людей родичем, то и удостаивается с их стороны почитания и поклонения. Несколько странно слышать из уст современного уроженца Африки о подобных языческих суевериях, и я бы очень удивился, имей его россказни под собой хоть малейшее основание. Маловероятно, что Петр поведал мне правду, но все ж таки, друг мой, если Вам вдруг представится случай, постарайтесь сами во всем разобраться. Ведь мы оба ищем на обширных просторах Африки следы осколков древних цивилизаций и верований, подобных вавилонской астрологии и пантеону богов Древнего Египта.
Далее в письме говорилось о кончине Петра, а затем брат Амвросий описывал найденный им где-то на Восточном побережье образчик резного орнамента, выполненного, по его мнению, в далеком прошлом бушменами. Хотя нет ни малейших доказательств того, что они могли забраться так далеко на север. Странная история, рассказанная брату Амвросию умирающим Петром, не выходила у меня из головы. В конце концов именно она побудила меня отправиться в путешествие, каковое я и описал на страницах этой книги. Перечитывая теперь эту расширенную версию своего дневника, который я вел в то время, я засомневался, удалось ли мне в полной мере передать чувство суеверного страха, глубоко укоренившееся в сердцах народа дабанда и создавшее в их стране совершенно особенную атмосферу. Полагаю, что, если бы мне пришлось задержаться там дольше, я наверняка бы лишился рассудка. Немудрено, что мои нервы расшатались, ибо я оказался в довольно унизительном положении: меня использовали там как своего рода живой амулет, окружив завесой тайн и ничего толком не объясняя, — для язычников-африканцев это в порядке вещей. Хочу заметить также, что, взвесив впоследствии все факты, я убедился, что Ханс был прав, какие бы доводы ни приводили старый Кумпана и прочие; на самом деле они решили вернуть Кенеку в землю Моун, чтобы подвергнуть его каре за богохульство, совершенное в молодости. Сдается мне, дабанда жаждали мести и, пока он был жив, окруженная тайной жрица, которую именовали Тенью или Сокровищем озера, просто не могла выбрать себе другого мужа — а ведь именно этого и добивались жрецы и члены Совета. И последнее. Полагаю, кое-кто из читателей может спросить, почему я не указал точные координаты земли Моун и одноименного священного озера. Смешно, право слово. Если вы задаетесь этим вопросом, то внимательно перечтите прощальное письмо Аркла, и сами все поймете. Ведь Кумпана недвусмысленно дал мне понять, что если я хоть одному белому человеку расскажу, где они находятся (или же объясню, как туда добраться), то нас с Хансом ждут большие неприятности. Не то чтобы я так уж испугалсястарого колдуна, но, с другой стороны, кто их разберет, на что они там способны: я имел возможность на своем личном опыте убедиться в таинственном могуществе жрецов дабанда. Как говорится, береженого и Бог бережет, а потому я счел благоразумным не проливать свет на этот вопрос, во всяком случае пока.
Глава 1
ИСТОРИЯ КЕНЕКИ
На склоне лет мне, Аллану Квотермейну, все отчетливее видится в каждом из нас тайна. Мы приходим с нею в этот мир и уносим ее с собой в могилу — место, полное самых потаенных секретов. Пока мы молоды, все кажется простым и понятным. Отец и мать подарили нам жизнь и явили целому миру, и, куда бы волею Создателя ни привела нас дорога, мы усваиваем один важный урок. Дневное и ночное светила, звезды в небесах и почва под ногами, обучение в школе и прием пищи, время сна и бодрствования — словом, все привычное, что нас окружает, можно выразить всего в двух словах — «установленный порядок»; именно в нем, благодаря Всевышнему и родителям, мы живем, дышим и ощущаем свое бытие. Неумолимо пролетают годы, и мы несемся от рождения к смерти, как ледник со скалы. Каждому из нас, когда он взрослеет, годам этак к пятнадцати, а отдельным избранным и того раньше, случается приоткрыть завесу или подглядеть украдкой сквозь туманный покров, и мы едва замечаем тайны, ускользающие в сумеречной дали. Они так быстро появляются и исчезают в полной темноте, что мы даже не успеваем ничего толком понять. Если нам достанет времени запечатлеть их в своей памяти, они остаются на краткий миг и тут же уступают место другим, самым поразительным, невиданным и порой жутким загадкам. Зачем же брать на себя так много, пытаясь вместить в свой разум все множество непостижимых тайн? Таким недогадливым и близоруким созданиям, как мы, люди, вполне достаточно найти среди всей этой громады интересующую нас область знаний. Давным-давно я выбрал свое место на земном шаре и решил посвятить свою жизнь Африке, а также всему необъяснимому и загадочному, включая человеческую природу. Тут кто-нибудь наверняка спросит меня: «А скажи-ка, Квотермейн, почему ты называешь человеческую природу загадочной? Вот ты и попал впросак, дружище! Что уж такого загадочного в человеке?!» И я в таком случае отвечу, что, по моему скромному субъективному суждению, человек — вообще одна сплошная загадка. Я все больше убеждаюсь, что, вопреки грубой плоти с ее извечными пороками и страстями, в нас есть духовное начало. Случалось ли вам видеть уличного торговца с разноцветными воздушными шарами, которые так нравятся детворе? Ребенок подбрасывает шарик в воздух, где тот парит по воле ветра-невидимки, пока в конце концов не лопнет, оставив после себя лишь сморщенный резиновый комочек. Вот очень удачное сравнение с человеком, столь внушительным с виду: он гоним туда и сюда ветром перемен, но в конце концов обратится в ничто. А что же с содержимым шара, вырвавшимся теперь на свободу? На мой взгляд, наполняющий его газ можно уподобить духу человека, заточенному до времени освобождения. Пожалуй, пример сей не вполне корректен, но он позволил мне хотя бы в общих чертах выразить свою мысль. Так или иначе, оставим высокие материи и перейдем к менее сложной теме. Не спорю, вероятно, философ из меня никудышный, но, во всяком случае, мне уж точно есть что рассказать о тайнах великого Черного континента. Весь окружающий нас мир прекрасен, но с Африкой не сравнятся ни Китай с его удивительными традициями, ни великолепные древности Индии. Согласитесь, эти земли уже более или менее освоены их обитателями, а вот Африка в целом до сих пор остается неизведанной, как и в былые времена. Судите сами. И по сей день большинство многочисленных африканских народов ничего толком не знают о своих соседях. Точно так же древние африканцы и понятия не имели о том, что на их континенте существует могущественное государство Египет, пока жители последнего не предприняли знаменитое путешествие в страну Пунт (как мне думается, она располагалась где-то на территории нынешней Уганды). Или взять другую историю, про финикийского царя Хирама, отправившего царю Соломону золото из Офира. А где, позвольте спросить, находится сия упоминаемая еще в Ветхом Завете загадочная страна, которая славилась золотом, драгоценностями и другими диковинами? Сие никому точно не ведомо, но предположительно неподалеку от порта Софала, на африканском берегу Индийского океана. И таких примеров наберется множество. Африка недаром считается колыбелью цивилизации. С другой стороны, взять хоть Ливию. Откуда, интересно, появилось на ее территории такое разнообразие постоянно соперничающих народов? Тут ведь буквально в каждом племени свои боги и культы предков, языки и нравы, обычаи и взгляды на мир — причем так было с древнейших времен. Мой жизненный опыт не столь велик, как может показаться; я лишь осмелился поделиться с читателями своими суждениями, каковые вполне могут быть ошибочными. Но это была, так сказать, лишь прелюдия. А теперь я поведаю вам увлекательную, на мой взгляд, историю, в которой ваш покорный слуга принял весьма скромное участие. Поэтому сразу условимся, что я тут отнюдь не самый главный персонаж. По сути, я был лишь посредником, некоей связующей нитью для иных действующих лиц, незначительным мостиком, приведшим их к финалу, предназначенному судьбой. Однако это происходило на моих глазах, и вот теперь, когда все осталось позади, я постараюсь, прибегнув к дневниковым записям, которые усердно вел и тщательно сохранял, перенести на бумагу воспоминания, пока они еще живы в моей памяти. От души надеюсь, что вы найдете мою историю занимательной.Много лет назад, взяв с собой готтентота Ханса, своего слугу и верного спутника во многих путешествиях, я совершил весьма длительную поездку с Восточного побережья Африки и почти до самого центра Черного континента. До меня дошли слухи, что к северу от нынешнего Бельгийского Конго якобы обнаружено крупное стадо слонов, и я загорелся мыслью на них поохотиться, хотя сие и было весьма рискованной авантюрой. Кто знает, осталась ли та земля ничейной до сих пор. Примечательно иное: без сомнения, я стал одним из первых белых людей, чья нога ступила в удивительный район, лежащий за горами Ладо, к северу от Джиссы и реки Денбо. По правде сказать, не только слоны побудили меня отправиться в эти края. Я предвидел, что, если даже и добуду слоновую кость, едва ли сумею унести далеко слишком тяжелый груз. Нет, скорее, меня влекла жажда чего-то нового, неизведанного. Всю жизнь я отличался неугомонным нравом и, похоже, останусь таким до самой смерти. Я верю, что где-то есть земли, полные всевозможных диковинок и чудес. От туземцев, живущих вблизи большого озера Виктория, я узнал об удивительном крае, расположенном в долине двух рек — Мбому и Бало. Обитающие там странные племена якобы носят арабскую одежду и говорят на каком-то арабском наречии. У них есть священное озеро Моун (название сие очень похоже на «стон», а смысл слова мне неизвестен), к которому никого не подпускают, а посреди озера — остров, этакая «обитель богов» (или духов, кому как нравится). Услыхав о священном озере, где обитают боги, я сразу вспомнил то давнее письмо от брата Амвросия, своего старинного друга, о котором упомянул в предисловии. Неужели про это самое озеро и рассказывал в свое время монаху некий Петр? С трудом сдерживая волнение, я тут же принялся наводить справки. Туземцы поведали мне о некоем чужеземце по имени Кенека, живущем в пятидесяти милях от них. Они полагали, что этот человек — бывший раб, а нынче старейшина арабского поселения и чуть ли не вождь местного племени — мог удовлетворить мое любопытство, так как был родом из тех мест. Пришлось пересмотреть планы, впрочем это пришлось как раз кстати, ибо ни с того ни с сего на меня вдруг ополчился вождь, по земле которого я хотел пройти, и я поспешил изменить намеченный ранее маршрут. Совпадение сие насторожило меня, так что я даже заподозрил, уж не сам ли Кенека с какой-то неведомой целью науськал местного вождя, чтобы тот встал на моем пути. Что ж, вполне могло оказаться, что туземцы, рассказывавшие легенды про таинственное озеро, — на самом деле его люди, которым он велел заманить меня в те края. До поселения, где жил этот самый Кенека, я добрался без приключений. Вождь и старейшина грозного племени, которое я при иных обстоятельствах предпочел бы обойти стороной, отнесся ко мне на удивление дружелюбно и гостеприимно. Кенека оказался личностью весьма примечательной, позднее я подробно опишу его внешность. Принял он меня очень радушно, позволив разбить лагерь около своего крааля и снабдив необходимой пищей. Кроме того, ему явно хотелось пообщаться, и я узнал, что Кенека принадлежит к племени дабанда, обитающему в дикой местности, по которой мне и пришлось пройти. Он был высокородным отпрыском великого целителя, в его семье это ремесло передавалось из поколения в поколение. Когда Кенека был еще совсем молодым, его при странных обстоятельствах, которые прояснились для меня гораздо позже, схватили люди из враждебного племени абанда и продали арабскому работорговцу Хасану, а тот доставил юношу в окрестности большого озера. Затем Кенека подробно рассказал мне, как однажды ночью убил Хасана. — Я подкрался к нему ночью, схватил за горло и начал душить. — При этих словах его мясистые пальцы задрожали. — Пока негодяй умирал, я шептал ему на ухо все те бранные слова, какими он прежде сам осыпал меня. Глаза Хасана молили о пощаде, но я не разжимал хватку, пока он не перестал дышать. Когда все было кончено, я раздел его, а тело отволок в кусты, надеясь, что лев утащит к себе добычу еще до рассвета. Затем, господин Макумазан (под этим туземным прозвищем, обозначающим человека, который всегда находится начеку, меня знали в тех краях), я затеял хитрую игру; опытный охотник вроде тебя должен знать в этом толк. Я вернулся в шатер Хасана, сел и прислушался. Вскоре пришли львы, послышался рык нескольких зверей. Их, вероятно, привлек заколдованный амулет покойного. По звукам я мог только догадываться, съели они труп или же уволокли его прочь. Когда все стихло, я облачился в одеяния Хасана, забрал его пистолет, с которым он сам научил меня обращаться, чтобы я отстреливал негодных рабов, и ружье. Убедился, что оружие заряжено, и присел на скамеечку, терпеливо дожидаясь рассвета. С первыми лучами солнца в шатре появилась одна из жен работорговца. Я схватил ее за руку. «Ты не мой господин Хасан!» — испуганно вскричала она, взглянув на меня. «Неправда, я твой господин. Просто этой ночью духи дали мне новое тело». Она хотела позвать на помощь. «Учти, женщина, если закричишь, я тебя убью! А если будешь вести себя тихо, то останешься в живых. Взгляни на меня. Хасан был древним стариком, а я молод и красив. Со мной ты познаешь блаженство. Выбирай: жизнь или смерть?» «Жизнь», — ответила она, быстро смекнув, что к чему. «Теперь ты признала своего господина?» «Да, теперь я вижу, что ты Хасан, мой господин». Умная была женщина, Макумазан, что и говорить. Я искренне сожалел, когда два года спустя она умерла. «То-то же, — ответил я. — Когда слуги Хасана спросят тебя, кто я такой, ты клятвенно признаешь меня своим господином, а иначе пеняй на себя». «Я сделаю все, как ты велишь», — ответила женщина. Вскоре появился старейшина племени, толстяк, наполовину араб, и подал мне утренний напиток Хасана. Я сделал глоток. Проникавший в шатер солнечный свет осветил мое лицо, и здоровяк в ужасе отшатнулся. «Ты не Хасан! — воскликнул он. — Ты наш раб Кенека!» «Я Хасан, можешь спросить у моей жены. Надеюсь, ее ты признал? Кто же, по-твоему, Хасан, если не я?» «Да, это и впрямь мой муж Хасан», — подтвердила женщина. «Колдовство!» — заорал толстяк и опрометью бросился из шатра. «Сейчас вернется с подкреплением, — заметил я. — Откинь задний полог шатра, а то ничего не видно, и подавай мне ружья». Не думая об опасности, эта самоотверженная женщина бросилась выполнять поручение, а я взял двустволку и приготовился защищаться. Наконец появилось с полдюжины арабов и метисов, а также несколько десятков чернокожих воинов. Следом плелись, волоча на себе ярмо, полсотни рабов: добрую половину я сразу признал, ведь мы были братьями по несчастью. Они жались друг к другу, уныло глядя по сторонам. «Возьми нож, — шепнул я своей помощнице, — незаметно прокрадись к рабам и перережь ремни ярма». Она кивнула и выскользнула наружу. Не все женщины дуры, у некоторых из них есть мозги, Макумазан, уж можешь мне поверить. Толстяк снова подал голос: «Раб Кенека, которого все мы знаем, выдает себя за Хасана и облачился в его одежды. Говори, собака, что ты сделал с нашим господином Хасаном?» «Хасан цел и невредим, он перед вами, — ответил я. — Выслушайте меня. Мы с Хасаном сговорились, что я отпущу ему все его прегрешения против меня, а взамен, при помощи колдовской силы, перенесу его дух в мое тело, ну а его собственное тело уже обрело вечное блаженство». «Ты лжешь! Убейте его!» — закричал один из воинов, размахивая копьем. «Лучше признай меня своим господином, — произнес я невозмутимо, — не то я заставлю тебя проглотить твой грязный язык». Не успев нанести удар, он упал, сраженный мною наповал. «Признаете меня своим господином Хасаном?» — спросил я у остальных, с ужасом взиравших на распростертое тело. Некоторые испуганно соглашались, остальные молчали, а толстяк прицелился в меня из пистолета. Я тут же пристрелил его из другого ружья и заорал что есть силы: «Вперед, рабы! Вы свободны, бейте их!» — К тому времени почти все они освободились от пут. Вняв моему призыву, эти храбрые люди с криками бросились на арабов, они валили их на землю и душили. В мгновение ока все было кончено, и только несколько уцелевших работорговцев ползали передо мной и кричали, что я их господин Хасан. «Довольно, — сказал я, — а теперь заберите тела и бросьте их в глубокое ущелье, а женщины пусть приготовят трапезу, пока я буду совершать ежедневную молитву». Затем я взял красивый молитвенный коврик Хасана, расстелил его, преклонил колени и принялся кланяться до земли и бормотать, шевеля губами. Мне часто приходилось видеть Хасана за этим занятием, и я смог в точности изобразить молитву. Вот и вся история, Макумазан. Кенека умолк, а я по-прежнему не мог вымолвить ни слова и лишь смотрел на него во все глаза. Сочинял ли он или говорил правду, но даже для Экваториальной Африки история была весьма необычной, а уж тут чего только не случалось. Хотя в большинстве случаев события разворачивались вдали от посторонних глаз. По правде сказать, этот высокий мужчина заслуживал внимания. Кенека отнюдь не принадлежал к негроидной расе, скорее обладал семитскими чертами лица и смуглой кожей. Жесткие курчавые волосы ниспадали на плечи, а горящие глаза навыкате придавали ему сходство с совой. На красивом лице выделялись пухлые губы, а крючковатый нос походил на ястребиный клюв. Изящные кисти рук и ступни составляли любопытный контраст с его атлетическим телом и рельефными мускулами. Разменяв уже четвертый десяток, он хорошо сохранился и держался непринужденно и с юношеским задором. Словно прилежный ученик, я не отрывал глаз от лица собеседника. Какой любопытный был у него взгляд: необычайно волевой, а временами — какой-то отрешенный, почти мистический, какой встречается у умиротворенного философа или священника. Разглядывая Кенеку, я едва не поверил в эту невероятную историю, хотя, будь на его месте любой другой из туземцев, я бы живо вывел отпетого лгуна на чистую воду. Этот человек был явно способен без малейших угрызений совести задумать и претворить в жизнь подобную авантюру. Меня с самого начала что-то притягивало к нему и одновременно отталкивало. Чутье подсказывало, что Кенека опасен и не заслуживает доверия. Однако он заинтриговал меня своим рассказом, особенно упоминанием про львов, которых привлекли чары амулета. — Что же было дальше? — прервал я наконец молчание. — Ничего, Макумазан, я стал Хасаном, вот и все, хотя они называли меня Похищенный. Я не отправился к побережью, решив остаться на месте и не намереваясь ни двигаться вперед, ни возвращаться назад. Поэтому я собрал верных мне людей и основал этот крааль. Однажды арабы попытались убить меня, но я сам мигом расправился с ними. После этого меня больше никто не смеет трогать. Видишь ли, в их глазах я являюсь могущественным колдуном, владеющим черной магией джу-джу, и внушаю всем ужас. — То есть ты к тому же еще и сделался колдуном, Кенека? — Да, это так, Макумазан. Вернее, я и раньше был предсказателем и заклинателем, как мой отец. Вот я и стал для местных кем-то вроде мудреца и воина в одном лице, а совсем скоро приобрел такой почет, что ко мне со всей округи начали приходить люди с просьбами дать им лекарства, произнести заклинания, а то и вызвать дождь. Благодаря этому, ну плюс, конечно, еще и торговле, я до сей поры остаюсь необычайно богатым и могущественным. — Да ты счастливчик, Кенека. Он закатил глаза. — А разве есть на свете хоть один действительно счастливый человек, Макумазан? — спросил он, пристально взглянув на меня. — Или хотя бы тот, кто считает себя таковым? Блаженны лишь животные. Можем ли мы, подобно им, не заглядывать в завтрашний день и не думать о смертном часе? — Пожалуй, ты прав, Кенека. Абсолютно счастливы разве что пьяницы, влюбленные и удачливые полководцы. — Или же те, кто вопрошает Небеса, — добавил Кенека. Я так и не понял, к чему он это сказал. — Во сне человек тоже счастлив, пока пробуждение не вернет его в тоскливые будни. — Он немного помолчал, а затем продолжил: — Да, почти все люди на свете так или иначе несчастны. Но насколько же горше тем, кто познал неволю и вынужден, как я, состариться на чужбине? Только представь, каково приходится этим беднягам: по ночам их преследуют сны о родных краях и далеких горах, всплывает из темноты лицо матери, звучат голоса друзей и любимых — и это продолжается без конца. Его искренние слова задели меня за живое. Я вздохнул и поинтересовался: — Почему же ты не вернешься домой, если тебе здесь так плохо? — Почему? Сейчас объясню, Макумазан. Тому есть много причин. Мои подданные могут не согласиться последовать за мною, а если я заставлю их силой, разбегутся или, чего доброго, отравят своего вождя. Одного они меня тоже не отпустят, я нужен этим людям: кто еще защитит их от врагов и диких животных, вызовет в засуху дождь? К тому же дорога в родной дом предстоит долгая и трудная, и кто знает, останусь ли я в живых. А если даже и дойду, что ждет меня там? Я был первенцем старшей жены моего отца, и он открыл мне тайные знания, которые передавались в нашей семье из поколения в поколение. Однако в мое долгое отсутствие место целителя и колдуна мог занять кто-то другой. И сородичи не обрадуются моему возвращению. Они убьют меня, особенно если мудрейшие узнают, что, став мусульманином, я предал свою богиню, хотя в душе я по-прежнему верен ей. Но на самом деле, Макумазан, я все-таки хотел бы вернуться, даже если это будет стоить мне жизни. Тут я оживился, как всегда, когда мне выпадает случай исследовать загадки африканских верований. — Ты сказал, что верен своей богине? — переспросил я. — А что это за богиня? Мы сидели в тени развесистого баньяна (древа мудрейших, как его тут называют), который рос на небольшом холме вдали от поселения. Кенека встал и обошел его вокруг, словно желая убедиться, что нас никто не подслушает. Затем он оглядел крону дерева и увидел сидевшую там обезьяну. Я давно ее заметил, а он, похоже, только сейчас. Кенека принялся что-то кричать животному, будто отдавая ему приказания. Наконец маленькая бестия поскакала с ветки на ветку, спрыгнула на землю и умчалась в дальние кусты. — Зачем ты прогнал ее? — удивился я. — У обезьян, как и у нас, есть уши, Макумазан. Кто знает, сколько людских секретов они могут порассказать. Я рассмеялся, догадавшись, что таким способом африканцы дают понять собеседнику, что разговор предстоит серьезный и тайный. Прогнав обезьяну, Кенека ненавязчиво намекнул мне, чтобы я держал язык за зубами; хотя, возможно, это лишь мои домыслы, а собеседник вовсе даже и не имел в виду ничего подобного. Кенека вернулся и нарочно подвинул свой табурет так, чтобы лучи закатного солнца, пронизывающие нижние ветви баньяна, освещали мое лицо, а сам он оставался в тени. Я не спеша раскуривал трубку, поэтому некоторое время мы сидели в тишине. Я твердо решил, что не стану заговаривать первым. Такая тактика наиболее выигрышна с туземцами, когда тема беседы им небезразлична. — Ты спрашивал о моей богине, Макумазан, — произнес наконец Кенека. — В самом деле? — ответил я, попыхивая трубкой. — Ах да, вспомнил. Так кто же она и где обитает — в небесных далях или в земных пределах? — Вчера, Макумазан, ты и твой желтолицый слуга интересовались, не слышал ли я чего об озере Моун, затерянном на земле моего народа дабанда, за горами Руга-Руга. — Да, помнится, мне кто-то рассказывал об этом озере, с ним еще связаны какие-то любопытные легенды. А ты что-нибудь знаешь о нем? — Лишь то, что на нем живет моя богиня. — Если так, то она, должно быть, русалка. — Это мне неизвестно, Макумазан. Я знаю только, что она живет на острове посреди озера вместе со своими прислужницами. Порой, в самые непроглядные темные ночи, над водной гладью или в лесу раздаются их пение и смех. — А ты ее когда-нибудь видел, Кенека? Он помедлил, словно выдумывал правдоподобную байку. А потом кивнул: — Да. Давным-давно, когда был очень молод. Меня отправили искать отбившихся от стада коз. Поиски привели вглубь леса, который полого спускался к озеру. Когда наступила ночь, я понял, что заблудился, и решил устроиться под деревом на ночлег. Вернее, я без сна дожидался рассвета, желая поскорее покинуть это мрачное, жуткое место. — Ну и что же произошло? — О Макумазан, столько всего, что и не упомнишь. Меня посетили духи; я слышал смех за стволами деревьев и в их кронах. Духи и призраки собирались вокруг и потешались надо мной. В конце концов весь лесной народец куда-то пропал, оставив меня до смерти перепуганным, как будто бы сам лев заглянул в гости и полакомился из моей тарелки. Взошла луна, ее лучи проникали сквозь ветви деревьев, оставляя кое-где неосвещенные полосы. Я прикрыл глаза, надеясь уснуть. Но внезапно услышал какой-то звук, снова открыл их и огляделся. В полосе света стояла женщина, на вид совсем юная и необычайно стройная. Кожа у нее была белая-белая, ну прямо как у твоего народа, Макумазан. Она подставила лунному сиянию свое прекрасное лицо с глазами черными и бархатистыми, как у оленихи. Ее серое облачение мерцало призрачным светом, словно паутина в капельках росы на рассвете, а из-под головного убора по плечам струились черные волосы. О, как она была хороша! Так хороша, что… — Он осекся и умолк. — Ну же, Кенека! — подбодрил я рассказчика. — Что я совершил злодеяние, Макумазан, величайшее от сотворения мира. Настоящее кощунство по отношению к той, что зовется Тенью. — Тенью? — не понял я. — Чьей тенью? — Тенью богини Энгои: она обитает на небесах и одаривает светом звезду, которую мы почитаем превыше всех остальных. — (Как я выяснил впоследствии, речь шла о планете под названием Венера.) — А может быть, богиня сия обитает на звезде и освещает луну. Я точно не знаю. Во всяком случае, та, что живет на острове посреди озера, считается земным подобием Энгои; за это ее и прозвали Тенью. — Как интересно, — заметил я, хотя, признаться, почти ничего не понял из его объяснений, сообразив лишь, что речь идет о некоей форме африканского оккультизма, в чем мне еще предстояло разобраться. — А какое же злодеяние ты совершил? — Я был молод и горяч, господин, и красота незнакомки, внезапно появившейся из леса, свела меня с ума. Я протянул к ней руки и обнял, вернее, попытался это сделать. Но только я коснулся ее губ, как силы покинули меня, а руки бессильно повисли вдоль туловища. Оставаясь неподвижной статуей, я мог лишь видеть и слышать. — Что же ты видел и слышал, Кенека? — спросил я, когда он снова умолк. — Ее прекрасное лицо исказилось гневом. «Знаешь ли ты, о презренный, кто я такая? — спросила незнакомка. — Как ты посмел совершить богохульство в моем священном заповедном лесу, куда не смеет ступить ни один смертный?» Я попытался было солгать что-нибудь в свое оправдание, но не смог. Я уже понял, что передо мною Энгои. И сказал: «Молю тебя, пощади меня, о Тень». — «Подобному святотатству нет оправдания. Пока я оставлю тебе жизнь, но ты сейчас же покинешь это место, а дальнейшую твою участь решит Совет Тени». — И что же случилось потом? — С этими словами, господин, она исчезла, будто растаяла в воздухе. И я тоже поспешил убраться из леса, подгоняемый жутким страхом, проклятиями и угрозами со всех сторон. На следующий день меня схватили и по приговору Совета Тени изгнали с родной земли. Так я попал в руки враждебного нам племени дабанда, обитающего на склонах гор, и в конце концов они продали меня в рабство. — А откуда члены Совета узнали о твоем проступке? — Что знает Тень, того не скроешь и от ее Совета, господин, а что известно Совету, ведомо и самой Тени. Я все хорошенько обдумал и вполне резонно заключил, что Кенека мне лжет. Вряд ли я когда-нибудь узнаю всю правду о происшедшем между ним и жрицей, но наверняка его проступок был куда серьезнее. Этот человек определенно совершил некое ужасное кощунство, если затем был вынужден ради спасения жизни бежать из родных мест и тем обрек себя на изгнание. Сменив тему, я попросил собеседника рассказать о враждебном племени абанда. — Когда-то, в незапамятные времена, мы и абанда были единым народом, но они давным-давно отделились от нас, господин. Живут абанда на равнинных предгорьях. Они очень злые и завистливые, буквально ненавидят нас, ведь Энгои дарует дабанда дожди и богатые урожаи, а сами они вечно страдают от засухи и голода. Эти негодяи только и ждут, как бы, захватив нашу землю и священное озеро, добиться благосклонности нашей богини. Абанда значительно превосходят нас количеством, в то время как мы — народ малочисленный, и с каждым поколением нас становится все меньше. — Почему же в таком случае они до сих пор не перебили вас, Кенека? — О, абанда не осмеливаются тронуть нас, господин. Проклятие падет на их головы, если они только посмеют вступить на священную землю, потому что нам покровительствуют звезды небесные. Все же они с надеждой ждут того дня, когда смогут бросить вызов проклятию и захватить нас; мы же сдерживаем их не силой оружия, а мудростью, дарованной свыше. Теперь, Макумазан, оставь меня, я должен на виду у всего народа обратиться в молитве к пророку, чуждому моему сердцу. Приходи снова, когда на вечернем небе вспыхнут звезды, и мы с тобой еще поговорим. — Прежде чем я уйду, Кенека, ответь на один вопрос, — попросил я, поднимаясь. — Энгои, живущая на озере, обыкновенная женщина или нечто большее? — Кто знает, господин? Конечно, она женщина, коли рождается и умирает, уступая место своей дочери, а все-таки есть в ней и нечто большее; во всяком случае, так нас учили. — Что ты имеешь в виду? — Видишь ли, всякая Энгои — это все та же неизменная Тень, хотя внешняя оболочка ее меняется из поколения в поколение. Согласно одной из легенд, она грешный ангел, упавший на землю с небес. — Что это за легенда? — заинтересовался я. — И как именно она согрешила? — В преданиях жрецов, господин, — ответил он, хитро улыбнувшись, — сказано, что когда-то давным-давно Энгои полюбила чужака, белого мужчину, а так как вместе на земле они быть не могли, она убила его в надежде забрать с собой на небо. С тех самых пор Энгои обречена снова и снова возвращаться в мир людей, пока не разыщет этого белого мужчину, — тут он покосился на меня, — и не загладит свою вину перед ним. Энгои и по сей день не прекращает поиски, и звезды говорят, что близится час, когда эти двое встретятся. — Неужели? — откликнулся я. — Что ж, надеюсь, дама не будет разочарована, — добавил я, а про себя отметил, что Кенека первоклассный лжец: в его исполнении старая как мир история о грешном духе, поселившемся в простом смертном, выглядела весьма изобретательно. На обратном пути я пытался сообразить, что понадобилось от меня этому вероломному разбойнику с медоточивыми речами. В любом случае едва ли можно было доверять Кенеке. По его же собственным словам, он был изгнан из родного племени, а потом и вовсе совершил убийство. Мало того, этот коварный и подлый тип ради собственной выгоды ловко притворялся приверженцем чужой веры. Я бы тут же прекратил с ним всяческие сношения, если бы не одно обстоятельство: Кенека знал дорогу к озеру Моун и уверял, что оно находится на его родной земле. А я, чего греха таить, сгорал от нетерпения разгадать тайну священного озера и его загадочной обитательницы, ведь именно о ней много лет назад и написал мне брат Амвросий.
Глава 2
ДЕЛОВОЕ ЧУТЬЕ АЛЛАНА
Я вернулся в лагерь, разбитый на окраине крааля Кенеки, в заброшенном саду, где бананы, апельсины, папайя и прочие экзотические фрукты, в полном соответствии с теорией естественного отбора, боролись за место под солнцем. Там я застал готтентота Ханса, которого считал в каком-то смысле другом, ибо он в свое время служил еще моему отцу, перед сооружением из пальмовых листьев. Ханс присматривал за котелком, висевшим над костром, который развели из лущеных початков кукурузы. Вид у него был сердитый. — Вот наконец и баас, — затараторил он. — Представляете, час тому назад повар Ару ушел и оставил на меня это варево, да еще наказал держать его на медленном огне, не давая ни закипать, ни остывать. Он клялся, что собирается помолиться Аллаху, баас, якобы он очень почитает пророка Магомета. Знаю я, баас, к кому этот парень собрался: своими глазами видел, как прошлой ночью Ару целовался с толстухой. Рот у нее огромный, что твоя тарелка, а глазища так и сверкают. Она пугает меня, баас, я всегда робею перед женщинами. — Да ну? Лучше бы ты робел перед бутылкой джина. — Э нет, баас, полная бутылка куда лучше женщины. Никак не пойму, почему люди столь дурного мнения о джине? Вот, допустим, ты залился по самую макушку, захмелел, а наутро у тебя раскалывается голова, и ты думаешь: вот оно, наказание за все твои прегрешения. А если джин оказался плох, тебе и вовсе начинает казаться, что твоим черным злодеяниям несть числа и, как бы горячо преподобный отец за тебя ни молился, вряд ли ты получишь прощение. Но зато наутро, если тебе хватило ума и везения разжиться кувшином кислого молока, солнышко тебе улыбается, и ты будто бы заново родился. Грехи отпускают тебя, ты чувствуешь, по себе знаю, что твой духовник одержал верх над преисподней. На нашем жизненном пути так много грязи, баас, что редко кому не случается оступиться. Подумаешь, джин! А с женщинами все отнюдь не так просто, баас, уж ты-то и сам прекрасно это знаешь. От женщины не избавишься с помощью кислого молока на рассвете, она всегда рядом, даже после смерти, ну, ты понял, о чем я, баас. — Перестань болтать чепуху и подавай мне обед. — Я бы и рад, баас, но с этим варевом не все ладно, оно прилипло к стенкам котелка и не отскребается даже железной ложкой. Если бааса не затруднит самому отколупать себе еду, будет куда проще. — С этими словами он подтолкнул обуглившийся котелок в мою сторону. — Будь в этом пристанище мусульман хоть капля спиртного, Ханс, я решил бы, что ты попросту пьян. — Баас глупее, чем я думал, если верит, что почитатели пророка не пьют. Сейчас джина у них нет, это верно. Просто он закончился, а новый взять неоткуда, пока торговцы не вернулись. Зато они варят свое собственное пальмовое вино: неплохое, кстати, и пьется легко, если только тебя потом не вывернет. Мне вот не повезло сегодня, баас, хватило и двух полных кружечек. Если баас хочет сам попробовать… Тут я схватил первый попавшийся предмет — им оказался трехногий табурет — и швырнул его в Ханса. Но готтентот, похоже, предвидел подобную реакцию с моей стороны и проворно укрылся за углом хижины. Немного погодя, когда я уже отчаялся бороться с присохшим к стенкам котелка рагу и закурил трубку, Ханс вновь появился, причем с таким кротким видом, что я понял: без вина тут не обошлось. Однако у меня не было ни сил, ни желания читать ему нотации. — Чем же баас занимался весь день в этой глуши? — робко спросил готтентот, глядя на меня с опаской, ведь в моем распоряжении оставались еще другой табурет и котелок. — Говорил с этим огромным повелителем дождя, у которого еще глаза как у филина, вылезшего на свет божий, с этим Кенекой? Или, может, с его женой, которая весьма недурна собой? — добавил он, подумав. — Да, мы беседовали, в смысле — с самим Кенекой, а не с его женой. Ибо супругу его я знать не знаю и вообще впервые про нее слышу, — ответил я. А затем поинтересовался: — А что ты скажешь про Кенеку, Ханс? Неожиданно мне захотелось узнать мнение моего верного готтентота, который обладал проницательным умом и редко ошибался. Ханс, который уже протрезвел от пальмового вина, вперил пару желтых глаз в вечернее небо, теребя в руках свою грязную шляпу, взял котелок, выудил из него куриную ножку и с задумчивым видом съел ее. Затем достал свою трубка, сделанную из кукурузного початка, и попросил у меня табака. Это, кстати сказать, меня порадовало: ведь если Ханс курит, значит он вполне трезвый. — О чем это баас меня спрашивал? — произнес он, покончив с церемониями. — Ах да, вспомнил, про этого местного вождя, Кенеку. Что ж, баас, я кое-что узнал от его жены, она очень ревнива и поэтому оказалась словоохотливой. Так вот, прежде всего этот самый Кенека — заправский лгун, баас, но для местных жителей это пустяк, они тут все лжецы, не то что мы с вами, баас. Уж мы-то никогда не грешим против истины, по крайней мере я. — Перестань валять дурака и отвечай на вопрос. — Ладно, баас. Я упомянул, что Кенека лжец, да? Наверное, он уже рассказал вам занятную историю о том, как обосновался в этой земле, убив главаря работорговцев, после чего все тут же признали его своим предводителем. На самом деле он просто подбил остальных рабов на мятеж. Кенека прикинулся верным служителем пророка и заявил, что ему больно видеть, как любители джина попирают священный закон. Надо сказать, это было умно с его стороны. Рабы подобрались к своим хозяевам, когда те спали, отнесли их на скалу и сбросили одного за другим в бурные воды. Только двое отказались участвовать в этом, за что Кенека велел засечь их до смерти, да и поделом. Ну а потом все эти люди, ненавидящие работорговцев за то, что те лишили их крова, сделали Кенеку вождем — за его святость и непримиримое отношение к пьяницам, а еще они боялись разделить участь своих бывших хозяев, сброшенных со скалы. Вот почему он так строго соблюдает молитву: ему приходится поддерживать славу святого и служить для остальных примером благочестия. Ханс умолк и снова разжег трубку от тлеющих угольков костра, а я нетерпеливо спросил, что еще ему известно. — Много чего, баас. В Кенеке живут два человека. Первый — деспот, жаждущий власти над миром; это жестокий и коварный тип, он любит выпить, пока никто не видит. Ну а второй — мечтатель, который прислушивается к голосам свыше, высматривает в небе знамения и повинуется им; это настоящий колдун, которого манят дали, а он вынужден томиться в здешней глуши, как лев в клетке. В свое время мать Кенеки, должно быть, ошиблась и вместо близнецов родила одного ребенка с двумя душами, которые давно уже борются между собой и будут бороться впредь, пока не убьют его. — Пожалуй, подобное со многими случается. И это все, Ханс? — Да, баас, то есть нет. Баас наверняка уже и сам догадался, что преграды, возникающие на нашем пути — ну, когда мы не могли идти своей дорогой, поскольку вождь местного племени угрожал нам расправой, — все это было подстроено Кенекой специально. Он просто-напросто хотел заманить нас в свой крааль. — Да неужели? Я и понятия не имел. — Да, баас, именно так все и было. Я узнал об этом от ревнивой женщины. — Но зачем я понадобился Кенеке? Какая ему от меня может быть выгода? Охотиться тут не на кого, а взять с меня нечего, я не богат. Да он и не просит ничего и, между прочим, кормит нас даром. — Кажется, он хочет куда-то позвать вас, баас. Этот лев жаждет вырваться из клетки и полакомиться свежатиной, он устал питаться одной мертвечиной. Кенека еще не рассказывал вам о священном озере, баас? Ну, за ним дело не станет. — Признаться, Ханс, я уже и впрямь кое-что от него про это слышал. Он утверждает, что якобы там родился, а в юности пережил приключение, из-за которого соплеменники изгнали его. — Верно, баас, а вскоре — помяните мое слово — окажется, что он хочет вернуться на родину в поисках новых приключений или же затем, чтобы свести с кем-нибудь старые счеты; впрочем, одно другому не мешает. Баас согласен отправиться вместе с ним? — А ты, Ханс? — Нет, баас, этот Кенека сильно смахивает на призрак, а у меня от них мурашки по коже. — Готтентот снова уставился в небо, немного помолчал и добавил: — Хотя… Пожалуй, мне все-таки лучше отправиться к озеру, баас, чем оставаться в этом месте, где от безделья я наверняка опять возьмусь за пальмовое вино, после чего мне будет совсем худо. Кроме того, доброму христианину вроде меня не пристало бояться призраков, мы живо отправим их обратно в преисподнюю, как учил ваш преподобный отец, баас. Он так и сказал, когда приснился мне нынче ночью: «Не важно, Ханс, чего мы сами хотим, ибо мы должны следовать туда, куда призовет нас воля Всемогущего, даже если при этом Он тащит нас за волосы, используя Кенеку». Теперь, баас, я должен, пока не стемнело, отчистить эту посуду, а после встречусь в укромном уголке с женой Кенеки и постараюсь выведать у нее побольше. Вы же меня знаете, баас: Ханс постоянно жаждет мудрости. — Смотри не отыщи ненароком глупости, — заметил я наставительно. Тут я вспомнил, что и у меня нынче вечером тоже назначена встреча. В безоблачном небе уже вовсю сияла звезда. Я поднялся и пошел в сторону крааля. Мы разбили лагерь за оградой из опунций, которые росли вокруг, создавая живой частокол. «В своей нелепой манере, — думал я по пути, — Ханс изрек великую истину. Бесполезно выкручиваться, коли надо идти, от судьбы не уйдешь. Да, у человека есть свобода выбора, но условия, в которых он может ею воспользоваться, весьма ограниченны». У околицы меня уже ждал человек в белых одеждах, готовый сопроводить гостя в обитель Кенеки. Как он сам объяснил, на него была возложена обязанность отгонять от белого господина собак и следить, как бы тот ненароком не напоролся на иглы. Мы прошли через довольно опрятный крааль к северной его окраине, где за оградой виднелась скала, под которой протекал поток, сейчас почти совсем пересохший. По словам Ханса, именно с этой скалы Кенека и сбросил работорговцев. Кенека жил в глинобитном доме прямоугольной формы, с соломенной крышей и побеленными стенами. Здание окружал высокий частокол, и войти внутрь можно было только через двойные ворота. Вождь явно не желал рисковать. Перед внутренними воротами мой проводник откланялся. В тот же миг мне открыл сам Кенека, проворно сняв деревянную щеколду. Он низко, почти благоговейно поклонился и произнес: — Входи же, о Макумазан. Слава белого господина достигла самых дальних пределов, добравшись также и до нашей глуши, куда обычно не проникают вести из внешнего мира. «Чего же тебе все-таки надо от меня, приятель?» — уже в который раз подумал я, внимательно всматриваясь в его лицо. А вслух сказал: — Неужели? Это более чем странно, ведь я не благородных кровей, не королевский придворный в лентах и звездах и отнюдь не богат. Я всего лишь скромный охотник и путешественник. — Что же тут странного? О Макумазан, разве ты не знаешь, что мы судим о людях двояко? И для меня важна твоя собственная ценность как человека, а вовсе не положение, которое ты занимаешь в обществе. Богатство и почести мало интересуют меня. Ничего удивительного, если я осведомлен о твоих личных заслугах и достоинствах, каковых, смею заметить, отнюдь не мало. Разве я не говорил тебе, что принадлежу к братству колдунов-целителей и что мы, живущие в разных концах Африки, общаемся между собою тайным, одним лишь только нам известным способом? Так вот, прежде чем ты ступил на наш берег, я уже знал, кто ты таков и на каком судне приплыл. Среди прочих мне пришло послание и от нашего главаря, Зикали из страны зулусов. — В самом деле? Что ж, помыслы Зикали так темны и странны, что я почти не удивлен. Но стоит ли так откровенничать здесь, друг Кенека? В твоем доме наверняка есть женщины, а у них длинные уши. — Женщины? Ты полагаешь, что я пущу в свой укромный уголок этакую дрянь? Ну уж нет, тут мне прислуживают только верные мужчины, но и те на закате уходят. Остаются лишь стражники у ворот. — Да ты отшельник, Кенека. — В ночные часы я отшельник, ибо тогда я общаюсь с небесами, а днем… Что ж, днем я как все — не хуже и не лучше остальных. Мне вспомнились слова Ханса о том, что в Кенеке уживаются два человека, и я в который уже раз подивился проницательности готтентота. Кенека провел меня по хорошо утоптанному двору к крытой веранде своего прямоугольной формы дома, с дверьми и окнами в арабском стиле. Вместо стекол в оконные проемы были вставлены циновки. По всей видимости, комнат было две. На веранде стояла парочка стульев из эбенового дерева с высокими спинками — такие и сейчас встречаются на Восточном побережье. Отсюда открывался чудесный вид: у подножия обрыва под нами бежала река, а за нею расстилалась просторная равнина. Я сел, а Кенека зашел в дом, освещенный светом лампы, и вернулся с бутылкой бренди, двумя стаканами и кувшином воды. По его знаку я налил себе немного, он же отмерил свою порцию щедрой рукою. — А я думал, ты мусульманин, — заметил я с наигранным удивлением. — В таком случае у тебя плохая память, Макумазан. Совсем недавно я сказал тебе совсем иное. Днем, перед всеми, я почитаю пророка; ночью же, когда остаюсь один в этих стенах, поклоняюсь не полумесяцу, а вон той звезде. — Он указал на Венеру, ярко сиявшую в ночном небе, поднял стакан, кивнул в ее сторону и выпил. — Ты затеял рискованную игру, Кенека. — Ерунда, — пожал он плечами, — тут не так уж много истинных фанатиков и нет никого, кто бы время от времени не прикладывался к бутылке. К тому же разве я не чародей, разве все не боятся меня и не приходят за помощью, хотя колдовство у них вроде как и под запретом? — Прав ли я, Кенека, предполагая, что и ты тоже их боишься? — Порой и такое случается, Макумазан, — признался Кенека без обиняков. — Ведь даже у «небесного пастуха», — (так он именовал заклинателя дождя), — есть желудок, а некоторые из местных жителей очень хорошо разбираются в ядах, особенно женщины. Видишь ли, Макумазан, я бывший раб, волею судьбы ставший господином, и они этого не забыли. Мне все это порядком надоело, и я спросил напрямик: — Чего ты хочешь от меня? — Мне нужна твоя помощь, господин. У меня в этой земле есть все, но я хочу убраться отсюда и вернуться к себе на родину. — Ну и что ж тебе мешает? — Очень многое. Перед закатом я уже объяснял тебе, что мне никак нельзя уйти, не измыслив подходящего предлога. Если я только попытаюсь это сделать, меня убьют как предателя и вероотступника. Таково, Макумазан, Древо истины, но не проси меня сосчитать его листья и объяснить тебе, почему и как они растут. — До чего же красиво ты говоришь, Кенека. И все-таки чего ты хочешь от меня? — Разве я не говорил тебе, господин, что твоя слава достигла также и наших ушей? Сейчас я поделюсь с тобою еще одной истиной. Можешь мне не верить, но я не лжец, господин. Меня посещают видения, как и моего покойного отца, да к тому же я однажды заглянул в лицо Энгои и вкусил ее мудрости. В видении она велела мне искать твоей помощи, господин. — Так вот зачем ты, Кенека, преградил мне дорогу, настроив против меня озерное племя и вынудив заехать сюда? — Верно, господин, хоть я и не понимаю, кто выдал тебе мои планы. Возможно, кто-нибудь из женщин. Или твой проворный желтоглазый слуга, который держит ухо востро даже во сне, как кошка, и, даже если с виду мертвецки пьян, что-нибудь разнюхал. В общем, получив знамение свыше, я и привел тебя сюда. — Чего ты хочешь от меня? — повторил я, теряя терпение. — Я устал от пустой болтовни. Выкладывай начистоту, Кенека, а я уж сам разберусь, что к чему. Он поднялся, шагнул к краю веранды и взглянул на звезду словно бы в поисках очередного знамения. А затем обернулся и произнес: — Ты, господин Макумазан, прирожденный путешественник, жаждущий знаний, настоящий охотник за диковинками. Ты узнал о таинственном священном озере Моун, до которого еще не добирался ни один белый человек, и захотел разгадать его тайны. Мой рассказ еще больше возбудил твое любопытство. Без провожатого ты никогда не отыщешь это место, и лишь я один, здешний заложник, могу привести тебя туда. Возьмешь ли ты меня с собой? — Постой, приятель, не гони лошадей. Хочу я или нет найти то место, это мое дело, а вот тебе, видать, позарез нужно туда попасть, уж не знаю зачем. Но похоже, без меня тебе никак не обойтись. — Верно! — У него вырвался вздох, похожий на стон. — Я буду с тобой откровенен, Макумазан. Мне необходимо отыскать озеро, потому что те, на кого пала Тень, должны следовать за нею, как бы ни менялся ее облик. Она явилась ко мне во сне и трижды повторила, что если я попытаюсь обойтись без твоей помощи, господин, то меня непременно убьют. Поэтому я и молю тебя о помощи. Тут во мне проснулся делец, ибо, вопреки некоторым мнениям, у меня есть определенная хватка, порой я даже бываю слишком непреклонен. — Послушай, друг Кенека, я приехал в эти земли, потому что до меня дошли слухи, будто бы где-то неподалеку полным-полно слонов и другой дичи. Ты же знаешь, я промышляю охотой. Так что вовсе не таинственное озеро привело меня в эти края, хотя я и не откажусь взглянуть на него, коли оно вдруг попадется на моем пути. Давай говорить как деловые люди: если я соглашусь на сие путешествие — опасное и трудное, как ты сам признал, — то желаю получить за это приличное вознаграждение. Да, ты должен будешь мне хорошо заплатить. — И я взглянул на него сурово, как ростовщик на парнишку, просящего ссуду. — Понимаю, Макумазан, твое условие вполне справедливо. У меня есть сто соверенов английского золота: мне с трудом удалось скопить эту сумму, монетка за монеткой. Ты получишь их, когда мы окажемся на озере. Я вскочил со стула: — Подумать только: я получу сто соверенов на озере, до которого мы, возможно, никогда не доберемся! Ты, видно, решил обидеть меня, приятель? Спокойной ночи, вернее, прощай, ибо завтра ноги моей здесь не будет! И я уже было собрался сойти с веранды, однако Кенека схватил меня за полу одежды: — Господин, не гневайся на своего раба. Все, что у меня есть, твое. — Так-то лучше. И что же у тебя есть? — Я торгую слоновой костью, господин, и у меня ее припасено довольно. — Сколько именно? — Сотня бивней, господин, я собирался продать их в следующее новолуние. Ты можешь выбрать, что тебе понравится… — Выбрать? Ты, наверное, хотел сказать, взять все и вдобавок еще сотню соверенов на непредвиденные расходы? Кенека закатил глаза и вздохнул: — Что ж, так тому и быть. Завтра я покажу тебе слоновую кость. Он вошел в дом и, вернувшись с холщовым мешком, открыл его. Я увидел, что тот полон золота. — Возьми это в качестве задатка, господин. Тут деловое чутье снова пришло мне на выручку. Сообразив, что если я возьму сейчас хоть одну монетку, то сделка вступит в силу, какого бы качества ни оказалась слоновая кость, я решительно отпихнул мешок: — Вот увижу бивни, тогда и потолкуем. А пока спокойной ночи.Наутро явился слуга, чтобы сопроводить меня в дом Кенеки. На этот раз я прихватил с собой Ханса, заранее введя готтентота в курс дела и надеясь получить от него хороший совет. — Стойте на своем, баас, и постарайтесь заполучить как можно больше. Жаль, что баас не торгует женщинами, как арабы: у Кенеки есть такие славные девушки, и он отдал бы любую, не будь баас таким примерным христианином. Знаете, баас, мне кажется, что вы можете запросить у него любую цену. Кенека жаждет поскорее покинуть свой крааль, но без вашей помощи ему не выйти отсюда живым. — Оставь свои глупости, — сказал я, хотя в глубине души был с ним согласен. Дверь дома, как и прежде, открыл сам Кенека. Он подозрительно взглянул на Ханса, но промолчал. А внутри я увидел такое богатство, что у меня загорелись глаза. Бо́льшую часть пространства за оградой занимала слоновая кость; впрочем, некоторые бивни почернели от времени, зато три или четыре экземпляра оказались значительно крупнее всех, что мне доводилось когда-либо видеть. Ханс, прекрасно разбиравшийся в слоновой кости, переходил от бивня к бивню и внимательно их изучал, что заняло довольно много времени, а я подсчитывал общую стоимость, исходя из тогдашнего рыночного курса. За вычетом транспортных и прочих расходов получалось как минимум семьсот фунтов стерлингов. Потом мы очень долго обсуждали детали и наконец пришли к соглашению, условия которого я изложу вкратце. Я должен сопроводить Кенеку на земли его родного племени дабанда, если только мне не воспрепятствует в этом тяжелая болезнь или стихийное бедствие, после чего волен вернуться обратно или же идти куда пожелаю. Кенека, в свою очередь, обязывается уплатить за услуги слоновой костью и за свой счет отправить ее на Занзибар моему доверенному лицу, агенту, который продаст товар с максимальной выгодой и перечислит вырученную сумму в банк Дурбана. Кроме того, мешок, в котором и впрямь оказалось сто соверенов, перешел в мои руки. Поначалу я обрадовался, а потом сообразил, что в дикой местности, куда мы направлялись, от золота нет никакой пользы. Да, Кенека вдобавок еще взял на себя обязательство устроить так, чтобы я оказался в его краале желанным гостем, а также на протяжении всего пути защищать меня по мере сил. Таковым в общих чертах был наш договор (я в душе ликовал, разглядывая свое приобретение), который мы скрепили подписями. Я поставил свой крупный и размашистый росчерк, Кенека вывел затейливые арабские символы, в которых уже порядком поднаторел, а Ханс — отметку свидетеля, а скорее кляксу, потому что перо расщепилось. Покончив с формальностями, я ушел обратно в лагерь в приподнятом настроении, пообещав вернуться после полудня, чтобы обговорить все детали отгрузки слоновой кости и предстоящего путешествия. — Ханс, — обратился я к слуге; кроме него, поговорить было не с кем, — а ловко я обделал это дельце, верно? Учись, мой друг! Нужно, как говорится, ковать железо, пока горячо. Ведь завтра Кенека вполне мог передумать и назначить меньшую цену. — И впрямь ловко, баас. Хотя порой яркие искры от железа слепят глаза. Уверен, что завтра Кенека предложил бы вдвое больше, ведь его запасы намного богаче. Я тоже преподам вам урок, баас: лучше бы вы выждали некоторое время. Разве я не говорил, что этому типу просто не терпится уйти отсюда, а без вашей помощи это невозможно, так что он ничего не пожалеет? — Пусть так, Ханс, — ответил я, немного обескураженный, — но я бы в любом случае не смог выручить лучшую цену. — Все зависит от того, во сколько вы оцениваете свою жизнь, баас, — задумчиво произнес Ханс. — По мне, так все слоновьи бивни, какие только есть в мире, не стоят человеческой жизни, ведь из них даже гроб не сколотишь. — Что ты несешь? — спросил я сердито. — Я всего лишь думаю, баас, что мы с вами умрем прежде, чем достигнем места назначения. Представьте, что эти бивни никогда не попадут на побережье, ведь у Кенеки тоже есть, как вы говорите, деловая хватка. По дороге он может подстроить кражу бивней и вернуть их себе. На его месте, баас, я бы так и поступил. Зато у бааса останутся сто соверенов, которые очень нам пригодятся, когда мы будем помирать с голоду в каких-нибудь дебрях, или же помогут нам подкупить идола Кенеки, чем бы тот ни был, или… Тут я потерял терпение и хотел было влепить Хансу затрещину, но он ловко увернулся и с ухмылкой убрался восвояси, предоставив мне самому управляться с обедом. Пока я ел, на душе у меня скребли кошки: мысль, что этот негодник может оказаться прав, не давала покоя. Снискав сомнительную выгоду, я обрек себя на неведомые опасности в компании с туземцем, о котором почти ничего не знаю, кроме того, что он довольно странный тип, а учитывая оплату вперед, я теперь нахожусь в полном его распоряжении. Пусть даже я потеряю товар и вырученные за него деньги, все равно сто соверенов отягощали мой карман и мою совесть, как кусок свинца. Я уже раскаивался, от всей души желая никогда не видеть эти проклятые бивни. Я даже порывался отправить Ханса с золотом к Кенеке, но потом передумал, ибо, откровенно говоря, сомневался, что тот получит свое золото обратно. Дело не в том, что Ханс нечестен, просто возвращать деньги тому, кто их дал, было против его правил. Он уж, скорее, закопает мешок или вручит его ревнивой жене вождя, от которой узнал так много интимных подробностей, но Кенека не увидит своих денег, если только я сам их ему не верну, а поступить так мне не позволяла гордость. Вдруг настроение мое резко изменилось: то ли на меня снизошло некое вдохновение свыше, то ли сказались последствия плотного обеда (что более вероятно, ибо, как ни унизительно сие признавать, наши взгляды на жизнь во многом зависят от желудка). Так или иначе, я подумал: «Да неужто я трусливый кролик, чтобы отказываться от верного дела из-за одной только пустой болтовни и посулов Ханса, который всего лишь упражняется за мой счет в остроумии? Если я, поддавшись на его провокационные речи, вернусь к побережью, готтентот, который любит путешествия еще больше моего, первый же упрекнет меня — не в открытую, разумеется, но уж точно не упустит случая посмеяться над баасом. Более того, Ханс сам вчера сказал, что бесполезно противиться судьбе, но следует смиренно позволить ей направлять нас. Что ж, меня судьба привела к золоту Кенеки и дала некую надежду на обретение слоновой кости, а значит, так тому и быть. Я отправлюсь вместе с ним к племени дабанда, на таинственное побережье озера Моун. Пусть даже я туда и не доберусь, что с того? Все наши странствия рано или поздно подходят к концу, будь то через месяц, через год или через десятки лет». Я послал за Хансом, который явился с видом оскорбленной невинности — терпеть не могу, когда он начинает так себя вести. — Ханс, я решил пойти с Кенекой в землю племени дабанда и, если ты попытаешься меня отговорить, рассержусь и отправлю тебя на побережье вместе со слоновой костью. — Понимаю, баас, — ответил он покорно. — Что еще остается, раз уж вы взяли деньги, которые этот малый наверняка выручил от продажи юных рабынь. По крайней мере, теперь вас не назовут вором. Ну а я вовсе даже не собираюсь отговаривать бааса. С какой стати, если я сам жду не дождусь, когда мы покинем это место? По правде сказать, баас, ревнивая женушка Кенеки, похоже, всерьез считает меня красавцем: вовсю строит глазки и, завидев меня, прижимает руку к сердцу. Она делает меня несчастным, баас. — А может, это ты делаешь ее несчастной, жалкий обманщик? — О нет, баас, не стоит переоценивать женщин. Что же до опасностей путешествия, о которых я прежде толковал, то разве я о себе пекся? Нет, я говорил это лишь потому, что преподобный отец бааса, умирая, поручил своего сына моим заботам, велев изо всех сил направлять его на путь истинный, когда он собьетесь с дороги. Услышав сие заявление, я вскочил, и Ханс испуганно отпрянул: — Баас ведь не исполнит угрозу отправить меня на берег вместе со слоновой костью? Он же знает мою слабость: горе разлуки я буду заливать пальмовым вином, и мне станет совсем худо. Поняв по моему взгляду, что я сменил гнев на милость, Ханс поцеловал мне руку и отправился было восвояси, но за поворотом походной кухни обернулся: — Надеюсь, баас составил завещание? Если вдруг не успел, то сейчас самое время это сделать и отправить завещание на побережье вместе со слоновой костью.
Глава 3
СУД НАД КЕНЕКОЙ
Опускаю все подробности наших сборов в дорогу и отправки слоновой кости в долгий путь до Занзибара. Достаточно сказать, что груз благополучно отбыл на плечах носильщиков вместе с другими товарами. Похоже, Ханс оказался прав, и у Кенеки было припасено еще немало всего, хотя сам он и уверял, что это, дескать, ему не принадлежит. Справедливости ради стоит упомянуть, что слоновая кость благополучно достигла Занзибара и была отправлена моему агенту, который продал ее согласно инструкции, а вырученные средства, за вычетом комиссионных, поместил в банк Дурбана. Итоговая сумма даже превзошла мои ожидания. Так что в этом вопросе Кенека свое слово сдержал. Затрудняюсь сказать, что сталось с остальным товаром, который, уверен, принадлежал ему же, но едва ли Кенеку волновали вырученные деньги, раз он за ними так и не вернулся. Что еще было отправлено тогда с тем арабским караваном, я не знаю, ибо поостерегся задавать лишние вопросы. Однако вопреки наветам Ханса, которые считаю весьма далекими от истины, я не увидел ни одной рабыни. В действительности Кенека торговал оружием и порохом. Раз в год с Занзибара приходили караваны, груженные этими товарами, а также сукном, ситцем и четками, а затем они возвращались обратно, но уже со слоновой костью Кенеки, который время от времени пополнял свои запасы. На этих сделках он выручал большие деньги, каковые хранил в английских банках на Занзибаре. Об этом я узнал много позже. Любопытно, какова дальнейшая судьба его вкладов? Итак, вереница носильщиков во главе с арабами, которые ехали верхом на ослах, растаяла вдали. Мы тоже готовились в дорогу. Тут следует сказать несколько слов о моих попутчиках, ибо в путешествие вместе со мною отправлялись, помимо Ханса, двое носильщиков, оба опытные охотники, которых мне настоятельно рекомендовали на Занзибаре. Я был известен в Африке как охотник на крупную дичь, и, зная мою репутацию, эти двое с радостью поступили ко мне на службу. Один из них оказался урожденным абиссинцем, с именем столь мудреным, что я именовал его просто Томом, а туземцы прозвали этого парня Дырчатый — из-за отметин, оставленных на его лице черной оспой. Другой был рожден от сомалийки и араба, а может, даже и европейца. Сказать по правде, внешне он сильно походил на британца: круглое открытое лицо, почти прямые рыжеватые волосы; единственным исключением была очень смуглая кожа. Этот молодой мужчина с гордостью представился мне как Иеремия Джексон. Говорил он на чистом английском языке, так как обучался в миссионерской школе, когда те еще только-только появились, а затем успел послужить носильщиком у нескольких английских охотников. Отца своего Джексон не знал, а мать умерла, когда ему не исполнилось и пяти лет от роду. Его я прозвал Джерри — по ассоциации с Томом, которая напрашивалась сама собой. Кто же не слышал о Томе и Джерри, двух известных повесах Георгианской эпохи, о которых мне столько рассказывал в свое время покойный отец! Оба моих охотника были примерно одного возраста, где-то между тридцатью и сорока, и принадлежали к христианской вере, причем абиссинец оказался протестантом. Храбрости и умения обоим было не занимать, вот только Том отличался большей решительностью, а Джерри — хладнокровием и упрямством (возможно, таким образом давала о себе знать его европейская кровь). Вскоре мы очень сдружились, а вот Ханс поначалу отнесся к новым попутчикам весьма настороженно, скорее всего из ревности. Я не сомневался, что, наняв этих двоих, очень удачно вложил деньги. Была лишь одна загвоздка: Том и Джерри согласились отправиться со мною, дабы охотиться на слонов, а вовсе не затем, чтобы участвовать в экспедициях невесть куда. Следовало рассказать им всю правду о моих дальнейших планах, на случай если они вдруг захотят вернуться на побережье вслед за слоновой костью. Том не задумываясь вызвался идти со мною до конца, куда бы ни привела нас дорога. Сказал, что он, дескать, прирожденный путешественник и хочет прикоснуться к тайнам окружающего мира. Мне частенько приходилось наблюдать подобный настрой у абиссинцев. Осторожный Джерри завел разговор о жене и маленькой дочке, которая еще только-только пошла в миссионерскую школу. Оказывается, его разлучили с семьей. Ханс тут же язвительно посоветовал заботливому папаше сидеть дома и нянчиться с младенцами. Услышав это, Джерри буквально взвился и заявил, что тоже пойдет с нами и вот тогда-то все увидят, кому место в няньках. Покончив с этим, я поблагодарил охотников и рассказал им о ста золотых соверенах, полученных от Кенеки. Я решил разделить эту сумму между ними и Хансом, поскольку нам предстояло опасное путешествие. Оба стали горячо меня благодарить, правда Джерри усомнился, доживет ли он до того часа, когда наконец-то получит свою долю. И с сожалением вздохнул: ведь деньги так пригодились бы для его дочурки. — Вы не поняли, я предлагаю вам эти деньги прямо сейчас. Вы пообещали остаться со мной до конца путешествия, и у меня нет оснований сомневаться в вашей порядочности. Так что, если в караване, который собирается на побережье, есть человек, которому вы доверяете, можете через него отправить близким свою долю. Оба охотника были удивлены и растроганы и принялись наперебой клясться — протестант Том именем Бога, а католик Джерри Девой Марией, — что ни за что не оставят меня и, что бы ни случилось, сдержат свое слово. Выслушав их, я повернулся к Хансу и спросил, не хочет ли и он тоже поблагодарить меня за щедрость. Все это время готтентот стоял в сторонке и с высокомерной ухмылкой на наглой физиономии вертел в руках свою шляпу. — Нет, баас, — решительно объявил он, — я не возьму вперед никаких денег! Так с какой же стати мне вас благодарить? Я не наемный работник, как эти двое, а был приставлен к баасу его преподобным отцом для поддержки и защиты. И все, что мне нужно, я получу от бааса по праву. С этими словами Ханс развернулся и зашагал прочь. А я обратился к нему по-голландски, чтобы остальные не поняли: — Ах ты, ревнивый и сварливый маленький попрошайка! Ладно, придется мне пока хранить твою долю у себя! Так я и поступил и, забегая вперед, скажу, что он соизволил получить свои соверены лишь много времени спустя. Кроме Тома и Джерри, я нанял еще двадцать местных носильщиков, которых с трудом удалось уговорить идти со мной и нести груз. Я замечал, что по мере приближения нашего отъезда Кенека все больше нервничает, хотя и никак не мог взять в толк, чего именно тот опасается. Он созвал старейшин поселения, на этой встрече присутствовал и я тоже. Кенека объяснил, что вызвался сопровождать меня в охоте на слонов, откуда мы в надлежащий срок непременно вернемся. Старейшины болезненно восприняли эту новость, невзирая на предложение вождя вплоть до его возвращения оставить за главного кого-нибудь из местных жителей. Близится время, возражали они, когда следует помолиться о дожде, а если Кенека уйдет, они останутся ни с чем. Тут следует пояснить, что религия обитателей этого крааля причудливо сочетала в себе почитание пророка и суеверия дикарей Восточного побережья. Некто Гаика, важная шишка, судя по всему, свирепый одноглазый тип, наполовину араб, наполовину негр, вскочил и злобно напустился на Кенеку: якобы его так разозлило, что вождь не вовремя собрался на охоту. Однако Кенека отреагировал на удивление спокойно и даже кротко. Он сказал, что хотел бы встретиться со старейшинами еще раз и хорошенько все обсудить. На этом собрание завершилось. — Как ты думаешь, в чем тут дело? — спросил я у Ханса, когда мы вернулись в наш лагерь. — Почему Гаика вдруг так разъярился? — Да ты слеп, баас. Этот тип спит и видит, как бы убить Кенеку и самому занять его место. Я возразил, что в таком случае Гаика, напротив, обрадовался бы отъезду соперника. — Вовсе нет, баас, местные боятся, как бы их вождь не отправился в свое племя, где он слывет великим колдуном, и не привел бы сюда сородичей, им на погибель. Эти люди задумали убить Кенеку, потому что ненавидят и боятся его, — добавил Ханс шепотом, — но пока не готовы, вот и не хотят его отпускать. — Откуда ты все знаешь? От той женщины? Готтентот кивнул: — Кое-что, баас, мне рассказала именно она. А остальные сведения я собирал по крупицам, то тут, то там, когда притворялся спящим или слушал старого муллу, обучающего меня основам своей религии. Мулла думал, что я хочу обратиться в их веру. Я сидел в его хижине-мечети, слушал всякие глупости и говорил, как ликует моя душа, а сам держал ухо востро. Там мне удалось разузнать много интересного. Они считают меня мудрым и доверяются Хансу так, как не доверились бы баасу. Глядя на него, я испытывал странное чувство: смесь возмущения с восхищением. Несомненно, мой готтентот был не промах и впрямь разузнал немало. Больше мы на эту тему не говорили, ведь тут и у стен имелись уши. В тот же день я отправил носильщиков с грузом на три мили вперед, в безопасное место, поскольку очень боялся, как бы товар не украли. Со мной остались только Ханс, Том и Джерри. Утром Ханс, по обыкновению, принес мне кофе и как ни в чем не бывало сообщил: — У нас возникли осложнения, баас. Прошлой ночью Кенеку схватили, связали и теперь держат взаперти в его же собственном доме. Вчера днем он, кажется, во время ссоры убил кого-то ударом кулака или камнем. Он ведь силен как бык. Я присвистнул и спросил, что же будет дальше. — Утром местные собираются судить Кенеку за убийство по своим законам, баас. Меня послали справиться, будете ли вы присутствовать или нет. Что им сказать? Поначалу я хотел было отказаться, заявив, что меня это не касается. Поразмыслив, однако, я передумал: не хватало еще выставить себя трусом. Кроме того, я взял у Кенеки вперед слоновую кость и золото, так что теперь негоже бросать его в беде. Поэтому я послал Ханса сказать, что приду на суд вместе со своими слугами. В назначенный час мы явились вчетвером, как следует вооруженные. У ворот нам сообщили, что суд состоится у Древа Совета, росшего, помнится, на окраине крааля. Туда мы и отправились. Все население было уже в сборе, дерево окружили приблизительно четыре сотни человек. В его тени сидело — кто прямо на земле, кто на табуретках — около десятка старцев в белых одеждах. Легко было догадаться, что это судьи. Когда мы приблизились, минуя толпу, они с сомнением покосились на наши ружья. В конце концов мы все-таки разместились: чуть поодаль от так называемого Совета, по правую руку от судей. Я присел, а Ханс, Том и Джерри встали у меня за спиной. С нами никто не заговаривал, и мы тоже хранили молчание. Вскоре толпа расступилась, пропуская Кенеку — со связанными за спиной руками и под конвоем шестерых стражников, вооруженных копьями. Все провожали его холодными взглядами. Вряд ли хоть один из местных жителей относился к арестованному дружелюбно. Наконец Кенеку подвели к судьям, что сидели, прислонившись спиной к стволу дерева, и поставили как раз между мной и публикой. Он держался с достоинством, стоял спокойно и очень прямо, несмотря на оковы, будучи на голову выше любого из присутствующих. Почему-то он напомнил мне Самсона, связанного и осмеянного филистимлянами. Помнится, я даже задался вопросом: а где же его Далила? Мне припомнились россказни Ханса про ревнивую жену, о коей я и понятия не имел. Кенека возвел очи горе, осмотрелся, остановил взгляд на мне и кивнул. На судей он не обращал никакого внимания, равно как и на публику. Мулла, как называл Ханс местного священнослужителя, открыл разбирательство молитвой, которую прочитал, преклонив колена. Затем Гаика, явно выступавший в роли прокурора, брызжа слюной, обстоятельно изложил дело. Он поведал, что много лет назад чужеземец Кенека был рабом, но хитростью и жестокостью сумел приобрести власть над ними. Затем одноглазый гигант, не жалея черной краски, принялся перечислять преступления Кенеки, выставляя того настоящим злодеем. Гаика обвинял его в жестокости и несправедливых притеснениях, в воровстве имущества и похищении женщин и бог знает в чем еще. Но это, что называется, были цветочки. Далее последовала череда обвинений в черной магии и несоблюдении заповедей пророка, произнесении заклинаний и чародействе с целью вызова духов, нарушении поста в Рамадан и употреблении горячительных напитков, вероотступничестве и поклонении чужим богам или демонам, в сговоре с врагами против своего народа, в ночных жертвоприношениях младенцев и ягнят — всего и не перечислишь. Напоследок Гаика припомнил вчерашнее убийство одного из старейшин и потребовал предать бывшего раба и жестокого узурпатора Кенеку смерти за все его злодеяния. Довольный собой, он сел на место и предоставил пленнику защищаться. Голос Кенеки буквально прогремел, поразив меня и всех присутствующих, настолько он был силен и выразителен: — Стоит ли мне защищаться, если так называемые судьи, мои враги, заведомо уверены в моей виновности и приписывают мне столько злодеяний, что на совершение их и целой жизни не хватит? Признаю, что вчера в пылу ссоры действительно убил человека. Но я всего лишь защищался, повалив противника на землю и помешав ему заколоть себя. Так что это рука Аллаха покарала нечестивца, а вовсе не моя. О люди, за что вы судите меня? Ведь я вывел вас из небытия к богатству и власти. Не секрет, что Гаика хочет сам стать вашим вождем. Ну что ж, на здоровье: я буду рад уступить ему место, ибо устал править вами и защищать вас. Вы уже давно злоумышляете против меня. Теперь отпустите меня, и каждый пойдет своей дорогой. Добавить к этому мне нечего. — А у меня есть что добавить! — вскричал Гаика. — Ты сказал, Кенека, что якобы должен сопроводить Макумазана туда, где он сможет поохотиться на слонов. Все это ложь, на самом деле ты собираешься поднять против нас своих соплеменников: еще наши деды воевали с ними, а злобные северяне отдавали наших юношей в рабство. Вот что у тебя на уме, именно поэтому мы прежде никогда не позволяли тебе покидать нас. И теперь не отпустим. Ты останешься здесь до самой смерти, пока не отправишься в преисподнюю, где чародеям самое место. Гаика умолк, и по рядам слушателей прокатился одобрительный шепот. Уж не знаю, плохим или хорошим правителем был Кенека, но он явно не вызывал у своих подданных симпатии. Не дождавшись от узника ответа, одноглазый продолжил, обращаясь к остальным судьям: — Братья мои, вы все слышали. Нет нужды вызывать свидетелей, вы сами вчера видели, как Кенека убил одного из нас. Скажите, виновен ли он во всех перечисленных мною злодеяниях? — Виновен! — дружно отозвались судьи. — Какого наказания он заслуживает? — Смерти! — снова ответили они хором. А публика, словно эхо, повторила: — Смерти! — Кенека, — торжествующе провозгласил Гаика, — ты осужден на смерть. Никто из сотен присутствующих, включая женщин, не молит о твоем помиловании. Детей у тебя тоже нет, ведь ты наверняка убил их, колдун, опасаясь, как бы они, когда вырастут, не расправились с тобой. По закону тебя нельзя умертвить сразу. Сейчас ты под охраной отправишься в свой дом, где сможешь помолиться Аллаху и пророку о прощении грехов, а завтра на рассвете тебя приведут обратно и изобьют палками до смерти, ибо мы не можем проливать твою кровь. Понятен ли тебе приговор? Тут Кенека наконец заговорил. Без тени страха, спокойно, даже как-то безразлично, но голос его отчетливо раздавался в полнейшей тишине, так что слушатели могли разобрать каждое слово: — О Гаика, собачий сын! Да все вы здесь собачье отродье! Я все прекрасно слышал и понял. Вы собираетесь до смерти забить меня палками? Быть тому или нет, этого я вам не открою. Слушайте же последнюю мудрость моих уст. Вы справедливо называете меня колдуном, ибо грядущее мне подвластно. Я насылаю на все племя проклятие, и пусть Аллах защитит вас, если сможет, а Магомет помолится за вас. Великая хворь падет на каждого этой ночью, а некоторые из вас уже больны, — Кенека указал на толпу, — но пока не знают об этом. Они заболели в ту минуту, когда слова сии сорвались с моих губ. — (Тут люди забеспокоились и стали с подозрением коситься друг на друга.) — Многие умрут, ведь после моего ухода некому будет вас исцелить. Остальные же разбегутся, как овцы без пастыря, и попадут к тем, чьих сыновей и дочерей вы забирали в неволю; они окончат свои дни в рабстве. Прощай, господин Макумазан, — добавил Кенека, повернувшись ко мне. — Если мне самому не суждено проводить тебя туда, куда ты держишь путь, не тревожься. Мой дух будет направлять тебя всю дорогу. А когда вы со слугами благополучно доберетесь до места, ты в ночной час получишь от меня послание через ту, о которой я уже говорил тебе. О Макумазан, я не прошу застрелить этого лжеца. — Он кивнул на Гаику. — Ни к чему понапрасну рисковать, ибо вас всего лишь четверо, а этих негодяев — множество. Нет, я прошу тебя лишь об одном: вникни в сие послание и следуй ему. Не зная, как отреагировать на столь странное заявление, я промолчал. Ханс отчаянно жестикулировал, явно желая мне что-то сказать. Когда я решительно помотал головой, готтентот набрался наглости и ответил вместо меня на своем корявом арабском: — Великий господин Макумазан, мой баас, велел передать тебе, о Кенека, как он сожалеет, что тебя убьют. А еще он попросил держаться от нас подальше, если ты после смерти превратишься в призрак. Особенно если это будет призрак колдуна, казненного за свои злодеяния. Нам с такими не по пути. Услышав подобные речи, я чуть не задохнулся от возмущения. Однако не успел сказать и слова, поскольку Гаика злобно закричал, обращаясь ко мне: — Мы уверены, белый господин, что ты заодно с этим грешником и замышляешь против нас зло! Немедленно убирайся с нашей земли, а не то разделишь судьбу Кенеки! Несправедливые нападки разозлили меня, и я ответил, особо не задумываясь, первое, что пришло в голову: — Да кто дал тебе право возводить на меня напраслину и угрожать? Лучше оставь меня в покое и подумай о своей собственной участи, ибо расплата не за горами! Мог ли я тогда предположить, произнося на свой страх и риск эти слова, что судьбе будет угодно вскоре покарать негодяя моей рукой? Порой мы, сами того не ведая, изрекаем пророчества. Каким образом это получается? Не представляю, но наверняка и вы тоже замечали нечто подобное. Много ли мы знаем о сокровенных тайниках своей собственной души, откуда порой неожиданно выходит на свет божий правда? Выслушав меня, люди начали в замешательстве расходиться. Стражники двинулись прочь, подталкивая Кенеку. Они до того обнаглели, что, угрожающе размахивая копьями, двинулись к нам. Я огляделся и выхватил ружье; помнится, это был винчестер с пятью патронами в магазине. Туземцы испуганно отпрянули и позволили нам беспрепятственно вернуться в палатки. Я не стал тратить время даром. Бо́льшая часть снаряжения уже была отправлена вперед с носильщиками. Ничего не поделаешь, рассудил я, придется нам вчетвером самим нести свой груз: ведь если прежде мы рассчитывали на помощь людей Кенеки, то теперь об этом не могло быть и речи. Поэтому, навьючив на себя и на единственную ослицу одеяла, ружья, посуду, боеприпасы — в общем, много всего, мы двинулись в путь. Я ехал верхом и, надо думать, сверкал, как Белый Рыцарь из «Алисы в Стране чудес». Покинув крааль, мы приблизительно через час благополучно добрались до места, где наши носильщики разбили лагерь. Выбранный мною участок располагался на самом пологом склоне холма, поросшего колючим терном. На вершине этого холма бил родник, а вниз бежал ручеек. Перво-наперво я нарезал терна и соорудил из него бому — так в Южной Африке называется ограда, защищающая от диких зверей. Теперь нам было где спрятаться в случае опасности. День уже клонился к вечеру, когда я управился с этой нелегкой работой и поставил палатку. Выбившись из сил, больше от пережитых треволнений, я лег и какое-то время размышлял о незавидной участи, выпавшей Кенеке. Хоть я и недолюбливал этого человека, с ним явно обошлись несправедливо, и мне искренне хотелось избавить его от гибели. Незаметно для себя я задремал и, учитывая, какие мысли теснились в моей голове, ничуть не удивился тому, что мне привиделось. Во сне ко мне пришел Кенека. Правда, я не видел его, но отчетливо слышал каждое его слово: «Следуй за женщиной, Макумазан, и делай, как она скажет, тогда ты сумеешь спасти меня». Голос повторил слова дважды. Не знаю, через какое время после этого я проснулся. Вернее, меня разбудила возня Ханса, который выкладывал припасы на походный стол возле палатки. Была глубокая ночь, полная луна так ярко сияла в безоблачном небе, что мне во время еды даже не понадобился светильник. — А вот интересно, Ханс, о какой болезни, что якобы должна поразить весь крааль, толковал Кенека? — Баас не шибко внимательный. Неужто он не заметил у людей из каравана, пришедшего за слоновой костью, ничего особенного? — Только грязь, да еще от них за версту разило, поэтому я старался держаться подальше. — Если бы баас подошел поближе, он бы увидел, что у троих караванщиков лица усыпаны прыщиками. — Черная оспа? — догадался я. — Верно, баас, мне и раньше приходилось видеть подобное. Пришельцы смешались с толпой в поселении, где много лет и не слыхивали о подобной напасти. Наверное, Кенека сдерживал оспу своими чарами или же сразу исцелял больных, не давая заразе разгуляться. Но в этот раз он не стал ей мешать, баас, и многие местные жители сегодня утром жаловались на боль в горле и слабость. Кенека знал об этом заранее не хуже моего. Так любой может сделаться пророком. — А посылать видения во сне, по-твоему, тоже легко? — И, не дожидаясь ответа, я рассказал ему обо всем, что якобы слышал во сне. Лишь на мгновение морщинистое лицо готтентота утратило равнодушное выражение. Он явно удивился, но тут же беззаботно произнес: — Провалиться мне на месте, если я знаю, как он это проделал. Хотя, может, Кенека тут и ни при чем, а просто баас услышал мой разговор с женщиной. Она как раз ждет, когда баас поест, чтобы встретиться с ним.Глава 4
БЕЛАЯ МЫШЬ
— Что? — воскликнул я, подскочив на месте. — Какая еще женщина? — Ревнивая жена Кенеки, та самая, что без ума от меня. Ее зовут Белая Мышь, наверное за способность шустро и бесшумно двигаться. У нее есть план, как спасти нашего здоровяка, так что либо сон бааса и впрямь вещий, либо баас просто слышал ее слова. — Должно быть, она любит Кенеку, Ханс, раз отважилась прийти сюда после всего случившегося. — Может, и так, баас. Или же она надеется вернуть мужа, ведь ее соперница больна оспой и теперь либо умрет, либо останется навеки изуродованной. Это ее собственные слова, баас. — Я встречусь с этой дамой немедленно. — Лучше сначала поужинайте, баас. Заставляя женщину дожидаться, ты даешь ей возможность лишний раз подумать о тебе. Ханс, как правило, говорил разумные вещи, даже если они и звучали как полная чепуха. Поэтому я последовал его совету. После трапезы готтентот проводил меня к пруду у подножия холма, ярдах в двухстах от лагеря. По берегам его рос кустарник. Когда мы приблизились, из-за дерева появилась невысокая женщина. Она передвигалась настолько бесшумно, что ее легко было принять за призрак. Свет луны озарял белые одежды. Женщина откинула капюшон, открыв довольно красивое, с тонкими чертами лицо. Я заподозрил, что в ее жилах текла не только арабская, но и европейская кровь. Гостья украдкой взглянула на меня, умоляюще и проникновенно. А потом вдруг упала на колени, схватила мою руку и поцеловала. — Довольно, — сказал я, поднимая ее. — Что тебе от меня нужно? — Господин, — произнесла она страстным шепотом, — я раба Кенеки. Здесь я для всех Белая Мышь, но в другом месте меня зовут иначе. Кенека дурно со мной обращался, ибо влюбленный в Тень не смотрит на других женщин. Однако я прошу тебя сделать все возможное для его спасения, ибо заклятие Кенеки еще лежит на мне. — Стало быть, ты просишь меня о помощи? — Да, господин. — Я промолчал, и моя собеседница с живостью продолжила: — Знаю, белые люди никогда и ничего не делают даром, а мне нечего тебе предложить, кроме себя. Я стану тебе верной слугой, Кенека не будет возражать. Он сам отпустил меня. — Не бойтесь, баас, — шепнул мне на ухо Ханс, — говоря с вами, она на самом деле думает обо мне. Я так пихнул готтентота локтем под ребра, что у него перехватило дыхание. — Поведай же мне свой план, Белая Мышь, если он у тебя есть, но учти: мне не нужна рабыня. — Тогда увези меня отсюда. Если ты подаришь мне свободу, я буду предана тебе до самой смерти. Только обещай, что не отдашь меня этой желтой обезьяне или своим охотникам. — Какова чертовка! — пробурчал Ханс у меня за спиной. — Излагай же свой план, я жду, — повторил я. — Так слушай, о господин. На вершину скалы, к дому Кенеки, ведет тропа. Он лежит там связанный, дожидаясь, когда его казнят на восходе солнца. Об этой дороге знаем только мы двое. Я проведу туда тебя, твоего слугу и двоих охотников. Вы расправитесь со стражниками, если потребуется, и уведете пленника тем же путем. Узника в доме сторожат лишь трое, а остальные стоят за воротами. — Что за ерунда, Белая Мышь! Я тщательно осмотрел эту скалу, когда навещал Кенеку. Со стороны обрыва нет ограждения, скала уходит отвесно вниз, и без длинной веревки невозможно ни взобраться на нее, ни спуститься. — Верно, господин, но под выступом на вершине скалы есть отверстие. Внизу проходит туннель, который завершается как раз под площадкой, перед тем самым местом, откуда Кенека наблюдает за звездами. Понимаешь, господин? Я кивнул, сообразив, что Белая Мышь говорила о веранде, где мы с Кенекой пили бренди. — Но покрытие там твердое, как сквозь него пройти? — Твердый пол изготовлен из каменных плит, но их можно двигать снизу. Дело в том, что мне известен один секрет, господин. Отсюда до ущелья рукой подать, а по любой другой дороге путь неблизкий. Отправляться сейчас преждевременно, раньше двух часов пополуночи нам в поселении делать нечего. Подождем, пока все не уснут, кроме тех, кто ухаживает за больными — проклятие Кенеки сбылось, — а им нет дела до посторонних шумов. Скажи, пойдешь ли ты со мной? — Нет, не пойду, — отрезал я. — Это безумие. Почему я должен рисковать собой и жизнью своих слуг, чтобы спасти Кенеку? Мы знакомы с ним не более двух недель, и я понятия не имею, с кем и по какой причине он враждует. — Почему? Да потому, что только Кенека может отвести тебя туда, куда ты желаешь попасть, — ответила она, уставившись в одну точку. — Сейчас единственное мое желание — поскорее вернуться на Занзибар. — Хорошо. Тогда потому, что ты взял у Кенеки слоновую кость и золото, о господин, — изрекла женщина. От этих ее слов я вздрогнул. — Я получил золото и кость в уплату за услуги, которые мне предстояло оказывать Кенеке во время нашего совместного путешествия. Твой муж добровольно отдал плату и не просил вернуть ее, если путешествие по какой-либо причине не состоится. Не моя вина, что он был вынужден остаться, поэтому я свободен от обязательств. — Ловко придумано, на то ты и белый. Ладно, у меня остался последний довод, к которому прислушается каждый настоящий мужчина. Ты подчинишься, потому что тебя умоляет о помощи юная и прекрасная дева. — Ах, умна чертовка! Как же хорошо она изучила бааса! — задумчиво пробормотал Ханс. Его слова ожесточили меня, и я ответил: — Ты ошибаешься, Белая Мышь. Во всей Африке, да и вообще в целом мире нет ни одной женщины, ради которой я согласился бы на подобную авантюру. Думаешь, я сошел с ума? Она мрачно усмехнулась: — Нет, наверное, это я сошла с ума. Мы все тут наслышаны о Макумазане: якобы он щедрый и великодушный человек, хозяин своему слову, опора в трудную минуту, всегда поможет в беде, храбрый искатель приключений, готовый рискнуть, если подвернется стоящее дело, хотя и отличается небывалой скромностью. Все это поведал мне твой слуга, и остальные говорят то же самое. Кенека много о тебе рассказывал, да я и сама наблюдала издалека, незаметно для тебя. Раньше я верила в эти рассказы, но теперь вижу, что ошибалась. Господин Макумазан такой же, как и все торговцы, — ни лучше ни хуже. Ну что ж, значит, все кончено. В одиночку Кенеку мне не спасти, а я поклялась своей душой, что сделаю это. Прости,господин, что навлекла на тебя беду. Конец всему придет на ваших глазах, а теперь я отправлюсь к тем, кто послал меня, и поведаю им обо всем случившемся. Пока я пытался разгадать смысл слов Белой Мыши и уразуметь, есть ли хоть толика правды в ее таинственных речах, женщина вдруг выхватила нож, обнажила грудь и нацелила острие прямо себе в сердце. Я вовремя подскочил к ней и сжал запястье. — Как же сильна твоя любовь! — воскликнул я изумленно. — Ты ошибаешься, господин, — произнесла она со странным смешком. — Я вовсе не люблю Кенеку, а, наоборот, ненавижу его. Еще не родился такой мужчина, которого я могла бы полюбить. Да вот только пока Кенека мой господин, я связана нерушимой клятвой защищать его от опасности. Или я сдержу свое слово, или погибну. Наступила тишина. Эта странная картина навсегда запечатлелась в моей памяти. Лужайка на берегу пруда, окруженная кустарником; лунный свет озаряет белизну округлой груди эльфийской красавицы — бледнолицей и большеглазой, с черными вьющимися волосами; вот она заносит над собой нож. И я, в волнении и замешательстве, хватаю ее за запястье, пытаясь предотвратить трагедию; надо полагать, со стороны все это выглядело глупо. Боковым зрением я улавливал насмешливый взгляд умудренного опытом Ханса: готтентот словно бы уже отведал плод с древа познания и теперь взирал на происходящее — одновременно равнодушный и любопытный, безобразный и обаятельный. А эти глаза на прекрасном лице — ибо Белая Мышь была по-своему красива, во всяком случае очень привлекательна, — манящие, полные таинственности! О, я вовек их не забуду! Пока мы вот так стояли, друг против друга, словно в немой сцене какого-то спектакля, я призадумался: стоит ли мне идти на риск и связываться с этой странной женщиной, готовой расстаться с жизнью из-за того, что она не смогла спасти от смерти человека, которого якобы ненавидит? Почему Белая Мышь стремится умереть? За что она ненавидит своего мужа? И не должен ли я попытаться спасти Кенеку, раз уж взял у него вперед золото и слоновую кость? Разумеется, я не мог позволить даме убить себя прямо на моих глазах, но если даже я сейчас и отберу нож, она запросто найдет другой, да и кто помешает ей свести счеты с жизнью иным способом. — Отдай мне кинжал, Белая Мышь, — попросил я, — и давай поговорим. Она разжала руку, и нож упал на землю. Я наступил на лезвие и отпустил ее запястье. — Пожалуйста, успокойся, — продолжал я. — Я попробую сделать то, о чем ты просишь. — Знаю, господин, я уже прочла это в твоем взгляде, — ответила она с робкой улыбкой. — Но видишь ли, какое дело, Белая Мышь. В одиночку мне тут никак не справиться. И получается, что Хансу и двум моим охотникам тоже придется рисковать жизнью. Однако приказать им я не могу, а пойдут ли они по своей воле — не знаю. Женщина вопросительно взглянула на готтентота. Ханс нервно заерзал и сплюнул на землю. — Баас поступает глупо, соглашаясь идти. Однако куда баас, туда и Ханс. Нет, я поступаю так вовсе не ради спасения Кенеки из капкана, просто, баас, я обещал это вашему преподобному отцу. За остальных я не в ответе. Сдается мне, эти двое откажутся, а даже если и согласятся, то лучше их оставить тут, ведь они глупы и трусливы: в самый неподходящий момент охотники как пить дать испугаются и наделают шума, а тогда быть беде. В такую переделку лучше ввязываться вдвоем, а не вчетвером. Разумнее отправить Тома и Джерри с носильщиками, ведь арабы помчатся за нами вдогонку, когда мы вытащим Кенеку из этой дыры. Они попытаются его вернуть, и чем дальше будут наши припасы, тем для нас лучше. Носильщики идут не спеша, баас, мы их живо нагоним. — Ну, что скажешь? — спросил я Белую Мышь. — Я скажу, о господин, что этот тщеславный глупец, твой слуга, иногда говорит мудрые вещи. Одной мне там точно не управиться. Кто-то должен отвлекать охрану и сторожить проход, пока я освобождаю Кенеку от пут. Но двое подойдут для этого ничуть не хуже четверых, к тому же они быстрее скроются в туннеле. Так что желтолицый прав. Отправь охотников вместе с носильщиками и грузом вперед задолго до рассвета. Сбежав с Кенекой, вы пуститесь по их следу и нагоните раньше, чем арабы: тем ведь придется двинуться в объезд. А к тому времени, как преследователи вас нагонят, они уже сильно устанут и окажутся легкой мишенью для ваших ружей. — А что потом будешь делать ты? — спросил я удивленно, заметив, что она об этом даже не упомянула. — О, не знаю, — ответила женщина со странной улыбкой. — Разве я не сказала, господин, что теперь служу тебе? Безусловно, как бы там ни было, я последую за своим господином или же пойду впереди него. Вспомнив, как она называла Кенеку своим господином, я призадумался, кого она в данном случае имеет в виду: его или меня? Однако решил не вдаваться в подробности, поскольку сейчас явно было не до этого, и сосредоточился на главном. Следовало прояснить все детали, которые я не стану тут подробно описывать, и всесторонне обсудить операцию по спасению пленника. Когда с этим было покончено, я распрощался с Белой Мышью, велев ей потихоньку уйти, и мы вернулись в лагерь. Там я отослал Тома и Джерри вперед, из предосторожности сказав охотникам, что якобы мы с Хансом намерены встретиться в поселении с одним человеком по очень важному делу. Я велел им взять с собой носильщиков и еще до рассвета отправляться к окрестным холмам. Ранее, гостя у Кенеки, мы побывали там все вместе и подстрелили самца африканской антилопы и птицу, которую у нас в Англии называют дрофой, дабы разнообразить свой рацион. Хотя Том и Джерри были явно расстроены, они заверили меня, что не подведут и в точности исполнят мои указания. Желая мне спокойной ночи, Том вызвался сопровождать меня в крааль, заявив, что мало ли какие опасности могут там поджидать. Я заверил его, что мне ничего не угрожает, после чего мы распрощались. Увижу ли я своих охотников снова и что с ними станется, если я не вернусь? Вполне возможно, подумал я тогда, что эти двое вернутся на побережье и разбогатеют, распродавая оружие и прочие товары. Потом я прилег немного отдохнуть, велев Хансу последовать моему примеру. В назначенный час я моментально пробудился (обычно это не составляло мне труда) и выбрался из палатки. Ханс уже был на ногах и приготовил необходимое: воду, холодный чай, пузырек со спиртом, пару полосок билтонга (вяленного на солнце мяса), на случай если мы проголодаемся, и моток веревки — все это нам предстояло нести на себе. Из оружия я прихватил винчестер с пригоршней патронов, револьвер и мясницкий нож в ножнах. Ханс был без ружья, зато с двумя револьверами и ножом, еще он взял пару свечей и коробок спичек. Собравшись в дорогу и упаковав вещи, оставленные на попечение Тома и Джерри, мы поспешили к кустам на берегу пруда, прихватив немного еды: ведь Белая Мышь, должно быть, умирала с голоду. Однако на прежнем месте жены Кенеки не оказалось. Ханс тут же решил, что она одурачила нас и сбежала. Слушая его болтовню, я оглядывался по сторонам и вдруг увидел ее. Женщина стояла, прильнув к стволу дерева. Вернее, я заметил лишь глаза, приняв ее поначалу за какое-то животное. Белые одежды скрывали фигуру под черным плотным одеянием. Оказывается, Белая Мышь принесла его с собой в узелке. Я предложил ей перекусить, но она отказалась, испуганно заявив: — Спасибо, господин, но мне сейчас не до еды. От нее исходили решимость и тревога. Она взглянула на луну и прошептала: — Время пришло, господин. Следуйте за мной и, пожалуйста, не курите, не разжигайте огонь и не говорите слишком громко. И Белая Мышь пустилась в дорогу, скользя будто тень, а мы двинулись за ней. Сомнения тяжким грузом лежали у меня на сердце. Во что мы с Хансом ввязались? Разумно ли я поступил? Наш путь пролегал вдоль берега ручья, который брал начало в источнике, несущем свои воды сквозь заросли кустарника к горному ущелью. Без сомнения, этот древний поток сотни лет прокладывал себе путь, прорезая эту расселину в лоне земли. Пока мы шли, Ханс шептал мне на ухо свои соображения: — Странное дело, баас, вместо того чтобы спать, мы вынуждены тащиться куда-то среди ночи. И зачем только баас согласился на это? Не будь Белая Мышь так хороша, баас ни за что не вызвался бы ей помочь. Разве баас не замечал, что, когда женщина просит об услуге, мужчина скорее поможет молодой и красивой даме, нежели старой и безобразной карге? — Что за вздор! Если бы я отказался, Белая Мышь убила бы себя, вот и вся причина. — Верно, но окажись на ее месте уродливая морщинистая старуха, баас не заботился бы так о ее спасении. Кому нужна рабыня с кожей словно оленья шкура, которую три месяца дубили под солнцем и дождем? — Мне вообще не нужна рабыня, сколько можно повторять! — возмутился я. — Это пока не нужна, но ведь баас может и передумать, верно? Совсем недавно баас клялся, что якобы никогда не пойдет спасать Кенеку. И вот пожалуйста: мы в кромешной темноте бредем по стране львов и бог знает, что нас ждет впереди. Вполне может статься, что из этого не выйдет ничего путного. Почему же баас передумал? Не потому ли, что женщина оказалась прехорошенькой мышкой с большими глазками и загадочной улыбкой, а не уродливой старой крысой с гнилыми зубами? Вот интересно, верит ли баас ее словам? По мне, так вся эта история — сплошной обман, и никакая она Кенеке не жена, одно притворство. Мы как раз вступили в ущелье, и прекрасная проводница обернулась и приложила палец к губам, призывая нас к тишине. Как раз вовремя, ибо я уже не мог выносить насмешки Ханса. Вскоре мы погрузились в огромную расселину с отвесными стенами, составляющими в самом глубоком месте добрых сто футов. Пересыхающее русло на дне ущелья было усыпано валунами, которые речной поток медленно, но верно вымывал из окрестных утесов. Мы ощутили это сильнее, спускаясь в бездну, свет луны лишь изредка достигал нас. Порой небо совсем скрывалось за тропическими зарослями — высокими пальмами и травой, росшими по берегам речного ложа. К счастью, дорога оказалась не слишком долгой. Спустя полчаса Белая Мышь остановилась. — Мы пришли, — прошептала она. — Слышите собак? В самом деле, местные псы выли на луну, как это умеют делать лишь африканские звери, и сей звук подействовал на нас удручающе. — Мы на месте, — повторила Белая Мышь. — Час почти пробил, — добавила она, взглянув на небо. — А теперь отдохнем, ибо силы нам еще пригодятся. Обернувшись к Хансу, она сделала ему знак оставаться на месте. После чего отвела меня к плоскому камню, туда, где мой слуга не мог нас подслушать. Я сел, а женщина примостилась у моих ног на туземный манер, свернувшись в тени черным комочком; только белое пятнышко, испускавшее слабый свет, подсказывало, где ее лицо. — Господин, ты не побоялся опасности, но знай: тебе и твоему слуге ничего не грозит. — Да неужели? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Да и откуда бы тебе знать? — Господин, люди, связанные с Кенекой, собирают крупинки его мудрости, а я рядом с ним с самого рождения. И тоже научилась читать по звездам, которым он поклоняется. «Так наш приятель — астролог, — подумал я. — Это что-то новенькое: впервые встречаю африканца-звездочета». А вслух произнес: — Ну и что же ты прочитала по звездам, Белая Мышь? — Только то, что вы оба будете в безопасности: и сейчас, и когда отправитесь в путь вместе с Кенекой, и еще много лет потом. — Приятно сие слышать, — заметил я насмешливо, хотя в глубине души был рад, как и всякий, пусть даже современный и образованный человек, которому сообщили о добром предзнаменовании. Стоит ли удивляться, что в такую глухую ночь, в преддверии опасного приключения, когда уют остался далеко в прошлом, путешественник, чей хлеб высох, обрадовался крупинке сахара. «Хоть чем-то поживиться», как выражается Ханс. — Господин, еще один вопрос, и я оставлю тебя в покое. Ты веришь в силу благословения? — Верю, Белая Мышь, вот только что-то меня давненько никто не благословлял. — Ты ошибаешься, господин, я вижу множество благословений. Они на тебе, останутся с тобой на всю жизнь. Среди тысяч других и мое благословение. — Как мило с твоей стороны, Белая Мышь. Но зачем ты благословляешь меня на спасение Кенеки, если ненавидишь его? — Возможно, ты никогда этого не поймешь. Я сейчас кое-что скажу тебе. Кенека мне вовсе не муж, как я заставила думать твоего слугу. И я ничуть не ревную его. Это все неправда, как и то, что меня зовут Белая Мышь. На самом деле, о господин, тебе суждено отправиться на встречу с Сокровищем озера, прекрасной Тенью, которой я служу, и вскоре твои поиски увенчаются успехом. Помогая ей, ты поможешь и мне тоже, ну а я помогу тебе. А теперь нам пора. Она взяла мою руку и поцеловала. Ох и странное это было ощущение: словно бы крылья бабочки коснулись моей кожи. Я помню нежное дыхание этой женщины и сладкий запах, который от нее исходил. Затем Белая Мышь подозвала Ханса (все это время готтентот сердито поглядывал в нашу сторону, сгорая от любопытства) и подвела нас поближе к утесу, который у подножия становился пологим из-за обломков, намытых потоком еще в незапамятные времена или, возможно, упавших сверху. Мы подошли к каким-то кустам, посреди которых лежал довольно крупный валун. Тут она остановилась и прошептала: — Под этим камнем находится вход в расщелину. Присмотрись, о господин, гребень скалы на много футов нависает над ее верхушкой, так что подняться и спуститься невозможно; даже для веревок арабов здесь слишком высоко. Я говорила тебе о туннеле, или водном пути, который большей частью тянется под землей, но порой выходит на поверхность. Достигнув крутого утеса с нависшей над ним каменной губой, туннель сей проникает в твердую неприступную скалу. В том месте я спрятала две лампы, которые зажгу от палочек для добывания огня, твой слуга дал их мне. Одна лампа останется внизу и будет указывать вам обратный путь, а другую я возьму с собой. Вы последуете за мною и не споткнетесь. Все ли тебе понятно, господин? — Вполне. Вот только я хотел бы знать: что будет, когда мы выберемся из туннеля? — Как я уже сказала, господин, туннель закрыт подвижной плитой, которая внешне ничем не отличается от всех прочих во дворе дома Кенеки. Там есть секрет, я знаю его и открою вход в туннель, как только спрячу лампу. Мы прокрадемся во двор. Я почти уверена, что Кенеку держат на веранде привязанным к опорному столбу, со спутанными за спиной руками. Однако он может оказаться также и в доме, вот тогда справиться нам будет сложнее. — Намного сложнее! — Я не смог сдержать тяжкий вздох. — Надеюсь, — продолжала Белая Мышь, не обращая на мои слова никакого внимания, — что стражники будут спать или мертвецки напьются, если найдут вино белых людей. Кенека держит его в доме, а местные жители его очень любят, хоть вера им этого и не позволяет. А может, Кенека догадался сам попросить у своих тюремщиков немного выпить и сказал им, где лежит бутылка. Тогда я без труда освобожу его от пут, он подберется к входу в туннель, спустится и сможет бежать. — Но ведь вполне может оказаться, что охранники абсолютно трезвые и бодрствуют. Что тогда? — Тогда ты и твой слуга возьмете их на себя. Не мне тебе рассказывать, как это делается, — ответила она холодно. — К пленнику не приставят много стражников, бо́льшая часть несет караул за воротами, ведь они опасаются нападения со стороны поселения. Теперь ты все знаешь, пора начинать. И мы начали действовать. Первой пошла Белая Мышь; она обогнула валун, расшатала какие-то камни, открыв отверстие, и скользнула туда, а мы спустились следом. Ханс протиснулся вперед меня. Некоторое время мы ползли вверх по склону утеса в полной темноте. Потом, как и обещала женщина, над нашей головой то и дело начал открываться небосвод: время от времени расселина разверзалась, и свет рассеивал тьму. Минут через десять Белая Мышь остановилась и прошептала: — Тут начинается туннель. Отдохнем немного, ибо взбираться будет нелегко. Я с радостью согласился. Вдруг рядом чиркнула спичка. Наша спутница нашла лампу — глиняный сосуд с пальмовым маслом, такими частенько пользуются арабы. После долгого пребывания в темноте вспыхнувший свет буквально ослепил нас. Когда глаза немного привыкли, я увидел туннель, уходящий почти отвесно вверх. Тот самый проход, что пронзал каменную губу скалы, нависающую над ущельем. Сооружение сие наверняка было делом рук человеческих, кого-то, кто жил здесь много лет назад. Это вполне могло оказаться, например, заброшенной шахтой древних рудокопов. В Африке они попадаются довольно часто, особенно много их я встречал на плато Матабеле в Южной Родезии. Тут, словно бы в подтверждение своей догадки, я заметил на стенах поблескивающие пятнышки какой-то руды; впрочем, я мог и ошибаться. Вверх убегала своеобразная лестница, с площадками через равные промежутки и вырубленными в скале «ступеньками» — выемками для рук и ног. Веревка, закрепленная где-то вверху, показалась мне совсем гнилой: еще бы, ведь она провисела здесь довольно долго. Сердце мое ушло в пятки, и я всей душой пожелал оказаться сейчас где-нибудь в другом месте, подальше от этой дыры, но старался не подавать виду, что боюсь. В любом случае обратного пути не было, поэтому я оставил свои опасения при себе. Ханс у меня за спиной то ли молился, то ли чертыхался. — Вперед, и ничего не бойтесь! — прошептала наша провожатая. — Смотрите, за что я держусь, куда ступаю, и в точности повторяйте за мной. Ниши не рухнут под вашими ногами, а веревка крепче, чем кажется на первый взгляд. Затем Белая Мышь зажгла вторую лампу и прикрепила ее себе на спину, предварительно поставив светильник в корзину, чтобы не обжечься. Указывая нам путь, она взобралась на каменную стену. Женщина передвигалась по стене необычайно проворно, вполне оправдывая свое имя. Мы еле поспевали за ней, хватаясь правой рукой за хлипкую на вид веревку, скрученную, вероятно, из шкуры буйвола, а левой рукой и ногами цепляясь за выступы. Подъем представлялся мне самой жуткой частью нашего предприятия, однако Белая Мышь оказалась права: веревка была куда прочнее, чем выглядела, в чем мы с Хансом вскоре и убедились на собственном опыте. Страшнее всего было смотреть на горящую лампу, оставшуюся внизу: сразу становилось ясно, как долго придется падать, если кто-то из нас вдруг сорвется. Я дважды глянул вниз и не на шутку перепугался. Да еще вдобавок ремень винчестера, закинутый за спину, натирал мне плечо, а затвор больно давил на позвоночник. Уж как я жалел, что не последовал примеру Ханса, который решил обойтись без винтовки. Добравшись до первой лестничной площадки, мы остановились передохнуть. Внимательно взглянув на меня, готтентот, видимо по тревожному выражению лица, угадал мои мысли и воспользовался случаем прочесть маленькую проповедь. — Выручать людей из беды — дурная привычка, — начал он, утирая пот со лба тыльной стороной ладони, — надеюсь, в будущем баас от нее избавится. Теперь баас и сам видит, что происходит с теми, кто совершает подобную глупость. Даже ради своего родного отца я не полез бы в эту дыру, тем паче что я никогда его и не знал. Я промолчал, в душе соглашаясь с Хансом. — Однако, баас, — добавил он весело, — если это и впрямь заброшенная шахта, то бедным рудокопам было куда тяжелее взбираться сюда, сгибаясь под тяжестью мешков с рудой, особенно если они не были добрыми христианами вроде нас с вами и не питали надежду, сорвавшись в пропасть, попасть в рай. Человеку, который переходит реку вброд, баас, приятно вспомнить тех, кто утонул на глубине. Верите ли, слова Ханса меня рассмешили, и я не смог сдержать улыбку. Тем более я знал, что цинизм этого славного малого был напускной, и не опасался, что готтентот может таким образом накликать беду. Вскоре мы снова двинулись вперед, цепляясь за углубления, и все по той же сомнительного вида веревке благополучно достигли очередной лестничной площадки. Белая Мышь велела нам немного подождать. Пообещав быстро вернуться, она одним махом взобралась на третью площадку, что-то там посмотрела, а затем проделала некий удивительный трюк, не привычный нашему глазу. Странно было видеть, как эта женщина возвращается. Развернувшись и крепко держась за веревку, Белая Мышь спускалась, перебирая руками, и при этом лишь изредка искала ногой опору в нишах, а чаще просто висела в пустом пространстве над каменистым дном. (Вскоре мы и сами убедились, что таким образом можно довольно быстро добраться до нужной точки или ближайшего каменного выступа.) Я невольно залюбовался нашей проводницей. Лампа, висевшая у нее за спиной, освещала тонкую изящную фигурку. В окружающем мраке она скорее напоминала не женщину, а летящего ангела. Миг — и Белая Мышь уже стояла подле нас. — Господин, — сказала она, переведя дух, — я проверила, можно ли подцепить камень, закрывающий проход, и у меня получилось. Мы толкнем этот камень, покрытый, как и весь двор, известкой, и он немного повернется наружу на железном пруте, оставив достаточно места, чтобы человек мог влезть во двор по маленькой лестнице, которая отходит от площадки. Только будь осторожен, не прикасайся к камню, когда окажешься во дворе. Достаточно лишь дотронуться до него пальцем, как проход закроется и отрежет путь к отступлению. — Он не открывается снаружи? — спросил я тревожно. — Нет, господин, объяснить, как все устроено, я могу только на месте, но тогда у меня не будет ни времени, ни возможности. Однако опасаться нечего, я воткну клин, и, если только его не вытащить специально, проход не закроется. Но довольно вопросов, у нас мало времени, — сказала она, не дав мне и рта раскрыть. — Разве я не обещала тебе, что все будет хорошо? Следуй за мной и ничего не бойся. Затем, желая положить конец дальнейшим разговорам, Белая Мышь подошла к краю лестничной площадки и принялась взбираться. Мы с Хансом по-прежнему следовали за ней. Восхождение совсем не запечатлелось в моей памяти, я думал только о том, что ждет нас там, наверху. К тому времени я уже свыкся с ремеслом верхолаза и значительно больше доверял веревке, видя, как эта женщина смело виснет на ней. Наконец мы благополучно добрались до третьей площадки; она располагалась в двухстах футах над тем местом, куда туннель выныривал из расщелины, которая то погружалась во тьму, то опять выходила на поверхность.Глава 5
СПАСЕНИЕ
Едва мы успели перевести дух, как Белая Мышь уже сняла со спины лампу и осветила деревянную лестницу с перекладинами, похожими на ступеньки. Она простиралась от площадки к некоему подобию крыши, которое в действительности было низом сдвигающегося камня. — Осмотритесь хорошенько, — велела наша проводница. — Видите, лестничная площадка подходит не под самый камень, но находится чуть правее. Благодаря этому я могу оставить тут горящую лампу, она поможет вам при спуске, а из-за корзины свет не увидят во внутреннем дворе. Женщина подкрепляла слова действиями. Я заметил, как высоко крепится веревка к крючковатому выступу в скале на краю платформы; и что мне совсем не понравилось, веревка там оказалась донельзя истрепанной, хотя и была скручена вместе с травой и кусками ткани. Мы погрузились в полумрак, и, признаться, это удивительно гармонировало с моим настроением. — Что же дальше, Белая Мышь? — спросил я. — Я поднимусь по лестнице и отодвину камень, проберусь во двор и подкрадусь к веранде, где наверняка лежит связанный Кенека. Надеюсь, я смогу развязать путы, не разбудив его спящих или пьяных стражей. Вы с Хансом последуете за мной, встанете по обе стороны прохода с оружием наготове и убьете любого, кто помешает пленнику бежать. Мое терпение лопнуло. — Интересно, с какой стати? За что я должен убить людей, с которыми даже не ссорился, и рисковать жизнью ради спасения какого-то Кенеки? — Но ты ведь за этим и пришел сюда, господин, — ответила она невозмутимо. — Это во-первых. А во-вторых, один только Кенека может проводить тебя к священному озеру, где обитает Тень богини, против которой он в юности согрешил. Я припомнил историю Кенеки о загадочной женщине, живущей на острове посреди озера, которую он чем-то оскорбил. И ответил: — Как же, как же, слышал я от него эту сказку, но вот только ни капельки в нее не поверил. — Ты правильно поступил, усомнившись в рассказе Кенеки, господин. Знай же, что однажды, очарованный нашей богиней, он впал в искушение и совершил против нее настоящее святотатство. Я обратил внимание, что Белая Мышь сказала «нашей», но в тот момент предпочел не задавать ей лишних вопросов. — В своем милосердии, — продолжала она, — богиня оставила ему жизнь, но Кенека все-таки поплатился за свое преступление, ибо, изгнанный из родного племени, был вынужден жить вдали от родной земли. Теперь же настало время, когда он должен вернуться и искупить свои злодеяния. Судьба ждет его не в этом месте, господин. — Баас, — встрял Ханс, — незачем попусту говорить с Белой Мышью. Она лишь затуманит нам разум всякими глупостями и опутает своей паутиной. Ей — или тому, кто послал ее, — надо, чтобы мы спасли Кенеку, и мы уже пообещали, что постараемся это сделать. Теперь выбор за нами: сдержать свое слово или нарушить его и вернуться обратно, нырнув в эту нору. По мне, так последнее гораздо лучше. В самом деле, баас, я думаю, что пора нам… Тут Белая Мышь бросила на готтентота такой пронзительный взгляд, что бедняга мигом умолк и принялся обмахиваться шляпой. — Чей совет примет Макумазан? — осведомилась она холодно. — Вперед! — ответил я, кивнув на лестницу. — Мы пойдем за тобой! Женщина тут же устремилась вверх. Ханс следовал за нею по пятам, снова опередив меня. Взбираться по лестнице в потемках было крайне неприятно. Вскоре у меня над головой что-то сдвинулось. Пахнуло свежестью, облака как раз заслонили луну, и на небе сияли звезды. Взглянув на одну из них, я успокоился, сам не знаю почему. Когда я наконец добрался до вершины лестницы, Белая Мышь пропала, а Ханс уже забрался во двор. Он подал мне руку и помог вылезти на поверхность. Все кругом тонуло в безмолвии, из-за облачности виднелись лишь темные очертания дома и веранды, которую я отлично помнил. Вскоре со стороны веранды послышалась легкая возня. Я взял ружье на изготовку, а Ханс стоял с другой стороны, сжимая в руке револьвер. Приблизительно через минуту, которая показалась нам целым часом, краешек луны выглянул из-за облаков, и, к моему ужасу, ее серебристый свет мгновенно, как бывает только в Африке, залил пространство. Все было видно как на ладони. Я разглядел внушительный силуэт Кенеки: обремененный путами, он с трудом спускался со ступенек веранды, опираясь, как на трость, на плечо хрупкой девушки. На его руках и ногах по-прежнему еще висели обрывки веревок, а Белая Мышь держала наготове кинжал. В тени веранды я различил две мужские фигуры, а третий стражник, видимо, спал. Оказавшись во дворе, Кенека грузно рухнул на четвереньки, но быстро поднялся и бросился к нам. Те двое на веранде встрепенулись, в тот же миг я заметил и третьего. Белая Мышь сбросила темный плащ и осталась вся в белом; в лунном сиянии она сильно смахивала на привидение. Возможно, именно такого эффекта женщина и добивалась. Что ж, это ей удалось. Двое стражей в ужасе взвыли, выкрикивая что-то о злых духах-афритах. Третий оказался смелее или же просто разгадал уловку. Стражник бросился на Белую Мышь; блеснул нож, и он упал, крича от страха и боли. Двое его товарищей исчезли: трусливо скрылись в доме, откуда доносились их крики. Кенека уже поравнялся с нами, а за спиной у него мелькал женский силуэт. — Скорее в шахту, в шахту! — воскликнула Белая Мышь. — Спаси его, господин! Мы бросились обратно, и Кенека с горем пополам спустился вниз. Тут поднялся страшный гвалт. Стражники, несшие вахту снаружи, всей толпой ввалились через ворота во двор; понять, сколько их там, не представлялось возможным. Ханс забрал мое ружье и подтолкнул меня к отверстию шахты. Мой храбрый слуга в этот раз не пожелал идти первым. Я кубарем скатился вниз, призывая Ханса тоже спуститься. Он выказал такую прыть, что чуть ли не рухнул мне на голову. — А где Белая Мышь? — вскричал я. — Не знаю, баас. Видать, толкует с теми ребятами. — Прочь с дороги! — возопил я. — Мы ее не бросим! Они убьют ее! Я влез мимо него по лестнице и выглянул наружу. Белая Мышь неистово бранила набежавших арабов, размахивая во все стороны кинжалом, а те съежились в страхе, содрогаясь от ее проклятий. Продолжая неистовствовать, женщина медленно пятилась к отверстию шахты, а затем бросилась навстречу стражам ворот. Думаю, она хотела задержать их, чтобы мы успели спуститься по лестнице. В этот миг толпа как будто очнулась. — Это же Белая Мышь, а вовсе никакое не привидение! — закричал один. Другой воззвал к Аллаху. — Убьем иноземную колдунью, это она наслала на нас болезнь и похитила нашего звездочета! — закричал третий. Стражники наступали, ощетинившись копьями; другого оружия, судя по всему, при них не было. — Дай мне ружье, — велел я Хансу, позабыв в суматохе, что у меня в кармане есть пистолет. Я намеревался стрелять в них с верхней ступеньки лестницы до тех пор, пока Белая Мышь не присоединится к нам. — Сейчас, баас, — отозвался Ханс и принялся взбираться ко мне с ружьем. Он продвигался медленно, тяжелая ноша затрудняла движения. Я наклонился, пытаясь дотянуться до оружия, но краем глаза по-прежнему видел, что происходит во дворе. Как раз когда я коснулся ствола винчестера, Белая Мышь метнула кинжал в одного из преследователей и побежала к спасительному проходу вместе с толпой, следующей за ней по пятам. Кто-то поймал беглянку, но она выскользнула из цепкой хватки и увернулась от другого стража, едва не схватившего ее за одежды, и добралась до камня, который возвышался над мощеным покрытием двора на каких-то три фута. У меня мелькнула догадка. Вовсе не пути к отступлению искала эта отважная женщина — она хотела опустить каменную плиту и избавить нас от погони. Я похолодел от ужаса, ведь теперь Белая Мышь останется врагам на растерзание. Слишком поздно: не успел я это сообразить, как она уже навалилась всем своим телом на камень, должно быть отбросив опору ногой. Плита качнулась вниз, и я машинально пригнулся, как раз вовремя, не то бы мне размозжило голову, а так досталось только верхушке моей шляпы. Послышался лязг, и мы оказались в темноте. — Ханс! — закричал я. — Принеси лампу и помоги мне поднять этот камень! Готтентот повиновался, хотя ему пришлось вернуться на лестничную площадку, а это заняло какое-то время. Затем, стоя бок о бок на лестнице, мы уперлись в камень, однако ни на волосок его не сдвинули. Там имелось нечто наподобие засова, но сколько мы ни бились над ним, успеха так и не достигли. Похоже, мы просто не знали секрета механизма, если, конечно, таковой имелся. Тут я вспомнил о Кенеке, который все это время оставался внизу, и послал к нему Ханса — разузнать, как быть. Тот вскоре вернулся и сообщил, что если камень закрыл проход, то поднять его теперь можно только снаружи, да и то Кенека в этом не уверен. Вне себя от ярости, я вмиг спустился с лестницы и нашел Кенеку, с ошеломленным видом сидевшего на площадке. Я принялся бранить Кенеку, заставляя немедленно поднять камень, говоря, что он наверняка знает секрет и должен помочь нам ради женщины, которая спасла его. Кенека слушал меня с каким-то унылым спокойствием. — Господин, ты просишь о невозможном, — наконец ответил он. — Уверяю тебя, я бы помог Белой Мыши, если бы она нуждалась во мне и если бы это было в моих силах. Однако устройство тут очень хрупкое, и оно, скорее всего, сломалось, когда камень закрыл проход. Даже если нам и удастся поднять его, женщины уже наверняка нет в живых (коли смерть властна над нею), и, без сомнения, эти сатанинские отродья поджидают сейчас снаружи, надеясь расправиться также и с нами. Мне это показалось неубедительным, и, грозя застрелить Кенеку в случае неповиновения, я потащил его наверх. Он с неохотой подчинился. Сказать по правде, в тот момент я с легкостью мог бы выполнить свою угрозу, ибо был невероятно зол и напуган происходящим и винил во всем лишь его одного, пусть и не совсем справедливо. На месте Кенека кое-что объяснил мне относительно устройства замка (признаться, эти технические подробности я уже позабыл), мы толкнули камень со всей силы, так что деревянная лестница под нами заскрипела, но, увы, все было тщетно. Очевидно, каменную плиту сверху заклинило или же сломался поддерживающий ее штырь. Я этого точно не знаю, да и какая теперь разница. «Все кончено, — подумал я, — мы более не в силах что-либо предпринять. Несчастная женщина, что с нею теперь станется?» Я чуть не плача вернулся на лестничную площадку и присел отдохнуть. Ханс, судя по всему, тоже огорчился, ибо, против обыкновения, не отпускал своих дерзких колкостей. — Баас, — заговорил готтентот, — худо бы нам пришлось, если бы мы смогли выбраться из этой дыры: нас бы тут же застрелили. Мне кажется, баас, Белая Мышь с самого начала задумала принести себя в жертву. Ей было важно спасти вон его, — последовал кивок в сторону Кенеки, который сидел напротив, задумчивый и безучастный, — или же выполнить свою миссию, и она справилась с этим. Не исключено, баас, что эта женщина и вправду бессмертна, как, похоже, думает наш приятель. Я рассудил, что Ханс, пожалуй, прав: Белая Мышь и впрямь всегда говорила лишь о спасении нас троих, а о своем собственном ни разу даже не заикнулась; но эта женщина так уклончиво и туманно выражалась, что я тогда не обратил на это внимания. Не все ли равно, позволила она себя убить или просто знала, что умрет: результат-то оказался один и тот же. Хотя, вполне возможно, тут было и что-то еще, не доступное моему пониманию. — Баас, — продолжал Ханс, — здесь вполне подходящее место для могилы, но я не желаю, чтобы меня в ней похоронили. К тому же масло в этих арабских лампах не будет гореть вечно. Это тебе не кувшин с неубывающим маслом, который пророк Илия даровал бедной вдове. Помните, ваш преподобный отец рассказывал нам эту историю? Не лучше ли нам продолжить путь, баас? — Ты прав. А как быть с Кенекой? Видать, плохи его дела. — О, баас, пойдет он с нами или нет, мне все равно. Я повешу корзину с лампой на спину, по примеру Белой Мыши, и двинусь первым, а вы следуйте за мной. Кенека же пусть отправляется обратно, когда ему вздумается, или останется здесь и покается в своих грехах. Все это время Ханс говорил на голландском языке. — Хотя нет, я передумал, — добавил готтентот, немного поразмыслив. — Пусть Кенека идет первым. Он такой тяжелый, еще, не дай бог, рухнет нам на голову. Уж лучше мы сами в случае чего упадем на него. Озадаченный поведением Кенеки, я решил с ним поговорить, а Ханс тем временем возился с корзиной, поправляя лампу таким образом, чтобы та светила прямо на бывшего узника. Сейчас лицо спасенного от казни казалось совсем другим. Когда я расспрашивал его о штыре в камне, он выглядел ошеломленным и до крайности изможденным, теперь же явно ожил, и вид у него был одухотворенный, как у человека, погруженного в молитву. Большие круглые глаза устремились вверх, словно наблюдали видения, а губы шевелились, беззвучно произнося слова, и временами замирали, как будто выслушивая ответ. — Да будет мне позволено осведомиться, чем это ты занят, друг Кенека? — изумленно уставившись на него, преувеличенно вежливо спросил я по-арабски. Он вздрогнул, и на лицо его будто бы легла тень. — Господин, я воздавал Небесам хвалу за свое спасение. — Это ты поторопился, мы еще в опасности, — ответил я и добавил с горечью: — А ты поблагодарил своих богов за великий подвиг той, что сама не спаслась, самоотверженной женщины по имени Белая Мышь? — Откуда ты знаешь, что она не спаслась? — Ты сам говорил, что этой женщине суждено умереть, если она смертна, а в этом сомневаться не приходится. — Да, говорил, но теперь я вспоминаю ее слова. Хотя, разумеется, за нее мог говорить дух. — Послушай! — воскликнул я раздраженно. — Скажи честно, кем приходилась тебе Белая Мышь: женой или, может, дочерью? — Ни той ни другой, господин, — ответил Кенека; при этом его била мелкая дрожь. — Тогда немедленно объясни, кто она такая? Или что такое? Говори правду, а не то я прикончу тебя. — Господин, она посланница с моей родной земли. Однажды Белая Мышь явилась ко мне и велела возвращаться обратно. Вот почему арабы так возненавидели меня: им казалось, что через нее я получаю свою волшебную силу и насылаю на них зло. — А как все обстояло на самом деле? — Баас, — перебил меня Ханс, — полно болтать, масло уже на исходе, а у меня только две свечи. Не так уж приятно будет остаться в этой норе впотьмах. — Твоя правда, — кивнул я. И предложил Кенеке идти первым: ведь он знал дорогу. Ханс следовал за ним, а я замыкал цепочку. — Мои руки сильно затекли, господин, но идти я смогу, — объявил Кенека и двинулся вперед с поразительной резвостью. Вмиг оказавшись у края шахты, он начал стремительно спускаться, быстро перебирая руками и, казалось, лишь изредка касаясь ногами углублений в стене. Мне недолго пришлось наблюдать за ним, ибо вскоре Кенека скрылся из виду, и лишь подергивания веревки говорили, что он здесь. — А он не сорвется, баас? — с сомнением спросил Ханс. — Эта скотина весит немало. — Помолчи, очень тебя прошу. Белая Мышь обещала, что мы выберемся отсюда целыми и невредимыми, а я все больше склонен ей верить. Так что начнем, благословясь. Готтентот повиновался, а я последовал за ним. Не стану описывать подробности этого ужасного спуска. Мы с Хансом достигли второй площадки и решили передохнуть. К несчастью, я опрометчиво посмотрел вниз и заметил вдалеке огонек лампы, которую мы оставили горящей на самом дне. Едва только я представил, что могу сорваться вниз, как голова моя моментально закружилась. Силы покинули меня, одна нога при этом соскочила с уступа, и я повис всей тяжестью тела на одних лишь руках. Я был уверен, что упаду, но тут заговорил мой внутренний голос: «Учти, если ты упадешь, то и Ханс тоже погибнет». В голове сразу прояснилось, я овладел собой и, скользнув вниз по веревке, нащупал левой ногой другую нишу. Спуск оказался страшнее подъема, то ли из-за усталости, то ли, достигнув цели, я полностью сосредоточился на собственной безопасности, что и породило страхи. Кто знает, в чем была причина, но только мурашки по спине забегали гораздо сильнее, да и дурнота подступала к горлу значительно чаще, чем при подъеме. Вскоре, благодарение Господу, это испытание осталось позади, и мы достигли покатой дороги или водостока, — в общем, что бы это там ни было, мы оказались под открытым небом. И при свете почти погасших светильников ринулись вниз, ноги как будто сами несли нас. Выбравшись из норы, мы попали в заросли кустов, закрывавшие вход в лаз. Я присел, весь дрожа, как желе на тарелке, и обливаясь по́том. Снаружи немилосердно пекло. Ханс лучше моего переносил жару, но и ему было невмоготу. Он достал холодный чай, который мы припрятали вместе с остальными припасами и одеждой, и протянул мне. И представьте, в тот момент эта гадость показалась мне сладчайшим нектаром. Я вернул фляжку Хансу, хотя с удовольствием выпил бы все до дна. Когда он сделал несколько глотков, я вспомнил про Кенеку, который тоже, должно быть, умирал от жажды, и остановил готтентота. Но куда же подевался Кенека? Его нигде не было. Ханс решил, что спасенный, должно быть, спрятался в каком-нибудь укромном уголке. У меня не было сил спорить или строить догадки, и я промолчал. Мы допили холодный чай и под конец еще сделали по глотку бренди на брата, тщательно отмерив напиток в чашечку. Я не решился доверить Хансу флягу, к которой эта самая чашечка была прикручена. Побоялся, что, не в силах преодолеть искушение, готтентот осушит ее до последней капли. Освежившись и вознеся в душе благодарность за благополучное завершение ужасного подъема, я положил погасшие лампы в корзину Белой Мыши: вдруг они еще пригодятся (а может, захотел оставить их на память о несчастной женщине). Не сговариваясь, мы пошли по широкому дну водостока, держа путь обратно к лагерю. У ручья мы вдоволь напились воды, умылись и охладили израненные на скалах ноги. Вдруг я услышал какой-то звук, обогнул камень и увидел — кого бы вы думали? — нашего Кенеку. Преклонив колени на камне, он молился и громко стонал. Наверное, поранился во время стремительного спуска, или оплакивал гибель Белой Мыши, или переживал, что больше никогда не увидит своих жен, с которыми его разлучили. Хотя последнее представлялось мне маловероятным: сомнительно, чтобы у этого типа вообще когда-либо были жены и дети. Я, во всяком случае, ни разу не видел их около дома, где Кенека жил как отшельник; да и вездесущий Ханс тоже ничего подобного не обнаружил. Так или иначе, не желая шпионить за человеком, когда тот опечален, я кашлянул. Кенека поднялся и подошел ко мне. — Ты опередил нас, — заметил я. — Да, господин, я ждал вас. Легко спускаться, когда знаешь дорогу. — Это верно. А вот для нас спуск оказался тяжелым и опасным, как и для Белой Мыши. — (При этих словах Кенека вздрогнул и опустил голову.) — И что ты намерен теперь делать? — То же, что и раньше, господин. Проводить тебя к моему народу дабанда, живущему вблизи священного озера Моун. Думаю, нам следует уходить отсюда как можно скорее, господин. Мои враги, арабы, узнав о побеге, мигом примчатся к твоему лагерю, чтобы напасть на нас. — Ты прав, Кенека. Тогда веди нас, и не будем терять ни минуты. И мы побрели вверх по мрачному ущелью. Сказать по правде, я был не в духе и меня просто распирало от гнева. Наконец мое терпение лопнуло. — Кенека… — произнес я. Он шел рядом со мной, а Ханс чуть впереди, выбирая в темноте дорогу и оставаясь начеку, чтобы на нас не напали. — Я и мой слуга много всего пережили по твоей милости. Нынче ночью мы рисковали жизнью, спасая тебя, равно как и та, кого больше с нами нет. Теперь же ты заявил, что на нас из-за тебя могут напасть твои враги. Пожалуй, будет лучше, если я возмещу тебе все, в том числе и деньги, которые выручу за слоновую кость. Тогда ты пойдешь своей дорогой и оставишь меня в покое. — Но это невозможно! — яростно вскричал Кенека. — Господин,как ты не понимаешь! Мы связаны друг с другом до тех пор, пока не произойдет то, чему суждено свершиться. Так предначертано звездами, и нас связала сама судьба. Ты считаешь меня неблагодарным, но это неправда. Мое сердце преисполнено благодарности к тебе, и отныне я твой раб. Умоляю, больше ни о чем не спрашивай, ибо, если я расскажу правду, ты все равно не поверишь. — Я уже довольно наслушался от тебя всякого вздора, так что и впрямь более ничему не поверю, — резко ответил я. — А потому держи свои истории и обещания при себе. Прямо сейчас, во всяком случае, я не могу тебя бросить, а то эти негодяи-арабы перережут тебе глотку. — И тебе тоже, господин. Вместе мы сможем противостоять им, а поодиночке они убьют тебя, меня, твоего слугу, да и носильщиков тоже. Дальше мы двигались молча и без происшествий, не считая того, что нам попался лев. Мы встретили хищника в густых зарослях у самого входа в ущелье, вернее, это он нас там встретил и настойчиво шел следом. Наверное, зверь был страшно голоден. Изредка он рычал, но по большей части держался от нас шагах в тридцати-сорока, скрываясь в густой траве или за кустами. Дважды лев выглядывал из-за колючих деревьев, как бы подстерегая нас. Я хотел подстрелить его, но Ханс упрашивал меня поостеречься, потому что шум мог привлечь арабов, которые, возможно, нас разыскивали. Поэтому мы, избегая скоплений деревьев, несколько раз сделали крюк. Наконец льву это надоело. Он в третий раз прокрался вперед, и в свете заходящей луны я увидел, как хищник расположился на тропе шагах в пяти впереди нас. Обойти его не было никакой возможности, рельеф местности не позволял, разве что по очень широкой дуге. Теперь я был готов принять вызов этого дикого голодного зверя, но Ханс продолжал противиться выстрелам. Он заметил с издевкой, что раз уж Человек-сова, как он прозвал Кенеку, такой великий колдун, то пусть поднатужится и прогонит льва. Кенека уныло шагал вперед, быстро, насколько позволяли ему все еще затекшие ноги. Он, казалось, почти не обращал внимания на льва, но встрепенулся, услышав слова готтентота. — Да, я могу прогнать этого зверя, если вы боитесь его. Только оставайся здесь, господин, пока я не позову тебя. Затем — безоружный, не захватив даже палку — Кенека невозмутимо направился туда, где на камне между берегом ручья и небольшим утесом возлежал большой лев с несколько потрепанной гривой. Я с удивлением наблюдал за ним, держа ружье наготове, уверенный, что если не попаду с первого выстрела (сие представлялось маловероятным, ибо обзор был прекрасный), то Кенеке придет конец. Может, безумец все-таки вернется? Однако он поплелся дальше и вскоре подошел ко льву так близко, что совсем заслонил его своим телом. Затем раздался рев, который перешел в вой раненого зверя. В следующий миг я увидел фигуру Кенеки, которая четко вырисовывалась на фоне безоблачного неба. Он стоял на камне, где до этого лежал лев, и жестами подзывал нас к себе. Мы с опаской подошли. Кенека сидел на камне, давая отдых ногам; казалось, этот странный человек опять погрузился в свои грезы. — Лев ушел, — сказал он просто. — Вернее, львы, их было двое. Они больше вас не потревожат. Идемте дальше. Я пойду первым. — А он действительно неплохой колдун, баас, — по-голландски размышлял вслух Ханс, когда мы продолжили путь. — Хотя, — добавил он, — возможно, эти львы — его приятели, которых он имеет обыкновение то подзывать поближе, то отсылать прочь. — Что за чушь, — проворчал я. — Зверь убежал, только и всего. Простое совпадение. — Возможно, баас, однако, если бы мы подошли ко льву безоружные, он навряд ли стал убегать. Вам ли не знать, что если хищник идет за людьми так долго, значит он не ел несколько дней. Кенеку следовало бы называть Даниилом, как того парня, который запросто переночевал в львином рву. Я не стал с ним спорить — слишком утомили меня эти разговоры. Вскоре мы приковыляли к лагерю, который оставили совсем недавно, однако казалось, что с тех пор миновало много дней. Том и Джерри, выполнив мое распоряжение, ушли вперед с носильщиками: судя по лагерному костру, было сие немногим более часа назад. Нам ничего не оставалось, как следовать за ними по широкой тропе, легко различимой даже в слабом свете луны. Мы все время шагали в гору, что делало наш подъем сложным и монотонным. Наконец наступил рассвет, принеся с собой зной, который к полудню лишь усилился. В ярком солнечном свете я отчетливо увидел впереди, примерно в полумиле от нас, меж скал, над бассейном почти полностью пересохшей реки, лагерь, который, как и было условлено, разбили наши носильщики. А затем, оглянувшись, не менее ясно узрел, как в двух милях позади взбираются на склон, идя по нашим следам, десятка два арабов в белых одеяниях. — Мы в ловушке! — воскликнул я. — Скорее, Ханс, нельзя терять ни минуты!Глава 6
ДРУЗЬЯ КЕНЕКИ
Ничто в целом свете не способно так взбодрить утомленного человека, как вид врагов, жаждущих крови и преследующих его по пятам. Вот и я в тот момент внезапно ощутил прилив сил и в кратчайшие сроки преодолел полмили, отделяющие нас от лагеря. Мои спутники не отставали, и, можно сказать, мы бежали ноздря в ноздрю. На месте я с удовольствием обнаружил, что Том и Джерри правильно оценили ситуацию. Носильщики по их распоряжению уже выкладывали стену из камней и рубили терновник, собирали вместе колючие ветви, чтобы образовать своеобразную ограду, называемую бома. Кроме того, эти замечательные ребята приготовили для нас на костре завтрак и сварили кофе. Отдав необходимые распоряжения, каковых оказалось немного, я набросился на завтрак, утоляя зверский голод. Кофе и еда подбодрили меня, и я сразу почувствовал себя другим человеком. Затем мы вчетвером — я, Ханс, Том и Джерри — устроили совет. Кенеку я не нашел; поев немного вяленого мяса, он куда-то пропал, очевидно решил помочь с возведением ограды. Необходимо было обсудить отчаянное положение, в котором мы оказались. Сейчас между нами и арабами, медленно продвигавшимися вперед, оставалось около полумили. Надев очки, я разглядел, что их гораздо больше, чем я думал раньше, причем добрая половина так или иначе вооружена. Я осмотрелся и решил, что мы удачно расположились для обороны. Наш лагерь стоял на усеянном валунами одиноком холмике с округлой вершиной. Справа у его подножия был широкий водоем, о котором я уже упоминал. Русло реки опоясывало позади почти половину холма. Вернее, это было болото, которое прорезала река, становясь полноводной. В болоте оказалось столько липкой жижи, что пройти по нему практически не представлялось возможным. Слева от нас, однако, был сухой влей[412] — затопляемая низина, заросшая высокой травой и терновником. К этой привычной для туземцев тропе теперь держали путь и мы. Впереди расстилался вельд, через который мы пришли. Он не давал совершенно никакого укрытия, ибо трава сгорела на солнце, обнажая почву. Арабы могли подойти к нам только с этой стороны, да еще слева — по густой траве и скрываясь за деревьями. И все бы ничего, если бы не одно «но». Располагая десятком стрелков, мы бы с легкостью отразили атаку. Однако нас было всего четверо; что же касается Кенеки, то я не знал, способен ли он нам помочь. На носильщиков тоже рассчитывать не приходилось: большинство из них были совершенно безоружны. Если арабы возьмутся за дело всерьез, то наша песенка спета. Оставалось лишь положиться на судьбу и храбро принять бой. Мы приготовили все шесть моих винчестеров и открыли пару ящиков с боеприпасами, оставив про запас массивные охотничьи ружья и пару дробовиков, заряженных картечью. Я попросил Ханса разыскать Кенеку, чтобы отдать ему ружье и объяснить, что нужно делать. Готтентот отправился на поиски, но вскоре возвратился и сообщил, что Кенеки нигде нет: он вовсе не складывал стену и не рубил терновник, как мы предполагали. — Баас, я думаю, что этот скунс сбежал или превратился в змею и уполз в тростник. — Глупости! Куда он мог убежать? Я сам его поищу, пока арабы не пришли. Я взобрался на холм и осмотрелся. Вскоре я услышал какие-то звуки и выглянул из-за валуна. Кенека стоял на небольшом каменном выступе, делая руками довольно причудливые пассы и словно бы общаясь шепотом с неким невидимым существом. — Привет! — сказал я раздраженно. — Похоже, ты не в курсе, что твои друзья будут здесь с минуты на минуту. Может, поможешь нам от них отделаться? А чем это ты занят, позволь спросить? — Потом узнаешь, господин, — ответил он спокойно. Взмахнул напоследок руками, кивнул, будто в знак согласия, и вскарабкался туда, где стоял я. К остальным мы возвращались молча. Какой прок задавать вопросы человеку, который, скорее всего, повредился в рассудке. Во всяком случае, руки-ноги у Кенеки были на месте, да и стрелять он тоже умел; поэтому я дал ему ружье, патроны и приготовился к бою. Когда арабы приблизились на четыреста ярдов, приключилась новая напасть. Носильщики наши испугались и захотели спастись бегством. Я велел Хансу сказать им, что пристрелю первого, кто сделает хотя бы шаг. Один туземец все же решил удрать; я нарочно выстрелил чуть в сторону, и пуля расплющилась о скалу прямо перед ним. От страха он упал и замер неподвижно, так что я даже засомневался, не угодил ли невзначай бедняге в голову. Остальные носильщики усвоили урок: одни сели на землю и стали молиться своим богам и идолам, другие призывали на помощь предков, но никто больше не делал попыток покинуть нас. Услышав выстрел, арабы остановились. Они решили, что их атакуют, и принялись совещаться. Затем один из них вышел вперед, размахивая белым флагом из тюрбана, привязанного к копью. Я в свою очередь достал из кармана не первой свежести носовой платок. Когда парламентер был в двадцати ярдах от нашего укрытия, я остановил его, заподозрив, что это разведчик, и пошел навстречу вместе с Хансом. Верный слуга не хотел отпускать меня одного. — Что нужно тебе и твоим людям? — прокричал я тому, в ком узнал судью Кенеки. — Белый господин, отдай нам приговоренного к смерти колдуна Кенеку, которого ты похитил. Верни его живого или мертвого, и мы отпустим тебя и твоих людей с миром, ибо с вами у нас вражды нет. В противном случае мы убьем вас всех до одного. — Это мы еще посмотрим, — ответил я смело. — Сперва верни мне женщину, что зовется Белая Мышь, тогда и потолкуем. — Я не могу этого сделать, — сказал парламентер. — Почему? Ты убил ее? — Нет, клянусь Аллахом! — воскликнул он искренне. — Мы не убивали ее, хотя и желали этого. В суматохе Белая Мышь ускользнула от нас и пропала. Мы думаем, что она обернулась совой и вернулась к Сатане, своему господину. — Неужели? А я думаю, ты лжешь. Теперь скажи, зачем тебе убивать Кенеку, если он сбежал и оставил вас в покое? — Потому что чародей наслал на нас проклятие, — ответил разъяренный араб, — которое может снять только его кровь. Разве ты не слышал, как Кенека призвал на нас смертельную болезнь? Так вот, она уже расползлась повсюду, заражая людей. Разве он не убил нашего собрата, не заколдовал нас своими чарами, не поклялся две луны назад истребить всех, натравив на крааль врагов, если мы не отпустим его? — Так, стало быть, он ваш пленник? — Верно, белый господин. Кенека стал пленником с тех пор, как пришел к нам, хотя иногда его замечали за пределами крааля. Теперь мы знаем, как он попадал туда. — Зачем же вы держали его в неволе? — Защищая себя своей магией, он защищал и нас, а если Кенека сбежит, всех нас настигнет погибель. Итак, отвечай: отдашь ты нам его или нет? Столь дерзкий тон заставил меня гордо выпрямить спину и выпалить не раздумывая: — Нет, отправляйтесь ко всем чертям! По какому праву вы, жалкие полукровки, смеете нападать на меня, подданного ее величества королевы Англии, за то, что я приютил беглеца, которого вы хотите убить? И нечего мне тут рассказывать сказки о том, что Белая Мышь якобы превратилась в сову. Признавайся, что вы сделали с этой женщиной? Верни Белую Мышь, иначе я призову всех вас к ответу за ее гибель. О, ты думаешь, я слаб, раз со мною так мало людей? Так знай же: еще до захода солнца я, Макумазан, научу тебя уму-разуму — если, конечно, тебе вообще удастся выжить. Он глядел на меня, напуганный столь смелым заявлением. Затем повернулся и, петляя — наверное, опасался пули, — побежал к своим людям. А я беззаботно, прогулочным шагом, отправился вверх по склону к нашему укрытию, желая показать, что нисколько их не боюсь. — Баас, как всегда, просчитался, — заметил Ханс на обратном пути. — Почему баас не отдал им этого глазастого колдуна, от которого нам одни хлопоты? — Потому что это бесчестно, Ханс, и тебе же самому было бы потом за меня стыдно. — Верно, баас, я больше не заикнусь об этом. Но, баас, когда человеку собираются перерезать глотку, он не станет ломать голову, какие мысли копошились бы у него в голове, останься он цел. Что ж, теперь нас убьют, потому что с таким количеством арабов нам не справиться. Вскоре, баас, мы встретимся на том свете с вашим преподобным отцом, и я заверю его, что сделал все возможное, чтобы оттянуть наш визит подольше. Давайте побьемся об заклад! Ставлю свой табачный кисет из обезьяньей шкуры — кажется, он баасу приглянулся — против бутылки джина, которую мы купим, когда вернемся на побережье, что еще до захода солнца я пущу пулю в лоб этому дерзкому арабу, который посмел так с вами говорить. Мы вернулись в укрытие, и я поведал Тому, Джерри и Кенеке о беседе с парламентером. Удалого Тома, по-видимому, не прельщала перспектива битвы, а Джерри лишь покачал головой и пожал плечами; после этого оба охотника уединились за скалой: чтобы помолиться и исповедаться друг другу в грехах, как сообщил мне Ханс. Кенека выслушал новость молча. — Ты был добр ко мне, Макумазан, и я отплачу тебе тем же. — Благодарю, — ответил я, — и непременно напомню тебе об этом, если мы встретимся на Солнце или на той звезде, которой ты поклоняешься. А теперь, будь добр, отправляйся на свой пост, постарайся стрелять метко и не тратить зря патроны. Охотники вернулись после молитвы, и каждый занял свое место под прикрытием скал. Я встал посредине, Ханс и Кенека по обе стороны от меня, а Том и Джерри — совсем уж по краям. Так мы притаились и ожидали нападения, но ничего не происходило. Арабы сперва долго совещались, а потом наконец несколько раз выстрелили с расстояния в четыреста ярдов; но то ли пули не долетели до нас, то ли они промахнулись. Потом вдруг наши враги принялись перебегать через открытое пространство в высокую траву и терновник, что росли слева. Видимо, решились на обходной маневр. Вооружившись очками, я узнал их высокого предводителя, злобного Гаику, выступавшего главным обвинителем, когда судили Кенеку. Того самого типа, который угрожал мне и к кому я питал глубокую неприязнь. Ханс тоже приметил его своим соколиным взором. — Там этот пес Гаика. — Подай скорострельную винтовку, — приказал я, отложив винчестер, и готтентот протянул мне ее заряженной. — Никому не стрелять! — крикнул я и навел прицел на объект в пятистах ярдах от себя. Затем я поднялся, уперся левым локтем в камень и стал ждать подходящего момента. Несколько минут спустя Гаика пересекал земляную насыпь, выделявшуюся на фоне неба. Для выстрела было далековато, но я доверял своей винтовке и решил рискнуть. Прицелившись, я подался немного вперед, чтобы хоть чуть-чуть сократить расстояние, глубоко вздохнул и нажал на курок. Отдачи почти не чувствовалось. Грянул выстрел. Затаив дыхание, я ждал. В таких условиях даже самый лучший стрелок запросто мог промахнуться. Больше всего я боялся, что остальные воспримут мою неудачу как дурное предзнаменование. Однако я попал в цель, ибо в тот же миг Гаика упал, кубарем покатился по земле и остался лежать неподвижно. — О! — разом выдохнули мои люди, глядя на меня с восхищением и гордостью. Я тоже был доволен собственной меткостью, однако в глубине души сожалел, что мне пришлось выстрелить в человека. Да, он был неприятным типом и опаснейшим врагом. Однако, согласитесь, мало радости убивать людей, даже таких, как Гаика… Мгновение все прочие арабы стояли и молча смотрели на своего поверженного предводителя. Затем они бросили его и побежали в высокую траву. Значит, он действительно был мертв. Я надеялся, что после гибели Гаики они в испуге попрячутся и передумают на нас нападать; ведь именно для этого я в него и стрелял. Однако расчеты мои не оправдались: немного погодя арабы открыли по нам огонь из камышовых зарослей, хоронясь тут и там, парами или поодиночке, за стволами деревьев и держась вместе. Мы не могли стрелять в ответ, так как не знали, куда целиться, и не хотели тратить пули впустую. А потому заняли выжидательную позицию. Под защитой ограды мы находились в безопасности. Пули арабов расплющивались о камни, а бо́льшая их часть свистела у нас над головами, не причиняя никакого вреда. Однако эти звуки пугали наших носильщиков, особенно после того, как одного слегка ранило — то ли куском свинца, то ли осколком скалы. Несчастный громко причитал и плакал, никакие приказы и угрозы не помогли его утихомирить. Наконец, после двух часов обстрела, наступило затишье. И тут вдруг все носильщики как по команде сорвались с места и бросились вниз по склону, словно бы стадо ополоумевших баранов. Они бежали к берегу пруда, а оттуда — на восток, в сторону поселения Кенеки, добрались до русла реки, которая во влажный сезон питает пруд, и растаяли вдали. Мы запросто могли подстрелить некоторых из них, как очень хотелось рассерженному Хансу, однако я запретил ему это делать. Вдруг этим трусам, которых мы попытаемся остановить, придет в голову напасть на нас сзади, чтобы умилостивить арабов? Больше я о пропавших носильщиках не слышал и могу только гадать, что с ними сталось. Вряд ли они вернулись к побережью, безоружные и без припасов. Эти несчастные, должно быть, заблудились, умерли с голоду, угодили в лапы к диким зверям или, того хуже, попали в рабство. Положение осложнилось еще больше. Нас осталось пятеро, не считая ослицы. (Это весьма разумное создание звали Донна. Продала мне ее женщина, наполовину португалка, имя я запамятовал, вместе с двумя другими животными, но те околели в дороге.) А вокруг нас были невидимые враги, около пятидесяти человек. Возможно, они ждали наступления ночи, чтобы подобраться к нам по склону и перерезать глотки. Что же делать? Находчивый Ханс предложил сразу несколько путей к спасению. Например, поджечь тростник, в котором скрывались арабы. Увы, это оказалось совершенно невыполнимо, ведь для этого нам сначала пришлось бы пробраться туда и не попасть под пули; да вдобавок трава была еще зеленая и ветер дул в неподходящую сторону. Тогда готтентот посоветовал взять пример с носильщиков и удрать. Я сразу счел этот план глупым: ясно же, что нас быстро догонят и убьют. Даже побег под покровом ночи закончился бы плачевно, а кроме того, нам пришлось бы оставить все свои вещи и боеприпасы. Третью идею Ханс изложил на смеси голландского и английского, впрочем, она была совсем не нова, ибо состояла в том, чтобы откупиться от арабов, отдав им Кенеку. — Сколько можно повторять, что я ни за что так не поступлю. Я обещал Белой Мыши спасти его, и точка! — Знаю, баас. Эх, как жаль, что Белая Мышь оказалась так хороша собой. Лучше бы ее лицо смахивало на раздавленную тыкву, кожа была грязной, а волосы кишели вшами — тогда бы нам не пришлось сегодня прощаться с жизнью. Что ж, скоро мы увидимся с красавицей на том свете, в этом я уверен, что бы там ни говорил этот лживый посланник. Остается лишь помолиться вашему преподобному отцу, баас, ибо только он может нам помочь, если захочет, в чем я сомневаюсь, ведь он будет так рад снова со мной встретиться. Выговорившись, Ханс прильнул поплотнее к камню и закурил трубку, не обращая внимания на свистящие рядом пули. У обоих охотников никаких идей не оказалось вовсе, они лишь трясли головой и шептали молитвы. В отчаянии я взглянул на Кенеку. Он сидел молча, невозмутимый, словно каменная стена, и словно бы к чему-то прислушивался. Только вот я никак не мог взять в толк, к чему именно. — Кенека, — сказал я, — по твоей милости, а также по милости той, кого я считаю умершей, мы оказались в подобной переделке. Силы, сам видишь, неравны, а твои недруги, которым мы, в отличие от тебя, не сделали ничего плохого, жаждут нашей крови. Носильщики разбежались, а враги прячутся в камышовой низине — но не потому, что боятся нас, а просто ждут ночи, дабы нас прикончить. Так что, если у тебя есть для нас слова утешения, сейчас самое время их произнести. Учти, умирать нам придется вместе. — Утешение! — воскликнул Кенека мечтательно. — О да, оно уже на подходе, совсем близко, мой господин Макумазан! — После чего продолжал прислушиваться с видом человека, которого отвлекают всякими пустяками. Тут мое терпение лопнуло, и я наговорил Кенеке такого, чего не стану сейчас повторять, высказав среди прочего сожаление, что отверг идею Ханса отдать его арабам. — Ты этого не сделаешь, мой господин Макумазан, — ответил он кротко. — Ты же обещал Белой Мыши спасти меня. Разве может кто-нибудь нарушить данное ей слово? — Говоришь, я дал ей слово? — вскричал я. — Ну и где же сейчас Белая Мышь? Несчастная женщина погибла, и нас всех ждет та же участь, а ты вспоминаешь про мои обещания. И откуда только это тебе известно, ты, чертов мешок с загадками? — Просто знаю, господин, — туманно ответил Кенека ласковым голосом. — Слышишь? — добавил он вдруг. — Грядет утешение! — Мой собеседник величественно поднял руку и тут же отдернул ее: пролетевшая пуля содрала ему кожу на пальце. Вдруг я услышал какие-то доносившиеся издалека странные звуки: не то гул варварской музыки, не то вой стаи диких собак, преследующих зайца. — Что это? — удивился я. Кенека бросил облизывать раненый палец, вновь пробормотал что-то насчет утешения и посоветовал мне приглядеться внимательней. Я взглянул в щель между камней — туда, откуда исходил звук. На востоке, за пересохшим болотом, на волнистой поверхности вельда, словно среди гигантских волн морских, с разбросанными тут и там участками терновника, появлялись на гребне и исчезали в древесных зарослях люди — настоящие дикари с перьями в волосах и длинными копьями. — Это еще кто? — спросил я у Кенеки, но ответа не получил. Он присел за камнем, указал раненым пальцем на заросли, где прятались арабы, и что-то пробубнил себе под нос. Сгорая от любопытства, Ханс приблизил свою хитрую физиономию к щели и зашептал мне на ухо: — Не мешайте ему, баас. Это друзья Кенеки, и он объясняет им, где прячутся арабы. — Ну ты и олух! Как, интересно, он может разговаривать с людьми, которые находятся в полумиле от нас? — Очень просто, баас. Приблизительно так же, как вы отправляете телеграмму в Наталь. Только способ Кенеки лучше. Он же колдун и общается со своими приятелями мысленно. Похоже, сам дьявол помогает ему. Или же, напротив, это ваш преподобный отец о нас позаботился. — Что за чушь ты несешь! — воскликнул я. Однако не мог не признать, что события неожиданно приняли весьма благоприятный оборот, если только эти дикари не собирались напасть на нас вместо арабов. Теперь я наблюдал за происходящим с удвоенным любопытством. Ватага туземцев стремительно приближалась. Должно быть, их было сотни три, не меньше. Они наводнили выжженное пространство, словно пчелы улей. Уж не знаю, науськивал ли их Кенека, но, похоже, они прекрасно соображали, что нужно делать. Перед зарослями дикари остановились и перестали петь, вероятно желая перевести дух и приготовиться к нападению. Затем как по команде снова запели и бросились в заросли тростника, словно охотничьи собаки за выдрами. До сих пор арабы не замечали их, сосредоточив все внимание на нас. Они продолжали беспорядочный обстрел холма. Внезапно стрельба прекратилась; теперь из зарослей до нас доносились крики — ужаса, ярости и удивления. Следующее, что мы увидели, были арабы, бегущие по направлению к поселению Кенеки, а за ними по пятам гнались дикари. Боже милосердный, вот это была погоня! Никогда еще я не видел, чтобы кто-нибудь так улепетывал по равнине, как эти арабы. Некоторых туземцы догнали и убили, но многим удалось скрыться вдалеке. Ханс хотел было перестрелять их, но я запретил ему: нехорошо пользоваться чужими успехами в бою. Выходит, серьезный выстрел с нашей стороны сегодня был всего один: пуля досталась только Гаике, когда мы готовились сражаться против превосходящих сил врага. Арабы пропали из виду, лишь кое-где валялись пронзенные копьями трупы, и наступила тишина. Тогда я потребовал у Кенеки объяснений. Он добродушно произнес, что это были его друзья; дескать, именно их всегда боялись арабы, а поэтому держали его самого в плену и даже хотели убить. — Но у меня и в мыслях не было призывать их сюда, чтобы причинить арабам вред, клянусь, господин, — добавил он. — До тех пор, пока нам не пришлось спасать собственные жизни. Тогда я кликнул своих друзей на помощь, и они тут же пришли, а остальное ты видел. — Как же ты позвал их, Кенека? — О, господин, я послал вестников — так всегда поступают, когда желают связаться с тем, кто далеко. Признаться, я боялся, как бы мои друзья не опоздали, ведь они пришли издалека. — Этот парень лжет, баас, — сказал Ханс по-голландски, — правды из него все равно не вытянешь, как ни старайся, он только еще больше напустит туману. Согласившись с готтентотом, я оставил эту тему и спросил у Кенеки, вернутся ли его друзья. Он ответил, что обязательно, и очень скоро. Он запретил им нападать на крааль, где много невинных женщин и детей. — Но когда они вернутся, господин, — со значением произнес он, — лучше тебе не говорить с ними. Все-таки это полуголые дикари, им могут приглянуться ваши одежда, ружья и боеприпасы. Уж лучше я сам схожу поблагодарить их и заодно приведу нескольких носильщиков взамен тех, что сбежали. Я заранее попросил прислать нам подходящих людей, предвидя подобный поворот событий. — Неужели? — выдохнул я. — Какой ты предусмотрительный, Кенека! А позволь спросить, собираешься ли ты сам вернуться в крааль, или у тебя другие планы? — Я не собираюсь возвращаться и помогать этим неблагодарным людям, господин. К тому же оспа — удручающее зрелище. Нет, я отправлюсь с вами к священному озеру Моун. — К озеру Моун? — воскликнул я. — Ну уж нет! Я сыт приключениями по горло и твердо вознамерился туда не ходить. Сквозь показную мягкость его взгляда явственно проглядывала неумолимая решимость. — А я думаю, что ты все-таки пойдешь к озеру, господин Макумазан. — А я так не думаю, Кенека. — Понимаю. В таком случае я подожду своих друзей и кое о чем с ними договорюсь. Казалось, прошла целая вечность, пока мы с ним вот так стояли лицом к лицу, молча вперив друг в друга взгляды. На самом деле все произошло в один миг. Уж не знаю, сумел ли Кенека прочитать мои мысли, но в его взгляде светилась решимость идти до конца, пусть даже вновь придется позвать на помощь этих своих друзей, питающих страсть к европейской одежде и оружию, загадочных туземцев, которые в настоящее время вели охоту на арабов. Порой не следует лезть на рожон и лучше уступить; именно способность вовремя сделать правильный выбор, на мой взгляд, и отличает человека разумного от глупца. Хотя, как известно, мудрость и глупость ходят рука об руку и граница между ними почти незаметна. Поэтому столь просто промахнуться при выборе пути, однако иных из нас от опрометчивого шага нередко оберегает — не знаю даже, как лучше это назвать, — интуиция, забота ангела-хранителя, ниспосланное Небесами вдохновение? Я, вообще-то, не отличаюсь особой прозорливостью, но тут почувствовал, что стоит поостеречься и не бросать вызов судьбе в лице этого чудака Кенеки и его приятелей-дикарей, которые появились будто бы из воздуха. Я трезво оценил положение вещей. Даже если мне удастся скрыться от друзей Кенеки и его врагов-арабов, которые имели на меня зуб, возвращаться обратно без носильщиков будет крайне затруднительно, равно как и путешествовать в любом другом направлении. Поэтому, хорошенько все взвесив, я выбрал меньшее из двух зол и предпочел в обществе Кенеки отправиться в неизвестность. — Ну ладно, — заметил я небрежно, вспомнив вдруг слова Белой Мыши, что непременно выберусь из этого предприятия целым и невредимым. Понятия не имею, почему я вдруг поверил ей в ту минуту. — На восток идти или на запад, мне все равно. Отправимся к озеру Моун, если оно, конечно, существует. Откровенно говоря, я сильно сомневаюсь, что мы туда когда-нибудь доберемся. — Я тоже, — сухо ответил Кенека.Глава 7
ПУТЕШЕСТВИЕ
А сейчас я последую примеру одной моей знакомой дамы, большой любительницы чтения, которая проглатывает по три толстых романа за неделю и имеет обыкновение пересказывать их потом в двух словах. Попросту говоря, я опишу наше путешествие к загадочному озеру Моун как можно более кратко. Потребовалось бы немало времени, чтобы рассказать в мельчайших подробностях о стране, которая в то время оставалась для белых людей практически неизведанной землей; информации хватило бы для увесистого тома. Подобный труд оказался бы интересен для географов и этнографов — исследователей африканских племен. Однако, боюсь, большинство моих читателей столь однообразное повествование вскоре бы утомило. Поэтому я опускаю подробности и перехожу непосредственно к сути, каковую изложу лишь в самых общих чертах.Итак, вернемся в тот памятный день. Покончив с разговорами, мы решили пообедать, поскольку всем нам было крайне необходимо подкрепиться. После чего мы с Хансом легли отдохнуть в тени скал, ибо усталость и пережитые волнения давали о себе знать, поставив Тома и Джерри на страже. В три часа пополудни они разбудили нас, вернее, меня одного. Ханс, который мог подолгу обходиться без сна, уже бодрствовал и тщательно осматривал ружья. От дозорных я узнал о возвращении дикарей. Кенека отправился им навстречу. Я взял бинокль и оглядел окрестности. Внушительного вида обнаженные туземцы, головы которых были увенчаны плюмажами из перьев, заполонили вельд. В руках они что-то несли, и когда подошли поближе, я разглядел, что это были головы арабов. Дикари двигались в молчании и не спеша, как люди, исполненные ощущения выполненного долга. Кенека поравнялся со своими друзьями; те остановились и отсалютовали ему копьями, признавая этим его превосходство и высокое положение. Туземцы обступили Кенеку кругом, а он как будто что-то им говорил. Вскоре кольцо разомкнулось, и я увидел костер — уж не знаю, каким образом они его разожгли, — в который дикари сложили головы поверженных арабов. — О баас, они поклоняются этому дьяволу Кенеке и приносят ему жертвы, — прошептал Ханс. — По крайней мере, этот тип оказался нам полезен, вернее, не он сам, а его приверженцы. Немного погодя дикари завершили обряд — или жертвоприношение, уж не знаю, чем они там занимались, — и снова двинулись в путь. Огонь в костре продолжал гореть. Туземцы вплотную приблизились к нашему холмику, и я занервничал, ожидая, что они подойдут к лагерю. Однако я ошибся. Не доходя нескольких сотен ярдов, дикари грянули песню — но не ту, что мы слышали ранее, а другую, с некоей меланхолически-прощальной ноткой. После чего бросились вдоль пересохшего болота, из которого перед этим гнали арабов, и вскоре пропали из виду. Их пение постепенно стихало, покуда совсем не смолкло, и певцы исчезли в необозримой дали, откуда и появились. Кто они такие и откуда взялись? Я терялся в догадках, а Кенека окутал их появление и исчезновение такой тайной, что я уже начал сомневаться, не привиделось ли нам это во сне. Вернее, случившееся могло бы сойти за сон, если бы все они ушли. Однако двадцать дикарей остались. Они стояли перед Кенекой, скрестив руки и опустив голову. Копья туземцы воткнули рядом с собой в землю; наконечники в виде железных шипов крепились к древкам. У ног каждого воина лежала свернутая подстилка. — Интересно, что им надо? — удивился я. — Эти парни явно что-то задумали. — Да нет, баас, верно, позабыл, что Кенека обещал нам новых носильщиков. Это они и есть. Без сомнения, он великий чародей и, наверное, сотворил их, как и остальных, из праха земного, словно Адама и Еву. Теперь я изменил свое мнение о нем к лучшему, баас. Этот мошенник и впрямь кое на что способен. В эту минуту мы увидели, как дикари подхватили свертки, закинули их на плечи, выдернули копья из земли и побрели вслед за Кенекой к нашему лагерю. Мы на всякий случай держали ружья наготове. — Эти люди не похожи на тех, что прогнали арабов, баас, — сказал Ханс. — Они совсем другие. Я уже и сам обратил на это внимание. Как ни далеко от нас находились избавители, я все же заметил, что, во-первых, у новых носильщиков кожа была светлее: скорее коричневая, чем черная; во-вторых, ростом они оказались повыше, а более жесткие волосы, прикрывавшие плечи, курчавились лишь на кончиках. Вообще, все они поголовно отличались великолепным телосложением, большими карими глазами, как и у самого Кенеки, и правильными чертами лица. Словом, на негров эти ребята совершенно не походили. Как, впрочем, и на арабов. Скорее уж наши новые носильщики принадлежали к какой-то неведомой мне древней и благородной расе. Были ли они соплеменниками Кенеки? Вряд ли. Не скрою, имелось определенное сходство, однако казалось невероятным, чтобы его сородичи вдруг очутились в этой земле. Выстроившись, насколько позволяли неровности рельефа, в две прямые линии, как заправские солдаты, дикари тихо и торжественно приблизились к камню, на котором я сидел. Затем каждый из них приложил правую ладонь к сердцу и поклонился почти по-европейски. Да так учтиво, что мне пришлось тоже встать, снять шляпу и отвесить ответный поклон. Ханса и охотников новые носильщики таким образом приветствовать не стали, а только с любопытством разглядывали всех троих. Наверное, признали в них моих слуг. Вид ослицы удивил их, а когда она громко взревела, требуя еды, туземцы попятились и испуганно воззрились на диковинного зверя. Кенека перекинулся с ними парой слов на непонятном языке, и носильщики как-то виновато улыбнулись. — Господин Макумазан, ты сам, а в особенности твой слуга не доверяете мне, считаете сумасшедшим и подозреваете, будто я устроил вам какую-то западню. Ничего удивительного, ведь после всего пережитого со вчерашнего дня многое вам и по сию пору непонятно. Однако, Макумазан, ты же не станешь отрицать, что все вышло как нельзя более удачно. Вызванные мною на подмогу друзья прекрасно справились со своим делом и удалились восвояси. Арабы, мои подданные, замышляли убить меня, а заодно и тебя, когда ты отказался отдать меня им, как предлагал твой слуга Ханс. Теперь они получили по заслугам и больше тебя не потревожат. Эти люди, — Кенека указал на своих приятелей, — храбры и надежны. Они не будут вам в тягость, наоборот, облегчат ваше бремя. Только прошу тебя, господин, не спрашивай их, кто они такие и откуда пришли, потому что они поклялись молчать. Обещаешь? — О, разумеется, — ответил я и добавил с некоторым сомнением: — Ханс и охотники тоже обещают. Итак, Кенека, я ровным счетом ничего не понимаю в происходящем, но согласен с тобой: все действительно вышло на редкость удачно. Однако это ведь еще отнюдь не конец. А поскольку Белая Мышь, которая спасла тебе жизнь, хоть и не была тебе женой, как она мне призналась… — А я, между прочим, никогда этого и не утверждал, — перебил он и низко, почти благоговейно склонил голову. — Так вот, поскольку Белая Мышь погибла, — продолжал я, — от рук твоих врагов-арабов, которые столь ненавидят тебя, то, может, ты будешь так добр, Кенека, и объяснишь, что же произойдет дальше? — Мы продолжим путь, Макумазан, — удивленно ответил он. — Как же иначе? Можешь быть уверен, господин, тебе больше не придется рисковать. Вплоть до конца путешествия в землю моего народа я беру бразды правления в свои руки. А вы просто следуйте за мной и наслаждайтесь, а когда захотите, отдыхайте или охотьтесь в свое удовольствие. Стоит вам только пожелать, и любое ваше желание тотчас исполнится. Тебе нечего опасаться, ведь Белая Мышь обещала, что все будет хорошо. Меня так и подмывало спросить, откуда он все-таки узнал о том нашем с нею разговоре, но я сдержался, вслух заметив лишь, что он обладает даром ясновидения. — Да, господин, — кивнул Кенека, — таков мой талант. Как ты заметил, я догадывался, что дикари придут к нам на помощь, а новые носильщики заменят тех, которые сбежали. Что ж, у тебя как будто нет возражений? Тогда вперед! Можешь не сомневаться, Белая Мышь сказала тебе чистую правду. Один лишь я смогу провести тебя к священному озеру. Меня возмутила его дерзость. Не хватало еще, чтобы Кенека или любой другой африканец командовал мною, Алланом Квотермейном, указывая, куда идти и что делать! Разумеется, я собирался решительно отказаться от его услуг и заявить, что и сам прекрасно доберусь куда надо. Но тут мне вдруг пришло в голову, что ведь на ситуацию можно взглянуть и под другим углом. Мне самому не приходилось бывать в тех местах, но от друзей я слышал, что тот, кто самостоятельно путешествует по странам Востока, вынужден нанимать драгомана — проводника и переводчика в одном лице, человека, как правило сведущего в своем деле и весьма подобострастного. Он нянчится с вами круглые сутки, обо всем договаривается с чиновниками, заботится о пропитании, улаживает любые трудности, помогает избегать всевозможных неприятностей и в конце концов приводит нанимателя к месту назначения, а затем помогает ему вернуться обратно. Правда, говорят, что эти опытные профессионалы имеют привычку исчезать в минуту опасности, бросая своих подопечных на произвол судьбы. К тому же их услуги стоят недешево. Ну что же, везде есть свои плюсы и минусы. «В каком-нибудь туристическом агентстве Кука, — сказал я себе, — люди платят огромные деньги, чтобы нанять драгомана. А тут я, считай, бесплатно получил его в лице Кенеки. Так к чему сопротивляться? В крайнем случае, если он перейдет все границы, всегда можно вернуть власть в свои руки. Если ему так хочется руководить нашей экспедицией — то, как говорится, на здоровье». Поэтому я не стал спорить и покладисто ответил: — Договорились, Кенека: ты главный, а я следую за тобой. Мы все вверяем себя в твои руки и не сомневаемся, что ты благополучно проведешь нас к цели и убережешь от любой опасности. Но учти, — добавил я строго, — если ты только попытаешься предать нас, я тебя убью. Теперь скажи, когда мы отправляемся в путь? — Как только взойдет луна, господин. Тогда станет прохладнее. А пока ты и твои слуги можете поспать: после всего пережитого вам необходим отдых. Ничего не бойтесь, я и мои люди будем на страже. — Баас, — сказал Ханс, когда мы решили последовать совету Кенеки, — я никак не ожидал, что мы с вами на старости лет найдем няньку. Тем более такую, с глазами как у филина и носом, подобным совиному клюву, любительницу глазеть на звезды и летать по ночам. Что ж, если бааса все устраивает, то и меня тоже. Я промолчал, а про себя подумал: а ведь большие осоловелые глаза действительно добавляли Кенеке сходства с этой ночной птицей, которая в умах туземцев прочно связана с предзнаменованиями и магией. Назвав этого человека совой, Ханс, как всегда, оказался прозорлив. Да к тому же мой готтентот явно недолюбливал Кенеку, ибо был твердо убежден в том, что гибель Белой Мыши, этой необыкновенной и прекрасной женщины, на его совести.
Мы отдохнули, поели и с восходом луны отправились на северо-запад. Все было готово, даже груз уже распределили между носильщиками. Нам оставалось только свернуть палатку и привязать ее к спине Донны вместе с моими личными вещами. Кормлением ослицы занимался Ханс, а Том и Джерри вели ее, сменяя друг друга. В тот раз обошлось без приключений. Лев, вернее, львы, по словам Ханса, заколдованные Кенекой, нас больше не тревожили. Арабы и дикари, которых этот странный человек называл своими друзьями, нам тоже не встретились. Короче говоря, мы просто спокойно следовали за Кенекой, будто путешествовали по цивилизованной Англии, пока не прибыли на место, где он велел нам остановиться на отдых. Таков был наш первый переход, да и последующие недели ничем не отличались друг от друга. За время пути не случилось ничего особо примечательного. На нас будто лежало заклятье, оберегавшее от всех бед и трудностей. Мы миновали множество необитаемых земель. Работорговцы давным-давно опустошили деревни, среди руин не осталось ни одного местного жителя. Когда нам попадались обитаемые поселения, Кенека перво-наперво отправлялся побеседовать с их вождями. Уж не знаю, что он им говорил, но нас всегда встречали дружелюбно и старались всячески угодить, не требуя ничего взамен. Что примечательно, местные жители смотрели на меня с благоговением. Сначала я объяснял это тем, что они впервые видят белого человека, но постепенно пришел к выводу, что за таким поведением кроется нечто большее. Для них я был могущественным идолом или даже кем-то вроде бога. На лицах туземцев читалась покорность, и они делали мне приношения, чаще всего зерно и фрукты. Пока они ограничивались лишь этим, я терпел, но в одной деревне вождь, говорящий по-арабски и с юности знавшийся с работорговцами, принес белого петуха и перерезал ему горло, чтобы окропить кровью мои ноги. Я решил положить конец безобразию, выхватил у него мертвую птицу, отбросил ее в сторону и спросил, зачем он так поступил. Поначалу бедняга от страха и слова вымолвить не мог. Видно, вообразил, будто я отверг жертву, потому что гневаюсь на него. Ну а затем вождь упал на колени и промямлил, что всего лишь хотел воздать мне почести, как то велел ему сделать «посланник», вернее, «мой посланник». Я бы в жизни не разобрался в его тарабарщине, если бы туземец не упомянул Кенеку. Тогда я попытался выяснить, что же такого особенного в моем прибытии, и строго глянул на собеседника, но тот мигом вскочил на ноги и убежал. Допрос с пристрастием, которому я подверг Кенеку, тоже не дал результатов; тот лишь пожал плечами и сослался на простоту этих людей, желавших почтить белого человека. Однако Ханс был иного мнения. — Какэто, интересно, выходит, баас, что они всегда готовы принять нас с распростертыми объятиями, да еще и с подарками? Никто из людей Человека-совы, — (так мой готтентот теперь частенько величал Кенеку), — не предупреждал их о нашем прибытии. Я постоянно пересчитываю носильщиков, особенно утром и вечером, чтобы не терять их из виду. Издалека нас бы тоже не приметили, пока мы брели в кустах. Как же местные узнали о нас? — Не знаю, Ханс. — Зато я знаю, баас. Человек-сова послал вперед свой дух, чтобы уведомить их о нашем прибытии. — И, подумав, готтентот добавил: — Или, возможно… — Тут он осекся, вспомнив, что, кажется, оставил свою трубку на земле, и ретировался. В результате чего эта тайна, равно как и многие другие, так и осталась нераскрытой. Нам повсюду сопутствовала такая феноменальная удача, что суеверный страх, присущий всякому охотнику, заставлял меня призадуматься, а не ждет ли нас впереди нечто ужасное. Преодолевая реки, мы неизменно находили брод, а стоило нам пожелать мяса, как дичь буквально сама шла прямо в руки Тому и Джерри. (Что касается Кенеки, то он никогда не стрелял в зверей, даже когда я любезно предложил ему свое ружье.) Погода нам благоприятствовала, а в случае бури всегда было где укрыться. Мы не страдали от лихорадки или какой-либо другой болезни, несчастные случаи обходили нас стороной. Львы нас не трогали, а змеи не кусали. Наконец эта благополучная монотонность стала действовать нам на нервы. Однажды вечером ко мне явились Том и Джерри и чуть не плача заявили, что мы все околдованы и близится наша кончина. — Что за глупости! — воскликнул я. — Лучше бы радовались, что нам сопутствует удача. — Сахар хорош, — ответил сладкоежка Том, — но нельзя есть один только сахар — сразу заболеешь. Ночью мне снились дурные сны. — Я и раньше не надеялся снова увидеть свою маленькую дочурку, — подхватил флегматик Джерри, — но раз такова воля Небес, тут уж точно ничего не поделаешь. Господин, — добавил он, — нам не нравится этот Кенека, которого Ханс зовет Совой. Мы хотим, чтобы ты снова стал главным, поскольку никому не ведомо, куда он нас заведет. — Я не могу так поступить, ибо как от проводника от меня будет мало пользы. Но не волнуйтесь, я составляю подробную карту местности, которая поможет нам на обратном пути. — Нам не понадобятся карты на обратном пути, — глухо отозвался Том. — Мы слышали от Ханса, господин, что ведьма, называющая себя Белой Мышью, пообещала тебе и ему безопасное возвращение. Но вот о нас она, кажется, ничего не сказала. — Послушайте, — прервал я их раздраженно, — если вы так напуганы без видимой на то причины, одним лишь тем, что все идет хорошо, то лучше последуйте примеру носильщиков, сбежавших из нашего первого лагеря. Вы получите ружья и достаточно патронов, сколько сможет унести Донна. Я не стану удерживать вас силой: если хотите, можете вернуться на побережье — невредимые и с деньгами в карманах. Том покачал головой и сказал, что уже обдумывал такую возможность, но сие неосуществимо: их убьют на исходе первого дня пути. И тут флегматик Джерри проявил себя; возможно, в нем взыграла английская кровь. — Послушай, Дырчатый, — обратился он к Тому, — если мы так поступим, то наш господин Макумазан начнет презирать нас, а для Ханса мы станем посмешищем, да и для Кенеки и его людей тоже. Мы отправились в это путешествие по доброй воле. Так давай до конца останемся мужчинами и сдержим свое слово. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. А разве христиане могут быть такими трусами? По тебе некому горевать, а я слишком редко видел свою дочку, и если не вернусь, особо скучать по папе малышка не будет. Поэтому отбросим наши страхи, сотканные из тумана, и не станем более докучать ими нашему господину. — Так-то оно так, — ответил Том, по прозвищу Дырчатый, — да уж больно меня смущает проклятый колдун. Он наверняка один из тех, кто хулит Священное Писание. Но мы вынуждены следовать за этим человеком, который по ночам вместе со своими людьми заклинает звезды, я сам видел. И тут Том вдруг заметил Кенеку, который стоял слишком далеко, чтобы его слышать. Он внимательно смотрел на нас своими большими глазами. Это произвело на охотника ошеломляющее впечатление. — Берегись, сам колдун явился, — прошептал он Джерри, после чего эти двое повернулись и мигом убрались восвояси. Кенека подошел ко мне. — Охотников явно что-то испугало, господин, — произнес он негромко. — Вот уже несколько дней, как это написано на их лицах. Чего же они боятся? — Тебя, — ответил я напрямик. — Тебя и нашего будущего. — Каждый человек должен испытывать благоговейный страх перед будущим, так что в этом отношении они поступают мудро. Но почему охотники боятся меня? — Они полагают, что ты колдун. Кенека расплылся в улыбке: — Так многие думают. Любого проницательного мужчину, который умеет читать в сердцах, отвергает женщин, не следует в поклонении чему-то за большинством или еще каким-либо образом отличается от прочих, сразу подозревают в колдовстве. Твоим слугам не стоит постоянно думать лишь о собственной судьбе. Им нужно отвлечься, и тогда страх исчезнет. Я как раз пришел сказать тебе, что завтра мы вступаем в лес, где можно увидеть великое множество слонов. Они сходятся сюда со всех сторон по неведомым нам, людям, причинам. Ты и твои храбрые охотники можете полюбоваться на их встречу и заодно подстрелить парочку. У них, кстати, есть и свои короли, весьма могучие животные. — Хотел бы я на это посмотреть, но какой толк стрелять в слонов, если мы все равно не сможем унести бивни? — Мы спрячем их до вашего возвращения, господин. Зато охотникам будет чем заняться. — Ладно, — ответил я равнодушно. Сказать по правде, мне не верилось в его рассказ о целых стадах слонов, собирающихся на встречу в лесу. Следующей ночью мы разбили лагерь на окраине леса, о котором говорил Кенека. Это странное место отличалось от всего, что мне приходилось видеть раньше. Лес состоял из величественных деревьев неведомых мне пород. Их развесистые кроны заслоняли солнечный свет. Даже в полдень под их густой листвой царил полумрак, не оставляя подлеску ни единого шанса. По непонятной причине деревья тут росли не везде, местами взору нашему вдруг открывались полянки, покрытые скудной травой и кустарником. Порой такие прогалины достигали в поперечнике целой мили. Всю ночь мы слышали, как трубят слоны, а наутро убедились, что в четверти мили от нашего лагеря проследовало большое стадо этих животных. Вид слоновьих следов разбудил охотничий инстинкт Тома и Джерри: уныния их сразу как не бывало, и они стали просить меня отправиться на поиски добычи. Я сопротивлялся, приводя все тот же довод, а именно: нет никакого смысла убивать зверей, поскольку мы не сможем забрать с собой слоновую кость. Услышав наш спор, Кенека заявил, что носильщикам нужен отдых и он будет рад, если им дадут пару свободных дней, пока мы развлекаемся охотой. Я уступил, мне и самому хотелось узнать, насколько правдива история Кенеки о том, что в этом лесу есть место, где якобы встречаются слоны. Также я надеялся, что мои охотники, найдя себе занятие, отвлекутся от мрачных мыслей. К тому же нам бы не помешало разнообразить скучное путешествие новыми впечатлениями. Итак, мы поели, приготовили все необходимое и вчетвером — то есть Том, Джерри, Ханс и я — отправились в путь, захватив с собой винтовки, запас патронов, а также немного воды и еды. Сам Кенека остался в лагере. До самого вечера мы шли по следам слонов. Они не останавливались на полянах, как я надеялся, но стремительно продвигались вперед, к некоей вполне определенной цели. Устроив привал один лишь раз, мы постоянно перемещались в тени деревьев. Следы вели по своеобразной тропе, которая вилась между стволов или же простиралась напрямик через островки кустарника и травы. Много раз мы с Хансом порывались вернуться, видя бессмысленность нашей затеи, но Том и Джерри неизменно уговаривали нас продолжать путь. На закате мы перестали различать следы на лесной тропе. Пока еще не совсем стемнело, мы постарались отыскать их снова и забрели на необычайно широкую поляну, гуще остальных заросшую травой. Полагаю, площадь ее составляла около тысячи акров. Совершенно ровная поверхность наводила на мысль, что в давние времена поляна сия была дном озера. Посреди этого лесного оазиса возвышался холм. Он напомнил мне изображения великих курганов из разных частей Европы, которые дикие племена сооружали для своих вождей тысячи лет назад. Однако этот холм, в чем я и убедился впоследствии, служил естественным фундаментом для некоего озерного города. Племя перебиралось туда, когда округу затопляло водой. Как бы то ни было, он являл собой невысокую округлую возвышенность, покрытую низкорослыми деревьями и иной скудной растительностью. Сообразив, что с кургана мы увидим слонов или хотя бы определим, куда они направились, мы двинулись к нему. На худой конец, можно было там отдохнуть: все лучше, чем оставаться в мрачном лесу. Мы взобрались по склону и обнаружили вершину, абсолютно плоскую, если не считать небольшого углубления посредине: вероятно, там когда-то стояли хижины первобытных жителей. Но что особенно нас заинтересовало, на дне впадины лежал пруд: не то питаемый источником, не то образовавшийся за счет недавно выпавшего дождя. Я решил переночевать на кургане, ведь наши запасы воды иссякли, а мы так в ней нуждались. К сожалению, нам не удалось разглядеть с вершины ни малейшего следа слонов. — Хорошо, баас, — ответил Ханс, выслушав мои распоряжения, — но все-таки мне тут не нравится. Лучше бы нам напиться, пополнить запасы воды и вернуться обратно в лес. Я спросил, почему он так думает. — Не знаю, баас, возможно, всему виной невидимые для нас духи тех, кто жил тут раньше. Или же… Но объясните мне, баас, зачем Человек-сова отправил нас искать слонов? — Чтобы отвлечь Тома и Джерри от мрачных мыслей. Готтентот усмехнулся: — Кенеке нет никакого дела до настроения охотников. Мне кажется, он хотел дать нам возможность удрать. Нет, он вовсе не собирается идти дальше в одиночку. Просто решил преподать нам урок, баас, показать, насколько он силен и могуществен, как никто другой. Похоже, Ханс был прав. Я не желал идти на эту глупую охоту, однако Кенеке каким-то образом удалось меня уговорить. — Вряд ли тут водятся слоны, — убежденно продолжал Ханс, — а следы их Кенека мог сотворить при помощи своей магии. А если даже слоны и есть, то они не настоящие, а призраки в зверином обличье. Давайте лучше вернемся в лес, баас… если, конечно, Человек-сова позволит нам уйти. Теперь пришло время проявить характер, и я был непреклонен. — Перестать молоть чепуху, Ханс. Что это со всеми вами происходит? У Тома и Джерри вместо мозга гнилые кокосы, а теперь и ты туда же? Сегодня мы переночуем здесь, а завтра вернемся в лагерь. — О, никак баас надеется выспаться сегодня ночью? Да, кажется, он действительно на это рассчитывает, — съехидничал Ханс. — Что ж, посмотрим. — И готтентот засмеялся и убежал, прежде чем я успел обрушить на него свой гнев.
Солнце село за горизонт, а ему на смену взошла полная луна. Мы поели то, что захватили с собой. Готовить было нечего, поэтому огонь не разжигали. Да и это оказалось нам на руку, ибо на такой высоте огонь привлекал бы нежелательное внимание. Часовых мы выставлять не стали: львам тут поживиться было нечем, а на слонов они не охотятся. Так что мы просто легли, ибо уже буквально валились с ног от усталости, и мигом уснули. Помню, засыпая, я еще удивился, как необычайно тихо вокруг. Ни звериного рыка, ни крика ночной птицы, ни единого шороха в мертвом безветрии. Безмолвие сие было настолько тягостным, что я, кажется, обрадовался бы даже комариному писку, но и насекомые молчали. Не знаю точно, сколько времени так прошло; приблизительно в полночь, если судить по положению луны, я проснулся от гнетущего чувства. Мне приснилось, что вампир навис надо мной и сосал кровь из пальца на ноге. Я лежал лицом вниз, как частенько делаю, если приходится ночевать под открытым небом, опасаясь слепящего света луны, на краю впадины, полной воды. Водная поверхность была гладкой и прозрачной, словно зеркало. Невесть откуда в воде вдруг появилось отражение: голова, хобот, бивни — то был самый огромный слон из всех, каких мне приходилось видеть. О Диана, богиня луны и охоты, до чего же он был огромен! Слон стоял надо мной, а я лежал между передних ног гиганта, который обнюхивал мою макушку, едва касаясь ее кончиком хобота. Меня редко преследуют ночные кошмары, и уж никогда прежде мне не являлись в них гигантские слоны. Разумеется, сперва я не сомневался, что это просто красочный сон; вероятно, плохо переварившийся билтонг давал о себе знать. Однако затем насторожился: ведь я проснулся, а видение не рассеивалось, как поступают все приличные кошмары. Кроме того, если я сплю, откуда тогда эта противная колющая боль в ноге? (Позже я узнал, что Ханс, пытаясь разбудить меня, не привлекая внимания слона, тыкал мне в бедро шипом терновника, которым подкалывал брюки.) А разве может слон во сне настолько сильно дуть человеку в затылок, взметая пыль и сухую траву, что его так и тянет чихнуть? Пока я в полном ужасе глядел на отражение в воде и обдумывал создавшееся положение, гигант прекратил меня обследовать и, очень осторожно перешагнув, пошел туда, где поодаль лежали Том и Джерри. До сих пор не знаю, спали они в этот момент или бодрствовали: случившееся так напугало охотников, что, вспоминая впоследствии сей случай, оба моментально теряли дар речи и ничего не могли толком рассказать. Зверь принюхался: сначала к Тому, а затем к Джерри. После чего фыркнул и, схватив охотников хоботом, легко швырнул одного за другим в воду. Сторонясь Ханса, как будто ему неприятен был сам его запах, слон прошел по гребню чаши в середине кургана и был таков. Я мигом вскочил и ударил Ханса по уху, потому что готтентот продолжал тупо тыкать в меня колючкой, причиняя сильную боль. Заговорить с ним я не решался. Спустился по склону к краю пруда и бросился спасать из воды Тома и Джерри, надеясь, что охотники еще живы. А между тем они не нуждались в моей помощи. Пруд оказался довольно мелким. И сейчас оба сидели на дне, причитая от ужаса, и лишь их головы торчали над водой. За всю свою жизнь я не видел более нелепого зрелища. Шепотом я велел им вылезать и вести себя тихо, пригрозив, что иначе убью обоих. Увидев меня, охотники немного успокоились и выбрались на берег, опутанные водяным крессом. Судя по всему, кости их были целы. Я оставил обоих приходить в себя и, прихватив тяжелое ружье, подполз вместе с Хансом к краю впадины и огляделся. Лунный свет озарял пространство, и всего лишь в какой-нибудь дюжине ярдов от нас гигантский слон стоял на небольшом выступе, или платформе, выступающей со стороны кургана. Она походила на трибуну оратора где-нибудь в Гайд-парке, и огромный зверь застыл там, словно каменное изваяние.
Глава 8
СЛОНОВИЙ ТАНЕЦ
Никогда в жизни не забуду я этого потрясающего зрелища. Оно въелось в скрижали моей памяти кислотой страха и изумления. Только представьте! Установилась такая пронзительная тишина, что казалось, ее можно услышать. Широкая равнина (или дно озера) со всех сторон окружена кольцом черного леса. А прямо под нами гигантский слон — как я сразу определил, ему было очень много лет — стоит неподвижно, погруженный в тоску, словно старик, вернувшийся в дом своей юности и нашедший его пустым. — Баас, — прошептал Ханс, — возьмите чуть левее. Всего один выстрел за ухо, и ты запросто уложишь его. — Я не хочу стрелять в этого слона, — ответил я. — И не вздумай сам убить его, а не то я сломаю тебе шею. Ханс наверняка подумал, что я просто-напросто нервничаю и боюсь все испортить. На самом деле мною двигали иные соображения. Сам не знаю почему, но я счел бы себя убийцей, застрелив слона, который сохранил мне жизнь, когда я лежал на земле абсолютно беззащитный, полностью находясь в его власти. Я говорил тихо, опасаясь, как бы зверь нас не услышал. Внезапно он обернулся в нашу сторону, и я испугался, как бы мне все-таки не пришлось стрелять. Однако все обошлось. Убедившись, что мы не представляем угрозы, слон еще пару минут предавался созерцанию пейзажа. Вдруг он поднял хобот и издал пронзительный зов или крик. Он протрубил трижды. На третий раз, едва лишь эхо его призыва замерло вдали, тишину ночи нарушил жуткий ответный рев. Со всех сторон леса раздавались трубные гласы слонов; казалось, сотни животных вторили друг другу. — Allemachte! Всемогущий! — прошептал Ханс дрожащим голосом. — Да этот старый зверь-призрак зовет своих друзей, чтобы убить нас. Бежим, баас! — Разве ты видишь, как нас окружают? — спросил я шепотом. — Если бы слон хотел убить нас, то и сам бы справился. Лежи тихо — только так мы можем спастись. Да скажи охотникам, чтобы не молились так громко, и пусть разрядят ружья, а то еще вздумают стрелять. Ханс пополз к краю пруда, где крайне напуганные Том и Джерри возносили мольбы Всевышнему. А предо мною предстало самое замечательное зрелище за всю мою охотничью карьеру. Словно бы дрессированные индийские слоны древних царей, три стада этих африканских гигантов вышагивали неиссякаемым потоком, соблюдая определенный порядок. Со всех четырех сторон света вышли они на залитое лунным светом пространство и дружным строем двинулись к кургану, сотрясая землю. Возможно, у меня двоилось в глазах, да и нервы были так напряжены, что я вполне мог сбиться со счета, но готов поклясться, что их там оказалось не меньше тысячи. Впрочем, остальные мои спутники впоследствии называли даже еще большие цифры. В каждом стаде первыми шли вожаки. Лунный свет играл на их белоснежных бивнях. Далее следовали слонихи со слонятами. И наконец замыкали шествие слоны-подростки, еще не достигшие зрелости, выстроенные строго по росту. Кенека не солгал: его пророчество о встрече слонов действительно сбылось. Вот только как, ради всего святого, он узнал об этом? На какое-то мгновение я готов был поверить, что он и впрямь могущественный чародей, как полагали Ханс и охотники. Возможно, он хотел, чтобы слоны разорвали нас на кусочки или затоптали насмерть, поэтому и послал сюда. Вскоре я забыл о Кенеке, завороженный волнующим спектаклем. Слоны все прибывали. Они располагались большими полукругами вокруг холма, на котором возвышался старый гигант. Некоторое время животные стояли, а затем словно по команде разом опустились на колени. Да-да, даже слонята встали на колени и распростерли хоботы по земле. — Они приветствуют своего короля, баас, — прошептал Ханс. Похоже, так оно и было. Словно бы в ответ на приветствия, старый слон протрубил один раз. Его подданные поднялись на ноги, и тут началось чудесное представление, которое можно было принять за сон. Слоны-вожаки собирались в группы и прохаживались мимо кургана справа налево, трубя на ходу. За ними шли целые полки слоних и молодых слонов. И все громко трубили, даже слонята пронзительно визжали. Ну а затем животные перестроились заново. Теперь самцы и самки стояли хобот к хоботу. Начался такой быстрый и замысловатый танец, что я едва успевал уследить за ними, что-то вроде иноземной кадрили, в которой самцы выбирали самок или наоборот. При этом они ласкали друг друга хоботами. Возможно, это было что-то вроде помолвки, кто их разберет. Удивительное действо прекратилось так же стремительно, как и началось. Стада слонов собрались прежними группами, построились в три ряда, развернулись и зашагали обратно в лес, откуда пришли. Вскоре не осталось никого, кроме старого слона, который стоял в тишине прямо под нами, величественный и одинокий. — Долго он тут будет торчать, баас? — прошептал Ханс. — По-моему, лучше всего застрелить его сейчас, пока он один. — Тише, вдруг он тебя понимает. — Баас прав, — поддакнул Ханс хриплым шепотом, — от этих призраков всего можно ожидать. — И поспешно добавил: — Так разве я всерьез предложил его застрелить? Это я так сказал, в шутку. Да и ни к чему рисковать. Чего доброго, выстрел еще привлечет остальных. Тут, к моему ужасу, король слонов обернулся и двинулся прямо на нас. Даже если бы я и захотел, то не смог бы выстрелить в него. Мое ружье было разряжено, как и у остальных, чтобы не поддаться искушению. К тому же ужас буквально парализовал меня. А слон остановился совсем рядом и застыл неподвижно, созерцая нас. Гигантское существо с кротким задумчивым взглядом. Затем он поднял хобот, и я начал молиться, решив, что пришел мой смертный час. Однако он лишь поднес кончик хобота к Хансу, который стоял на коленях, и, страшно затрубив, дунул с такой силой, что бедный готтентот скатился по склону впадины прямо на лежавших внизу Тома и Джерри. Затем слон отвернулся, спустился с кургана и пошел по равнине в величавом одиночестве, пока не растворился во мраке леса. Когда он скрылся с глаз, я спустился, чтобы напиться воды. От переживаний у меня совсем пересохло в горле. Затем я взглянул на троих слуг, до сих пор еще дрожавших на берегу пруда, не в силах подняться на ноги. — Все кончено, я сейчас умру, — пробормотал Ханс, лежавший поверх обоих охотников. — Этот сатана в слоновьем обличье выдул мне все внутренности. Остался один лишь позвоночник. — И неудивительно, коли ты бранил слона и подбивал Макумазана его застрелить, — пробормотал Том. — Так что поделом тебе! А вот за что, интересно, злой дух скинул сюда нас? — Если ты собрался помирать, желтый человек, то, будь добр, слезь сперва с моего лица, иначе я тебя сейчас укушу, — простонал Джерри. Они продолжали препираться и выглядели со стороны так комично, что я не выдержал и рассмеялся. Нервное напряжение сразу спало, и мне полегчало. Я закурил трубку, надеясь, что слоны не заметят в этой впадине огонек и не учуют запах табака. В любом случае я решил рискнуть, ибо курить мне в тот момент хотелось больше всего на свете. — Давайте обсудим, как нам быть дальше, — обратился я к остальным. — Следует немедленно убираться отсюда, господин, — сказал Том. — Это не слон, а злой дух в звериной шкуре. Да, я добрый христианин и не признаю языческих суеверий. Но говорю вам: это злой дух. — Дырчатый абсолютно прав, — встрял Джерри. — Обычный слон просто бы убил нас, а этот злой дух бросил в воду. — Глупцы, — возразил Ханс, потирая живот, — много вы понимаете в злых духах! На самом деле — спросите вон хоть бааса — дело было так: некий вождь или король, который когда-то был человеком, после смерти превратился в слона. Все его подданные, которых вы не видели, потому что дрожали от страха, тоже раньше были людьми, но, как и он, затем стали зверями. Так что какие уж там суеверия: нам с баасом все ясно, а ведь мы гораздо более ревностные христиане, с вами никакого сравнения. Но в одном вы правы: чем скорее мы уберемся отсюда, тем лучше. Так они спорили, пока не выбились из сил. — Мы останемся тут до рассвета, — сказал я. — Вы втроем взбирайтесь на край этой впадины и глядите в оба. А я устал и хочу поспать. Разбудите меня, если слоны вернутся. Я прилег и уснул, вернее, задремал; хвала небесам, многолетний опыт приучил меня мигом отключаться в любых обстоятельствах. Будучи по натуре фаталистом, я не боялся того, что произойдет в будущем: раз этому все равно суждено случиться, то и беспокоиться бессмысленно. Коли слоны собираются убить меня, тут уж ничего не поделаешь. Но я, по крайней мере, хотя бы сперва отдохну. Мне снилось, будто вокруг нашего кургана плещется озеро и я нахожусь на острове посреди него, где очень много народу. Я видел высоких темнокожих мужчин и женщин, одетых в дешевые разноцветные наряды. По берегам тут и там стояли хижины с тростниковыми крышами, и повсюду виднелись деревянные причалы. Привязанные к ним каноэ покачивались на мелководье. По широкой водной глади туда-сюда плавали лодки. В них сидели мужчины — в одиночку или по двое — и удили рыбу. Озеро окружал дремучий лес, в действительности сохранившийся и поныне. На том месте, где сейчас находился пруд, возле которого я спал, под соломенной крышей на деревянных резных опорах сидел какой-то довольно старый человек. Резьба показалась мне весьма любопытной, но, проснувшись, я позабыл, как именно выглядели узоры. Судя по всему, народ собрался неспроста, и человек под навесом, по виду вождь племени, в плаще и головном уборе из перьев, поднялся со своего трона, сделанного из четырех слоновьих бивней и тростника. Он обращался к народу, видимо сообщая нечто крайне важное для всех. Старик выглядел взволнованным. Он бил себя в грудь и о чем-то спрашивал присутствующих. Люди тихо совещались, что же им ответить, и в этот миг я проснулся. Наступил рассвет. Решив, что сон сей — всего лишь плод моего воображения, сотканный из того, что я видел и слышал наяву, я не придал ему большого значения. Однако он неплохо вписывался в окружающую обстановку, и имей я склонность к мистике, наверняка подумал бы: «А вдруг все это правда? Может, в давние времена курган и впрямь являлся островом посреди озера, населенным первобытными людьми, которые таким образом спасались от нападения врагов?» Ханс тоже неплохо выспался, а охотники были слишком напуганы и до самого рассвета не могли глаз сомкнуть. Они сообщили, что не обнаружили поблизости никаких признаков слонов. — Тогда пошли скорее в лагерь, пока животные не вернулись, — ответил я бодро. Я глотнул воды, поел водяного кресса, который всегда находил весьма питательным, и мы тронулись в обратный путь. Мы радовались возможности покинуть эту «гору духов», как окрестил ее Ханс, а оказавшись на равнине, окончательно повеселели, по крайней мере я и готтентот. Хотя было немного странно вспоминать о том, что произошло за эти несколько часов в одинокой впадине, на дне бывшего озера. Я даже был готов поверить, что мы стали жертвами некоей галлюцинации, ночного видения, вызванного рассказом Кенеки о встрече огромных стад слонов в лесу. Под сенью деревьев наше настроение переменилось. Их гигантские кроны не пропускали солнечный свет и создавали мрачную атмосферу. Мы углублялись в чащу, следуя по нашей тропинке (по примеру индейцев, я накануне предусмотрительно оставил на стволах отметки, так что мы возвращались верным путем). Было бы ужасно заблудиться в этом лесу. Когда мы прошагали уже довольно долго и добрались до места, где вчера потеряли следы слонов, я заметил, что Ханс все больше тревожится и постоянно оглядывается. — Что случилось? — спросил я. — Обернитесь, баас, и увидите, — ответил он еле слышно. — Кабы я не пил нынче ничего, кроме воды, то решил бы, что мне это спьяну померещилось. Я оглянулся. Примерно в ста ярдах позади стоял между двух стволов наш приятель — король слонов! Я остановился. Признаться честно, на мгновение мои ноги подкосились. — Возможно, это лишь тень или плод нашего воображения? — с надеждой предположил я. — О нет, баас, слон настоящий. Я чувствовал его спиной последние полмили, но сперва не решался оглянуться. Если баас сомневается, пусть сходит и сам посмотрит. Тут Том и Джерри, ушедшие далеко вперед, прибежали обратно и чуть не плача сообщили, что видели слонов слева и справа, поэтому мы должны повернуть назад. — Ну да, вы же считаете себя очень храбрыми, поэтому можете вернуться. — И с этими словами готтентот показал пальцем на призрак, возникший позади. Пока мы говорили, он будто бы приблизился, однако сейчас снова застыл неподвижно. Казалось, охотники сейчас упадут в обморок от подобного зрелища, ибо бедняги были жутко напуганы, как, впрочем, и я сам. Все же мне удалось взять себя в руки, и я строго велел им прекратить истерику, чтобы мы могли идти дальше. — Ну да, — повторил Ханс; под влиянием обстоятельств к нему вернулся его мрачный юмор, — вперед, храбрые охотники! Убейте слона — это же ваше ремесло! Защитите бедного маленького желтого человека! Нет-нет, не смотрите на деревья, мы не ящерицы и не умеем бегать по стволам. А если бы даже и умели, что толку. Слонам-призракам оставалось бы только подождать, пока мы спустимся. Вперед, отважные охотники! Не вы ли вчера уверяли меня, что все слоны разбегаются при виде людей? Так он глумился над ними всю дорогу, пока я не положил этому конец. — Хватит! — отрезал я. — Надо не препираться, а держаться вместе, это все, что нам остается. Помните, если кто-то выстрелит без крайней необходимости, расправа грозит всем нам. А теперь следуйте за мной. Они повиновались, держась очень близко, и когда я остановился, дуло того, кто шел позади, уперлось мне в спину. Стало быть, ружья эти ребята держали наготове. Вскоре я понял, что слоны окружают нас: позади двигался старый вожак, по бокам — его подданные, вот только впереди слонов пока не было. Очень походило на то, как будто бы нас выпроваживали из дома, учтиво оставив дверь открытой, чтобы незваные гости поскорее убрались восвояси. Несомненно, животные нас видели. Изредка кто-нибудь вытягивал хобот и принюхивался, когда мы удалялись от него на дюжину ярдов. Была и еще одна особенность, весьма любопытная. Слоны стояли вдоль тропы через равные промежутки, словно бы вынуждая нас держаться прямой и узкой дороги. Однако, пропустив нас, слоны непременно пристраивались позади вожака и шагали следом. Пересекая поляну, мы в этом окончательно убедились. Я оглянулся и увидел невероятное зрелище — вереницу из сотни слонов, составляющих торжественную процессию. Казалось, будто все слоны Центральной Африки собрались в этом лесу! Много часов мы шли вперед, неуклонно приближаясь к лагерю. Обратное путешествие заняло у нас гораздо меньше времени. Лес поредел, все чаще попадались открытые пространства. Я считал их и теперь знал, что мы подошли к последней прогалине, а наша ограда находится в миле или чуть больше отсюда. Тут один из охотников обернулся и пробормотал: — Господин, слоны бегут за нами. Так оно и было. Король слонов перешел на величавую рысцу, и все подданные последовали его примеру. Разумеется, мы тоже побежали. О, эта последняя миля! Мне не доводилось развивать такую скорость с тех пор, как я еще в школе мальчишкой бегал на длинные дистанции. Остальные мчались вровень со мной или даже быстрее. Мы бросились через поляну, а за нами по пятам неслись слоны. От их топота дрожала земля. Разрыв между нами сокращался, гигантские животные были уже совсем близко. Я слышал их тяжелое дыхание. Впереди маячил лагерь, а прямо перед ним на муравьиной куче стоял Кенека в своем ярком белом одеянии. Он наблюдал за погоней. Внезапно слоны заметили его, а может, их насторожил дым костра. Как бы то ни было, они остановились как вкопанные, развернулись и бесшумно растворились в чаще леса. Слоновий король шел последним, будто нехотя расставаясь со своей добычей. Я брел к лагерю нетвердым шагом, прекрасно сознавая, как жалко сейчас выгляжу: запыхавшийся, чумазый, с всклокоченными волосами. Ну просто наказанная гордыня! Разве не мнил я себя одним из величайших охотников современности? А теперь убегаю от слонов, не произведя ни одного выстрела. Правда, свидетелями моего позора оказались только этот загадочный Кенека, который поймал меня в свои сети, как паук, да два десятка носильщиков, его соплеменников. Однако для меня это служило слабым утешением. Какая разница, видели меня или нет, мне было стыдно перед самим собой. А еще я был страшно зол на Кенеку, которого считал — признаться, без особых на то оснований — виновником наших злоключений. Да еще я к тому же потерял шляпу, а сие для англичанина, как вы понимаете, просто недопустимо. Кенека спустился со своей муравьиной кучи мне навстречу и поклонился. Он весь так и лучился радостью: — Несомненно, ваша охота была удачной, господин, раз вы обнаружили столь много слонов. — Да ты никак смеешься надо мной, Кенека? Ведь тебе прекрасно известно, что сегодня я сам оказался в роли добычи. Что ж, однажды будут охотиться на тебя, а я тогда посмеюсь. — И, махнув рукой, я ушел в свою палатку, чтобы отдышаться и успокоиться. Там я бросился на маленькую раскладную койку, которую по возможности беру с собой в каждый поход, и наблюдал за прибытием остальных. Когда преследование со стороны слонов прекратилось, они немного отстали. Том и Джерри от ярости не могли вымолвить ни слова и только бессильно потрясали в воздухе кулаками. Если бы ружья, которые мои охотники потеряли, спасаясь бегством, оказались сейчас при них, они наверняка пристрелили бы Кенеку или, по крайней мере, попытались бы это сделать. (Забегая вперед, скажу, что позже их ружья нашлись целыми и невредимыми, как и моя шляпа.) — Ты выставил нас трусами перед нашим господином! — выпалил, с трудом переводя дыхание, один из охотников — кто именно, я запамятовал. Затем оба скрылись из виду. Наконец пришел Ханс. Ружье было при нем. Он опустился на землю и принялся обмахивать себя шляпой. — Почему все так злы на меня, Ханс? — спросил у него Кенека. — Не знаю, — ответил готтентот. — Но если ты дашь мне отхлебнуть из бутылки, которую прячешь у себя под одеялом, может статься, я что-нибудь и припомню. Я говорю о той бутылке, которую дал баас, когда у тебя болели зубы. Кенека направился к шалашу из веток, в котором спал, и, вскоре вернувшись с наполненной джином квадратной флягой, налил немного в жестяную кружку. Ханс выпил залпом. — Ага, начинаю припоминать, — сказал он, облизывая края кружки. — Том и Джерри сердятся, потому что думают, будто ты сыграл с ними злую шутку при помощи своих колдовских чар: нарядил духов, своих прислужников, в шкуры слонов и заставил их охотиться на нас, чтобы вволю над нами посмеяться. — Но я не делал ничего подобного, Ханс! — возмутился Кенека. — Что за ерунда? Разве я бог, чтобы создавать слонов? — О нет, Кенека, ты кто угодно, но только не бог. По правде говоря, я не верю в россказни двух этих глупцов. Но прими мой добрый совет: впредь будь осторожен; я надеюсь, что в следующий раз, когда тебе вздумается отправить нас на охоту, ничего подобного не случится. Ведь мы еще не разучились стрелять. А ну как этим охотникам захочется проверить, способны ли их пули пробить шкуру колдуна? А теперь, если зубы у тебя больше не болят, я верну бутылку баасу, а то это весь наш запас. Даже чародею не под силу изготовить хороший джин. С этими словами готтентот поднялся и выхватил бутылку из рук Кенеки. Надо сказать, к чести Ханса, что он вернул мне ее нетронутой. С его стороны это было величайшим подвигом добродетели.Так завершилась охота на слонов, которой следовало развеять скуку этого странного путешествия и поднять дух Тома и Джерри, а в некоторой степени и наш с Хансом. Первый пункт мы выполнили: уж что-что, а скучать на встрече со слонами нам точно не пришлось. А вот с поднятием духа ничего не вышло. Вместо этого наши охотники перепугались не на шутку, ибо неведомое всегда страшит. Даже у меня вся эта история просто не укладывалась в голове. Никому из нас прежде не доводилось наблюдать такое странное поведение слонов в стаде, а уж то, что они нас не тронули, было и вовсе уму непостижимо. Почему старый слон не убил нас той ночью? С какой целью звери преследовали нас до самого лагеря, не причиняя вреда? Признаться, я не находил никаких рациональных объяснений. Так стоит ли удивляться, что мои спутники, эти малограмотные люди, приняли случившееся за волшебство. Пытаясь отогнать от себя весь этот вздор, я невольно задумался о странном стечении обстоятельств, каковым неизменно сопровождалось наше долгое путешествие. Все в нем казалось нереальным и нелогичным, как во сне. В самом начале мы приготовились к отчаянной схватке, однако защищать собственные жизни с оружием в руках нам не пришлось. Разве что я застрелил одноглазого Гаику, который был ярым противником Кенеки и желал ему смерти. Приблизительно то же самое произошло и со слонами: мы отправились за добычей, но встретили огромное стадо животных и, ни разу не выстрелив, с позором удирали от них до самого лагеря. И таких случаев была масса, нет нужды углубляться сейчас в эту тему. С меня было довольно, и я решил расставить все точки над «i». Той же ночью я пошел к Кенеке и без обиняков заявил, что мои охотники утратили душевное равновесие, а я не могу бросить их в таком состоянии. Так что лучше нам распрощаться: он пойдет своей дорогой, а я и мои люди вернемся на побережье. Кенека крайне встревожился и принялся возражать, мягко указывая на опасности подобного решения. Но поскольку я оставался непреклонен, он резко заметил, что в таком случае я обрекаю нас всех на верную смерть. — Да ну? И от чьей же, интересно, руки? Уж не от твоей ли, Кенека? — Ни в коем случае, господин. Хотя ты и собираешься вероломно разорвать наше соглашение, ибо, позволь тебе напомнить, заранее получил от меня вознаграждение. — (Я уже сто раз пожалел, что по глупости взял от него вперед золото и слоновую кость.) — Но разве я смею поднять руку на своего спасителя, который рисковал ради меня жизнью? Пусть даже ему ничего и не угрожало. — О чем это ты толкуешь? Откуда ты знаешь, Кенека, угрожало мне что-либо или нет? — Как я сказал, так и есть, господин. Просто знаю, и все. Даже в той заброшенной шахте тебе и Хансу ничего не угрожало, хотя вы и опасались худшего. И когда на вас напали арабы, и когда вас преследовали слоны, тоже. Так будет вплоть до самого завершения нашего путешествия, но только при условии, что ты сдержишь свое обещание. Разве ты не поклялся в самом начале, что поможешь мне? — Да, Кенека, я дал обещание. Но не тебе, а несчастной женщине, которую никогда больше не увижу. — Незримые, а вернее, их сила по-прежнему с нами, господин, но, если ты не завершишь свою миссию, она покинет нас. Племена, встречавшие тебя приветливо, на обратном пути станут враждебными и в конце концов попросту убьют чужака. И твоя жизнь бесславно закончится раньше времени, господин. Это я тебе обещаю. — Вот спасибо! — воскликнул я, еле сдерживаясь. — Послушай, Кенека, ты постоянно твердишь о какой-то миссии. Будь добр, просвети меня. Моей единственной миссией было посетить некое озеро Моун, если только оно вообще существует, и удовлетворить собственное любопытство. Что ж, я передумал. У меня пропала охота путешествовать в те края. — Но ты должен отправиться туда, господин, равно как и я. Мы не можем противостоять силе, влекущей нас обоих. Не могу сказать, какова ее природа, но все мы, поступая хорошо или плохо, под влиянием неведомых сил движемся к определенной цели. В этом мы похожи на твою ослицу Донну: идем своей дорогой, порой охотно, порой чтобы удовлетворить свои нужды, а иногда и подчиняясь грубому давлению со стороны. Силы нам даются не ради нашего собственного удовольствия, а для выполнения некоей неведомой нам задачи. И у каждого она своя. Знаю, твои слуги, да и все остальные люди тоже, считают меня колдуном, и порой ты склонен с ними согласиться. Что ж, в каком-то смысле это правда. То есть через меня действует некая сила, вот только я не знаю, откуда она приходит. — Вряд ли это многое объясняет, Кенека. — Как можно уразуметь нечто, господин, не обладая должной мудростью? Только обретя мудрость, мы что-то поймем, но это случится лишь после нашей смерти. Всю жизнь мы трудимся, стремясь к совершенству, а когда умираем, понимаем, что мудрость есть небытие, или, если угодно, небытие есть мудрость. — О, перестань! — вскричал я в ярости. — Ты ходишь вокруг да около, так мы ни к чему не придем. Ты пытаешься запутать меня своими речами, а на самом деле тебе только того и надо, чтобы мы немедленно отправились с тобой на это несчастное озеро. — Среди прочего я хочу и этого тоже, господин. Если ты не доверяешь мне, то можешь отправиться за мудростью на звезды или поискать какой-либо иной источник, где она обитает. Тебе и твоему желтолицему слуге обещали безопасность и удачу; сознавать это, безусловно, приятно. Но оба этих блага ждут тебя лишь впереди, а позади маячит то, чего избегают все люди на свете, — по крайней мере, я так прочитал. — Да неужели, Кенека? А можно узнать, где именно сие написано? — Там, — ответил он и показал на небо, усыпанное звездами, хотя луна еще не вступила в свои права. Я уставился на его скорбное лицо с огромными круглыми глазищами. Разумеется, я не верил ни единому слову этого типа. Интересно, это ловкий обман или же он искренне заблуждается? В одном я был убежден: стоит мне пойти наперекор и бросить Кенеку, как пророчества его тут же исполнятся. Почему я так решил? Все очень просто. Кенека, как видно, пользовался авторитетом у туземцев. Ему не составит труда отправить во все стороны послания о том, что мы прошли или скоро пройдем по дороге. А оказавшись во власти дикарей, мы четверо запросто можем погибнуть. С другой стороны, если мы пойдем вместе с ним дальше, Кенека из тщеславия позаботится, чтобы его слова подтвердились и мы остались бы целыми и невредимыми. Позднее я вспомнил, что во время той беседы речь шла только о нас с Хансом. Он ничего не сказал о двух охотниках. В общем, после этого нашего разговора я пуще прежнего возненавидел Кенеку. Чутье подсказывало мне, что, как бы складны и вкрадчивы ни были его речи, душа у него лживая и добром все это не кончится.
Глава 9
КЕНЕКА РАСКРЫВАЕТ КАРТЫ
На следующее утро я рассказал о случившемся Тому и Джерри, заявив, что решил идти дальше с Кенекой, поскольку считаю, что так будет безопаснее, и беру с собой Ханса. Однако, если они пожелают вернуться, я дам им ружья, изрядную долю патронов и ослицу Донну, которая заменит носильщиков. По сути, я предложил им то же самое, что и задолго до того, как мы отправились на охоту, вернее, стали добычей слонов, только на сей раз объяснил все более подробно, ибо вполне могло статься, что после всего случившегося они вдруг передумали. Охотники посоветовались, и ответил, как обычно, более разговорчивый из них двоих, абиссинец Том: — Господин, побывав на том кургане посреди равнины и в лесу, полном слонов, которых как пить дать заколдовали, мы испытали самый сильный страх в жизни. Мы так напуганы, что, если бы не одно обстоятельство, давно нарушили бы данное обещание и вернулись к побережью, пусть даже и без всякой помощи. — И что же это за обстоятельство? — Мы покрыли себя позором, Макумазан. Мы испугались и побежали, забыв о долге, но это ещеполбеды. Хуже всего, что мы побросали ружья, которые мешали нам. Пусть люди Кенеки потом нашли их и вернули, но мы все равно покрыли себя несмываемым позором. — Не стоит так убиваться из-за этого, мы с Хансом тоже со всех ног кинулись наутек, — ответил я, стараясь пощадить их самолюбие. — Да и кто не побежит, когда стадо слонов мчится прямо на него? Только это одно нам всем и оставалось. — Верно, Макумазан, другого выхода не было, и вы тоже побежали. Однако ни ты, ни Ханс не расстались с оружием и не нарушили главную заповедь охотников… — Все это верно, Том, однако… — перебил я его, но он поспешил закончить свою мысль: — Вот я и говорю, что мы покрыли себя таким позором, что нам остается лишь повеситься или как-то иначе свести счеты с жизнью, но мы оба добрые христиане и не смеем так согрешить перед Господином, который главнее тебя. А раз мы не можем искупить бесчестие как дикари, то поступим иначе. Если пойдем с Кенекой, нас ждет верная смерть, ведь мы околдованы им, и, какова бы ни была ваша участь — твоя, господин, и Ханса, — мы с Джерри обречены. Что ж, так тому и быть. Пусть нам суждено умереть, но ты, по крайней мере, увидишь, что мы верные слуги, готовые отдать жизнь за своего господина. Надеюсь, тогда ты забудешь, как мы нарушили главный закон охотников и бросили ружья, позабыв о долге. Я был настолько поражен этой торжественной речью, что в глубине души даже задался вопросом: уж не рассчитывает ли Том получить таким образом толику горячительного из моих скудных запасов — для утешения, так сказать, своей оскорбленной гордости? — А ты что скажешь? — спросил я Джерри, пристально глядя на него. — О Макумазан, — ответил этот флегматик, — Дырчатый все верно говорит. Прежде у нас двоих была безупречная репутация, недаром ведь нас тебе рекомендовали, однако на деле оказалось, что мы трусливые шакалы. В решающую минуту мы бросили ружья, хотя и должны были до последнего защищать белого господина, который щедро заплатил нам за службу. Поэтому мы сейчас не отступим, пусть даже и обречены на верную смерть, но перед этим нам очень хотелось бы доказать — если, конечно, Всевышний будет к нам милостив, — что мы не жалкие шакалы, а отважные верные псы, или даже буйволы, или львы. — Какая чушь! — воскликнул я. — Вовсе ни к чему так сгущать краски. Я никогда не считал вас с Томом жалкими шакалами, ведь мне известно, как вы отважны и великодушны. Пожалуй, если бы я тоже догадался выбросить свое ружье, когда слоны следовали за мной по пятам, мне было бы легче бежать. Думаю, вам хватит ума отправиться с нами, а не возвращаться на побережье в одиночку. Я уже упоминал о возможных опасностях. Однако таковые подстерегают нас не только впереди, но и на обратном пути. Колдун Кенека или нет, однако в любом случае нам лучше с ним дружить, нежели ссориться. Поэтому отбросьте страх, позабудьте о суевериях, недостойных христиан, и смело идите вперед. — И, посчитав наш разговор законченным, я пожал охотникам руки, показав тем самым, что вовсе не сержусь на них, после чего отослал обоих прочь. Затем я попытался вкратце изложить Хансу суть нашей беседы, надеясь, что тот поможет мне разобраться, чего же все-таки так боятся эти двое. — О баас, — перебил готтентот, — нет смысла пересказывать мне, о чем вы толковали с этими двумя. Я и так все знаю, ибо сидел за кустом и слышал каждое слово. — Ты грязный шпион! — возмутился я. — Верно, баас, если хочешь выведать правду, порой приходится и запачкаться. Ну что тут скажешь? Дырчатый и Джерри, пожалуй, правы: на них лежит заклятье. В смысле, Человек-сова, порхая в ночи по небу, прочитал по звездам, что им суждено погибнуть — и охотники это знают. Но они смирились со смертью, которая ждет обоих в любом случае — не важно, пойдут ли они с нами или сами по себе. Что ж, если эти парни желают встретить свой последний час с песнями и ликованием, а не в печали и стыде, воображая себя львами вместо трусливых шакалов, так возьмите их с собой, баас, и больше не ломайте понапрасну голову. По мне, хоть я и привязался к этим двоим, пусть уж лучше погибнут они, а не мы. Так что не горюйте, баас, все идет своим чередом. — Убирайся прочь, бессердечная скотина, — сказал я, и Ханс ушел. На самом деле мой готтентот, хоть и любил поразглагольствовать, вовсе не был столь жестокосердным, и сам он прекрасно знал, что мне это известно. Весь его цинизм был напускным, и за ним скрывалось доброе сердце. Наконец мы продолжили путь, как и прежде, без происшествий. Кенека вел нас по неведомым мне местам многоликой Африки. Мелкие реки мы переходили вброд, а через глубокие и широкие воды нам помогали переправиться на плотах и каноэ дружелюбные туземцы. Пообщавшись с Кенекой, все местные жители мигом становились услужливыми. Однажды, не найдя поблизости ни людей, ни лодок, мы были вынуждены переплыть реку. Я с ужасом ожидал нападения крокодилов. Однако то ли хищники там не водились, то ли они любезно оставили нас в покое, но только на берег мы выбрались целыми и невредимыми. Миновав последнюю реку, мы два дня брели по густому лесу. На второй день, ближе к полудню, лес поредел и сменился бушем — равниной, вернее, бесплодной землей с тщедушными деревцами. Палило нещадно, кругом попадались всевозможные дикие животные, сплошь искусанные мухами цеце, которыми их шкуры буквально кишели. Эти насекомые безвредны для человека, если не считать раздражения от укуса. Поскольку лошадей и скота у нас не было, мы поначалу не встревожились. До сих пор я полагал, что ослы, как и люди, не восприимчивы к яду этих насекомых. Вскоре, увы, мне довелось убедиться в обратном. Как уже упоминалось, у нас имелась ослица по имени Донна, на которой я ехал верхом, так как идти по жаре пешком весьма утомительно. И вот, почувствовав через некоторое время, что Донна слабеет и спотыкается на каждом шагу, я наконец спешился, решив, что животное просто устало. Испытав облегчение, ослица пошла более резво и без понуканий, преданно следуя за мной и Хансом, которого особенно любила, поскольку он давал ей лакомства, как собаке. Однако, когда мы остановились на ночлег, Донна отказалась от еды и пошатывалась, нетвердо держась на копытах. Тут уж я понял, в чем дело. Возможно, бедняжка уже давно заразилась ядом цеце, а теперь ее состояние ухудшилось: дождь, как здесь частенько случается, лишь усугубил ситуацию. К сожалению, ничего поделать было нельзя, ибо противоядия в данном случае не существует. Поэтому мы легли спать. Посреди ночи я проснулся оттого, что кто-то толкнул меня. Поначалу я перепугался, вообразив, что на нас напал лев или иной хищник. Но оказалось, что это Донна пробралась сквозь построенную нами ограду, залезла в палатку, открытую по случаю жары, и тыкалась в меня носом, пытаясь привлечь внимание хозяина и прося о помощи. Мне ничего не оставалось, как вывести ее из палатки и предложить воды. Пить ослица не стала. Я порывался уйти, но всякий раз она пыталась идти за мной. Бедняжка слабела с каждой минутой, пока не упала без сил. Я сел рядом, и вдруг Донна перевернулась и — случайно или намеренно — положила голову ко мне на колени и испустила дух. Я так подробно рассказываю об этом, потому что, за исключением пса по кличке Стамп, который был у меня в юности, Донна оказалась самым трогательным и ласковым животным из всех, каких мне только довелось встречать. Если существует другая жизнь для нас, людей, то создания, способные на такую преданность, тем более заслуживают ее. Во всяком случае, лично я желал бы попасть на небеса, которые устроены именно таким образом. Все было кончено, я вернулся в свою палатку и постарался заснуть. На рассвете меня разбудил чей-то плач. Я поднялся, выглянул из-за ограды и в сумерках разглядел — кого бы вы думали? — Ханса! Он, обычно притворявшийся бездушным и черствым, сидел на земле, рыдал буквально навзрыд и целовал бедную Донну в морду. Я вернулся в постель, дожидаясь, когда готтентот, по обыкновению, принесет мне утренний кофе. — Баас, — сказал он весело, — а у меня хорошая новость. Мухи цеце прикончили Донну. — Что же тут хорошего? — О баас, Человек-сова говорил, что нам предстоит подъем в горы, а Донне бы туда нипочем не взобраться. На днях он заявил, что нам придется сделать выбор: либо пристрелить ослицу, либо оставить ее на съедение львам. Так что бедняжку ждала незавидная участь. Да к тому же она слабела с каждым днем и стала совершенно бесполезна. Поэтому я рад, что она умерла и мне больше не придется ее кормить. — Да, Ханс, я видел через ограду, как ты только что сиял от радости, совсем как наконечники копий наших носильщиков. Готтентот поспешно оставил кофе и удалился в сильном смущении. Позже, вспоминая об этой истории, он заявил, что ему не по нраву подобная слежка, и объяснил, что вел себя так глупо исключительно потому, что у него в то утро внезапно прихватило живот. Надо сказать, что обоих охотников весьма опечалил этот случай. Не то чтобы Том и Джерри были так уж привязаны к Донне. Просто они считали, что удача отвернулась от нас и теперь смерть, подобно голодному льву, вкусив плоти зверя, возжаждет человечьей. Как ни печально, они оказались правы: удача и впрямь изменила нам. Смерть бедной Донны положила конец безмятежному путешествию. Через несколько дней перед нами выросли горы, которые давно уже маячили вдалеке. Если не ошибаюсь, они называются Руга. С наступлением темноты их вершины казались средоточием какого-то загадочного голубоватого сияния. Здесь нам и в самом деле пришлось бы расстаться с Донной, живой или мертвой. Подъем оказался довольно крутым. Кабы бы не Кенека, который знал безопасный путь, нам бы нипочем не взобраться на вершину. Пропасти, разверзшиеся в горных террасах, приходилось обходить, ибо преодолеть их не представлялось никакой возможности. Вряд ли можно назвать путь, по которому мы шли, тропой: прежде здесь явно не ступала нога человека. Дня три или четыре мы карабкались вдоль подножия массивных голых скал, выискивая расселины, в которые можно свернуть. Выбиваясь из сил, мы взбирались все выше в промозглой ночи; снег здесь не лежал, зато воздух был разреженный и какой-то колючий. Наконец мы достигли столообразной вершины. Такие формы не редкость в Африке. Желал бы я знать, чем вызван подобный феномен? Возможно, ледник срезал гребни гор еще в незапамятные времена? Скажем, несколько сотен миллионов лет тому назад. Наступила ночь, и разглядеть что-либо вокруг не представлялось возможным, особенно в густом тумане, который прозвали «скатертью». Он часто нависает над этими столообразными горами, заволакивая окрестности. На рассвете Ханс разбудил меня и объявил, что Кенека желает со мной поговорить. Я поворчал, натянул всю одежду, какая только была, закутался в одеяло и сверху еще набросил старую накидку из шкур выдры, которую обычно стелю на свою раскладную койку. Холод был просто собачий, или же так только казалось после жаркой низменности, наводненной целыми тучами мух цеце. Кенека сидел на камне у самого края плато. Он встал и улыбнулся, как обычно: — Долго спишь, господин. После полуночи туман растаял или его унесло ветром. Звезды сверкали необычайно красиво и ярко. Небо было таким ясным, что мне удалось прочесть то, что до сей поры оставалось в тайне. — Неужели? — воскликнул я. — Надеюсь, ты прочел по звездам, когда мы выберемся из этой холодрыги? Меня пробирает аж до костей. — Да, господин, обещаю, что скоро тебе будет жарко. Слушай, — продолжал он изменившимся голосом, — пришло время рассказать тебе кое-что о моей стране и поведать, что ждет нас впереди. Смотри! Солнце встает на востоке. Великолепное зрелище, не правда ли? Я кивнул. Это и впрямь было очень красиво. Утренние лучи озаряли обширную равнину, лежавшую далеко под нами, а посреди нее расположились кольцом другие горы. Или, возможно, это была одна большая гора, разглядеть с такого расстояния не представлялось возможным. — Смотри, — продолжал Кенека, указывая в этом направлении, — вон за тем утесом живет мой народ, дабанда, и там же находится священное озеро Моун. Отсюда все кажется маленьким, но в действительности это не так. Самый быстрый бегун может бежать из конца в конец целый день и все равно не успеет пересечь нашу землю. — Вы живете в долине? — Нет, господин, скорее, в чаше одной или нескольких великих огненных гор, некогда извергшихся. Наша земля лежит в громадной впадине с отвесными стенами, по которым невозможно взобраться. С внутренней стороны склоны поросли лесом до самого подножия. Деревья обрамляют священное озеро. — А как велико это озеро, Кенека? — Не знаю, но если бы человек мог ходить по воде, ему бы понадобилось немало времени: два часа, чтобы добраться до острова посреди озера; один час, дабы пройти весь остров; и еще два, чтобы оказаться на другом берегу. — Многовато у вас воды, Кенека. Должно быть, там, между скал, лежит весьма обширное пространство. Твой народ так же велик? — Нет, господин. Наберется лишь пятьсот взрослых мужчин, способных держать в руках оружие. Дабанда сильны своей святостью, и не только этим. — Чем же еще? — Разве я не рассказывал тебе о богине, живущей в моей стране? — спросил он шепотом. — О божественной Энгои, что зовется Тенью? — Да, что-то такое припоминаю. Но, признаться, я тогда не поверил ни единому твоему слову. — Ты отчасти прав, господин Макумазан. В моей истории истина перемешана с ложью, каковую я приплел ради собственной выгоды. К примеру, я солгал о том, что Энгои ждет белого человека. То была всего лишь приманка, которую я положил в ловушку, ибо иначе бы ты отказался идти со мной. Так мне велели, уж не знаю почему. — Кто велел? — Это тайна, господин. Я подумал о погибшей Белой Мыши, но не стал развивать эту тему. — А в каком смысле твоя ложь была приманкой? — Просто твой слуга, о господин, говорил кому-то, и это дошло до меня, что ты преклоняешься перед красотой, особенно перед красивыми женщинами. Дескать, они влюбляются в тебя с первого взгляда. Теперь ты понимаешь, зачем я выдумал историю о прекрасной женщине, которая ждет белого мужчину. Ты возомнил себя этим мужчиной и отправился в путь вместе со мной. Ты не сомневался, что та, которая зовется Тенью, падет к твоим ногам, покроет их поцелуями и избавит тебя от вины перед другими прекрасными женщинами, которых ты бросаешь, как только пресытишься ими. Так сказал твой желтолицый слуга. Я чуть не взорвался от гнева, слушая, сколь бесстрастно он плетет несусветную чушь. Если бы Ханс, этот гадкий мелкий врунишка, был сейчас рядом, ему не поздоровилось бы. Я так разозлился, слушая бредни Кенеки, что чуть не накинулся на собеседника. Поразмыслив, однако, я решил воздержаться от рукоприкладства. Во-первых, Кенека был выше и сильнее меня; во-вторых, я хотел раскрыть тайну до конца. — Хитро придумано, Кенека, но все-таки ты глупец, коли поверил Хансу, еще большему вралю, чем ты сам. Я считаю последним делом волочиться за женщинами, будь они самыми что ни на есть раскрасавицами. По мне, так уж лучше охотиться на слонов. Но хватит об этом. Скажи лучше, была ли в твоей истории хоть крупица правды? — Да, господин, там довольно много правды. Наша богиня, что зовется Тенью, та, в которую верим не только мы, распоряжается дарами небес. Вызывает дождь или засуху, делает женщин плодовитыми или бесплодными и творит еще много всего, принося людям радость или несчастье. Сам я видел богиню лишь однажды, если ты помнишь. — Богиню? Хочешь сказать, что она бессмертна? — Нет, господин, бессмертна лишь ее сила, которая неизменно переходит из поколения в поколение. Выполнив свою миссию, Энгои умирает сама, или же ее убивают. — А в чем заключается ее миссия? — Когда богиня достигает зрелости, господин, то вождь моего племени дабанда, он же его верховный жрец, женится на ней, и в свой срок у пары рождается девочка. Вполне возможно, что у них рождаются также и мальчики, но поскольку о них никто не слышал, наверное, сыновей сразу лишают жизни. Когда вырастает дочь, та, что станет Энгои, ее мать, та, что была Энгои, исчезает. — Исчезает? Как это — исчезает? — Не знаю, господин. Одни говорят, что Тень якобы отправляется на небеса, другие верят, что она, зовущаяся также Сокровищем озера, ныряет в воду и пропадает на глубине. Третьи утверждают, будто бы девы, которые прислуживают Энгои, отравляют ее ароматом каких-то особых цветов, произрастающих на острове. Как бы то ни было, она умирает, и дочь, новая Энгои, занимает ее место и в свою очередь становится женой верховного жреца, вождя народа дабанда. — Что? — вскричал я в ужасе. — Не хочешь ли ты сказать, что вождь женится на собственной дочери? — О нет, господин, вождь никогда не переживает Тень. Ее супруг знает, когда она должна исчезнуть, и делает то же самое вместе с нею или даже раньше. — И как же он, интересно, исчезает? — Вождь сам это решает, господин. Чаще всего, ища славы, сражается с нашими врагами из племени абанда. Он должен преследовать их в одиночку, пока не будет повержен. Иногда вождь выбирает иной способ достигнуть цели. Если он колеблется, его просто хватают и сжигают заживо. В конце концов не имеет значения, как это произойдет. — Бог мой! — воскликнул я. — Странно, что при таком раскладе эта ваша богиня вообще находит себе мужа! — Ничего странного, господин, — надменно произнес Кенека. — Женитьба на Энгои — величайшая честь, которой только может удостоиться мужчина. И потом, он ведь верит, что, когда его земная жизнь прервется, они вместе обретут счастье на небесах. Да, они станут двумя звездами и будут потом целую вечность дарить людям свет. Вот почему, перед тем как жениться на Энгои, вождь назначает своего любимого сына мужем будущей Тени. Кенека помолчал и продолжил: — Так вышло, что, когда я был маленьким, вождь, сводный брат моей матери, провозгласил меня мужем нынешней Энгои. Однако я совершил тяжкое преступление: проник в священный лес в надежде взглянуть на Энгои, о красоте которой был наслышан. Тогда та, что должна была стать моей женой, еще не родилась, я говорю о ее предшественнице. Я сполна расплатился за свой грех и был изгнан из родной земли. Теперь я вернулся, дабы стать мужем новой Энгои. Такова предначертанная мне свыше славная судьба. — О, теперь я все понял. Что ж, Кенека, каждому свое. Откровенно говоря, я рад, что это не мне предназначено жениться на Энгои, Тени, Сокровище озера или как бишь ее там. — О, сколь велика разница между нами, Макумазан! Для вас, белых людей, это мало что значит, для нас же — величайшая честь, выпавшая простому смертному. Верно, в конце концов избранника Энгои ждет смерть. Но что с того, если такова участь всех живущих на земле и рано или поздно каждый из нас умрет? Да, вот еще что: мужчина, которому предназначено стать супругом Энгои, не должен смотреть на других женщин. Тут я не преминул вставить замечание: — Но ведь ты сам рассказывал мне, как горько оплакивал некую даму, которая помогла тебе стать вождем арабов. И упоминал о других своих женах, живущих за оградой твоего дома. — Очень может быть, господин. Признаться, я наплел тебе много всякого вздора. Например, что ребенок, рожая которого умерла та женщина, был моим. Или что у меня множество жен, которых я, не желая, чтобы мне досаждали пустой болтовней, поселил отдельно. Так знай же: на самом деле у меня не было ни одной жены, за это я и прослыл среди арабов колдуном. Но какое дело мужчине до других женщин, если ему суждено стать супругом Энгои, да-да, самой Тени? Пускай даже их союз продлится всего лишь год или час. — Да уж, — хмыкнул я. И уточнил: — А что, если, когда эти двое впервые увидятся, она ему не понравится? Или вдруг эта самая Тень не влюбится в того, кто предназначен ей в супруги, решив отдать свое сердце кому-нибудь другому? — Подобное заблуждение простительно белому человеку, господин Макумазан, в противном случае я посчитал бы эти слова оскорблением или даже богохульством. Такого, чтобы Энгои не понравилась избраннику, попросту быть не может. Даже если она внешне безобразна, он будет обожать ее за прекрасную душу. А со временем полюбит жену еще сильнее, поскольку на земле не найдется женщины прекраснее ее. Энгои подобна звезде, излучающей дивный свет и увенчанной мудростью, которая нисходит свыше. — Действительно, что тут скажешь. Но тогда объясни, с какой стати обожающий Энгои народ избавляется от такой божественной и мудрой красавицы, когда подрастает ее дочь? — Что касается второго твоего предположения, Макумазан, — продолжал Кенека, проигнорировав этот мой вопрос (видимо, он счел его неуважительным или же не относящимся к делу), — насчет того, что Энгои вдруг полюбит кого-то другого, то это и вовсе невозможно. Она попросту никогда не встречается с другими мужчинами. — О, теперь понятно. Это все объясняет. В том числе и твое изгнание. Проще простого доставить удовольствие женщине, которая, кроме своего суженого, в глаза не видела ни одного мужчины, будь она хоть трижды богиня. — Господин Макумазан, — ответил оскорбленный Кенека, — сдается мне, что ты глумишься надо мною и над моей верой. — Точно так же ты сам поступал с мусульманами, — спокойно парировал я. — Я вижу к тому же, что ты мне не веришь. — Ты, между прочим, признался, что лгал мне и раньше. Кенека махнул рукой, словно все это были пустяки: — Знай же, что я поведал тебе сущую правду о божественной Энгои, Тени, или Сокровище озера, и о ее муже, которого называют Щит Тени. Тебе следовало бы догадаться, что именно я стал избранником судьбы, ведь я уже упоминал, что среди прочих даров небес возлюбленный Энгои еще до женитьбы получает силу управлять дикими животными и людьми. Что ты скажешь о льве, которого я прогнал с дороги? Или о тех людях, которых я позвал на помощь, когда на вас напали арабы? Вспомни, наконец, о слонах, устроивших на вас охоту, когда вы решили пострелять их. Едва завидев меня, животные мигом прекратили преследование. — Все это очень интересно, — отозвался я. — Но меня больше волнует другой вопрос. Скажи, а для чего тебе понадобилось, чтобы я непременно стал твоим попутчиком в этом таинственном деле? — Потому что, господин Макумазан, мне было велено так поступить. Зачем это нужно, того я пока и сам не ведаю. Тебе, вне всяких сомнений, суждено послужить Энгои, оказав услугу мне. Я также знаю о будущей великой войне между моим племенем дабанда и народом абанда. Враги наши исчисляются тысячами и обитают на дальнем склоне вон той горы. О, эти люди издавна лелеют мечту женить своего вождя на Тени. Это принесло бы им защиту от засухи и вообще всяческое процветание и благоденствие. В этой войне твоя слава великого полководца и твои навыки обращения с винтовкой, в коих я уже успел убедиться, оказались бы очень полезны. — Мои навыки? А, понятно, ты имеешь в виду, что я освободил тебя из плена и застрелил злобного Гаику. Что ж, может, я тебе пригожусь, а может, и нет. Кто же знает наперед? Я благодарен тебе за увлекательный рассказ, возможно, кое в чем ты и не соврал. Ну а теперь я пойду завтракать. Так что до встречи. И я откланялся. Если раньше я недолюбливал этого человека, то теперь Кенека стал мне просто отвратителен. В нем, на мой взгляд, самым неприятным образом соединялось множество пороков: он был лжив, корыстен, эгоистичен, донельзя суеверен и любил похвастаться. Однако поскольку я опрометчиво взял оплату вперед, то был вынужден служить ему, а заодно и этой его распрекрасной Энгои, которая звалась также Тенью и Сокровищем озера. Оставалось лишь надеяться, что эта женщина все-таки лучше, чем сам Кенека, если только она вообще не является выдумкой.Глава 10
СТРАННИК
Вечером того же дня мы достигли равнины у подножия горы и двинулись через пустыню. Я нарочно употребил подобный термин, ибо, покинув предгорья, богатые влагой, мы вступили в невероятно засушливую область, где дождь выпадал крайне редко. Из растительности здесь имелись исключительно кактусы, запасающие влагу в серых или зеленых колючках. Встречались довольно крупные экземпляры: толстые, высокие (размером со среднее дерево) и, надо полагать, очень старые. Одни походили на канделябры (листья у них полностью отсутствовали) или на руки с перстами, указующими в небеса, другие — на круглые зеленые комочки всевозможных размеров, от футбольного мяча до игольницы. Двигаться среди них становилось все труднее и даже опаснее, ведь в колючках мог содержаться яд. Верхушки многих кактусов венчали цветы фантастической красоты, большие и маленькие, самых ярких оттенков. Еще одной особенностью этой странной пустынной местности были обнажения горных пород: кое-где встречались каменные колонны, похожие на обелиски, и цельные массивы, но чаще всего попадались круглые булыжники, обточенные водой и покоящиеся друг на дружке. Ума не приложу, как они здесь очутились. Вот уж задачка для геологов. Возможно, много лет назад из некоей обширной области, где ныне вулканы уже не активны, наводнением смыло сюда застывшую лаву. Целых три дня мы шагали по этой удивительной стране, причем на вторые сутки показался маленький оазис с родником, чему я несказанно обрадовался, ведь наши фляги опустели и мы умирали от жажды. Надо сказать, что продвигались мы довольно бойко. Двух-трех носильщиков освободили от груза; они передали его своим товарищам и ушли на целых пятьсот ярдов вперед. Стало быть, как заметил Ханс, эти ребята прекрасно знают дорогу и их послали разведать, не ждут ли нас какие сюрпризы. Кенека шел в окружении носильщиков, служащих ему охраной, затем следовали мы с Хансом, а в хвосте плелись двое наших охотников. — Я почти готов поверить, баас, что в словах Кенеки есть правда. Хоть эти парни, знающие дорогу, и держат язык за зубами, они наверняка принадлежат к его народу, а еще они опасаются нападения. Потому они так напуганы и столь рьяно продираются сквозь эти колючки. — Откуда ты знаешь, что сказал мне Кенека? Небось прятался за камнем и подслушивал? — сурово спросил я, однако ответа так и не дождался: Ханс укололся о кактус (или только сделал вид) и задержался, чтобы вытащить из ноги шип. Перехожу к вечеру третьего дня. С головы до ног ободранные кактусами, мы подошли к подножию западного склона громадной горы, бывшей, по словам Кенеки, потухшим вулканом. Близ кратера этого самого вулкана и обитали его соплеменники дабанда. До заката оставался еще целый час, мы изнывали от жары и буквально умирали от жажды, но крепились, стремясь поскорее дойти до назначенного Кенекой места для привала, где есть родник. Он хотел добраться туда до наступления темноты, ведь ночи стояли безлунные. Так что нам волей-неволей приходилось плестись дальше. Вдруг Ханс, который шел рядом, пихнул меня в бок и воскликнул по-голландски: — Kek! (То есть «Смотри!») Я взглянул туда, куда указывал готтентот, и заметил нечто настолько странное, что в первую минуту даже подумал, будто мне это почудилось. На склоне низкой гряды горного массива, там, где начиналась равнина, внезапно появился мужчина. Он был измучен и шел, вернее, ковылял вперед, продвигаясь короткими перебежками и поминутно останавливаясь, чтобы перевести дух. Вот и все, что я разглядел невооруженным глазом, пока не надел очки, которые всегда при мне. Этот человек оказался белым! Ошибки быть не могло, его одежды, порванные на плечах, открывали невероятно бледную кожу. Кроме того, он был рыжеволосый, почти блондин, и рыжебородый. Ростом и комплекцией незнакомец также превосходил любого африканца. В следующий миг на полосе земли сзади него появилась группа чернокожих туземцев, вооруженных копьями. Они явно охотились за белым человеком. Убрав очки в карман, я велел Тому и Джерри подать мой винчестер. Охотники таскали его вместе со своими винтовками, тогда как тяжелые ружья и боеприпасы оставались на попечении носильщиков. Они тут же повиновались, прихватив заодно сумку с патронами. — За мной! — скомандовал я им и Хансу, и мы вчетвером устремились вперед, опережая носильщиков. Изможденный незнакомец находился приблизительно в пятидесяти шагах от нас, а его преследователи — всего в шести от него. Туземцы начали метать копья, явно желая убить бедолагу, прежде чем тот доберется до нас. По моей команде мы открыли огонь и волею судеб поразили тех, кто едва не достиг своей цели. Под градом наших выстрелов злодеи отступили. Белый мужчина наконец достиг нас целым и невредимым и тут же обессиленно рухнул на землю. — Бог мой! Неужто вы европеец? — проговорил он, задыхаясь. — Дайте мне ружье! Я не стал рисковать, ведь у меня не оказалось запасного оружия, да и потом, вряд ли бедняга был сейчас в состоянии удержать его. А тем временем из-за хребта показалось человек тридцать или сорок копьеносцев — высоких и крепких. Наши носильщики побросали груз и с большим рвением включились в игру, издавая боевой клич: «Энгои! Энгои!» Мы пустили в ход дальнобойные винтовки. В считаные минуты добрая половина нападавших была повержена, а остальные пустились наутек обратно через хребет. С нашей стороны пострадал лишь один человек, которого ранили копьем в плечо. Враги отступали, преследуемые нашими загадочными проводниками, из мирных носильщиков вдруг превратившихся в свирепых, словно тигры, воинов, которые, несмотря на усталость, ринулись в бой не хуже, чем зулусы. Столь разительная перемена изумила меня и Ханса. — Взгляните-ка на этих малых, баас, — сказал мой слуга. — Похоже, они сражались не с чужаками, а с заклятыми врагами, ненависть к которым впитали с молоком матери. Обратите внимание на Кенеку: от злости наш приятель ощетинился, как дикобраз. — (И верно, его волосы и борода встали дыбом, а обыкновенно сонные глаза сейчас метали молнии.) — Разве ты не видел, как он расправился с тем здоровяком, которого ты упустил? — (Тут готтентот солгал: я вовсе не стрелял в этого туземца.) — Когда тот запустил ножом в бааса, Человек-сова вырвал из его рук копье и заколол наглеца. Должно быть, нападавшие принадлежали к племени абанда, которых, как мы знаем, дабанда просто ненавидят. — В таком случае, — заметил я, — наши носильщики — сородичи Кенеки, люди одной с ним крови. Тут я хватился белого незнакомца, о котором в этой суматохе совсем позабыл, и отправился на его поиски. Он сидел на земле и опустошал бутылку с водой, которую дал ему Джерри. — Все-таки в гороскопах что-то есть, — произнес он, пытаясь отдышаться. — Какие, к дьяволу, гороскопы? — спросил я, решив, что бедняга совсем спятил. — О чем это вы толкуете? — Видите ли, мой отец был буквально помешан на астрологии. Представьте, он даже заблаговременно вычислил дату моего рождения. Однажды батюшка предсказал, что я встречу в пустыне белого человека, который спасет меня от кровожадных дикарей. — Неужели? — Я решил сменить тему. — А позвольте узнать ваше имя? — Джон Таурус[413] Аркл. Я, видите ли, родился под знаком Тельца, потому батюшка и дал мне такое имя. Друзья называют меня Быком, — добавил он со смущенной улыбкой. Мысли этого парня явно блуждали где-то далеко. Тут он закрыл глаза и начал терять сознание. Пришлось приводить его в чувство при помощи моих скудных запасов спиртного. Глядя на этого человека, я призадумался. Манера речи выдавала в моем новом знакомом англичанина из хорошей семьи. Прозвище Бык очень ему подходило, хотя если бы этот самый Джон Аркл родился под созвездием Льва (или как оно там правильно называется), то, пожалуй, такое имя соответствовало бы ему даже больше. Правду сказать, в нем было что-то от обоих этих животных. Массивный торс, крепкие ноги и крутой лоб напоминали быка, а золотистого оттенка борода и косматые волосы, ниспадавшие с плеч, смахивали на гриву. В глазах, озаряемых солнечным светом, прыгали золотые искорки, как водится у львов, что делало его похожим на царя зверей. Пожалуй, никто не назвал бы этого парня красавцем, однако редко встретишь людей с такой яркой внешностью, как у него. Арклу было, судя по всему, около тридцати лет. Меня разбирало любопытство: интересно, как он оказался в этих диких краях? Ведь я, по словам Кенеки, был единственным белым человеком, ступившим на землю их племени. Джин сделал свое дело, и вскоре Джон Таурус Аркл (престранное имя!) понемногу пришел в себя. Когда он был еще без сознания, Кенека подошел к нам с копьем убитого им воина и уставился на незнакомца, встревоженно и злобно. — Ничего страшного, — заметил я, — обычный обморок. Он скоро оклемается. — Правда, господин? — отозвался Кенека, глядя на Аркла с явным неодобрением и даже неприязнью. — А я-то надеялся, что он умер. — И почему, скажи на милость? — Этот человек навлечет на нас несчастья. Увы, опасения мои подтвердились. — И чего же именно ты опасался? — О, звезды поведали мне об этом человеке. Я знал, что мы найдем его труп. «Как же ты мне надоел со своими звездами», — подумал я. А вслух произнес: — Что ж, Кенека, видно, ты понял их не совсем правильно, ведь этот парень жив. И учти: я не дам его в обиду. А о каких несчастьях ты толковал? — Да вот о каких, — ответил Кенека, обводя рукой с копьем бездыханные тела. — Разве беда уже не пришла? Так знай же: один из убитых перед смертью рассказал мне об этом белом человеке. Он пробирался через горный хребет в землю моего народа дабанда. Абанда прогнали его и преследовали, чтобы убить, как поступают со всеми чужаками. Но он оказался выносливым и быстроногим и сбежал от них. И вот представь, в самый последний момент, когда абанда его уже почти поймали — так дикие собаки загоняют выбившегося из сил зверя, — вдруг появляемся мы, и случается то, что предначертано свыше. — Все это так, — кивнул я, — но меня больше волнует будущее. Похоже, ни дабанда, ни абанда не жалуют этого белого господина, который впредь станет нашим спутником. — Так зачем ему оставаться с нами, Макумазан? Посмотри, этот человек сейчас без сознания. Всего один удар по голове, и он уже никогда не очнется. А если мы возьмем его с собой, отправившись к народу, который на него обижен, уж не знаю за что, тогда и нам тоже несдобровать. С рассеянным видом я достал из-за пояса револьвер и стал возиться с ним, словно желая проверить, заряжено ли оружие. — Вот что, Кенека, давай-ка проясним этот вопрос. Ты даешь мне понять, что в угоду тебе я должен убить — или позволить убить — моего соотечественника, сбежавшего от твоих соплеменников и прочих дикарей, которые напали на него по неведомой причине. Похоже, ты не понимаешь, как важен для меня этот белый человек. Так я тебе сейчас объясню. — Я резко вскинул револьвер и приблизил дуло к его глазам. — Скажи, друг мой, кого призывают в свидетели люди твоего народа, когда дают нерушимую клятву? — Мы клянемся именем Энгои, господин, — ответил он дрожащим голосом. — Того, кто нарушит такую клятву, ждет смерть — и даже кое-что пострашнее смерти. — Прекрасно. Тогда поклянись мне именем Энгои, что не причинишь никакого зла этому белому господину. — А если я откажусь? — спросил он угрюмо. — В этом случае, Кенека, я дам тебе время передумать, пока считаю до пятидесяти. Если ты и тогда откажешься или промолчишь, я пущу тебе пулю в лоб. Пришло время, друг мой, решить, кто тут главный. — Если ты застрелишь меня, Макумазан, то мои люди убьют тебя. — Как бы не так! Или ты позабыл, Кенека, что некая дама по имени Белая Мышь пообещала мне — а я склонен верить ее пророчеству, — что я вернусь из этого путешествия целым и невредимым. Не забивай себе понапрасну голову, после твоей смерти я сам позабочусь о собственной безопасности. Итак, начинаю отсчет. И я стал считать, сделав паузы на «десяти» и «двадцати». На третьем десятке пальцы Кенеки судорожно сжали копье, которым он убивал абанда. — Будь любезен, оставь в покое копье, или я выстрелю прямо сейчас. Он разжал пальцы, и оружие упало на землю. Досчитав до сорока, я снова помедлил и заметил, что время не ждет, хотя Кенека, возможно, прав, уповая на звезды, которым поклоняется, ибо вскоре вполне может оказаться на одной из них, покинув сей земной мир, преисполненный скорби. На счет «сорок пять» я поднял пистолет чуть повыше его носа. — Сорок шесть, сорок семь, сорок восемь… — продолжил я и начал давить на спусковой крючок. Тут Кенека сдался и упал на колени, целуя землю у моих ног, как обычно поступают на Востоке. От неожиданности я выстрелил, и пуля просвистела у него над головой. — Боже мой! — воскликнул я. — Твое счастье, приятель, что ты решил образумиться! Этот пистолет срабатывает быстрее, чем я думал, а может, он просто на жаре стал скользким. Так, стало быть, ты клянешься? — Да, господин, — прохрипел он. — Я клянусь именем Энгои, что не причиню вреда этому белому человеку и не навлеку на него беды. Однако эта моя клятва, Макумазан, означает нечто гораздо большее. Отныне не ты, а я должен служить тебе как своему победителю. — Что ж, это весьма неплохо, — бодро отозвался я. — А теперь услуга за услугу: я готов отказаться от права победителя, взять с собой этого белого незнакомца, если он захочет, и предоставить тебе идти своей дорогой, а я, Ханс и мои охотники пойдем своей. Только обещай не преследовать меня и не досаждать каким-либо способом. Ну что, по рукам? — Нет, господин, сие невозможно: ты должен проводить меня к озеру Моун. — Что ж, пусть будет по-твоему, Кенека. Тогда объясни мне дорогу, ибо отныне руководить нашей экспедицией буду я. Но учти: если ты ослушаешься, обманешь меня или попытаешься навредить белому господину, я доведу начатый счет до конца. Договорились? — Да, господин, — ответил он смиренно. — Взгляни вон туда. — Он указал на скалы всего в какой-нибудь сотне ярдов впереди, где росли могучие деревья. Пейзаж сей буквально подавлял своим величием. — Там мы найдем источник воды, господин. Надо поскорее добраться туда, ведь наши запасы на исходе. Белый человек выпил все, что у нас осталось, а скоро совсем стемнеет и идти будет невозможно. — Отлично! Отправляйся вперед со своими людьми, и разбейте там лагерь. Мы же с белым путешественником прибудем чуть позже, как только он сможет ходить. Потом все обсудим. Кенека посмотрел на меня с сомнением. Наверняка он гадал, уж не хочу ли я от него избавиться. А потом, наверное, решил, что без воды и с хромым спутником на руках мне будет весьма затруднительно сбежать. Как бы там ни было, он пошел собирать своих людей, и я видел, как они бредут с грузом в сторону скал, поросших могучими деревьями. На всякий случай я послал Ханса проследить за ними, наказав готтентоту выяснить, есть ли там вода и готовят ли они ночлег, после чего немедленно вернуться и обо всем мне доложить. По правде сказать, я не был до конца уверен в Кенеке. Возможно, он намеревался улизнуть под покровом ночи, оставив нас на произвол судьбы посреди пустыни. Я не стал бы особо расстраиваться по этому поводу, не унеси он и его люди все боеприпасы и часть моих винтовок, а также продовольствие. Откровенно говоря, я не желал больше видеть Кенеку, который впутал меня в сие довольно сомнительное предприятие. Однако осознавал, что мне, похоже, вряд ли удастся отделаться от этого типа, а потому придется пойти на риск: ну что ж, это будет не первая и не последняя авантюра в моей жизни. Расставшись с Хансом, я вернулся к своему новому знакомцу, лежащему на земле за камнями. К счастью, он уже оклемался и теперь сидел, удивленно оглядываясь по сторонам. — Кто вы такой? И где это я очутился? Похоже, тут был бой? Можно мне воды? — Одну минуту, мистер Аркл. Надеюсь, скоро вода у нас появится. — (Отправляя Ханса на разведку, я велел ему наполнить бутылку.) — Да, бой и впрямь был. По милости Божией нам удалось спасти вас. Позже вы поведаете мне о своих приключениях, хорошо? Он кивнул и настороженно вгляделся в мое лицо, невольно напомнив мне охотничью собаку, сделавшую стойку. Видимо, Аркл еще не до конца пришел в себя, а потому, не замечая, что говорит вслух, произнес довольно грубовато: — Что за странный малый? Лохматый, будто пудель, и кожа словно пергамент, но светлая. И волосы прямые, а не кудрявые. Никак европеец? На этот раз тебе повезло, Джон Аркл… Да и пора бы уж… Решив не обращать внимания на его бред, я пошел переговорить с Томом и Джерри, которые стояли рядом и перешептывались. Меня интересовало, сколько патронов охотники истратили в бою. В свою очередь я как мог удовлетворил их любопытство. Когда начало смеркаться, вернулся Ханс. — Все в порядке, баас. Там хороший источник, и Человек-сова уже разбил лагерь на его берегу. А вот и вода. Я взял бутылку и передал Арклу. Он жадно схватил ее, но потом опомнился и протянул мне. — Вы, безусловно, тоже хотите воды, сэр, — сказал он учтиво, приятным голосом. — Прошу вас, пейте первым. Я сразу понял, что имею дело с джентльменом. У меня и впрямь пересохло во рту от жажды. Но, не желая уступать, я заставил его сделать первый глоток. Затем я напился сам и дал немного Тому и Джерри. Вода быстро закончилась, на каждого пришлось всего-то по одной пинте. — Вы сможете идти? — спросил я Аркла. — Пожалуй, смогу. Я чувствую себя посвежевшим, и, к счастью, эти мерзавцы не утащили мои ботинки. А куда мы направляемся? — Для начала в лагерь, расположенный вон там. А после, если все сложится благополучно, к озеру Моун. На его лице вспыхнул радостный румянец. — Это мне подходит. — Затем Аркл сник и добавил: — Вы были очень добры ко мне, сэр, и мой долг предупредить вас, насколько опасно это путешествие. Если мы туда попадем, то знайте, что люди там — как бы это лучше выразиться — не слишком дружелюбны. В самом деле, лучше бы вам, сэр, вернуться домой. На озере Моун вы найдете свою смерть. — Нечто в этом роде я и предполагал. А вы бывали там, мистер Аркл? Он кивнул. — Тогда последуйте моему совету и помалкивайте об этом своем опыте в присутствии тех, кого мы встретим в лагере. Я полагаю, вы говорите по-арабски? Да? Так вот, делайте вид, что вообще не понимаете их языка. Позднее я объясню вам причину. Он снова кивнул. И спросил: — Как вас зовут, сэр? Я представился. — Аллан Квотермейн, — повторил Аркл. — Такое чувство, что я где-то уже слышал это имя. Ах, вспомнил. Мой знакомый, лорд Рэгнолл, рассказывал мне про вас. Мало того, он дал мне рекомендательное письмо, на случай если я отправлюсь на юг Африки. Но, увы, онопропало вместе с остальными вещами. Странно, что мы встретились при таких обстоятельствах, но в подобных местах подобное случается сплошь и рядом. Ну что ж, мистер Квотермейн, а теперь, если вы позволите опереться на вас, а то у меня голова до сих пор кружится, я готов идти. — Разумеется, обопритесь. Сэр, я еще раз призываю вас: ни в коем случае не говорите ни на каком ином языке, кроме нашего, потому что, за исключением Ханса, которому можно полностью доверять, — и я указал на готтентота, — никто здесь не понимает по-английски. — Ясно, — ответил Аркл, и мы отправились в дорогу. Мой спутник сильно хромал и опирался на меня всей своей громадой, словно на трость. Когда мы не без труда достигли лагеря, уже совсем стемнело. Охотники как раз поставили мою палатку, хотя и низкую, но довольно-таки просторную для двух человек. Аркл жадно припал к источнику и пил, пока я не остановил его. Тогда он вылил воду на голову и окунул руки по самые плечи, будто желал впитать влагу, словно губка. После чего поинтересовался, нет ли чего перекусить. К счастью, у нас осталось еще достаточно провианта: жесткие лепешки из дробленого зерна (подарок гостеприимных туземцев, через чьи земли мы проходили) и полоски билтонга. Аркл поглощал их с жадностью, как самое изысканное кушанье, настолько бедняга изголодался. Насытившись, он залез в палатку и забылся глубоким сном. Какое-то время я сидел, прислушиваясь к его громогласному храпу, нарушавшему тишину, и смотрел на звезды, восхитительно сиявшие в безоблачном небе. Внезапно мимо меня проскользнул Кенека и, расположившись в некотором отдалении на плоском камне, принялся делать руками над головой причудливые пассы. — Человек-сова разговаривает со своей звездой, баас, — прошептал мне на ухо Ханс и показал на Венеру. — Он каждую ночь советуется с нею, как поступить дальше. — Рад это слышать, потому что лично мне наше будущее представляется весьма туманным. — О, мы просто пойдем вперед, баас, и все тут. Если достаточно долго идти, рано или поздно обязательно выйдешь на другую сторону. «Ну просто изречение, достойное философа, — подумал я, — вот только не помешало бы еще уточнить, что ждет нас на той стороне». Распорядившись, чтобы Ханс и охотники поочередно стояли на часах (хотя это и было излишней предосторожностью, ибо готтентот, когда беспокоился, спал вполглаза), я отправился в палатку, вознес краткую молитву — привычка с детства, которой, мне не стыдно в этом сознаться, я следовал почти неизменно, — и сразу провалился в сон. Когда еще не вполне рассвело, хотя по тающим звездам и запахам в воздухе уже угадывалось приближение рассвета, меня разбудил Аркл, который завозился в своем углу. — Я собираюсь искупаться, — объявил он, заметив, что я не сплю, — ибо это является пределом мечтаний человека, который не мылся целую неделю. Силы снова вернулись ко мне. Я от души порадовался этому и заметил, что он, должно быть, очень везучий человек. — Да уж, — произнес Аркл задумчиво, — моя жизнь висела на волоске. К счастью, я хороший бегун. Два года подряд на состязаниях между Оксфордом и Кембриджем выигрывал забег на три мили. Послушайте, мистер Квотермейн, вам, наверное, интересно, кто я и как сюда попал. Пока у нас есть время, я вам все расскажу, если вы готовы меня выслушать, И вот что поведал мне новый знакомый: — Хотя Арклы никогда не были особо преуспевающими дельцами, несколько поколений моих предков довольно ловко вели дела в Манчестере и Лондоне. Они считали себя колониальными торговцами и повсюду, вплоть до Западной Африки, имели коммерческие связи. Однако мой отец, умерший несколько лет назад, не пошел по стопам деда и прадеда. Он был по натуре мечтателем и слыл среди родственников чудаком, ибо всерьез увлекался астрологией. Кажется, я уже упоминал об этом. Так вот, мой батюшка отказался иметь какое-либо отношение к торговле и, вознамерившись стать врачом, а именно хирургом, сумел-таки настоять на своем. Несмотря на эксцентричность, он добился на этом поприще больших успехов и стал, без преувеличения, просто выдающимся специалистом. Сделавшись зажиточным, отец открыл небольшую частную практику, но в основном работал в больницах для малоимущих. Окончив колледж, я тоже изъявил желание стать врачом. Вскоре после того, как я получил диплом, отец скончался; матушка моя умерла еще раньше. Других детей у моих родителей не было, так что я остался единственным наследником. Кроме того, мой кузен, единственный сын папиного старшего брата, сэра Томаса Аркла, погиб в результате несчастного случая, и дядя попросил меня взять дела компании в свои руки. Я нехотя согласился, ибо просто не мог отказать родственнику. Коротко говоря, когда на меня вместе с титулом баронета свалилось все его немалое имущество, я решил, что мне нет никакого смысла заниматься медицинской практикой. Да и дядюшка тоже был полностью со мною солидарен. С другой стороны, коммерция меня, как и моего покойного батюшку, совершенно не прельщала. В конце концов мы с дядей нашли компромисс. Я согласился отправиться на несколько лет по делам фирмы в Западную Африку. Это совпало с моим собственным желанием, так как я мечтал понаблюдать за человеком в его естественной среде обитания и изучить некоторые редкие заболевания. По окончании поездки я должен был вернуться, выдвинуть свою кандидатуру в парламент, вступить в права наследства (а состояние у Арклов, надо сказать, весьма внушительное) и, купив титул пэра, выгодно жениться и всячески способствовать процветанию нашей, так сказать, династии. — Понимаю, такова, что называется, официальная версия, но вполне возможно, что у вас были и другие мотивы, о которых вы предпочли не распространяться, — заметил я. — Вы абсолютно правы, мистер Квотермейн. Ну что же полагаю, я уже рассказал вам о себе достаточно. Не затруднит ли вас в ответ поведать о себе? — Ничуть. Я родился в добропорядочной английской семье. Получил домашнее, но вполне достойное образование: мой отец был священнослужителем и весьма ученым джентльменом. А в целом мне похвастаться особо нечем, кроме разве что ремесла охотника, в котором я несколько преуспел. Еще мне, как и вам, нравится наблюдать за человеком в его естественной среде обитания. Признаться, я постоянно снедаем жаждой нового и неизведанного. А потому потворствую своему любопытству, которое порой представляется мне настоящим проклятием. Полагаю, в конце концов именно это меня и погубит. Причем вполне вероятно, что сие произойдет весьма скоро. — О нет, — весело возразил Аркл, — ваш час еще не пришел, мистер Квотермейн. Если хотите, я могу составить ваш гороскоп: отец научил меня всем этим штучкам. Я могу даже назвать день вашей смерти. — Нет, благодарю вас, — решительно отказался я. Тут Ханс принес кофе и сообщил, что Кенека рвется выступить в путь на рассвете, ибо считает, будто, оставаясь тут, мы подвергаемся опасности. Все встревожились и начали спешно собираться в дорогу. Аркл был облачен в так называемый норфолкский жилет — однобортную куртку с поясом и двумя нагрудными карманами, однако надел его прямо на голое тело, ибо рубашки у него не имелось. Среди моих вещей обнаружилась одна запасная, фланелевая, совсем новая, я по случаю купил ее в Дурбане за пятнадцать шиллингов. Ее-то я и отдал Арклу. К счастью, рубашка оказалась безразмерной и налезла на его внушительную фигуру. Также нашлась для него шляпа, кроме того, пришлось выделить ему винтовку и патроны. Мы еще собирались, когда вернулся Кенека. Он заметно нервничал и умолял нас не мешкать. — Куда теперь? — спросил я. — Надо двигаться вверх по склону горы и пройти расщелину, господин. Там мы сможем укрыться под защитой моего народа дабанда. После того, что случилось, абанда наверняка попытаются нас убить. Если белый Странник, которого твои слуги прозвали Рыжим быком, не способен идти, он может остаться здесь. Тут Аркл, который прекрасно понимал арабский, смерил его взглядом и, начисто позабыв о моем предупреждении, ответил, что в этом нет необходимости, так как он вполне уверен в своих силах. Наскоро перекусив, мы отправились вслед за Кенекой вверх по крутому склону горы. — Если не ошибаюсь, вы назвали этого человека Кенекой? — поинтересовался Аркл, когда тот был уже достаточно далеко и не мог нас слышать. — Совершенно верно. А почему вы спрашиваете? — О, просто я часто слышал это имя от знакомых туземцев. Мне рассказывали об одном юноше, совершившем тяжкое преступление. Хотя вполне возможно, что это не тот самый Кенека, а другой. — Тут он резко сменил тему, оставив меня в недоумении.Глава 11
ИСТОРИЯ АРКЛА
Поначалу Аркл сильно хромал, шел неровной походкой и страдал от боли в пятке. Однако постепенно боль утихла, а свежий воздух взбодрил его. Я внимательно присмотрелся к своему спутнику. Безусловно, он был весьма привлекателен внешне и показался мне великолепным образчиком англосакса. Через некоторое время Аркл решил продолжить свой рассказ: — Вы угадали, мистер Квотермейн, поехать в Африку меня побудили также и другие причины. Если хотите, я расскажу вам о них — как говорится, выложу все карты на стол. Но если у вас нет охоты меня слушать, то, пожалуйста, прямо так и скажите, ибо я не желаю досаждать кому-либо своими делами. Я ответил, что с удовольствием узнаю его историю. Если говорить начистоту, я просто сгорал от любопытства. — Тогда слушайте, хотя подозреваю, что рассказ сей заставит вас усомниться в моем здравом рассудке. Как я уже сказал, передо мною открывались блестящие перспективы. Однако теперь это все уже в прошлом, ибо на сегодняшний день они потеряны для меня бесповоротно. Будучи человеком при деньгах, я потворствовал своим страстям. Не стану лгать, мистер Квотермейн, и говорить, что я всегда благоразумно отвергал искушения. Увы, я совершил немало глупостей, в чем признаюсь не без стыда, однако замечу, что подобное случается почти со всяким пылким юношей. Короче говоря, я прожигал жизнь. Мой дядя, а также все друзья и знакомые были приверженцами пуританского образа жизни, который часто идет рука об руку с благочестием и желанием сделать мир лучше. Видя мое недостойное поведение, они страшно огорчались и всячески призывали меня измениться, предлагая в качестве первого шага на пути к исправлению вступить в брак. Замечу, что женить единственного племянника было первейшим желанием моего дядюшки, ведь иных наследников у него не имелось. Он часто с глубокомысленным видом торжественно повторял, что жизнь переменчива и никто не знает, что будет с нами завтра. Наконец я уступил его требованиям и принялся ухаживать за девушкой, происходившей из хорошей семьи и внешне весьма привлекательной. Правда, у нее не было средств, но для меня с моим состоянием это не имело значения. Честно говоря, меня эта девица не слишком интересовала, и она отвечала мне тем же. Впоследствии я узнал, что моя нареченная была всерьез увлечена другим мужчиной, а брак со мной рассматривала как выгодную сделку, не более того. Ну что ж, такое случается сплошь и рядом. А сейчас я расскажу вам нечто весьма необычное. Боюсь, вы вряд ли мне поверите. Окружающие считали меня распутником и прожигателем жизни, но никто из них даже и не подозревал, что в моей натуре есть также и другая сторона. Иногда я становлюсь мечтателем, мистер Квотермейн, и даже мистиком. Наверное, я унаследовал эту склонность от своего отца, которому подобное всегда было присуще. — Ничего удивительного, — ответил я, — старая как мир история о противостоянии плоти и духа. — Возможно. Так или иначе, я искренне верил в некие довольно причудливые и спорные понятия: «родство душ», «жизнь до рождения» и прочее. И убедился, что это не пустые слова. Да, представьте себе, что в один прекрасный момент этот невозмутимый здоровяк-британец, которого вы видите сейчас перед собой, обнаружил тесную душевную связь, если так можно выразиться, с неким человеком, которого прежде никогда не видел. Я с тревогой взглянул на рассказчика, размышляя, уж не оказались ли пережитые им неприятности губительными для его мозга. Аркл, видимо, догадался о моих сомнениях: — Вам кажется, что я немного спятил, верно? Я и сам некоторое время так думал и до сих пор оставался бы при этом убеждении, если бы однажды мы вдруг не встретились в Африке. — И где же именно? — спросил я осторожно. — Уж не на озере ли Моун? — Да, на озере Моун, вы угадали. Я всегда знал, что найду ее, моего ангела, именно там. Признаться, после такого заявления я не на шутку испугался. Бедняга, должно быть, совсем лишился рассудка. — Но давайте я подробно расскажу вам, как все это было, — продолжил Аркл будничным тоном. — Так вот, еще в Лондоне, в разгар своей разгульной и недостойной жизни, я стал получать по ночам знамения. — Во сне? — предположил я. — Нет, видения сии являлись, когда я бодрствовал: смотрел на звезды и вообще находился на улице. Первый, если можно так выразиться, сеанс телепатической связи состоялся на Трафальгарской площади, когда я возвращался со званого ужина. — В таких местах не всегда подают хорошее вино, — предположил я. — Или, возможно, вы просто злоупотребили алкоголем. — Совершенно исключено, ибо в тот раз вечер проходил в доме моего дальнего родственника, убежденного трезвенника. Он принципиально не держит у себя ни капли спиртного. Я должен был встретиться там со своей невестой; скука, между нами говоря, просто смертная. Когда все наконец закончилось, я пошел прогуляться до Трафальгарской площади — в тот час она тиха и безлюдна. Я стоял и разглядывал статую адмирала Нельсона или, скорее, звезды над нею. Они были прекрасны в ту морозную ночь. Вот тогда-то все и началось. Совершенно пустынную водную гладь фонтанов освещала луна, и в ее призрачном свете место сие казалось довольно жутковатым. Внезапно появилась женская фигура в белых одеждах. Она шла прямо по воде в мою сторону, вся такая невесомая. Когда незнакомка приблизилась к берегу и подошла ко мне вплотную, я впервые увидел ее лицо, молодое и прекрасное. Очаровательные, широко распахнутые глаза светились нежностью. Женщина встала передо мною, внимательно изучила, и на ее лице вдруг отразилась радость, будто она нашла то, что очень долго искала. Взглянув на нее, я тоже почувствовал, что передо мною именно та, которую я искал всю свою жизнь. Незнакомка протягивала ко мне руки и что-то говорила. Я отчетливо слышал ее, но не ушами, а каким-то внутренним чувством и даже понял отдельные слова, хоть они и были на арабском. Мне всегда нравилось изучать редкие языки. Как-то, помнится еще в бытность мою студентом медицинского факультета, я заинтересовался трудами живших в древности арабских врачей и, чтобы разобрать текст, решил немного освоить их язык. С тех пор прошли годы, и многие знания уже истерлись из моей памяти, однако не до конца. Поэтому я уловил смысл отдельных обрывочных фраз: «Наконец… О мой долгожданный… Наконец-то на земле… Не в видениях… Приди, приди… Вдали ты найдешь и вспомнишь… Да, ворота откроются… Ворота в прошлое и в будущее…» А затем сия призрачная женщина, или как вам угодно будет ее называть, попросту исчезла. Ко мне подошел полицейский, взглянул подозрительно и произнес: «Проходите, молодой человек. В такую промозглую ночь вам тут не место. Идите-ка лучше домой и проспитесь». Я расхохотался: уж очень разительным оказался контраст. Преисполненный радости, подобно закоренелым мистикам, сумевшим осуществить контакт с божеством, я подарил полицейскому соверен, пожелал ему спокойной ночи, отправился к себе в роскошные апартаменты и лег спать абсолютно другим человеком. — В каком смысле «абсолютно другим»? — О, я увидел иной путь. Словно бы пелена вдруг спала с глаз. Мне теперь все виделось по-новому, в другом свете. К примеру, отныне я возненавидел свою разгульную жизнь, которая ранее столь манила меня. Я поставил перед собою высокие цели. Мне стало ясно, что в этом мире мы словно странники, потерявшиеся в тумане, который скрывает от нас славные перспективы божественной реальности. Мы видим лишь буйные сорняки, свисающие со скал, что указывают нам путь, и мокрую гальку на дороге, поблескивающую у нас под ногами. Мы делаем венки из сорняков, сражаемся за самые яркие камешки, но сорняки вянут, а камни высыхают и оказываются самыми заурядными булыжниками. Все это и многое другое открылось мне после того памятного видения на Трафальгарской площади, которое изменило меня самым кардинальным образом. Раньше я был жадной гусеницей, пожирающей все на своем пути. Но затем, всего за каких-то полчаса, стал сначала куколкой, а потом превратился в бабочку. — Как интересно! — воскликнул я искренне: несмотря на замысловатые образы и метафоры, эта история меня заинтриговала. Откровенно говоря, в видение на Трафальгарской площади я не поверил, но рассказ Аркла, как бы выразился американец, меня зацепил. Каждый из нас в той или иной степени однажды испытал нечто подобное. Почти все мы встречали свой идеал или божество в каких-то укромных местах или видели в неземном освещении нечто возвышенное и странное. Порой всему виной были причудливая игра света или оптический обман; иной раз найти какое-либо разумное объяснение просто не представлялось возможным. Однако спустя полчаса подавляющее большинство просто-напросто забывает об этом и еще более рьяно, чем прежде, пускается в погоню за земными благами. Тем не менее эти люди что-то видели и обрели надежду. Они теперь знают, что в стене, которая возведена вокруг их души, есть ворота. — Как интересно, — повторил я. — А позвольте спросить, как же та дама, с которой вы обручились? Вы рассказали ей о видении на Трафальгарской площади? — Нет, по крайней мере, не полностью. И если раньше я просто не любил эту девушку, то теперь, представив, что буду вынужден на ней жениться, возненавидел. К слову сказать, тут все разрешилось самым благоприятным образом. Дама сия испытывала ко мне еще большее отвращение, чем я к ней. Кроме того, она повела себя довольно грубо и заявила, что я сумасшедший. — Что ж, она выразилась слишком прямолинейно, хотя если вы изложили ей ту же самую историю, что и мне сейчас, то вашу невесту вполне можно понять. — Вот именно, слишком прямолинейно, но, представьте, я ей за это благодарен. Как я уже упоминал, сердце этой дамы было отдано другому джентльмену. Полагаю, вы догадываетесь, чем кончилось дело? — Конечно. Вы просто расторгли помолвку с нею, да? — Не совсем. Я не посмел этого сделать, ибо для моего дядюшки сие стало бы тяжелым ударом. Нет, я поступил иначе. Мой счастливый соперник не имел за душой ни гроша, а я, как вам уже известно, не был стеснен в средствах. Я ссудил ему пять тысяч фунтов, и влюбленная парочка сбежала во Флориду. Там они поселились на апельсиновой ферме и славно зажили. Само собой, я объявил всем, что сердце мое разбито. Окружающие выражали мне показное сочувствие, а за спиной у меня сплетничали и всячески насмехались. Хотя на самом деле это я от души посмеялся над ними. Получив свободу, я начал прилежно изучать арабский и быстро добился успехов, потому что языки даются мне легко, а по ночам совершал долгие прогулки для развития духовных качеств. — Вот как? — неуверенно произнес я. — Скажите, мистер Аркл, а вы, случайно, меня не разыгрываете? — Помилуйте, конечно нет! Эти люди из племени абанда убили во мне всякое чувство юмора. Ладно, слушайте дальше. Короче говоря, я все больше и больше сближался с этой призрачной дамой. Да, она регулярно появлялась в полночь, чтобы поговорить со мной, и с каждым разом мой арабский становился все лучше и лучше. Женщина рассказывала много интересного о прошлом, весьма далеком прошлом. Как я уразумел, мы с ней тогда были тесно связаны и вместе пережили множество различных приключений. Некоторые из них были трагичны, но все же поразительны и прекрасны. Я не буду вдаваться в подробности, они похожи на все истории любви, от самого начала времен. Призрачная дама поведала мне, что в самый последний раз — затрудняюсь сказать, когда именно сие случилось, — она умертвила нас обоих, чтобы вместе отправиться на небеса, вернее, оказаться на некоей звезде. Как я понял из видения, она больше всего желает загладить свою вину за это преступление. Однако для этого мне необходимо с нею встретиться, а она до сих пор живет в дальних краях, там, где это произошло, поскольку, как я понял, нам пока так и не удалось добраться до той звезды. Слушая Аркла, я невольно вспомнил историю Кенеки о богине, именуемой Сокровищем озера, которая якобы должна сойти с неба и влюбиться в земного человека. Он, кстати, вроде бы говорил, что дама в свое время убила этого мужчину, чтобы взять его с собой на небо, однако ее возлюбленного туда по какой-то причине не пустили. Поэтому теперь она терпеливо ждала на озере, когда же он снова появится. Подобные легенды вполне в духе аборигенов Центральной и Западной Африки. Но услышать подобную чушь из уст просвещенного британца было довольно странно. Поэтому я спросил: — Извините за прямоту, Аркл, но вам самому все это не кажется бредом? — Согласен с вами, Квотермейн, это очень похоже на бред сумасшедшего, — весело отозвался он. — Будучи по образованию медиком, я и сам пришел точно к такому же выводу. Более того, я посоветовался со своими более опытными коллегами. Один из них, светило в области психиатрии, поинтересовался, известно ли мне, где именно происходили события, о которых поведала призрачная леди. Я пояснил, что это случилось где-то неподалеку от гор Руга в Центральной Африке, куда, как я думал, еще не ступала нога европейца, хотя это место и значилось на старой карте. «Что ж, — ответил мне врач, и глаза его странно блеснули, — на вашем месте я бы отправился туда и попробовал бы отыскать эту даму. Даже если поиски и не увенчаются успехом, вы славно поохотитесь». Мне понравилась эта идея, и я начал уговаривать дядю отпустить меня в Африку якобы для продвижения торговых интересов нашей фирмы. В конце концов он и остальные партнеры дали согласие. Видите ли, они сочувствовали бедному юноше, которого столь вероломно бросила невеста, и решили, что поездка пойдет мне на пользу. «Путешествие — лучшее лекарство от разбитого сердца — сказал мой дядюшка, обладающий даром изрекать банальности. — Тебе необходимо развеяться, мой мальчик». Я тяжело вздохнул и покачал головой, но вслух выразил надежду, что это мне и впрямь поможет. — А как давно вы здесь? — О, я высадился на Западном побережье около трех лет тому назад. Много времени прошло, прежде чем я нашел таинственные горы Руга. Я пережил массу приключений, о которых сейчас не стану распространяться. Но наконец мои поиски увенчались успехом, и я оказался на берегу озера Моун в совершенном одиночестве, ибо все проводники-туземцы, которых я нанял, постепенно разбежались. Могу рассказать обо всем более подробно, если только вам еще не наскучила эта история. — Ну что вы, вовсе нет, — ответил я. — Прошу вас, продолжайте. — Мне не раз приходилось слышать о некоем священном озере Моун. Слухи о нем впервые достигли моих ушей еще в долине реки Конго. Я уже упоминал, что имею склонность к языкам. Во время первой своей поездки в Африку по делам фирмы я при каждом удобном случае изучал местные языки и обычаи. Специально нанимал слуг, не говорящих по-английски, чтобы как следует попрактиковаться. А на этот раз я самостоятельно путешествовал по континенту и в каждом племени, вернее, в каждой деревне, которую посещал, в первую очередь старался подружиться со знахарем, ведь они в курсе всего, что происходит на сотни миль вокруг. Иногда местные целители располагают такой информацией, что просто диву даешься. — Это правда, — согласился я, вспомнив про Зикали, который носил прозвище Открыватель дорог, величайшем колдуне из страны зулусов, о котором я уже писал раньше. — Должен признаться, Квотермейн, что я не слишком ясно представлял себе, что именно ищу. Во время видения, посетившего меня в Англии, я узрел пересохшее озеро и прекрасную женщину, рассказавшую историю о том, как мы с нею любили друг друга в былые времена. Она упомянула, что дело якобы происходило в Центральной Африке, однако более никакой информации мне не предоставила: не сказала ни названия озера, ни как туда добраться. Сразу после моего отплытия из Ливерпуля видения, какую бы природу они ни имели, прекратились. Короче говоря, у меня не было абсолютно никакого ориентира, ну буквально ни малейшей зацепки. В данных обстоятельствах знахари оказались незаменимы. Я попробовал потолковать с некоторыми. Получив подарки и поняв, что я хоть и белый, но все же один из них, они стали общительнее. И признались, что до них доходили слухи о священном озере, на котором обитает некий идол, или оракул, вроде как принявший облик молодой и красивой женщины. При помощи барабанного боя и множества иных ухищрений, в которых белому человеку вовек не разобраться, они посылали друг другу сообщения, задавали вопросы и получали ответы. В конце концов я узнал, что озеро, где жила великая заклинательница дождя, называется Моун, что она имеет титул Энгои и что народ в округе зовет ее Тенью, или Сокровищем озера. Вдохновившись этой информацией (хотя и прекрасно понимая, что женщина сия запросто может оказаться вовсе даже не той, которая обитает в моих мечтах), я отправился сначала на восток, потом на юг, пока не пришел к тем самым горам, что возвышались на границе со страной Энгои. С их гребня мне показали что-то вроде огромного вулкана, на который мы сейчас взбираемся, где, по словам аборигенов, эта таинственная дама и жила. Меня предупредили, что на пути к вулкану обитает многочисленное и жестокое племя абанда, готовое убить любого, кто ступит на их землю. Здесь последние шестеро помощников, еще остававшиеся со мной, запротестовали. Вообще-то, это были славные ребята: молодые, сильные, храбрые и преданные. Тем не менее они пришли ко мне все вместе и заявили, что не боятся на этом свете никого и ничего, за исключением колдунов и привидений. И предупредили меня, что абанда, а уж тем более дабанда, чьи земли находились сразу за ними, никогда не выпустят попавшего к ним чужака живым и даже дух несчастного останется у них в плену после смерти. В общем, мои туземцы наотрез отказались идти дальше. Спорить было бесполезно, поэтому я заключил сделку с жителями деревни, в которой мы остановились, мирными и дружелюбными земледельцами. Они еще не успели познакомиться с нравами племени абанда. Мы договорились, что мои люди останутся здесь ровно на год, до моего возвращения. Если к концу означенного срока я не вернусь и не пришлю никаких распоряжений, то они вольны идти, куда им вздумается, предварительно поделив мое имущество между собой. К слову сказать, там было чем поживиться: винтовки, боеприпасы, одежда и множество различных товаров для торговли или обмена. — Как же шестеро человек смогли нести такой груз? — удивился я. — Они его и не несли. После того как бо́льшая часть людей меня покинула, местные знахари и вожди помогали мне доставить свой скарб из поселения в поселение или от племени к племени. Затем носильщики могли вернуться домой, а я нанимал новых и продвигался дальше. Так что, коли я не вернусь, те шестеро туземцев станут очень богаты. — Вполне вероятно, что они уже удрали с добычей, если только эти люди не честнее прочих себе подобных, — предположил я с улыбкой. — Что ж, такое тоже не исключено, да и, признаться, сие не слишком меня заботит. Вряд ли мы когда-нибудь увидимся снова. Я понял это, когда отправился на поиски озера Моун в одиночку. — Неужели вы решились на это, мистер Аркл? — Ну, говоря по совести, я пошел туда не совсем один. В самый последний момент невесть откуда вдруг появился морщинистый старикашка с проницательным взглядом и заявил, что якобы он раньше жил неподалеку от священного озера и хочет туда вернуться. Его звали Кумпана, а от вознаграждения он решительно отказался, сказав, что ему, дескать, не надо никакой иной награды, кроме как быть моим попутчиком. Вот и все, чего я смог от него добиться. Выглядело это, конечно, довольно подозрительно, но мне было все равно, ведь я так или иначе собирался туда идти. Правда, мои туземцы и вождь племени, которое, кстати, в честь местных гор называлось руга-руга, в один голос умоляли меня не доверять этому проводнику. Однако сам я нисколько не сомневался в успехе и поэтому совершенно не беспокоился. — Большое дело — вера, — заметил я. — Да, недаром и Библия тоже учит нас именно этому, — кивнул Аркл. — Что ж, я отправился в путь. Судя по изменению лунных фаз, полагаю, с той поры прошел приблизительно месяц. Я взял с собой ружье и столько патронов, сколько мог унести, а также пистолет, охотничий нож и кое-какие вещи, в том числе запасную пару сапог. Таинственный старик по имени Кумпана нес провиант. Я назвал его стариком, ибо с виду он выглядел дряхлым, однако, несмотря на это, оказался лучшим ходоком и проводником, каких мне только доводилось встречать. После трехдневного спуска мы очутились в стране народа абанда, вернее, на самой ее окраине. Я узнал, что их многочисленное племя живет на обширной равнине по другую сторону этой горы и на ее западном склоне. Довольно большой город окружает несколько деревень. В сезон дождей почва там чрезвычайно плодородная, ибо состоит преимущественно из разложившейся лавы. Правда, сейчас земля страдает от сильной засухи, люди чуть ли не голодают и настроены весьма враждебно. По словам Кумпаны, это продолжается уже три года, вот только ума не приложу, откуда у него такие сведения. В засухе абанда винят магию соседнего племени дабанда, которое живет на краю кратера большого потухшего вулкана или даже целого кольца вулканов. Поэтому они давно хотят напасть на дабанда, уничтожить тех, завладеть их страной и оказаться под покровительством их богини Энгои. Однако по какой-то непонятной причине, которую Кумпана не знал или же скрывал от меня, дабанда почему-то не осмеливаются так поступить. — Я тоже слышал про вражду двух племен, только мне эту историю рассказывали немного по-другому, — вставил я. — А вам не попадались по пути абанда? — В ту пору благодаря Кумпане мне удалось избежать встречи с ними. Не слишком приятные люди. Да вы и сами вчера их видели. Между прочим, они очень похожи на ваших носильщиков, на первый взгляд и не отличишь, абанда перед вами или дабанда, ведь оба этих народа, вне всяких сомнений, являются родственными, они даже говорят на одном диалекте арабского языка. — Как же вам удалось ускользнуть от них? — спросил я, оставив слова Аркла без внимания. — Днем мы прятались, а передвигались по ночам. В безлунные ночи мы довольствовались сиянием звезд, но даже их порой скрывали туман и облака. Однако старого Кумпану это ничуть не волновало; казалось, он знает эту местность как свои пять пальцев. Он запросто поднимался по крутым горным тропам, видя в темноте как кошка и карабкаясь не менее ловко. Я шел за ним, привязанный к его запястью веревкой, поэтому мы осмеливались говорить лишь шепотом. Пару раз мы довольно близко подобрались к деревне, настолько, что могли разглядеть собравшихся вокруг костра людей. Нас чуть не выдали собаки, залившиеся громким лаем. Но к счастью, хозяева, должно быть, решили, что те унюхали шакала или гиену и не обратили на поведение псов никакого внимания. Утром третьего дня мы подошли к самому краю кратера и могли уже больше не опасаться племени абанда. Но тут возникла другая загвоздка: возле расщелины в скале, сквозь которую мог протиснуться лишь один человек, стояли стражи племени дабанда. Они, разумеется, преградили нам проход, удивленно разглядывая меня: должно быть, впервые увидели белого человека. Кумпану они узнали (думаю, они его ждали), потому что говорили со стариком дружелюбно и почтительно. Они все вместе что-то долго обсуждали, но меня поучаствовать в беседе не пригласили. В результате нас продержали там ровно сутки, отправив посланников к жрецам и членам так называемого Совета Энгои. На рассвете посланники возвратились и велели нам идти в город, расположенный на краю леса, что рос вокруг озера. В сопровождении нескольких стражников мы отправились туда по прекрасной земле, как видно совершенно не страдающей от засухи. Разнообразие ландшафта поражало воображение. Сначала мне на ум пришли земли, омываемые Рейном; продвигаясь дальше, я вспомнил о Неаполе и, наконец, об островах южных морей. Меж тем мы подошли к окраине леса, который обрамлял священное озеро, куда, как мне объяснили, не ступала нога ни одного смертного. — То есть вы этого озера не видели? — Пару раз за деревьями мелькнула темная и мрачная водная гладь с островом посередине. К вечеру мы пришли в деревню с круглыми и квадратными хижинами, некоторые из них окружали сады. Меня доставили в большой квадратный дом с примыкающим к нему двором. Вскоре я догадался, что, так сказать, попал под арест. Ко мне в сопровождении Кумпаны пришел какой-то чернокожий человек. В хижине было темно, и я не видел его лица. Он назвал себя жрецом Энгои и довольно неприветливо поинтересовался целью моего визита. Каково же было его удивление, когда я бегло заговорил по-арабски. Прибегнув к обману, я рассказал, что давно хотел увидеть его страну: дескать, я белый негоциант, который просто мечтает начать тут торговлю, желая заодно познать мудрость народа дабанда, и все в таком духе. Он ответил, что по закону меня, как и любого чужака, следует сжечь живьем, но так как они ждут появления белого человека, каковым вполне могу оказаться и я, то решение останется за Энгои. А пока что я буду считаться их пленником. Жрец предупредил, что если я покину пределы двора, то меня тут же схватят и убьют. Так я лишился свободы. Десять дней я просидел в этой ужасной хижине за высокой оградой и, кажется, только и делал, что ел от пуза (ибо кормили пленника превосходно), всячески стараясь отогнать терзающие меня сомнения и тревогу. Я чувствовал близость той, которую искал, и все же сейчас она была от меня дальше, чем тогда, в Лондоне. Кроме того жреца, больше никто меня не навещал, время проходило однообразно, и часы тянулись бесконечно. Казалось, еще немного, и я лишусь рассудка. Меня даже начали посещать мысли о самоубийстве: все, что угодно, лишь бы только покинуть наконец ненавистную хижину и опостылевший двор. Я уже подозревал, что стал жертвой какого-то рокового недоразумения. Однажды вечером, когда мне стало совсем худо, меня впервые за долгое время посетил старый проводник Кумпана, который, судя по тому, как с ним обращался жрец, оказался в племени важным человеком. Он спросил, чего я хочу больше всего на свете и достанет ли у меня храбрости исполнить свое сокровенное желание. Я ответил, что желаю говорить с неким божественным созданием, которое уже являлось ко мне в видениях, с той, что зовется Тенью и живет на острове посреди озера. Старик совсем не удивился; наоборот, похоже, он ожидал услышать именно это. «Когда взойдет луна, — объявил Кумпана, — выходи из хижины и смело ступай в темный лес. Тебе не дадут заблудиться, проводят к самому озеру, где ты, быть может, встретишь ее. Что тогда случится, я не знаю. Однако имей в виду: вполне может статься, что ты умрешь. Если боишься, я выведу тебя обратно из страны дабанда, но учти: больше никогда уже в этой жизни к тебе не явится та, которую ты ищешь, ни во сне, ни наяву. Так что сперва подумай хорошенько». «Тут и думать нечего, — ответил я, — я пойду в лес». «Энгои в тебе не ошиблась. Можешь поговорить с нею, если вы встретитесь, но будь осторожен, не вздумай к ней прикоснуться. Помни: ты должен быть очень осторожен». Сказав это, старик поклонился и ушел. В назначенное время я покинул хижину, сжимая в руках винтовку. Оружие дабанда у меня не отобрали — быть может, просто не знали, как им пользоваться. Ворота ограды были не заперты, а стражники оставили свой пост. Я выбрался наружу и по тропинке пришел к окраине леса. Под сенью деревьев сгущалась тьма, и я остановился, не зная, в какую сторону повернуть. Вдруг ко мне скользнули какие-то тени. Я не мог толком разглядеть их, а они не проронили ни слова. Тени сии ни разу не коснулись меня, но я постоянно чувствовал, как нечто будто бы подталкивает меня, и пошел вперед в окружении таинственных проводников. Признаюсь, мне было страшновато. Я воображал, что мои спутники — не люди, а лесные духи или привидения, призраки давно умерших обитателей здешних мест, решившие невесть почему вернуться. Мне стало не по себе, и я попытался было заговорить с ними, но не получил ответа, только почувствовал на губах прикосновение холодных пальцев, словно бы призыв к молчанию. Я призадумался и сказал себе: «Безумец, куда привела тебя погоня за мечтой, преследовавшей тебя все эти годы? Возможно, вместо прекрасной женщины из видений ты найдешь здесь обагренного кровью африканского идола, некого дьявольского вида истукана, которому тебя принесут в жертву». При этой мысли по спине у меня побежали мурашки, и, честно говоря, Квотермейн, если бы я знал дорогу, то, пожалуй, со всех ног бросился бы прочь. В этом последнем испытании вера моя оказалась слаба. Однако отступать было поздно, так что мне предстояло рискнуть жизнью, о чем честно предупредил таинственный старик. Я все шел и шел в полной тишине среди нескончаемых деревьев, касаясь руками стволов и спотыкаясь о корни. Однако я ни разу не ударился и не упал. В тишине были слышны только мои шаги. Час за часом меня влекло вперед что-то наподобие дуновения ветра. Наконец мы вышли из леса, и я увидел звезды, мягкое сияние луны, скрытой облаками, и блеск воды прямо перед собой. Загадочные проводники удалились, выполнив свою задачу. Я остался абсолютно один и чувствовал себя совершенно раздавленным. Ну а потом… Что это там виднеется на водной глади, уж не померещилось ли мне? Нет, то было похожее на каноэ суденышко; подхваченное потоком, оно скользило бесшумно, ибо я не слышал плеска весел. Когда волшебная лодка подплыла поближе, фигура в белом одеянии ступила на берег и предстала предо мной. Вуаль спала, и я увидел знакомые черты лица, прекрасные глаза, лучащиеся звездным светом. «Ты все же осмелился прийти, мой сердечный друг, — нежным голосом произнесла женщина по-арабски, — и я решилась привести тебя сюда, чтобы поговорить немного». «Объясни же наконец, — попросил я, — кто ты такая?» «Я та, чья душа говорила с тобой в большом далеком городе и после, пока не привела тебя в эту землю, чтобы ты увидел меня во плоти. Я знаю, наши судьбы издревле связаны между собой, и так будет до самого конца, который окажется истинным началом». «Да, возможно, я и сам чувствую нечто подобное. Но скажи, почему ты живешь на этом озере в окружении дикарей?» «Всему виной былые грехи, друг мой. Теперь в наказание я должна изображать здесь оракула». «Так ты божество?» «Скорее, падший дух. Однако когда мы искупим свои грехи, то сможем вместе вознестись на небеса, не так ли?» «Я не знаю, госпожа Тень, — кажется, так вас называют в этой земле. Каждая религия учит по-своему, но вполне возможно, что все именно так и есть, ведь земной мир не приносит человеку счастья, а только тяготы и печали. Но оставим это, скажи лучше, ты женщина?» «Да, я женщина», — ответила она нежным голосом. «Зачем же ты, женщина, позвала мужчину с другого края земли?» «Так суждено во имя древней любви». «Теперь, когда я откликнулся на призыв и нашел наконец ту, о которой мечтал, что нужно сделать, чтобы она стала моей?» «Просто взгляни на меня и скажи, по-прежнему ли ты желаешь назвать меня своей. Если да — то знай, что так было всегда, в те дни, о которых ты забыл». Она подошла совсем близко, скинула вуаль и стояла передо мной, вся такая обворожительная, ну просто само совершенство. Свет озарял ее чистое прекрасное лицо, и мне казалось, будто от нее исходит сияние. Она была женщиной и в то же время загадкой, человеком и духом одновременно. «Прошлых жизней я не помню, — сказал я, прикрыв глаза ладонью, — но одно знаю наверняка: я люблю тебя больше всего на свете и ты должна быть моей». «Спасибо, друг мой, я очень рада, — скромно ответила она. — Однако сделать это будет нелегко. Мне и моим подданным угрожает опасность, и, прежде чем мы обретем друг друга, я должна спасти их. Как тебя зовут сейчас, в этой жизни?» «Джон Аркл». «Что ж, Аркл, ты должен вернуться и найти белого человека, который поможет нам в грядущей войне. Ну а после победы мы с тобою сможем снова поговорить. А теперь иди, проводники ждут тебя». «Я не хочу уходить, — сказал я, — возьми меня с собой, туда, где ты живешь». Услышав такую просьбу, она заметно опечалилась, вся задрожала и поспешно ответила: «Это против закона, сначала нужно выполнить все, что предписано судьбой. Такова цена. Нет, не прикасайся ко мне, за нами незримо наблюдают, и, если ты только дотронешься до меня, спасти тебя будет очень трудно». Но я почти не слушал ее, словно обезумев, и совсем позабыл, о чем меня предупреждал Кумпана. Ведь я наконец-то нашел ее, спустя столько лет! Как же я мог расстаться с нею, возможно навсегда?! Я схватил красавицу, прижал к груди и поцеловал в лоб. Внезапно раздался страшный грохот, над нами словно бы пронесся ураган. Что-то вырвало Тень из моих объятий, и она пропала. А меня будто подхватила чья-то гигантская рука и изо всей силы встряхнула. Я потерял сознание. А когда через некоторое время очнулся, то увидел, что непонятно каким образом вдруг оказался где-то в совершенно ином месте и на меня собираются напасть вооруженные копьями дикари. Спасаясь от них, я кинулся вниз по склону горы. Даже не представляю, что бы со мной было, если бы вы, Квотермейн, их не прогнали.Глава 12
КЛЯТВА КЕНЕКИ
Аркл умолк, а я от изумления не мог вымолвить ни слова. К счастью, рассказчик и не ждал немедленной реакции; казалось, он вообще грезит наяву, устремив взор в сторону горы, на что-то видное лишь ему одному. На губах его играла легкая рассеянная улыбка, как у человека, которого ввели в гипнотический транс и подчинили чужой воле. Мой попутчик словно бы витал в облаках, все еще пребывая на озере со своей загадочной дамой, если, конечно, она не являлась плодом его фантазии. Безусловно, Аркл стал жертвой какой-то галлюцинации, грубо говоря, спятил. Много лет беднягуобуревала мечта о прекрасной одухотворенной деве, его второй половинке. В этот древний миф все еще верят тысячи людей. Согласитесь, мысль, что где-то во Вселенной или за ее пределами тебя ждет двойник противоположного пола, который создан исключительно для тебя и сейчас тоскует в одиночестве в ожидании встречи, весьма любопытна и заманчива. Судьба разлучила вас, и все, что вам нужно, — это вновь обрести друг друга, в жизни или в смерти. Такие мечты всегда находят в человеческом сердце отклик, поскольку тешат наше самолюбие. Какими бы одинокими и непонятыми мы ни были, мы можем надеяться, что где-то нас ждут, обожают, ценят и примут с распростертыми объятиями, чтобы быть вместе на веки вечные. Очевидно, Аркл подвергся этому весьма распространенному помешательству, только обычно люди стыдливо держат такие мысли при себе, а он не стесняется говорить об этом вслух, что, в общем-то, и неудивительно при его физической силе и жизнерадостном характере — да, не забудьте прибавить сюда еще покойного папашу-астролога. Он разгадывал загадку шаг за шагом, мечтая встретить наконец свою призрачную леди, узнал о священном озере, на острове посреди которого якобы живет женщина-оракул, и с замечательным мужеством и стойкостью преодолел пол-Африки, чтобы сюда добраться. Здесь он попал в руки враждебного племени, поклоняющегося какому-то озерному идолу, или шаманке, или заклинательнице дождя (почти все африканские суеверия связаны с дождем). Само собой, впервые увидев белого человека, они схватили его и некоторое время держали в плену. В конце концов туземцы решили убить Аркла, но он узнал об этом и сбежал. Как раз когда он удирал от своих преследователей, наши пути пересеклись. Вот и вся история, ну а остальное, включая встречу с женщиной на берегу озера, — чистой воды игра воображения (вернее, если называть вещи своими именами, помешательство). Странное дело, но ведь Кенека тоже рассказывал мне нечто подобное. О, видит бог, как я бы хотел повернуть время вспять и не связываться с этим проклятым Кенекой, не брать у него вперед слоновую кость и деньги! Но сделанного не воротишь: я принял на себя определенные обязательства и должен их выполнить. Мы остановились, чтобы немного передохнуть, напиться из горного ручья и перекусить. И как только мы подкрепились, Кенека, сидевший на возвышении ярдах в пятидесяти впереди, подозвал меня к себе. Я подошел, и он без лишних слов указал налево. Высоко над нашими головами, у самого подножия обрывистого утеса кратера, на расстоянии приблизительно в полторы или две мили, я заметил мерцающие крапинки — верный признак сверкающих на солнце копий. И поинтересовался: — Кто это? — Абанда, господин, две или три сотни их воинов преградили нам путь. Дело в том, что высоко над нами в скале есть проход на эту сторону горы, он идет вдоль расщелины в кратере. Абанда знают, что если они первыми достигнут вершины, то легко перебьют нас всех до единого, ибо путь к спасению будет отрезан. Ну а коли мы их опередим, то нас ждет безопасное укрытие в моей стране, они не посмеют следовать за нами. Так что для нас очень важно войти в ущелье раньше, чем абанда. Носильщиков я уже отправил. — И Кенека показал на вереницу людей, карабкающихся по склону в нескольких стах ярдов над нами. — Поспешим же за ними, господин, если тебе дорога жизнь. Тем временем Аркл, Ханс и двое охотников присоединились к нам. Я в нескольких словах обрисовал им ситуацию, и мы тут же тронулись в путь. Последовала ужасная, просто не поддающаяся описанию борьба за то, кто первым достигнет цели. Проведя до этого много времени в пути, мы не отдохнули как следует и теперь очень устали, да еще вдобавок нам все время приходилось карабкаться в гору. Абанда же находились в значительно более выгодном положении: они были полны сил, а дорога с их стороны проходила по местности более ровной и пологой. Поэтому они продвигались в два раза быстрее нас. Наконец Аркл, который после вчерашней погони натер ноги и хромал, несмотря на всю свою выносливость, начал сдавать позиции. А вот носильщики, как вы помните, опередившие нас, показали великолепный результат, даже обремененные грузом. Они хорошо понимали, что сделают с ними дикари-абанда, если достигнут ущелья первыми. О боже, как же раскаленная солнцем лава жгла нам ноги, когда мы карабкались вверх! — Полагаю, баас, многие из тех ребят, что вчера охотились на Рыжего быка, — вовек бы с ними не встречаться — убежали домой, пожаловались своим сородичам, и теперь те решили отомстить нам за погибших, — выпалил Ханс. — Похоже на то, — проворчал я, — и боюсь, что они первыми доберутся до прохода в скале, если только таковой вообще существует. — Да, баас прав, потому что у Рыжего быка болит пятка и он еле-еле передвигает ноги, а до скалы еще очень далеко. Но, баас, с другой стороны, абанда, сбежавшие от нас вчера, должны были рассказать своим приятелям, что такое пули. Возможно, нам удастся удержать их выстрелами, баас. — Может быть, во всяком случае, мы постараемся. Посмотри, как шустро продвигается Кенека. — Верно, баас, он карабкается, словно бабуин или капский даман. Небось боится попасть в руки абанда или потерять своих людей, ну а что будет с нами, этого типа не слишком заботит. Выстрелить, что ли, ему под ноги, баас, пока он не ушел далеко, чтобы поубавил прыти? — Не надо. Пусть этот предатель убегает, вдруг нам повезет от него избавиться. — Квотермейн! Догоняйте своих слуг, а я сам о себе позабочусь! — крикнул сильно отставший Аркл. — Ни в коем случае: тонуть, так всем вместе. Я взглянул на Тома и Джерри; эти двое, как обычно, были чем-то встревожены. Ханс тоже это заметил и начал отпускать в их адрес колкости: — Почему вы медлите, храбрые охотники? Разве вы не боитесь, что Человек-сова высечет вас за неповиновение? Если ружья для вас слишком тяжелы, бросьте их, как в тот раз, когда за вами гнались слоны! Ханс шутил довольно хлестко, несмотря на наше отчаянное положение; полагаю, он и над самой смертью стал бы подтрунивать. Впоследствии готтентот горько раскаялся в сказанном. Так бывает, когда мы от души сожалеем о своих недобрых словах, однако взять их обратно уже не можем. Насмешки Ханса взбесили Тома. — Скоро я расквитаюсь с тобой, желтолицый, — пробурчал он. Готтентот лишь посмеялся над этой угрозой. Флегматичный Джерри криво усмехнулся, но промолчал. Однако наконец мы все-таки приблизились к скале, в которую углубились носильщики, указав нам место, где имелся проход, более напоминавший расщелину. Увы, абанда были уже совсем близко. Авангард их копьеносцев выбрался из складки в склоне горы, вышел на лавовый щит в трехстах ярдах над нами и устремился наперерез Кенеке. Однако тот все еще проворно двигался к цели, и тогда абанда запустили в него копьем. Он мигом юркнул в скалу, как сурикат в норку, хотя, пожалуй, этому типу больше подходит сравнение со змеей. — Вот и все, — сказал я. — Мы не успеем опередить этих скотов, а убегать вниз по склону тоже бессмысленно: они нас догонят. Лучше остаться на месте, перевести дух и мужественно встретить свой последний час. — Нет, баас, — пропыхтел Ханс, окидывая место сражения своим зорким глазом. — Смотрите-ка, абанда остановились. Они поджидают нас, чтобы убить, но между ними и отверстием в скале виднеется донга. Вон, один дикарь начал взбираться по ней. Я присмотрелся. С левой стороны от нас действительно имелась донга, которую я поначалу проглядел. Эта трещина, несомненно, образовалась давным-давно, когда лава еще только начала застывать. Дикарям придется пересечь ее, чтобы до нас добраться. — Вперед! — закричал я. — Еще не вечер! Мы снова пошли, Аркл опирался на меня. Наконец мы приблизились к скале ярдов на шестьдесят или семьдесят и увидели расщелину, в которой пропали Кенека и его люди. И как раз в этот момент перед нами возник воин абанда: он вылез из донги на нашу сторону. Я остановился, прицелился, выстрелил и… промахнулся, потому что не отдышался как следует. Сомнений быть не могло, пуля ударилась в древко копья в трех футах над головой врага, и оно разлетелось на куски. Абанда испугался, но, целый и невредимый, спрыгнул обратно в донгу, а мы продвинулись еще дальше. Когда мы оказались на краю обрыва, бывшего некогда жерлом потухшего вулкана, я понадеялся — и, как оказалось, совершенно напрасно, — что Кенека и его люди поспешат нам на выручку. Внезапно из донги выскочили с полдюжины дикарей и преградили нам дорогу к скале, где мы надеялись найти спасительное укрытие. Абанда явно собирались напасть на нас. Мы открыли по ним огонь и на этот раз стреляли без промаха. Они хотя и отступили, но ничуть не испугались, а, напротив, преисполнились ярости из-за смерти своих товарищей. Непрерывно стреляя, мы пробирались дальше и дальше, но я понимал, что у нас ничего не выйдет: врагов, которые выползали со дна донги, с каждым разом становилось все больше. — Макумазан, убегай вместе с хромым баасом! Я задержу их! — крикнул отважный абиссинец Том. Я не очень представлял, как ему удастся осуществить свой план, однако времени на раздумья уже не оставалось. Я ринулся вперед, к входу в расщелину, поддерживая Аркла. Ханс двигался бок о бок со мной. Несколько дикарей попытались было преградить нам путь, но мы застрелили их, прежде чем они нанесли удар. К моему великому облегчению, новые воины абанда не появились, и мы благополучно достигли цели и нырнули в расщелину. Внутри пространство оказалось таким узким и извилистым, что горстка смельчаков запросто могла задержать тут целую армию, как Гораций Коклес и его товарищи, защищавшие подступы к мосту в Древнем Риме. Я остановился и услышал, что снаружи все еще раздавались выстрелы. — Кто это стреляет? — спросил я, силясь разглядеть что-либо в сумраке ущелья. Эхо последнего выстрела замерло, послышались торжествующие вопли. — Похоже, это Дырчатый и Джерри, баас, — ответил Ханс, утирая рукавом пот со лба. — Больше выстрелов не будет. Видите, баас, на сей раз охотникам не в чем себя упрекнуть. Они подбежали к краю донги, загородили оба пути, по которым дикари поднимались наверх, и стреляли, пока их не сразили копьями. Эти двое хотели дать время тебе и Рыжему быку скрыться. Разумеется, обо мне эти ребята не думали, хоть я и был их другом. Теперь они наверняка мертвы или же попали в плен. — Боже мой! — воскликнул я. Затем, не обращая внимания на протесты Ханса (Аркл далеко обогнал нас), я подполз к выходу из расщелины и, рискуя жизнью, огляделся. Готтентот оказался прав. Там, на лавовых плато, лежали трупы Тома и Джерри. Один из дикарей оттащил их туда и сейчас как раз собирался отрезать копьем голову бедному Джерри. Преисполненный горя и ярости, я застрелил его, что заставило всех остальных удрать обратно в донгу. Затем, не дав врагам времени опомниться, я выскочил наружу, схватил винтовку Тома, которую воин абанда в страхе выронил, и вернулся в расщелину. Винтовка Джерри, к сожалению, не нашлась, — скорее всего, ее забрали туземцы. Так оборвалась жизнь двух храбрых, но невезучих охотников. Казалось, с первого дня путешествия над ними нависла тень неминуемой гибели. Оба умерли благородной смертью, пожертвовав собой, чтобы спасти нас. По крайней мере это им удалось, так что погибли они не зря. Продержавшись несколько минут и не давая дикарям вылезти из обрывистого оврага двумя возможными путями, эти храбрецы помогли нам пробраться к расселине. Уж не знаю, совершили ли Том с Джерри свой подвиг под влиянием минутного порыва или же проявили мужество целенаправленно, желая искупить свой прежний промах, о котором никак не могли забыть; а может, их просто-напросто подстегнули насмешки Ханса. Так или иначе, в этом испытании охотники продемонстрировали себя с лучшей стороны, отдав свои жизни ради нашего спасения. Честь им и хвала! Надеюсь, однажды я смогу поблагодарить обоих лично. Безутешный, я вернулся к своим спутникам и рассказал им о случившемся. Ханс, надо отдать ему должное, сильно огорчился, узнав, что его догадка — ведь он не мог знать наверняка — подтвердилась: Том и Джерри действительно оказались мертвы. Готтентот перечислял вслух их многочисленные достоинства и радовался, что оба охотника, подобно ему, были добрыми христианами, а стало быть, им нечего бояться огненного места, как Ханс называл тот свет. Он не сомневался, что покойные находятся теперь именно там. Полагаю, моего слугу немного мучила совесть за все те обидные слова, которые он из ревности наговорил охотникам, пока те были живы. У Аркла была иная точка зрения на случившееся. — Эти двое, — сказал он, — умерли, выполняя свой долг, и не нуждаются в сочувствии. Разве можно вообразить более славную кончину? А что вы скажете про Кенеку? Этот негодяй скрылся со своими людьми и бросил вас, своих товарищей. О себе я молчу, ибо у него не было передо мною никаких обязательств. Как вы думаете, почему он убежал? — Не знаю, — ответил я устало, — наверное, хотел спасти свою шкуру. Сами у него спросите, если мы снова встретимся. — И спрошу! — воскликнул Аркл, побледнев от ярости. Вскоре ему представилась такая возможность. Мы решили, что небезопасно оставаться у входа в расщелину, хоть дикари и не делали попыток следовать за нами. Почему злобные абанда оставили нас в покое? Кто их знает… А ведь Кенека, между прочим, предупреждал, что именно так и будет. Я предложил идти дальше и посмотреть, куда нас приведет этот путь. Поначалу мы продвигались во мраке, ибо в узкое отверстие на такой глубине проникало слишком мало света. Однако вскоре стены раздвинулись, и мы очутились на каком-то плато, в окружении скал. Здесь, сидя на камне, нас поджидал Кенека. Носильщиков нигде не было видно, — наверное, они ушли дальше. Он мрачно посмотрел на нас и произнес: — Я знал, что с вами ничего не случится, господин, поэтому пришел сюда первым и ждал здесь, ибо сюда абанда идти не осмелятся. — Вот, значит, как, — саркастически хмыкнул я. — Но откуда, скажи на милость, тебе было знать, что нам ничего не угрожает? — Об этом мне поведали звезды, господин, равно как и о том, что оба охотника сегодня умрут. Так ведь и случилось, верно? О судьбе белого чужака, — добавил он и злобно взглянул на Аркла, — мне ничего не известно, звезды пока еще не успели рассказать о нем. За меня ответил Аркл; он говорил вполголоса, но решительно: — Ничего ты не знал, собака, просто надеялся, что этот белый господин трусливо бросит меня, хромого, в пустыне, спасая свою жизнь, как сделал ты сам, и дикари убьют меня. Что ж, я не хуже тебя умею читать по звездам. И обещаю, что ты умрешь раньше меня, а мне достанется то, что ты потеряешь и на что сам сейчас нацелился. Ты все понял? Я знал о тебе еще до нашей встречи. Для меня не секрет, что ты лелеешь надежду стать вождем дабанда и завладеть Сокровищем озера. Ума не приложу, как Аркл об этом узнал. Но было очевидно, что эти странные слова значили для Кенеки больше, чем я мог себе представить в тот момент. Он мгновенно преобразился: побледнел, вернее, стал серым от страха и пришел в неописуемую ярость. Кенека бешено вращал глазами, в уголках рта его выступила пена, и даже борода ощетинилась. — Я знаю, кто ты такой и зачем сюда пришел! — кричал он, тыча в Аркла пальцем. — Звезды давно предупреждали меня о тебе и о твоих намерениях. Ты снова хочешь ограбить меня, как сделал в далеком прошлом, хотя ты этого и не помнишь. Поэтому я и нанял охотника Макумазана, ибо без его помощи был обречен на гибель. Но судьба жестоко подшутила надо мной. Мне был знак, что я должен попасть в эту страну раньше и покончить с тобой. Однако случилось так, что я опоздал и первым здесь появился ты, белый вор. Но все еще можно исправить. Ты больше никогда не увидишь Сокровище озера! Процедив сквозь зубы последние слова, Кенека выхватил жуткого вида сомалийский нож с изогнутым лезвием и бросился на Аркла. Он напал внезапно, как лев на оленя на водопое, и я уж решил было, что здоровяку-британцу пришел конец. Мы с Хансом стояли поодаль, и я не успел вовремя вытащить пистолет. Так что ничего не оставалось, кроме как ждать развязки. Однако далее произошло такое, чего никто из нас не ожидал. Кенеке не удалось застигнуть Аркла врасплох. Оставаясь на месте, тот лишь вскинул руку и в тот самый миг, когда Кенека занес нож для удара, молниеносно схватил его за запястье и сжал словно в тисках. Пальцы нападавшего разжались, и нож упал на землю. Правой рукой Аркл схватил противника за горло и встряхнул, как мангуст, поймавший змею. Затем он подхватил Кенеку на руки и со всей силы швырнул его на каменистую почву. Кенека ударился затылком и остался лежать без сознания. Вдруг из-за угла появился морщинистый старик с проницательным взглядом, которого я видел впервые, но о котором, похоже, уже слышал от своего нового знакомого. Он подбежал к Арклу и что-то зашептал ему на ухо, словно бы давая наставления. Казалось, это продолжалось целую вечность, Аркл время от времени понимающе кивал. Вдруг старик предостерегающе вскрикнул и указал в сторону Кенеки, который пришел в себя. Затем он проворно юркнул обратно за угол расщелины, откуда перед этим появился, и совсем скрылся из виду. Аркл поднял с пола нож, бросился вперед и поставил ногу на грудь поверженного противника, не давая тому подняться. — Пожалуй, за нарушение клятвы тебя следовало бы убить на месте. Думаю, это было бы справедливо. Или все-таки оставить тебе жизнь? — Пощади меня, господин, — пробормотал Кенека, не сводя глаз с ножа. — Я сделаю все, что тебе угодно. — Хорошо. Опустись на колени, — приказал ему Аркл. Кенека с трудом преклонил колени. В эту минуту Ханс ткнул меня в бок и показал куда-то. Из-за угла расщелины на дальнем краю плато, где скрылся старик, появилась группа дикарей-дабанда, и среди них были наши носильщики. Они-то, скорее всего, и позвали остальных. Эти высокие люди, красивые и большеглазые, были внешне очень похожи как на Кенеку, так и на дикарей-абанда, напавших на нас. Ни один из туземцев не был голым. Все они оказались облачены в длинные, судя по всему, льняные одежды, которые были в основном белого цвета и лишь у некоторых — синего. — Держи винтовку наготове, — велел я Хансу и стал с интересом ждать развития событий. Если даже дабанда и собирались напасть на нас, в чем я сомневался, то, увидев Кенеку, стоявшего на коленях перед белым человеком, мигом передумали, до глубины души изумленные столь странным зрелищем. Аркл тоже заметил пришельцев и обратился к ним, возвысив голос: — Добро пожаловать, Кумпана, и вы, люди дабанда, хранители Сокровища озера! В добрый час вы присоединились к нам. Послушайте, как этот Кенека, который, как говорят, пользуется у вас уважением, поклянется в верности мне, белому Страннику, прибывшему сюда из-за моря. Он хотел меня убить и коварно набросился с ножом, попытавшись застать врасплох. Я победил, но сохранил ему жизнь. Слушай же слова клятвы, змей Кенека, и громко повторяй за мной, чтобы их слышали хранители Сокровища озера и могли передать всему народу дабанда. Если откажешься подчиниться мне, то умрешь. Аркл произносил текст, которому, должно быть, его научил Кумпана, а Кенека слово в слово повторял: — Я, Кенека из народа дабанда, пытался коварно лишить тебя жизни, о Странник, пришедший к нам из-за моря, но ты оказался сильнее, победил меня и благородно сохранил мне жизнь. Поэтому я, Кенека, отныне буду служить тебе, навеки сделавшись твоим рабом. Все свои права и мое положение в племени дабанда я добровольно отдаю тебе. Там, где стою я, теперь стоишь ты. Отныне я — это ты, а ты — это я. Клянусь в этом именем Энгои, Тени, лежащей на священном озере Моун, и если я нарушу сию клятву словом или делом, то пусть проклятие Энгои падет на меня. Кенека послушно вторил ему, пока не дошел до слов «клянусь в этом именем Энгои»: тут он словно бы споткнулся и умолк. — Продолжай, — велел Аркл, но Кенека как будто онемел. — Ладно, не хочешь — не надо, но тогда прощайся с жизнью, как того заслуживает подлый убийца. — Тут англичанин схватил Кенеку за волосы и приготовился снести ему голову кривым сомалийским ножом. В полном ужасе Кенека обратился ко мне. — О господин Макумазан! — вскричал он. — Умоляю тебя, спаси меня! — Интересно, с какой стати я должен тебе помогать? Ты коварно бросил меня вместе с моими людьми, и теперь мои храбрые охотники мертвы. Если бы ты и носильщики остались с нами и приняли бой, Том и Джерри до сих пор были бы живы. Ты скоро сам с ними встретишься и сможешь об этом поговорить. А еще ты, Кенека, неизвестно зачем пытался убить моего соотечественника, белого господина, хоть и поклялся мне, что не причинишь ему вреда. Он победил, и теперь твоя жизнь по праву принадлежит ему. По своему великодушию белый Странник сказал, что пощадит тебя, если ты принесешь ему определенную клятву. Кто же виноват, если ты отказываешься это делать? Тут Кенека вспомнил о своих соплеменниках-дабанда, которые притихли у него за спиной и наблюдали за происходящим затаив дыхание, ибо слышали, как до этого к ним обратился Аркл. Поэтому негодяй сделал еще одну попытку спастись: — Помогите мне, о братья, ведь мне предназначено быть вашим вождем. Разве вы видели, как я причинил вред этому белому Страннику, несомненно явившемуся на нашу землю со злым умыслом? Помогите мне, о стражи священного озера и хранители Тени, которая покоится на озере. Не дайте свершиться несправедливому суду! — Да, — вдруг сказал Аркл, — подойдите сюда, люди племени дабанда, и положите копья на землю. Не вздумайте даже коснуться их, иначе будете иметь дело с господином Макумазаном. Подойдите к нам и рассудите меня с этим человеком. К моему удивлению, дабанда повиновались. Они послушно сложили копья на землю и приблизились к нам на несколько шагов вслед за морщинистым стариком с проницательным взглядом, который двигался бесшумно, как кошка. Это был тот самый человек, что недавно давал наставления британцу. — Приветствую тебя, великий Кумпана, мой друг и проводник, — сказал ему Аркл. — Благодарю тебя за совет, ведь ты мудрейший из дабанда. Ты поведал мне о своем народе и об этом змее Кенеке. Рассуди же нас по справедливости, ведь ты знаешь, что случилось. Принадлежит ли мне жизнь того, кто пытался меня убить? — Да, — ответил Кумпана, — если только он не выкупит ее, принеся клятву, которую ты от него требуешь. — А если этот человек поклянется, должен ли он потом служить мне и отдать свое место, власть и права в племени дабанда? — Это так, белый господин. — А что будет, Кумпана, если Кенека вновь нарушит клятву? — Тогда, господин, ты призовешь на него проклятие Энгои, и оно обязательно исполнится. Правду ли я говорю, люди дабанда? — Сущую правду, — было ему ответом. — Слышал, Кенека, как твои соплеменники подтвердили законность моих слов? Теперь выбирай: либо ты принесешь клятву, либо умрешь. — Клянусь, — прохрипел Кенека, почувствовав у горла острие ножа. И послушно повторил каждое слово ненавистного обещания. Тем самым он передал все свои права и привилегии Арклу и подтвердил, что если нарушит свое слово, то проклятие Энгои обрушится на его голову. Покорившись таким образом судьбе, Кенека сник и весь задрожал. Тут я призадумался: интересно, на самом деле проклятие сие так серьезно или же он просто это себе внушил? Будучи по натуре скептиком, я, однако, почувствовал, что за всем этим кроется нечто большее, чем я могу себе представить. Я словно бы приблизился к разгадке одного из таинств Центральной Африки, о которых большинство европейцев узнает лишь из сомнительных источников, получая информацию в искаженной форме, а потому частенько считает сие легендами и не воспринимает всерьез. Когда Кенека завершил клятву, по традиции поцеловав ноги белого господина, и хотел было уже подняться с колен, Аркл удержал его и обратился к морщинистому старику: — А теперь скажи мне, Кумпана, кто ты такой? — Господин, ты доселе не ведал, что я старейшина Совета Тени. Я управлял этой землей, пока Тень не покинула наш мир и после того, как она вернулась в новом обличье. — Ты муж Тени, Кумпана? — Нет, господин. Ее супруг, Щит Тени, умирает, когда уходит сама Тень. Я лишь смиренный ее служитель, исполнитель указов. Поэтому я привел тебя в эту землю, но ты ослушался Тени и преступил закон, за что тебя подвергли гонениям. Как видно, тебя охраняет могучая сила, раз ты до сих пор еще жив. — Если я и оступился, то уже сполна заплатил за ошибку. Скажи, могу я заслужить прощение? — Ты уже прощен, господин, потому что Кенека в молодости совершил куда худший проступок и его простили. Вернее, — уточнил Кумпана, — он сумел избежать наказания. — А кто такой Кенека? — спросил Аркл. — Кенеке было предназначено стать Щитом Тени, когда она снова появится в назначенный день на земле дабанда. За грех против Энгои его изгнали с родной земли, и он жил в изгнании, пока к нему не пришел белый господин, прозванный Макумазаном. И теперь Кенека вернулся вместе с ним, дабы исполнить то, что предначертано небесами. Остальное тебе известно. — Кенека пытался убить меня и посредством клятвы выкупил свою жизнь, отдав мне взамен свои права и место в племени. Должен ли я теперь стать Щитом Тени вместо него? — Похоже, что так оно и есть, господин, — не слишком уверенно ответил Кумпана. — Но сначала Совет Тени должен все хорошенько обдумать. Ведь я не могу ничего решать в одиночку. Тут я тоже подал голос: — Кумпана и вы, народ дабанда! Меня, белого охотника, ловко завлекли в землю, полную доселе неведомых мне тайн. Я спас этого белого господина от смерти и привел его сюда, отразив по пути нападение воинов из враждующего с вами племени. В этом сражении я потерял двух храбрых слуг, которыми очень дорожил. Кенека виноват в их гибели, и это не дает мне покоя. Он предательски бросил нас в надежде, что, спасая свою жизнь, я точно так же поступлю с другим белым человеком, который, будучи хромым, не мог быстро передвигаться. Однако я не покинул его, а что было дальше, вы знаете. Мы очень устали и скорбим о потере отважных охотников, отдавших ради нас свои жизни, и нам всем просто необходимо утолить голод и выспаться. Белый господин, которого вы зовете Странником, заключил с вами довольно необычную, на мой взгляд, сделку. Мое дело гораздо проще. Я хочу знать: если я и мой слуга отправимся с вами, стоит ли нам опасаться за свои жизни? Клянетесь ли вы Энгои, вашей богиней, и Тенью, или Сокровищем озера, ее жрицей, что нам не причинят никакого вреда, а когда я пожелаю вернуться домой, снабдят всем необходимым для путешествия? Если да, то я останусь, если нет, то сейчас же отправлюсь туда, откуда пришел, — и да поможет мне Бог. — О Макумазан, — ответил Кумпана, посоветовавшись кое с кем из собратьев, — мы клянемся тебе в этом именем Энгои. Мы клянемся тебе в том, что, выполнив свою миссию, ради которой мы тебя сюда призвали, ты сможешь благополучно покинуть нас, когда пожелаешь. Обещание сие показалось мне несколько расплывчатым. Меж тем я прекрасно понимал, что особо выбирать не приходится, тем более что я чувствовал себя совершенно обессиленным и не был готов противостоять дикарям, которые, вероятно, поджидали снаружи. Поэтому я примирился с обстоятельствами.Глава 13
ПЕРЕД АЛТАРЕМ
Когда мы, благополучно избежав нападения со стороны абанда, миновали проход, бывший, по сути, зигзагообразной расщелиной или трещиной в толще застывшей лавы вулканического кратера, день уже клонился к вечеру и предгорье было залито светом заходящего солнца. Подобная красота встречается в дебрях Африки на каждом шагу, и эта долина выделялась среди других разве что своими размерами. Оглядывая тянущиеся на многие мили просторы, трудно было поверить, что все это — кратер огромного вулкана или даже кольца вулканов и миллионы лет назад здесь бурлило озеро кипящей лавы. Со всех сторон нас окружал скалистый обрыв, некогда сформировавший наружную стену кратера. Теперь ее опоясывало обширное пространство плодородной земли, отлого спускавшейся до самого леса. Отсюда все было видно как на ладони. Посреди леса, в углублении кратера, поблескивала водная гладь большого священного озера Моун. В этот вечерний час оно вызывало восхищение и в то же время нагоняло страх. Высокие кроны деревьев, которые обступали озеро со всех сторон, не позволяли лучам заходящего солнца проникнуть к его поверхности. Самое подходящее место для всякого рода тайн. Однако я слишком устал, чтобы любоваться здешними красотами или пытаться разгадать чужие секреты, и очень обрадовался, когда нас наконец привели к расположенному в тени горных пальм дому, похожему на бунгало или шалаш сторожа. Он состоял из стволов деревьев, увенчанных соломенной крышей, а стенами ему служил, по-видимому, высушенный тростник. Внутри было чисто, уютно и прохладно, а снаружи наверняка стояла печь, ведь нам принесли горячую пищу. Я так сильно устал, что уписывал угощение за обе щеки, не задаваясь вопросами, из чего это приготовлено и откуда взялось. Лишь об одном я спросил Кумпану: выставлена ли у входа охрана? Он заверил меня в полнейшей безопасности, и, удовлетворившись этим, я отправился спать, уповая в душе на лучшее. Помню, перед тем как окончательно погрузиться в сон, я подумал, что по какой-то причине моя скромная персона слишком важна для местных жителей, чтобы они захотели со мной разделаться. Кенеки рядом не было, поэтому я повернулся на бок и моментально уснул, как уставшая охотничья собака. Полагаю, Аркл последовал моему примеру. Когда я проснулся, солнце уже стояло высоко, а Аркл исчез. Я спросил Ханса, уж не случилось ли чего, ведь я невольно ждал от этих дабанда подвоха. — О нет, баас, вы же знаете, что Рыжий бык победил Кенеку и купил у того право первородства, ну совсем как в Библии, а взамен не стал протыкать его, будто свинью. Теперь Рыжий бык — великий вождь. Так что дабанда пришли к нам с носилками и унесли его куда-то, чтобы Страннику самому не ковылять. Он просил передать, что не хотел будить вас, баас, потому что вы сильно устали, тем более что совсем скоро вам предстоит встретиться — там, где заседает Совет Тени, в городе дабанда. И еще Рыжий бык сказал, что баасу не о чем беспокоиться. — Значит, он нас бросил. — О нет, баас, ему просто пришлось уйти. Скоро мы его увидим. Понимаете, баас, Рыжий бык стал жрецом и вождем, и теперь он сам себе не хозяин. Он-то думает, будто управляет духами и людьми, а на самом деле это они управляют Рыжим быком, как им заблагорассудится. Ничего, Кумпана не даст нас в обиду. Смотрите, баас, нам принесли завтрак, так давайте насладимся угощением, пока есть такая возможность. Совет готтентота был вполне благоразумным, и я решил ему последовать. Умывшись в ручье неподалеку от нашего пристанища, я съел превосходное рагу из козленка, фаршированного перепелами. После завтрака Ханс подал мне пухлый кисет, набитый первосортным табаком, чем несказанно меня удивил. Он объяснил, что здесь это растение не только выращивают, но и, более того, делают своего рода сигареты, скручивая их из кукурузных листьев. А еще, подобно банту, в этом племени был в ходу нюхательный табак. Между прочим, не мешало бы всерьез изучить вопрос о том, как табак попал в Африку: полагаю, могло бы получиться весьма интересное исследование. Произрастал ли он там изначально или был откуда-то ввезен арабами? А может, это сделали, уже значительно позднее, португальцы? Кто знает… Но в любом случае, увидев курево, я обрадовался, ведь наш табак закончился, а запасы в коробке, которые были доверены носильщикам, отсырели при переправе и превратились в зловонное месиво. Я знаю, что некоторые категорически возражают против курения, считая его крайне вредным, однако, на мой взгляд, это один из даров, ниспосланных нам Небесами. Я набил трубку и попробовал местный табак. Он оказался довольно крепким и сладковатым на вкус. Тут пришел Кумпана и спросил, готов ли я последовать за ним. Я ответил, что готов, и мы зашагали вниз по склону, в сторону леса, под охраной десяти стражников дабанда. При внимательном рассмотрении долина огромного кратера оказалась еще более удивительной и прекрасной. Правда, погода стояла весьма жаркая. Лес был не слишком густым и походил на большой парк. Высокие кедры и красные сандаловые деревья росли тут группами и поодиночке, перемежаясь травянистыми полянами. В зарослях бродило изрядное количество дичи. Одних только антилоп там было великое множество: канны и винторогие, черные лошадиные и белохвостые гну, а также лесные антилопы — самые крупные экземпляры, какие мне только доводилось встречать в разных уголках Африки. А вот слоны и носороги нам почему-то не попадались. Как ни странно, львы тут как будто тоже не обитали, чем, по-видимому, и объяснялось такое разнообразие фауны. Здесь в изобилии водились прекрасные птицы, порхали восхитительные бабочки: они были ярко-синими, огромного размера, а летали необычайно высоко и со скоростью ласточек. Родник питал речки, и они весело бежали вдоль оврагов, поросших папоротником, к озеру. В общем, после засушливых равнин по ту сторону гор казалось, что мы просто угодили в рай на земле. По пути я разговаривал с Кумпаной, который на первый взгляд производил впечатление человека приятного и искреннего. Старик рассказал мне много интересного, уж не знаю, чему из всего этого можно было верить. По его словам, дабанда действительно поклонялись звездам, как и их соседи-абанда, жившие за горой, и владели, как я понял, зачатками знаний по астрономии. Изначально абанда и дабанда были одним народом, но «тысячи лет назад» их вожди, братья-близнецы, поссорились, и началась, как мы бы это назвали, гражданская война, в ходе которой один брат коварно убил другого. Они оба претендовали на брак с Энгои, чем страшно ее разгневали. Спор сей и стал причиной взаимной вражды. Богиня призвала на убийцу и его сторонников проклятие Небес и изгнала их из земного рая (при помощи какой-то сверхъестественной силы или же вполне реального оружия — этого мне так и не удалось выяснить) на горные склоны и близлежащие равнины. С тех пор абанда стремятся вернуть покровительство богини. Увы, то ли из-за своей корысти, так как представители этого народа жаждут регулярно получать от нее дожди и обильные урожаи, то ли по какой-то иной неведомой причине они никак не могут достигнуть желаемого, и проклятие продолжает действовать из поколения в поколение. Однако существует пророчество, которое гласит, что их чаяния исполнятся, когда очередной верховный жрец Энгои, муж или суженый Тени, известной также как Сокровище озера, вернет их в землю дабанда и примирит с обиженной богиней. А еще старик Кумпана поведал мне, что земное воплощение Энгои, жрица, которая из поколения в поколение зовется Тенью, от рождения и до самой смерти живет на острове посреди священного озера Моун. До сих пор никто из абанда еще не осмелился войти в землю Моун — так дабанда называли свою страну, окруженную стенками кратера. — И почему же, если у них много храбрых воинов? — удивился я. — Да потому, господин, что тогда на абанда обрушится проклятие, которое принесет им позорную гибель. Не знаю, как именно это случится, но абанда верят, что падут от наших рук. Поэтому, как только вы вошли в расселину в скале, вам уже больше ничего не угрожало. Не страшись абанда проклятия, эти негодяи наверняка последовали бы за вами и убили, ведь они превосходили вас числом. По этой же причине нам не понадобилось много стражников — ни тогда, ни сейчас. Я подумал, что мне не по душе такая безопасность. Что за всем этим стоит? Дикий или полудикий народ, считающий себя изгнанным из подобия Эдема пламенным мечом небесного проклятия. А ведь этих самых дабанда больше, и они сильнее тех, кто остался в райском саду, однако, хотя ворота в него не заперты, они не смеют войти, потому что невидимый меч проклятия, издавна нависший над этим племенем, поразит и уничтожит их всех до единого. Прямо скажем, в подобное верилось с трудом. Похоже, однако, что история эта была правдивой. Ведь дабанда действительно не последовали за нами в безопасную расщелину. Они, конечно, испугались наших ружей, но троих человек против сотни было явно недостаточно, чтобы заставить их идти на попятную. Нет, Кумпана прав: злоумышленников остановила могучая рука священного ужаса. Надо же, до чего все-таки сильны суеверия. В целом мире — или, во всяком случае, в Африке — нет ничего их могущественнее. Признаюсь вам честно, что порой, задумываясь об удивительной власти суеверий, я спрашиваю себя: а уж не кроются ли за некоторыми из них истины, пока еще неизвестные человеческому разуму? Однако, понятное дело, я не стал делиться этими мыслями со своим собеседником, а почел за лучшее держать язык за зубами. И все же я не мог не спросить у Кумпаны — если он, конечно, знал ответ на этот вопрос и был готов поделиться со мной, — каковы во всей этой истории роли Аркла, которого он звал Странником, и моя собственная. Как ни странно, старик не отказался отвечать и не постарался переменить тему, как то принято у туземцев, а откровенно заявил, что сие ему, к сожалению, неведомо. Вот что он сказал: — Мы повинуемся звездам, господин. Спрашиваем у них совета, как делали испокон веку наши отцы и деды. Читаем небесные послания и следуем им. Еще много лет назад звезды говорили с нами через уста той, что зовется Тенью. Не той, что правит нами сегодня, а другой, что была до нее и ушла на небеса. Она предрекла, что в этом году на нас обрушится страшная война. А ведь мы сроду не ведали войн. Позднее уста ушедшей Тени велели нам призвать Кенеку из далекой земли, куда он был изгнан за преступление, совершенное в юности против нее. Он должен был привести с собой белого человека. Тень назвала нам твое имя: Макумазан. Приказ отправили Кенеке, и он подчинился, иначе бы его ждала смерть. Как повелела Тень, посланнику судьбы надлежало убить Кенеку, если тот откажется идти, а если послушается, охранять его от всех опасностей. Вот и все, что нам известно, но теперь я понимаю: если бы ты не пришел, то другой белый человек, Странник, был бы убит. Сия история, которая более или менее совпадала с рассказом Кенеки, казалась этим людям вполне реальной, тогда как мне самому представлялась таинственной и мистической. Интересно, возможно ли, что Белая Мышь и была этим самым, как выразился Кумпана, посланником судьбы? Затем мысли мои приняли иное направление. Я решил сменить тему и спросил напрямик: — Скажи, а зачем ты встретил за пределами страны абанда белого господина, которого вы именуете Странником, и привел его сюда? Кумпана сразу переменился в лице, взгляд его будто заволокла завеса тайны. — Господин, есть вещи, о которых я не могу с тобой говорить, хоть ты и пришел к нам как друг. Знай же, что мы, дабанда, не похожи на другие племена. Мы малочисленный древний народ и живем благодаря тайным знаниям. Нами руководит не сила, а небесная мудрость, исходящая от звезд. Именно оттуда являются духи, которые наставляют нас через уста Тени, то есть Сокровища озера, или каким-то иным путем, недоступным для понимания белых людей, даже таких мудрых, как ты, господин. Звезды наделяют нас даром провидения, и порой мы способны вернуться в темное прошлое или даже узреть за туманной пеленой свет будущего, который ослепил бы всех прочих. Некоторые из нас даже обладают властью над смертью. Разумеется, тела наши умирают, как и у всех прочих, но для нас все на этом не заканчивается. Мы открываем дверь не в темноту, просто переходим в другое жилище, то есть в другое тело — лучшее или худшее, это смотря кто что заслужил. Еще мы обладаем властью над дикими зверями. — (Тут я вспомнил о Кенеке, львах и слонах.) — Мы можем заставить их слушаться, как домашних собак. Если не веришь, то погляди вон на тех антилоп. — Кумпана показал на стадо белохвостых гну, которые выглядывали из-за деревьев ярдах в ста пятидесяти от нас. Я всегда думал, что этих диких животных приручить невозможно. — Сейчас я их позову, и ты сам убедишься. Старик отошел от меня в сторону и издал какие-то напевные призывы. Гну как будто прислушались, а затем медленно двинулись в нашу сторону и вскоре остановились рядом с Кумпаной, как коровы во время дойки. Они терпеливо и покорно ждали, но, почуяв мой запах, зафыркали, замахали хвостом, выставили вперед рога и, к моему ужасу, понеслись прямо на меня. Мы с Хансом уже приготовились стрелять, но тут вдруг Кумпана что-то им сказал и замахал руками, совсем как укротитель на дрессированных животных. Гну тут же развернулись и неуклюже поскакали прочь. — Это не антилопы, баас, — прошептал Ханс, — а люди в облике зверей, как и те слоны. — Возможно, — ответил я, слишком пораженный, чтобы спорить. А Кумпана вновь заговорил: — Надеюсь, теперь ты поверишь, Макумазан, что мы имеем власть над животными, которых считаем своими братьями. Они живут здесь в полной безопасности. Мы использовали звездную силу, чтобы прогнать с нашей земли опасных зверей вроде львов и крокодилов. Ты также не найдешь здесь ни одной змеи, господин. — («Должно быть, — подумал я, — святой Патрик завещал племени дабанда свою мантию».) — А еще мы умеем лечить болезни и насылать хвори, вызывать дождь и останавливать бурю — поэтому нас считают колдунами. — Пусть так, но все это не объясняет, с какой целью ты привел в свою землю белого Странника и почему его затем отсюда изгнали, подвергнув, как оказалось, смертельной опасности. — Я привел этого человека, Макумазан, потому что ему суждено сыграть важную роль в нашей истории, так же как и некогда в прошлом. А прогнали мы Странника за непослушание. Им овладело безрассудство, и в наказание он должен был изведать вкус страха. Больше не спрашивай меня о нем, господин, потому что я не смогу ответить. Кто знает, не найдешь ли ты ответы сам, прежде чем все свершится. Мне захотелось утолить свое любопытство до конца и спросить старика еще и о таинственной женщине, которая, как утверждают, живет на острове посреди священного озера. Я подозревал, что она представляет собой что-то вроде африканского водяного из старинных легенд, которые встречаются в любой стране. Однако стоило мне лишь заикнуться о Тени, как Кумпана, обычно такой спокойный и приветливый, сурово посмотрел на меня, и я умолк. — Господин Макумазан, я вижу, что ты не веришь в нашу жрицу, Тень Энгои, которой мыпоклоняемся. Мы не говорили об этом, но у тебя все написано на лице. Насколько я знаю белых людей, они невежественны в чужих верованиях и относятся к ним снисходительно. Однако я прошу тебя не глумиться над нашей жрицей, а ведь именно это было у тебя на уме. Я ответил на твои вопросы как мог, но о ней я говорить не хочу. Ты сам должен будешь все узнать. — И, не дав мне и рта раскрыть, Кумпана присоединился к стражнику. Мы с Хансом остались вдвоем. — Баас, — подал голос мой слуга, — вас всегда привлекали приключения и интересовали загадочные народы. На этот раз вам повезло вдвойне. Похоже, баас, они тут все колдуны вроде Кенеки. Мы угодили в их сети, и уж теперь, можете не сомневаться, баас, эти пауки выпьют все наши соки. Кстати, Рыжий бык тоже колдун, иначе его уже давно бы убили. И с чего бы дабанда вдруг так радуются его появлению, если этот парень не один из них? А как, интересно, он моментально запомнил слова клятвы, когда заставил Кенеку их повторить? Да и Белая Мышь наверняка тоже была ведьмой, хотя и очень милой. Иначе как бы она сумела заморочить голову доброму христианину Хансу? Она ведь заставила меня поверить, что она ревнивая жена Кенеки и что я ей нравлюсь! Ох и угораздило же нас забрести в заколдованную землю, где антилопы гну подобны послушным псам, а дороги охраняют духи. Мы никогда не выберемся отсюда живыми, баас. Скорее уж нас превратят в зверей — слонов или антилоп — и станут на нас охотиться. Приблизительно такие же опасения высказывали прежде Том и Джерри (впрочем, нельзя сказать, что совсем уж без оснований), и я обеспокоился, уж не заразился ли Ханс их мрачными фантазиями. Однако, будучи по натуре оптимистом, мой готтентот не мог долго предаваться унынию и вскоре повеселел. — А все-таки, баас, — усмехнулся он, — Белой Мыши не удалось полностью меня одурачить. И местным колдунам придется очень постараться, чтобы обмануть Ханса. Такой примерный христианин, как я, да еще имеющий в наставниках и покровителях вашего преподобного отца, готов бросить вызов самому дьяволу. Не горюйте, баас, со мной не пропадете. Главное, слушайтесь меня во всем и не позволяйте этой Тени одурачить вас, как то прежде сделала Белая Мышь. Да-да, все еще может закончиться хорошо. Кто знает, может, эти гну просто-напросто ручные, как у шотландцев на их фермах близ Дурбана. Там ведь антилопы запросто подходят к человеку и едят у него с рук. Да, я уверен, что дабанда их приручили, только и всего. — Ну разумеется, — согласно кивнул я. — Сам я в магию абсолютно не верю. Но мне бы хотелось знать, что сталось с Арклом, тем белым господином.По этой удивительной местности мы шли целый день. Наконец к вечеру показались возделанные участки земли, и мы приблизились к городу, расположившемуся у самой кромки леса. Не имевшие оград аккуратные побеленные домики из глины и соломы, с крышами из пальмовых листьев или плоскими кровлями из известкового цемента, были разбросаны там и сям по обеим сторонам улиц. Все вокруг буквально утопало в зелени: вокруг каждого дома был разбит большой сад. Короче говоря, этот, с позволения сказать, город дабанда не имел ничего общего с перенаселенными городами Нигерии, да и вообще больше смахивал на небольшую деревню, каковых можно немало встретить в Восточной и Центральной Африке. — Если этот крааль считается у них главным, — заметил наблюдательный Ханс, — то народ дабанда действительно немногочисленный. И в самом деле, за все время пути через широкую и плодородную долину кратера мы почти не видели следов человеческого присутствия. Вдоль дороги нам встретились от силы три хижины, окруженные садами. В отдаленных районах не попадалось ни одного домашнего животного, только дикие. Правда, около так называемого города паслись небольшие стада коров и косматых горных козлов. Дороги нигде не охранялись. Совершенно ясно, что маленькое племя дабанда до сей поры полагалось на силу духов, а не оружия. В целом все это совпадало с объяснениями Кумпаны. Мы вышли на главную улицу города, которая, в общем-то, никуда не вела, и зашагали по ней, стараясь не привлекать внимания. Иногда какая-нибудь женщина выглядывала из-за двери дома или старик прерывал работу в саду, чтобы посмотреть на прохожих. Время от времени к процессии присоединялись дети и с важным видом следовали за нами, но затем останавливались и возвращались обратно. Признаться, меня тогда удивила реакция местных жителей (как, впрочем, и все остальное в этом странном племени), ведь они никогда раньше не видели белого человека, за исключением Аркла. Но очевидно, народу дабанда любопытство было абсолютно несвойственно. Сказать по правде, они походили на обычных людей лишь внешне и сильно смахивали на лунатиков или же на тех, кто находится под воздействием злых чар. Этакие пожиратели лотоса, которым нет нужды особенно напрягаться и прилагать старания, потому что их кормит природа и защищает божественная сила. Впоследствии все увиденное и услышанное в городе дабанда лишь утвердило меня в том первоначальном мнении. Следует добавить, что все местные мужчины и женщины были очень красивы, но невероятно похожи друг на друга: вероятно, сказывались обособленная жизнь и отсутствие свежей крови. Внешность дабанда была весьма примечательной: тонкие черты лица и относительно светлая кожа, как у метисов или персов; прямые волосы; большие, сонные, словно у филина, глаза. Я сам наблюдал, как их зрачки расширялись с наступлением ночи, точь-в-точь как у зверей, охотящихся в темноте. Длинная широкая улица перешла в открытое пространство, которое, за неимением более подходящего слова, назовем рыночной площадью. Земля тут была плотно утрамбована. Полукругом через равные промежутки стояли большие дома, по размеру значительно превосходившие тот, где поселили нас. Должно быть, здесь жили приближенные вождя с женами, если, конечно, у них были семьи. С другой стороны площадь опоясывал густой лес с высокими величественными деревьями; он спускался к озеру, видневшемуся в паре миль от города, насколько я мог судить с такой высоты. В центре площади возвышалось три любопытных строения. Две остроконечные башни из грубого камня, высотой около шестидесяти футов, с винтовыми лестницами, опоясывающими их до самой верхушки, а между ними — большой помост около двадцати футов в высоту. Он напоминал недостроенную пирамиду, в центре которой горел костер. — Что это, баас? — заинтересовался Ханс. — Смотровые башни. — Ну и какой прок в таких башнях, коли оттуда не видно ничего, кроме неба? Тут я догадался, в чем истинное предназначение этих сооружений. Башни служили обсерваториями, а усеченная пирамида — большим алтарем, где жрецы совершали жертвоприношения. Оставалось лишь гадать, кто станет следующей жертвой. Однако особо раздумывать было некогда. Кумпана, который присоединился к нам на окраине города, указал на один из домов и сообщил, что я буду жить здесь. Здание сие, хоть и имевшее плоскую крышу, превосходило размерами все прочие, за исключением того, что стояло по соседству и, скорее всего, принадлежало вождю. Вокруг каждого дома был разбит сад. Веранда вела во внутреннее помещение, состоявшее всего из одной большой побеленной комнаты без окон. Свет проникал через открытый дверной проем. В ночное время его занавешивали циновкой. Подобно дорогам, дома здесь не были защищены от нападения воров. Как выяснилось позднее, такие понятия, как «кража», были совершенно чужды обитателям земли Моун. В комнате, к моему огромному удовольствию, обнаружились все наши товары, которые дабанда несли во время утомительного путешествия через долину. Все было на месте: патроны, лекарства, котелки, одежда, бусы и ткани; даже придирчивый Ханс не смог обнаружить недостачи. Пока мы производили осмотр, хорошо одетая старуха, не проявившая к незнакомцам ни малейшего интереса, принесла еду, приготовленную на заднем дворе, в хижине-кухне, а также глиняные кувшины, полные воды, и деревянную лохань, которую тут использовали вместо ванны. Мылись мы на веранде, благо окружавший здание глухой забор надежно скрывал нас от посторонних глаз, а потом уселись на деревянные табуреты, которые нашли в доме, и как следует подкрепились. Мы как раз покончили с едой, когда снова появилась старуха и принесла две зажженные глиняные лампы в форме лодок, наполненные каким-то душистым маслом. В них плавали фитили из бузины или лыка. Делать было нечего, гостей мы не ждали, и я стал раздеваться, чтобы вздремнуть на уютной деревянной кровати. Такие кровати не редкость в Восточной Африке. Они состоят из рамы (голландские поселенцы называют ее cartel), обтянутой невыделанной шкурой, и матраца, набитого ароматным сеном. Не успел я разуться, как появился Кумпана, чтобы сопроводить нас на церемонию, где мы должны были встретиться с белым господином, которого он называл Странником. Поскольку я и сам хотел увидеть Аркла, то снова обулся, и мы пошли. Кумпана привел нас на рыночную площадь, хотя, возможно, ее более правильно было бы именовать соборной. Здесь уже собралось все взрослое население города. Люди сидели прямо на земле перед усеченной пирамидой: мужчины по одну сторону, женщины по другую, словно в церкви. Дабанда чинно помалкивали и курили свои «сигареты» из кукурузных листьев. Нас с Хансом провели между ними к подножию пирамиды, а затем мы поднялись на двадцать каменных ступеней. Наверху оказалось достаточно просторно. Перед горящим алтарем — низким, квадратным, приблизительно пять на пять футов, сложенным из плит застывшей лавы — стояли трое жрецов в белых одеждах. Они молились, низко склонив обритые наголо головы. По правую сторону от алтаря в таком же белом одеянии восседал — кто бы вы думали? — Аркл собственной персоной. Выглядел он, надо сказать, весьма внушительно. Напротив, тоже весь в белом, сидел его враг Кенека. Он яростно сверлил Странника своими выпученными глазами. Видимо опасаясь нападения с его стороны, к Кенеке приставили трех рослых стражей с копьями. Меня усадили рядом с Арклом, а Ханс, смущаясь и держась за рукоять револьвера, занял место позади. Кумпана встал лицом к народу, между Арклом и Кенекой, отвернувшись от алтаря и жрецов. Он молчал. Все вокруг погрузилось в тишину. Я хотел было пошептаться с Арклом, но тот отрицательно покачал головой и приложил палец к губам. Тишина завораживала. Никогда не забыть мне этой картины, когда при свете юной луны и ярких звезд, сиявших в небесной синеве, все вокруг замерло в ожидании. По левую сторону от меня притаилась бесконечная чаща леса, по правую виднелись серые крыши, а между ними — дабанда в торжественных одеждах; люди казались такими ничтожными на фоне окружающих их величественных просторов. Огоньки на кончиках сигарет выписали линию, неподвижно застывшую в воздухе, будто эти мужчины и женщины обратились в статуи. А рядом, всего в нескольких шагах, — алтарь. Даже огонь словно бы впал в транс и горел бесшумно, а три бритых жреца кланялись и махали руками, не произнося ни звука. Признаться, я сам тоже поддался всеобщему оцепенению, да и немудрено. Тишина стояла полнейшая, и когда я шевельнул ногой и царапнул каменный пол гвоздем в ботинке, он так громко скрипнул, что все разом обернулись и так на меня посмотрели, будто я совершил нечто из ряда вон выходящее. Это продолжалось довольно долго, пока наконец я не ощутил непреодолимое желание встать и что-нибудь сказать. Просто чтобы убедиться, что я еще жив. В самом деле, еще немного — и нервное напряжение вынудило бы меня или Ханса самым возмутительным образом прервать всеобщее молчание. Но как раз в эту минуту в тишину ворвался мелодичный голос, идущий откуда-то сверху. Я осмотрелся в поисках источника звука и сразу заметил, что на верхушке каждой из двух башен стояло по белой фигурке, которые, очевидно, всматривались в звезды. Песню, льющуюся со стороны левой башни, подхватил голос, идущий от правой. Оба звездочета пели в унисон, сладко и торжественно, однако слов я разобрать не мог, и указывали жезлами в небо. Все присутствующие как по сигналу ожили, подобно Спящей красавице, очнувшейся от поцелуя прекрасного принца. Публика, или паства, возбужденно заговорила; мужчины и женщины переговаривались друг с другом через проход. Очевидно, они обсуждали сообщение, которое посылали им с башен астрологи, читающие по звездам. Жрецы перешли от безмолвных жестов к молитвам, которые я тоже не понимал; верно, они говорили на каком-то древнем языке. Во всяком случае их наречие сильно отличалось от традиционного арабского языка, так что я смог разобрать только одно слово: «Энгои» — имя их божества. Воспользовавшись этой переменой, я спросил Аркла по-английски, что все это значит и почему он одет как дабанда. — Не забывайте, Квотермейн, после того, что произошло вчера между мною и этим джентльменом напротив, я стал вождем или жрецом дабанда, а может, ими обоими в одном лице. Вернее, меня, так сказать, взяли на испытательный срок, а сегодня все должно решиться окончательно. Что до людей на башнях, то они высматривали на небе и передавали присутствующим звездные знамения, однако в чем их суть, я сказать не могу. Теперь они все вместе помолятся и вроде как совершат подношение Венере, которая сверкает вон там, рядом с Луной. После чего наконец-то займутся моим делом. Аркл оказался прав. Возложив что-то на алтарь, трое жрецов повернулись к пастве и запели хвалебную песню, правой рукой показывая на Венеру; весь народ последовал их примеру, и даже астрологи на башнях простерли жезлы в небо и подхватили мотив — надо признать, довольно бодрый и заразительный. Вскоре Кумпана, стоявший перед жрецами, с видом распорядителя взмахнул руками, и пение резко прекратилось. Тогда он заговорил, очень быстро и неразборчиво. Возможно, это было частью ритуала (судя по странным словам и предметам, которые он использовал) или же старик пересказывал древнюю историю племени. Наконец он перешел на понятный мне язык и неспешно поведал присутствующим о том, что случилось вчера: о вероломном нападении Кенеки на Аркла, о победе последнего и о клятве, которую Кенека принес белому Страннику. — Вот что говорят нам звезды через провидцев, — подытожил Кумпана. — Наш почивший вождь назначил Кенеку своим преемником, главой народа дабанда и хранителем Сокровища озера. И вот после долгого наказания, когда он, во искупление тяжкого проступка, совершенного еще в юности, был изгнан с нашей земли и лишен всех привилегий, Кенеку снова призвали обратно, дабы он стал повелителем дабанда и Щитом Тени. Звезды говорят, что чужак, прозванный Странником, тот, кого пытался столь коварно убить Кенека, одержал победу и сохранил ему жизнь в обмен на клятву верности, на все права и положение в племени. Отныне Странник должен занять место Кенеки. О народ дабанда, теперь вы знаете тайну чужака, прежде сокрытую в веках. Принимаете ли вы повеление звезд о низложении Кенеки? Согласны ли вы поставить на его место одержавшего верх белого господина? — Принимаем! — в один голос ответил народ, как если бы эта сцена была заранее отрепетирована. — Мы согласны! — Кенека! — воскликнул Кумпана. — Ты услышал волю звезд и священного народа дабанда, единодушно принявшего твою клятву! Ты подчинишься? Кенека вскочил на ноги и громко воскликнул дрожащим от гнева голосом: — Нет, не подчинюсь! Я поклялся под страхом смерти, а такие клятвы не считаются настоящими. Что же до воли звезд и священного народа дабанда, то все это просто хитроумные уловки. Я тоже умею читать по звездам, и мне они сказали совсем иное. Народом управляют жрецы, а жрецами — Кумпана и Совет, которые составили против меня заговор. Я искупил грех юности и должен по праву стать Щитом Тени. Разве мой проступок хоть вполовину так же тяжек, как преступление этого белого вора? Он хотел надругаться над Сокровищем озера, за что был изгнан из страны, и, убив его, я бы всего лишь восстановил справедливость. Но я хочу спросить вас: кто он такой, этот Странник? Зачем он пришел в нашу страну? Колдуны утверждают, что он, как и я сам, — тот, кто давно умер и вернулся снова. Дескать, этот самый человек и есть правитель, воевавший за Сокровище озера с братом, которого впоследствии прогнал за горный перевал вместе с верными людьми, и они стали пращурами народа абанда. И Тени так полюбился этот древний король, ее суженый, что, почувствовав приближение смерти, она убила его, желая забрать с собой на небеса. За это преступление она навлекла на себя большое горе. — Кенека сделал непродолжительную паузу и заключил: — Якобы так говорит легенда. Но все это ложь, выдуманная Советом, которому Странник пообещал в обмен на помощь жрецов похитить Тень, чтобы они могли сами управлять страной. После этих слов народ пришел в волнение. Среди присутствующих, как я узнал позже, были друзья и родственники Кенеки, а также те, кто прочил его в вожди и хотел, чтобы он стал супругом Тени. Эти люди беспокойно ерзали и перешептывались, в то время как до них доходил кощунственный смысл его речей. — Да, — продолжал Кенека, — таков коварный умысел белого чужака, прозванного Странником, который я раскрыл. Планы сии настолько чудовищны, что духи — защитники леса и озера низвергли его с нашей земли и отдали в руки абанда. Однако он остался жив, потому что его спас господин Макумазан. Последнего мне было велено привести в нашу страну, чтобы он выполнил свою миссию и получил награду от этого вора, своего друга. Тут я крикнул Кенеке, что он лжец и предатель, потому что я ничего не знаю ни о каких заговорах. Но он пропустил мои слова мимо ушей и продолжил: — Поэтому я и хотел совершить правосудие над этим рыжебородым обманщиком, умудрившимся сбежать от абанда, но меня одолело могущественное дьявольское чародейство. И я был вынужден принести ложную клятву, чтобы спасти свою жизнь. Иначе кто бы отомстил за священный народ дабанда и защитил моих соплеменников от чужака, который хочет лишить их Сокровища озера? Тут Аркл прервал его и холодно, как истинный британец, произнес: — Ты, подлая душонка, плюешься ядом, потому что укусить не получилось. Ты предательски бросил Макумазана перед лицом опасности и позволил его слугам погибнуть, понадеявшись, что он также оставит меня умирать. А позже ты попытался заколоть меня ножом, хотя и поклялся не причинять никакого вреда. Ты клятвопреступник. Я не стану перед тобой оправдываться и опровергать гнусную ложь, но я готов сразиться с тобой не на жизнь, а на смерть прямо сейчас. Пусть я устал и хромаю, но я согласен биться под звездами, которым вы поклоняетесь, перед алтарем и на глазах у всего народа. Пусть сама судьба нас рассудит. Говори, будешь ты драться со мной? — Нет, не буду, Странник, потому что ты снова одолеешь меня при помощи магии! — вскричал Кенека. — Сделаем иначе: я пожалуюсь на тебя и твоих коварных друзей нашей богине, воплощению Энгои. Ты утверждаешь, будто бы слова мои не соответствуют истине? Что ж, пусть она появится тут прямо сейчас и сама вынесет мне приговор. Эй, Кумпана, глава Совета Тени! Позови ее, если сможешь. Пускай все увидят Энгои, услышат ее голос. Как я узнал впоследствии, самоуверенный тон Кенеки объяснялся тем, что за всю историю племени таинственная дама, прозванная Тенью и Сокровищем озера, никогда еще не приходила в город, чтобы разбирать дела своего народа. Поэтому он спокойно сел и стал ждать. — О Кенека, — невозмутимо ответил Кумпана, — я обращусь к Тени в молитве. Возможно, она пожелает прийти и сказать перед всеми свое слово.
Глава 14
ТЕНЬ
— Она придет? — шепотом спросил я у Аркла. — Думаю, да, вернее, надеюсь. В этот момент я подумал, что появление под каким-либо благовидным предлогом богини, оракула, или кем там была эта обитавшая на священном озере дама, которую именовали Тенью, было запланировано заранее. Вероятно, то, что Кенека вдруг решил обратиться к ней за правосудием, оказалось всего лишь случайностью и весьма удачно совпало с планами, так сказать, организаторов мероприятия. Мне стало ясно как божий день, что изначально все так и было задумано. Возможно, есть доля истины в истории Аркла, которая до сегодняшнего дня казалась мне болезненной фантазией человека, пережившего потрясение и едва избежавшего смерти. Я не имею в виду его мечты о родственной душе, ожидающей суженого где-то на краю света. Такие истории довольно часто можно услышать от романтически настроенных юношей и девушек, обладающих богатым воображением. Нет, речь о том, как он на самом деле встретился с этой дамой на берегу священного озера, а потом не мог вспомнить, почему вдруг оказался где-то совершенно в другом месте и вынужден был спасаться бегством от дикарей абанда. По словам Аркла, красавица явно ответила ему взаимностью. Она, похоже, тоже свято верила в идею родства душ и убедила британца, что все это не миф, а реалии духовного мира: якобы многие годы между ними существовала своего рода ментальная связь. Вполне естественно, что Аркл заключил ее в объятия. Но почему сия загадочная женщина вдруг воспротивилась этому? Его поступок не обидел ее, не оскорбил и не причинил боли. Просто чужак нарушил священный закон ее страны и подверг их обоих смертельному риску. Как бы там ни было, но она оказалась права, призывая Аркла к осторожности. Допустим, именно так все и было. Что ж тут удивительного, если молодые люди жаждут увидеться вновь и, так сказать, узаконить отношения? С другой стороны, жди беды, когда пришелец прямо на глазах у полудиких людей добивается близости с их женщиной-оракулом, с той, кому по древнему обычаю суждено стать женой вождя. Однако стоит только чужаку самому стать вождем, как ему будет уже нечего опасаться. По-видимому, так было нужно самой жрице и некоторым ее приверженцам, чьи мотивы мне, признаться, покамест ясны не были. Иначе зачем Кумпане, главе Совета Тени, понадобилось идти в такую даль навстречу Арклу, дабы провести того целым и невредимым через территорию абанда и на свой страх и риск впустить в их собственную заповедную землю? И я нисколько не удивлюсь, если окажется, что старик специально организовал весь этот спектакль, дабы жрица признала чужака будущим вождем и своим законным мужем, который, согласно пророчеству, заменит Кумпану, сохранив тому жизнь. О, все это выглядело так же реально, как и смотровая башня, нависшая надо мной. Столь очевидные маневры не могли укрыться от человека, обладавшего моей смекалкой. Так мне тогда показалось. Пока я предавался раздумьям, Кумпана прошел мимо жрецов к алтарю и вознес молитву Энгои. Он говорил тихо и стоял ко мне спиной, поэтому я не мог разобрать слов. Мало того, теперь я не видел ни его, ни кого-либо другого. Дело в том, что смотровую башню, которая до этого четко вырисовывалась в ночном небе, вдруг заволокло плотным слоем грозовых облаков; уже слышались отдаленные раскаты грома, а из леса вдруг со свистом налетел пронизывающий ветер. Вскоре совсем стемнело, и я шепотом посоветовал Арклу быть настороже: как бы вероломный Кенека не напал на него во мраке. Однако Аркл был так сосредоточен, что казалось, ничего не слышал. Он тяжело дышал, весь подался вперед, как человек, обуреваемый сильными чувствами, и не сводил глаз с алтаря. В полном мраке можно было разглядеть только костер, на фоне которого виднелись фигурки жрецов и Кумпаны. А затем буря ушла в сторону западных утесов, небо прояснилось и месяц снова выглянул из-за облаков. Помост озарился светом, и все увидели перед алтарем высокую женщину в зеленом одеянии, отливающем серебром. Я разглядел лишь стройную фигурку и белую кожу, потому что лицо скрывала вуаль, а может, это густые темные волосы струились по плечам. Ее обнаженные руки были от запястий до локтей унизаны браслетами, а голову венчало нечто вроде короны или обода. Этот головной убор светился и добавлял ей роста, но я так и не понял, из чего он сделан. В окружающем ее полумраке женщина сия была так таинственна и прекрасна на фоне пылающего алтаря, что у меня поначалу даже перехватило дыхание. О господи, что за чудное видение? В отличие от меня, у дабанда, видимо, не осталось никаких сомнений относительно того, кто перед ними. Они скандировали в один голос: «Энгои! Энгои!» (Как я выяснил впоследствии, на их языке это означает что-то вроде «богини» или «святого духа».) И пали перед ней ниц. Аркл тоже пробормотал что-то насчет Тени и поднялся было ей навстречу. Однако какое-то шестое чувство заставило меня схватить его за руку и усадить на место. А Энгои устремила свой прекрасный взор на старика Кумпану, который стоял впереди, чуть левее, и заговорила. Ее глухой голос был каким-то неземным, призрачным; казалось, она просто повторяет заученный текст. Подобный голос я слышал лишь однажды: так говорила женщина, находившаяся под гипнозом. Мне невольно вспомнилась Книга пророка Исаии: «И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя». Поначалу я сильно испугался, заподозрив, что это дивное создание способно опутать нас какими-нибудь страшными чарами или вообще одурманить и погубить. Очевидно, Ханс подумал о том же, потому что он пробормотал мне на ухо: — Остерегайтесь этой красавицы, баас, она заворожит вас почище Белой Мыши. Это не женщина, а привидение. Вот помяните мое слово, она королева призраков. Я пихнул готтентота локтем, заставляя умолкнуть. Однако эта мысль уже завладела моим разумом: Энгои и впрямь походила на Белую Мышь, как родная сестра, разве что была повыше ростом и более статной. В полной тишине раздавался ее заунывный, как у оракула, голос: — Ты звал меня, и я пришла из тайной обители на озере. Там я живу вместе со своими прислужницами. Ни один смертный не может ступить на мой остров и остаться в живых, кроме моего мужа и господина. Туда, в древнюю обитель, некогда построенную ныне почившими людьми, быстрее молнии дошло послание от моих жрецов. И теперь я, священный оракул, объявлю народу дабанда волю Той, кому я служу. Вот этот человек, — сказала прекрасная женщина, направив в сторону Кенеки что-то вроде жезла или скипетра из слоновой кости, — согрешил против Тени, покинувшей нас, и был изгнан из земли Моун. Однако через определенное время он вернулся, дабы по древнему обычаю занять место, предназначенное ему от рождения, и взять в жены Тень, пришедшую из обители теней. А вот он, — и с этими словами дама показала на Аркла, — волею судьбы был призван из далекой страны и претерпел страдания, ибо по своему неведению нарушил обычаи этой страны. А ему, — это уже относилось ко мне, — также было назначено явиться сюда. Этот человек спас Странника от рук людей абанда, моих врагов. Тот, кому было суждено стать вождем нашего народа и Щитом Тени, попытался коварно убить Странника, но был повержен им и, спасая собственную жизнь, поклялся моим именем и именем Той, которая говорит через меня, что отказывается от своей власти и законных прав. Он был избавлен от смерти и стал слугой Странника. Теперь же он желает взять клятву обратно и требует вернуть ему наследственные права и священную невесту. Ответьте, о жрецы, старейшины, и ты, мой народ, верно ли сказанное мною? — Верно, — произнесли все как один, и даже Кенека не пытался опровергнуть ее слова. Энгои посмотрела на Кумпану, как актер на суфлера, и, словно бы подхватив реплику, продолжила свою речь: — Я объявляю волю Той, что говорит моими устами. Внимайте же тому, что начертано в тайных письменах, сокрытых в моей обители. Давным-давно человек, кому было суждено стать Щитом Тени, вознамерился совершить коварное убийство. Но другой, его родной брат, одержал над злоумышленником верх и в обмен на жизнь купил у него силу, власть и право стать супругом Тени. Вскоре началась великая война, которая разделила людей на два враждебных племени, и они и по сей день живут врозь. Так было, и так будет. От имени Той, что говорит моими устами, я объявляю всем, что Кенека, гнусный убийца и клятвопреступник, отныне не может быть вождем народа дабанда и никогда не станет Щитом Тени и ее супругом. Повелеваю вместо него считать вождем Странника, а Тень отдать ему в жены и в назначенный час скрепить их союз. Ответьте, о жрецы, старейшины, и ты, мой народ, принимаете ли вы волю Той, что говорит моими устами? — Призрачный неземной голос замер. — Принимаем! — снова громко раздалось в унисон. Из мрака выступил жрец и провозгласил: — Кенека пожелал вызвать Тень и отдать дело на суд Энгои. Богиня сказала свое слово устами оракула. Так что теперь все кончено. — Неправда, — крикнул Кенека, — все еще только начинается! Тень всех вас околдовала, она навлекла злые чары на ваши души, а на ней самой лежит проклятие войны! По непонятной причине Кенека вдруг умолк, — наверное, копья стражников убедили его хранить молчание. Однако женщина, казалось, не слышала его и продолжала говорить своим холодным монотонным голосом так, будто грезила наяву: — Подойди-ка поближе, о Странник, и преклони предо мною колени, дабы я вручила тебе власть над землей Моун, страной священного озера. И если ты решишься ее принять, то должен будешь поклясться мне в верности, а я принесу ответную клятву. Ты можешь отказаться, если пожелаешь. Ибо знай, о Странник: где власть, там горе и страх смерти. Этот человек, пытавшийся убить тебя, сказал правду. Близится война, и конца и края ей не видно. Вполне возможно, что власть принесет тебе одни лишь страдания и гибель. Так что подумай хорошенько, прежде чем сделать выбор. — Я уже выбрал, — сказал Аркл, поднялся и устремился было к Энгои, однако раны причиняли ему такую боль, что бедняга едва мог стоять без посторонней помощи. — Помогите мне, Квотермейн, — попросил он и быстро поковылял к алтарю, опираясь на мое плечо. Эти несколько шагов показались мне целой вечностью. Все было так странно, я чувствовал, что взгляды присутствующих обращены ко мне, и от этого ноги мои подкашивались. Наконец мы остановились, и высоченный рыжебородый Аркл опустился на колени перед прекрасной женщиной, которую этот народ считал богиней. Даже теперь я не мог как следует разглядеть ее лицо, потому что она стояла спиной к огню. Безусловно, она была красива: тонкие черты лица, чувственные губы; большие нежные глаза своим блеском оттеняли белизну лба; из-под венца струился водопад волос. Прекрасны были и ее изящные руки с тонкими запястьями, а девичий стан полон грации и в то же время величав, выдавая в ней царственную особу. А старомодное одеяние из какой-то неведомой мне мерцающей ткани как нельзя лучше подходило для персонажа сновидений или существа из потустороннего мира. Кто она? Чья кровь течет в ее жилах? Аравитянка? Египтянка? Уроженка Востока? Мне так и не довелось этого узнать. В одном я убедился: когда эта женщина забывала играть роль, она становилась обычным человеком. Все ее чувства были написаны на лице, когда она склонилась над тем, кого каким-то чудом позвала с другого конца земли. Сейчас перед нами была не жрица какого-то древнего верования, приветствующая своего адепта, а просто женщина, которая радуется, что ее любимый одержал победу. Губы Энгои дрожали, глаза наполнились слезами счастья, тело обмякло, в порыве чувств она хотела было заключить Аркла в объятия, но вдруг вспомнила, что на нее смотрят, и опустила руки. О, без сомнения, этот человек был для нее всем! С заметным усилием прекрасная дама овладела собою и вновь заговорила, но на этот раз голос ее звучал живо и естественно. Перемена была столь разительна, что, не видя ее лица, я бы никогда не поверил, что говорит тот же самый человек. — О Странник, будешь ли ты служить моему народу? И принимаешь ли ты отныне власть над ним? — спросила она. Вероятно, вопросы сии были частью древнего ритуала. — Власть уже принадлежит мне, и я буду служить вам верой и правдой. — О Странник, клянешься ли ты в этом мне, Тени, живущей на священном озере Моун, оракулу и жрице Энгои? — О Тень, я клянусь тебе в этом, — торжественно произнес Аркл и склонил голову, как будто собираясь поцеловать ее сандалии или полу одеяния. Женщина заметила это и, быстро протянув ему руку, прошептала так, что могли слышать только мы двое: — Не ногу, а руку. Он взял ее руку и прижал к своим губам. Затем Энгои дважды коснулась его лба своим скипетром: первый раз — принимая клятву, а второй — наделяя его всеми полномочиями. — О Странник, — спросила она в третий раз, — клянешься ли ты, что в назначенный час назовешь Тень своей супругой и защитишь ее от ударов судьбы? Энгои произнесла эти слова громко, чтобы все слышали, а затем приложила палец к губам и потихоньку прошептала: — Подумай, о возлюбленный, прежде чем дать ответ. Ты знаешь тайну: мы с тобой находились вдали друг от друга, однако наши сердца соединила невидимая нить, как то было еще в далекие времена. Вспомни, однако, сколь велики различия между нами: я, загадочная и таинственная, полна мудрости, недоступной твоему разуму. Мой век короток, и, когда я умру, по закону ты тоже должен будешь умереть и перейти со мною в другую обитель, о которой ничего не знаешь, а потому не сможешь в нее поверить. Учти: тебя ждет много опасностей и, возможно, ты никогда не прижмешь меня к сердцу. Надо хорошенько подумать, прежде чем завязать узел, разрубить который сможет лишь меч смерти. Понимаешь ли ты это? — Я все понимаю, — прошептал Аркл в ответ, — и уже многим рискнул ради того лишь, чтобы ты была моею хотя бы на час, и готов рисковать еще. Я люблю тебя и, если нужно, готов пожертвовать своей жизнью. Она вздрогнула всем телом, издав радостный вздох облегчения, словно бы освободилась от тяжкого груза. — Ну что же, значит, так тому и быть. А теперь клянись. — О Тень, я клянусь тебе в этом. — Хорошо, о Странник. Тогда и я, в свою очередь, тоже… — начала Энгои, но не промолвила больше ни слова, ибо Кенека набросился на нее, как леопард на косулю. Видимо, пока все были увлечены зрелищем, ему удалось ускользнуть от стражников. Уж не знаю, каковы были намерения этого злодея. Вероятно, он хотел насильно увезти Тень прочь, надеясь на поддержку своих сообщников, или даже убить ее из ревности, лишь бы только не видеть в объятиях счастливого соперника. Однако далее события приняли неожиданный оборот. К своему стыду, я был застигнут врасплох и не успел ничего предпринять. Жрецы тоже изумленно застыли. Аркл, который в этот момент стоял на коленях, вряд ли сумел бы подняться без посторонней помощи. Лишь чьи-то белые фигурки стремительно отделились от алтаря. Скорее всего, это были девы, прислужницы Тени, однако они появились так неожиданно, что их вполне можно было принять за таинственные тени, рожденные воображением, или за больших белокрылых птиц, прилетевших на свет костра. Так или иначе, они вроде бы совсем ничего не сделали, просто появились и тут же снова пропали. Однако я заметил их лишь краем глаза, ибо все мое внимание было приковано к тому, что происходило между Тенью и Кенекой. Заметив его, женщина испуганно вскрикнула, но потом вдруг вся преобразилась: выпрямилась в полный рост, лицо ее посуровело, а страх сменился гневом. Энгои простерла в его сторону свой маленький скипетр и воскликнула: — Я проклинаю тебя! Ее слова и жесты, а может, и еще что-то недоступное моему глазу, вроде белых призраков, произвели на Кенеку сильное впечатление. На ум мне невольно пришел леопард. Приходилось ли вам наблюдать реакцию этого зверя на выстрел? Нет, я имею в виду не смертельный выстрел, а тот, который останавливает хищника, словно бы парализует, лишает храбрости, заставляя содрогаться и убегать в безопасное место. Если вам знакома подобная картина, то вы легко можете представить, как повел себя в тот момент Кенека. Негодяй застыл как вкопанный, причем так внезапно, что, успев сделать шаг-другой, не удержался на ногах, рухнул на помост и весь как-то вдруг съежился и стал меньше, как будто из него выкачали воздух. А затем, отчаянно вскрикнув, вновь вскочил на ноги, опрометью бросился вниз по ступеням алтаря и растаял во мраке. Мне показалось, что призрачные фигуры пустились за ним вдогонку, но не поручусь, что это и впрямь было так: знаю лишь, что Кенека скрылся с глаз в каком-то белом тумане. Сказать по правде, я особо не всматривался, потому что в этот момент поднявшийся в полный рост Аркл вскрикнул от боли. Обернувшись, я тотчас увидел, что Тень исчезла. — Куда она подевалась? — спросил я. — Не знаю, — ответил он, — кажется, какие-то женщины пришли и увели ее с собой, хотя в такой неразберихе запросто можно ошибиться. Тут собравшимся велели расходиться. Мы спустились по ступеням в сопровождении Кумпаны и остальных жрецов. Аркл опирался на мое плечо и громко сетовал, что ему запретили следовать за Тенью. У подножия лестницы наши пути разошлись: его увели неизвестно куда, а меня проводили обратно в гостевой домик. — Мы непременно встретимся завтра! — крикнул он мне вслед, а я ответил, что буду с нетерпением ждать встречи. После чего Аркл и его свита исчезли в темноте.— Баас, — обратился ко мне Ханс, когда я уже раздевался перед сном, — а жаль, что абанда в прошлый раз не поймали Рыжего быка. — Почему это? — спросил я устало. — По двум причинам, баас. Если бы его тогда убили, он спасся бы от множества неприятностей, в которые теперь угодил, как муха в паутину. Вы же знаете, баас, есть такой паук, который своим укусом усыпляет жертву на несколько дней или даже недель, а потом съедает. Муха чувствует себя вполне довольной — до тех пор, пока ее не начали есть. Тогда она просыпается и начинает отчаянно брыкаться, да только все без толку, потому что крылышки-то тю-тю. Помяните мое слово, баас, точно так будет и с Рыжим быком. Прекрасная паучиха уже приручила его и одурманила. Он будет счастлив… пока не проснется и не поймет, что остался без крылышек. И тогда дабанда принесут его в жертву или устроят еще какую-нибудь пакость. Вот какая первая причина, баас. Я и забыл, сколько мудрости бывает в циничных замечаниях и образных метафорах Ханса. А ведь готтентот прав: безусловно, Аркл угодил в опасную паутину. Посудите сами: что теперь ждет его, белого человека из благородной семьи, культурного, образованного и, не будем забывать, христианина? Его полюбила некая таинственная туземная красавица, а он сам просто обожает ее, и вскоре они, судя по всему, вступят в брак. Все это было бы прекрасно, если бы только Аркл мог взять избранницу с собой на родину, обвенчаться там с нею и прожить долгую и счастливую жизнь. Но что же мы видим в реальности? Возвращение в Европу невозможно, об этом и речи нет; так что после скрепления их союза Аркл останется в этой варварской стране до конца дней своих. Но и это бы еще полбеды, если бы не бытующие у дабанда суеверия, странные и опасные. У меня не имелось возможности хорошенько во все вникнуть, но, как я понял из слов невесты Аркла, речь идет об их неминуемой гибели, причем не в каком-то отдаленном будущем, но в скором времени. Если я подниму этот вопрос, то мой друг наверняка возразит, что его честно предупредили, что он не считает цену чрезмерной и готов сполна заплатить за свое счастье. Но с другой стороны, Аркл вряд ли был сейчас в состоянии рассуждать здраво. А я — и как его соплеменник, и как человек, имеющий кое-какой жизненный опыт, — не мог спокойно смотреть, как этот безрассудный человек идет навстречу собственной гибели. Однако я не стал делиться этими соображениями с Хансом и ограничился лишь тем, что поинтересовался: — А какова же вторая причина? — О баас, — вздохнул готтентот, — если бы Рыжий бык ушел с дороги, вы могли бы занять его место. Может, правда, это еще и произойдет: вдруг Кенека изловчится и все-таки убьет его или жрецы разочаруются в Страннике. И тогда вы станете мужем Тени. — Вот спасибо, и что потом? — А потом, как счастливые супруги, вы заживете на острове, в самом лучшем доме. Что, разве плохо? Узнаете, где дабанда прячут золото и прочие драгоценности. Все это наверняка тут, на острове, баас, а эти чудаки ничем не пользуются, потому что древние сокровища для них священны и лежат там уже сотни или тысячи лет. — Допустим, я найду эти сокровища, если они, конечно, существуют. Что дальше? — Как — что? Вы украдете их, баас, и убежите, а женушке оставите пустые сундуки. Думаете, что провернуть это очень трудно? Не беспокойтесь, Ханс сам все устроит. Жрецов можно подкупить, баас, и это вовсе не будет грехом. Добрым христианам вроде нас с вами, — добавил он, забыв всякий стыд, — не стоит беспокоиться об этих богохульниках: вы же видите, они тут все якшаются с дьяволом. Ну до чего же славно все устроится: мы вырвемся отсюда, станем богатыми и заживем припеваючи. Но, увы, — и он тяжело вздохнул, — это всего лишь мечта, потому как Рыжий бык встал у нас на пути. Впрочем, — тут готтентот просиял, найдя выход из тупика, — мы можем заключить с ним сделку и потом честно поделить все на троих. Спорить с Хансом было бесполезно, так как его безнравственность, истинная или напускная, выходила за рамки здравого смысла. Поэтому я лишь сказал: — Да не надо мне никаких сокровищ, Ханс. Мне бы только ноги отсюда унести подобру-поздорову. Разве ты не слышал все эти разговоры о грядущей войне? — Как же, баас, слышал. Кенека с самого начала все знал. Поэтому он и привел вас. — Что ж, Ханс, если война и впрямь будет, то у немногочисленного племени дабанда нет никаких шансов против воинов абанда. — Может, и так, баас. Да вот только абанда будут сражаться не силой копий, а при помощи магии. В этой стране она в чести. Баас видел, как скрутило Кенеку, когда его прокляла жрица Энгои? Он весь скривился, как будто она ударила его ногой в живот, и мигом убежал. А ведь негодяй собирался похитить ее с помощью сообщников, которых у него наверняка много. Ясное дело, она заколдовала его, баас. — А по-моему, — ответил я, пожав плечами, — Кенека просто перепугался и почувствовал угрызения совести. Но одного я никак не пойму: зачем эти люди позвали Кенеку обратно, если так не любят его? И с какой стати Белая Мышь уговаривала нас спасти его? — О, тут все непросто, баас. Пока Кенека считался будущим вождем, согласно местному закону, никто не мог занять его место. Вот одна причина, а другая состоит в том, что никто, кроме него, не мог привести вас в эту землю. К тому же, баас, сама Тень сказала, что Кенека должен был прийти в родные края, чтобы исполнилось какое-то старинное пророчество. Никогдане знаешь, что на уме у этих дабанда, людей-призраков, и чего от них ожидать. — Согласен. Но мне все-таки хотелось бы знать, жив ли наш приятель Кенека. — Я почти уверен, что он жив, баас. Наверняка друзья помогли Кенеке раствориться в толпе; впрочем, проклятия Королевы теней последовали за ним. Кажется, я даже видел, как они упорхнули следом, будто белые совы. Помяните мое слово, баас: мы еще услышим о Кенеке. И Ханс, как обычно, оказался прав.
Глава 15
НА ОЗЕРЕ И В ЛЕСУ
После той бурной ночи жизнь в городе дабанда текла размеренно. Почти целых две недели не случалось ничего примечательного. Отдохнуть было нелишне, ведь долгое путешествие изрядно меня утомило. Климат острова, хоть и жаркий, но довольно приятный, идеально подходил для того, кто желает насладиться покоем. Однако мой ум никогда не дремлет, и я воспользовался передышкой, чтобы побольше разузнать как о самих дабанда, так и об их врагах, абанда. В общей сложности мне удалось раскопать не так уж и много. Кумпана и остальные жрецы и члены Совета частенько ко мне заглядывали и охотно говорили на многие темы, однако действительно полезной информации в их туманных речах оказывалось ничтожно мало. От жрецов я, в частности, узнал, что Кенека сбежал, «сделавшись невидимым». Безусловно, темнота помогла ему совершить это чудо. Где он сейчас, дабанда не знали; возможно, негодяй предал их и перешел на сторону абанда, хотя о таком чудовищном преступлении здесь не слыхивали с начала времен. Кенека также мог вернуться туда, откуда пришел, или даже умереть от проклятия Энгои. Впрочем, в последнем жрецы сомневались, полагая, что, будучи сам колдуном и посвященным, он сумеет защититься. Не увенчались успехом также и мои попытки выяснить, когда начнется война. На мой прямой вопрос они ответили, что не знают этого, но, безусловно, «все произойдет в свой срок». О даме, именуемой Тенью, которую я видел возле алтаря, мне тоже не открыли ничего определенного. Мои собеседники уверяли, что якобы и сами не ведают, почему она имеет белую кожу и красотой превосходит других женщин. Такими уж из поколения в поколение рождались все обитательницы озера. Так сказать, фамильная особенность. Сия загадочная дама обитала на острове в окружении нескольких дев. Там имелось несколько старинных зданий, некогда возведенных людьми, чьи имена давно забыты. Однако более никаких подробностей жрецам известно не было. По закону никто не смел ступить на заповедный остров, кроме мужа Энгои после скрепления их союза. Наконец я оставил попытки что-либо выведать, так как местные определенно не желали со мной откровенничать. Тогда я решил перейти к наблюдениям. Мне позволили разгуливать по земле Моун в сопровождении Ханса, но я так и не увидел ничего достойного внимания. Повсюду были разбросаны малонаселенные деревушки, а вокруг простирались возделанные поля и пастбища, на которых паслись небольшие коровы и козы. Однако овец дабанда не разводили: они попросту не прижились бы в таком жарком климате. Земля здесь была необычайно плодородной, однако для обработки ее требовалось гораздо большее количество рук, чем имелось в наличии, а потому обширные территории были отданы диким зверям, кроме тех, что могут причинить зло человеку. Животные тут были на удивление ручными, и люди ходили среди них, как Адам и Ева в Эдемском саду. Я спрашивал Кумпану и остальных, как им удалось так подружиться с братьями нашими меньшими. Они ссылались на заклятие, якобы наложенное на зверей, а также объясняли, что местные жители никогда не причиняют животным вреда и не употребляют их в пищу — это было категорически запрещено. (То же самое мне когда-то рассказывал и брат Амвросий.) Тогда я впервые узнал, что дабанда верят, будто после смерти души некоторых их соплеменников переселяются в диких зверей. А иногда это, напротив, случается еще до рождения. Вот почему на убийство зверей было наложено табу: кому же захочется направить копье на свою бабушку или на будущего ребенка. Вспомнив о слонах, которых мы встретили по дороге сюда, я спросил, как Кенеке удалось ими управлять. Кумпана ответил, что эти слоны или их предки некогда жили в земле Моун, откуда их изгнали — как он выразился, «попросили уйти, ибо те творили злодеяния, коим несть числа». Вообще-то, у многих африканских племен существует табу на тех или иных животных, но чтобы всю дичь объявляли запретной, как было заведено у этих звездопоклонников, — такого мне прежде слышать не приходилось. Полагаю, дело в том, что все прочие племена не были так хорошо обеспечены пропитанием, как малочисленные дабанда, вот им и приходилось охотиться. Дожди и потоки сделали местную почву исключительно плодородной и не требующей особой обработки. Она давала в изобилии урожаи кукурузы, корнеплодов и овощей, а коровы и козы — предостаточно молока. Поэтому народу дабанда не было нужды рисковать и утруждать себя охотой, и со временем животные, не знавшие выстрелов, стали для них ручными и священными. Посмотрев всю страну, поскольку выходить за пределы кратера мне запретили, я почувствовал непреодолимое желание исследовать заповедный лес и священное озеро Моун. Поначалу, услышав эту мою просьбу, Кумпана старался сменить тему. И вот наконец в полнолуние старик согласился проводить меня через лес к озеру, чтобы я мог взглянуть на него при свете луны. По его словам, ходить в лес ночью считается для любого человека меньшим преступлением, чем смотреть на озеро при свете дня. Разумеется, я сразу ухватился за эту возможность, и, как только взошла луна, мы отправились в путь. Мы — это Кумпана, я и Ханс, которого старик сперва не хотел брать с собой. Он уступил, лишь когда я наотрез отказался идти один, а Ханс, со своей стороны, заметил на ломаном арабском, что у него есть привычка стрелять в любого, кто пытается разлучить его с баасом. Спустя пять минут стало совсем темно. Должно быть, в этом лесу было мрачно и в полдень, а уж ночью, даже при полной луне, он вообще походил на угольную шахту. Чтобы не потеряться, мы воспользовались длинной лианой: Кумпана держал ее за один конец, я — посередине, а Ханс — за «хвост». Вы можете спросить, каким образом Кумпана видел в темноте. Отвечу вам честно: не знаю. Однако старик довольно бойко вел нас по неведомой тропе мимо гигантских деревьев и ловко огибал поваленные стволы. Шли мы так несколько часов, пока наконец среди мертвых, лишенных листвы крон не забрезжил луч света. Лес закончился так же внезапно, как и начался, и теперь перед нами простирался берег озера, вероятно затопляемый во время дождя. О, какой безжизненной казалась водная гладь, отражающая свет луны! И все же она была прекрасна в обрамлении лесных деревьев. Мертвую тишину нарушали лишь редкий шорох дикого зверя где-то вдалеке да кваканье лягушки. Тишина эта действовала гнетуще, даже пугающе. Казалось, животные редко сюда захаживали, даже рыба в воде не плескалась. Что ж, оно и понятно, ведь эти нехоженые тропы считались священными. Вдалеке виднелся остров, на котором и жила загадочная жрица, именуемая Тенью. Он показался мне большим, приблизительно в милю длиной, а вот определить его ширину я затрудняюсь. Среди пальм, растущих на острове, мелькали здания. Достав свой бинокль с линзами ночного видения, я изучил местность. Здания оказались большими, массивными и украшенными скульптурами. Судя по всему, они были построены из какого-то белого материала: известняка, алебастра или мрамора — причем очень давно, ибо уже успели частично разрушиться. Сооружения сии отличались любопытной архитектурой: нигде в Южной и Центральной Африке, даже в Родезии, я не встречал ничего подобного. Мне бросилось в глаза явное сходство с развалинами храмов Древнего Египта, которые я видел только на рисунках. Также я заметил пилоны, башнеобразные сооружения по обеим сторонам от входов; стены покрывали барельефы; внутренние дворы были снабжены колоннами: одна лежала на земле — то ли упала, то ли ее так и не успели установить. Это зрелище глубоко взволновало меня. Возможно, эти загадочные здания возвели в древности египтяне или какой-то иной народ, который впоследствии переселился неизвестно куда. Вспоминая усеченную пирамиду с горящим на ней алтарным огнем, я склоняюсь к мысли, что так оно и есть. Я попытался было расспросить Кумпану, но старик ничего не смог (или не захотел) мне рассказать, сославшись на то, что ему самому ни разу не доводилось бывать на заповедном острове. О зданиях он знал лишь то, что они отличаются огромными размерами и простояли тут — как он выразился, «наперекор времени» — многие тысячи лет. Никаких сведений о грандиозном строительстве на острове, равно как и о людях, трудившихся и живших там, не сохранилось. Возможно, скульптуры могли рассказать больше тому, кто в них разбирается. Для остальных же эти сооружения оставались из поколения в поколение лишь священной обителью для Энгои, также известной как Тень и Сокровище озера, и ее дев-прислужниц. — Могу ли я посетить их? — Пожалуйста, господин, — ответил старик с насмешливой улыбкой, — если ты умеешь плавать. Только, боюсь, если ты доберешься до острова живым, разъяренные женщины разорвут тебя на части. Теперь, оглядываясь назад, я полагаю, что все это вздор. Наверняка жившие в заточении женщины с любопытством встретили бы мужчину, пусть даже мне было и далеко до идеального представителя сильного пола. Разумеется, если этот их африканский монастырь или орден дев действительно существовал, подобно «невестам Солнца» у инков или весталкам в Древнем Риме. Однако в тот момент я вспомнил о судьбе мужчин, посягнувших на уединение таинственных женщин в Древней Греции, и мне как-то не захотелось разделить их участь. Сейчас я сожалею, что не набрался тогда храбрости и не попытался достичь острова вплавь. Увы, возможность сия упущена навсегда. Мне слабо верилось в историю с монашками-затворницами: ведь даже если прекрасных прислужниц и впрямь никто не навещал, это не мешало им иногда покидать остров. По словам Аркла, сама Тень поступала именно так. Если верить Кумпане, дабанда каждый год присылали на остров новых служительниц. В «рабыни Энгои», как их называли, избирали девочек, которым исполнилось двенадцать лет. Вдруг зоркий Ханс прервал нашу беседу и сказал по-голландски: — Взгляните туда, баас, — из большого дома выходят женщины. Он оказался прав. В свой бинокль я увидел процессию в белых одеждах, которая вышла из ворот и приблизилась к кромке воды. Должно быть, они сели в лодки, хотя растущие по берегу пальмы закрывали мне обзор. Вскоре на спокойной глади озера появились три больших каноэ, в каждом из них сидело по пять или шесть женщин. Они принялись медленно грести в нашу сторону. «Интересно, — подумал я, — кто же смастерил лодки, если на острове никогда не бывает мужчин?» Я взволнованно спросил, как быть, если дамы окажутся совсем близко. Неужели мне нельзя пойти им навстречу и хорошенько всех рассмотреть? Кумпана снова улыбнулся и отрицательно покачал головой. Лодки тем временем остановились в двухстах ярдах от нас. Они вытянулись в линию, и до нас в полнейшей тишине донеслись звуки песни, чудной и печальной. — Что они делают? — заинтересовался я. — Возносят хвалу полной луне? — Да, господин, но не только это. И точно, они делали что-то еще. Женщины в центральных каноэ подняли завернутое в белую ткань тело и выбросили его за борт. Сверток с громким всплеском упал в воду и исчез в глубине. — Никак похороны? — Верно, господин. Взгляни, они бросают в воду цветы. Однако тон старика заставил меня усомниться в его словах. Что, если под этими белоснежными покрывалами скрывался живой человек? А вдруг это и не похороны вовсе, а жертвоприношение или казнь? Впоследствии Ханс утверждал, что якобы видел, как сверток шевелился. Возможно, это ему лишь показалось, ибо сам я ничего такого не заметил. Честно говоря, мне стало не по себе, и поэтому я нисколько не огорчился, когда женщины развернулись и, по-прежнему распевая, уплыли к себе на остров, а Кумпана объявил, что нам тоже пора возвращаться. На мой взгляд, было нечто странное и зловещее в этом так называемом священном озере, в острове с его древними гигантскими зданиями и женщинами, совершающими при луне жертвоприношения, вроде тех, что делали в Древнем Египте богиням Нут и Хатор. Теперь лес казался мне еще более жутким. Мы, как и прежде, следовали за Кумпаной, держась за стебель лианы. После пережитого мои нервы были порядком взвинчены, и, чтобы не пасть духом окончательно, я обратился к Хансу. Наверное, мой голос звучал чересчур громко, наперекор всепоглощающей тишине. Нет нужды описывать мою речь в деталях, скажу только, что она касалась дабанда, их суеверий и претензий на владение магическими силами. Я говорил по-голландски, а иногда по-английски, чтобы Кумпана не мог меня понять. Выбирая весьма нелицеприятные выражения, я заявил, что все это — полнейшая чушь, дескать, их пресловутые жрецы и маги — попросту сборище чертовых лгунов. Ханс, большой любитель порассуждать, поддержал меня и высказал мнение, что и Кенека с Кумпаной также являются дьявольскими отродьями. Тут старик обернулся и недовольно заметил, что в лесу нельзя громко разговаривать: можно разозлить живущих здесь духов. Я буквально вышел из себя, вслух усомнившись в существовании сверхъестественных сил, и заявил, что мне хотелось бы знать, кого он пытается выдать за лесных духов, обманывая белого человека, — уж не обезьян ли, которые иногда забрасывают путешественников палками и орехами. Видимо, Кумпана не оценил шутку. Он обернулся и бросил на меня грозный взгляд. (Мы как раз шли через болото, где деревья не попадались.) — Я попросил бы тебя не шуметь, господин Макумазан, а пуще всего — не высказываться неуважительно о лесных духах, — произнес он с холодной вежливостью. Его слова разозлили меня еще сильнее. Как этот язычник смеет затыкать рот мне, вполне образованному христианину, пугая своими мерзкими идолами? Немыслимая наглость! Поэтому я начал разговаривать с Хансом еще громче. Его насмешливые ответы раздражали меня, ведь готтентот догадался об истинной причине моего поведения. Подобно детям, я пытался заглушить свой страх, а потому говорил громко. Затем Ханс вспомнил о волшебнице из Аэндора, будто бы и она тоже жила в лесу. Он приводил нелепые высказывания о колдовстве, которые приписывал моему бедному покойному отцу, и выражал благочестивую надежду, что тот сейчас наблюдает за нами с небес. Должно быть, в самом воздухе или же в ароматах этой листвы, цветов на деревьях и лиан было нечто особенное, что привело меня в ярость. Я отругал Ханса, попросив не поминать имя моего отца всуе и не ссылаться на него, пытаясь оправдать свои низменные дикарские верования в духов и магию. Как раз в эту минуту мы подошли к большому поваленному дереву, которое, падая, обломало соседние стволы и было хорошо видно в лунном свете. Когда мы обходили его, Кумпана обернулся: — Я предупреждал тебя, но ты не послушался. Больше предупреждений не будет, белый чужак. Мне вдруг показалось, что он изменился. Это был уже не согбенный морщинистый старик с проницательным и мягким взглядом. Он будто бы вдруг подрос и смотрел на меня решительно и с осуждением. Глаза Кумпаны горели, как у льва в темной пещере. Решив, что это лунный свет вытворяет подобные штучки, а вырос старик, потому как встал на корень упавшего дерева, я не обратил на это внимания и продолжал болтать с Хансом; мы с готтентотом словно бы находились в подпитии или надышались веселящего газа. Продолжая идти, мы вскоре вновь погрузились во мрак леса. Неожиданно я наткнулся на ствол дерева, и винтовка Ханса уперлась мне в спину. — Куда это ты нас завел, Кумпана? — спросил я возмущенно, но не получил ответа. Я потянул за лиану, чтобы привлечь внимание проводника. Однако другой конец прилетел ко мне и ударил по лицу. Его никто не держал! — Ханс! — воскликнул я. — Кумпана нас бросил! — Да, баас, чего еще ожидать, ежели плюешь на лесных духов, а он, видать, один из них. Я немного поразмыслил и предложил: — Давай вернемся к освещенному месту и все обдумаем. — Хорошо, баас, тогда я пойду за вами, потому что мне в этой темноте наших следов не найти. Мы вернулись и начали путь заново, впрочем без особого успеха. Не пройдя и десяти шагов, я врезался в другое дерево и сильно ушибся. А обходя его, угодил в болото и увяз по колено в грязи. Ханс с трудом вытащил меня из цепкой трясины. Мне пришлось продолжать путь в хлюпающих ботинках. Шагов через пять я запутался в какой-то колючей лиане, которая изрядно меня поцарапала. Освободившись, довольно долго шагал вперед, пока не запнулся о корень и не ударился со всей силы лицом о землю. Тогда я сел и произнес слова, о которых предпочитаю умолчать. — Да, баас, очень трудно найти дорогу в таком большом и темном лесу, — вкрадчиво произнес Ханс. — Что же нам теперь делать, баас? — Останемся тут до рассвета, если он когда-нибудь наступит в этом адском логове. Затем я набил трубку табаком и, заметив, что при падении обронил спички, попросил одну у Ханса. Он достал свою заветную коробку, где хранились наши скудные запасы, раскурил трубку сам и протянул спичку мне, понаблюдав, как плавно разгорается пламя в неподвижном воздухе. Однако стоило мне поднести спичку к трубке, как она тут же потухла. — Зачем ты это сделал? — спросил я сердито. — Боишься устроить пожар? — Да, баас, то есть нет. Я не тушил спичку. Это проделки обезьяны. Я видел ее уродливую морду, — ответил Ханс испуганным голосом. — Чушь! — воскликнул я. — Дай мне другую спичку. Он нехотя повиновался, но все повторилось. Вероятно, ветер гулял между деревьями. У меня пропала охота курить, и я сказал, что нам больше не следует попусту тратить спички на таком сквозняке. Ханс согласился и сел рядом со мной спина к спине, заявив, что замерз. Явная ложь, учитывая здешнюю жару. Наоборот, с нас обоих пот катил градом. — А теперь помалкивай, я буду спать. Разбуди меня на рассвете. Едва я так сказал, как послышался странный смех, печальный и довольно жутковатый. Он как будто перемещался вокруг нас. — Никак этот старый осел, Кумпана, насмехается над нами? Ничего, когда я его поймаю, он перейдет от смеха к слезам. — Да, баас, но теперь он смеется отовсюду и… — Речь Ханса прервал новый приступ нечестивого веселья. Смех действительно раздавался со всех сторон; казалось, он даже звучал откуда-то сверху. — Может, это чертовы гиены? — Нет, баас, это призраки. Очень плохие призраки. О баас, и зачем только вы пошли в этот проклятый лес глядеть на озеро, где в полночь топят людей? Зачем посмеялись над этим дьявольским местом? Я, пожалуй, помолюсь преподобному отцу бааса. Надеюсь, он услышит меня из огненного места. Сейчас только он один сможет нам помочь. Я промолчал, ибо было совершенно бесполезно бороться с суевериями готтентота. Кроме того, мне на память вдруг пришла одна занимательная лекция по физике, которую я некогда прослушал. Там рассказывалось про эхо и как его можно умножить. Смех затих. И только я припомнил слова лектора, как большой камень или ком земли грохнулся прямо возле моих ног. За ним последовали десятки точно таких же «снарядов». Нас они, правда, не касались, но наносили удары кругом, даже по деревьям над нами. От голода и усталости я совсем растерялся и едва соображал, что происходит. Помню множество различных звуков: то громких, как будто где-то вдали валят деревья; то тихих, но таких противных, словно бы совсем близко дети водят грифелем по доске. А еще помню, как чьи-то крошечные ручки дергали меня за нос и уши. Помню, как Ханс в ужасе заявил, что вокруг нас пляшут гориллы с горящими глазами, хотя сам я ничего подобного не видел. Он выстрелил из винтовки, наверное в этих кошмарных горилл или другого воображаемого зверя. Звук выстрела разнесся по лесу, как пушечный залп. Под конец в ослепительной вспышке я узрел вокруг себя странные фигуры с фантастическими лицами. Больше я ничего не помню. Признаться, все эти звуки и видения подходят скорее для жертвы белой горячки, нежели для здравомыслящего человека, заблудившегося в лесу. Наконец я услышал нежный голос, говоривший мне по-арабски: — Вставай, Макумазан. Ты отклонился от верного пути. Воздух под этими деревьями ядовит и навевает дурные сны. Меня послали, чтобы проводить тебя и твоего слугу обратно в город дабанда. Я немедля повиновался и почувствовал, как чья-то нежная рука повлекла меня в неизвестном направлении. А может, мне это только показалось и я все еще находился во власти кошмара. Ханс вцепился в меня, как ребенок в юбку матери. Долго ли это продолжалось, не знаю. На рассвете мы очутились на краю леса. Впереди высилась усеченная пирамида с алтарем, а значит, мы подошли к окраине города. Когда мы остановились под сенью последних деревьев, провожатая собралась нас покинуть. Во мраке я как будто разглядел изящную женскую фигурку, завернутую во что-то белое. — Прощай, — сказала она знакомым насмешливым голосом. — Ты очень мудрый человек, Макумазан, но тебе нужно стать еще чуточку мудрее. Тогда ты не будешь смеяться над тем, чего не понимаешь, и уразумеешь, что в мире есть почитаемые древними народами силы, о которых белые люди никогда даже и не слышали. С этими словами женщина отступила и исчезла, прежде чем я успел вымолвить хоть слово. Из темноты этого проклятого леса все еще раздавался ее звонкий голос: — Прощай, Макумазан, и больше не насмехайся над древней магией. — Баас, — сказал Ханс, когда мы приковыляли к нашему дому, — мне кажется, что это была Белая Мышь, которая чудесным образом ожила. Как думаете? — Не желаю забивать себе голову всякими глупостями. Мне нет дела ни до каких мышей — белых, черных или серых. Я хочу лишь одного — поскорее убраться из этой проклятой страны, — ответил я грубо, после чего скинул сапоги и в изнеможении рухнул на кровать.Глава 16
ПОСЛАНИЕ ОТ КЕНЕКИ
Может быть, читатели подивятся тому, что я так мало пишу об Аркле, истинном герое этой истории, которого, как уже упоминалось, Ханс и туземцы за его крепкое телосложение и огромную физическую силу прозвали Рыжим быком. На самом деле мы с ним почти не виделись. После того как Тень перед алтарем прокляла Кенеку и тот сбежал в неизвестном направлении, отчаянно хромающего Аркла увели в хижину вождя. Несмотря на все свое хваленое мастерство, врачеватели дабанда так и не смогли вылечить его больную ногу. И этим местные целители, или колдуны (в их случае это было одно и то же), на мой взгляд, полностью дискредитировали себя. В конце концов позвали меня, и пришлось спасать положение при помощи обеззараживающей мази, купленной по случаю в какой-то аптеке, и корпии, которую я нащипал из белья. Навещая Аркла, я, разумеется, с ним разговаривал, но чувствовал себя при этом скованно. Судите сами: этого английского джентльмена, как правило, бдительно стерегла стайка языческих жрецов в белых одеяниях. Они ни на минуту не оставляли нас наедине. Конечно, дабанда не понимали нашего языка, но отличались чрезвычайной проницательностью и, казалось, могли читать по лицам, а по отдельным репликам можно было догадаться, что они угадывали наши мысли. Поэтому я все время ощущал слежку, и, как мне кажется, Аркл тоже. Стоило мне заговорить о Тени, как взгляды жрецов неизменно устремлялись на меня и они старательно прислушивались. В конце концов я почти поверил, что стражи понимают каждое мое слово или, по крайней мере, догадываются, о чем идет речь. Это вовсе не способствовало откровенным беседам, я чувствовал себя не в своей тарелке и ограничивался разговорами о погоде и прочих пустяках. Наконец мне это надоело, и, воспользовавшись временным отсутствием круговой обороны из жрецов (полностью они свой пост никогда не покидали, но сейчас приставленный к Страннику человек ненадолго вышел из хижины), я заявил прямо в лоб: — Вот что, Аркл, хоть дабанда и провозгласили вас вождем, но вы больше похожи на узника. Не кажется ли вам ложным такое положение, особенно для белого человека вашего круга? Лично я не верю, что вам нравится такая жизнь. — Вы угадали, Квотермейн, — отозвался он с жаром, — мне все тут ненавистно! И однако, я остаюсь тут добровольно. Вам сие покажется смешным, и тем не менее это правда. Я не могу расстаться с Энгои. Все началось с того памятного видения в Лондоне на Трафальгарской площади много лет назад. А потом, когда я поцеловал ее на берегу священного озера, то совсем потерял голову. Наконец, в ту ночь у алтаря я принес торжественную клятву своей возлюбленной и всему ее народу. Может, это и безумие, но я сознательно выбрал себе такую судьбу, никто меня к этому не принуждал. Вы видите перед собой вождя дабанда. Уж не знаю, станет ли это для меня концом, или же, напротив, все еще только начинается, но я связан с ними нерушимыми узами. — И вы не хотите разорвать эти узы? — Умом — возможно, но мой дух или мое сердце — называйте как хотите, — противятся этому. Я завоюю эту женщину даже ценой собственной жизни, а иначе просто сойду с ума. — Извините за прямоту, Аркл, но вы не боитесь, что все это будет стоить даже больше чем жизнь? Я говорю о вашей чести. — Что вы имеете в виду? — Да то, что вас, как и любого белого человека, воспитали в определенных традициях и христианской вере, как вы сами недавно признались. А теперь вы полюбили женщину, которая является сторонницей совсем иных традиций и верований, и вознамерились на ней жениться. Полагаю, такие браки иногда могут быть вполне счастливыми. Однако в данном случае дело обстоит очень серьезно: вам придется перенять взгляды жены и изменить своим собственным. Кроме того, вы наверняка не знаете всей правды и толком не представляете, что ждет вас в будущем. Вспомните, как эта Энгои предостерегала вас перед алтарем. — И опять вы правы, Квотермейн: я ничего толком не знаю и меня предупреждали о последствиях. Но я все равно дал клятву и сдержу ее. А настоящая любовь все искупает, разве не так? — О, Аркл, это извечный спор. Лично я в этом не уверен. Ведь любовь рождает страсть, а страсть ослепляет человека. Мои мудрые речи прервал вернувшийся жрец. Он наверняка прислушивался снаружи к интонациям нашей беседы. За ним следом вошел Кумпана, с которым мы не виделись после возвращения из леса. Учитывая злую шутку, которую старик сыграл с нами накануне, я счел его неизменную приветливость и показное дружелюбие самым настоящим издевательством. Особенно я разозлился, когда он справился о моем самочувствии и спросил, долго ли мы с Хансом гуляли в темноте. — Послушай, Кумпана, ты здорово над нами поглумился. Бросил одних ночью в дремучем лесу, а об остальном я лучше промолчу. Как не стыдно так поступать с гостями — бросать их в чаще без провожатого? — Прошу прощения, господин Макумазан, — ответил он подчеркнуто вежливо, — но это тебе должно быть стыдно. Несмотря на все мои просьбы, ты продолжал оскорблять то, что для нас свято. Тогда мне пришлось в назидание оставить вас обоих там. Наказание могло оказаться намного более суровым. Впрочем, ты не слишком виноват. Воздух в лесу ударяет в голову шибче вина и лишает разума. Поэтому давай простим друг друга и забудем обо всем. От столь любезного обращения я смутился и даже почувствовал раскаяние. Ведь в чем-то старик был прав: я и впрямь оскорблял почитаемых дабанда духов или некие таинственные силы природы. Поэтому я счел за благо сменить тему и сообщил, что мы с Хансом отдохнули и будем рады как можно скорее с ними распрощаться, если Совет Тени будет так любезен и поможет нам покинуть эту страну. — Ты волен отправиться домой, когда пожелаешь, Макумазан, но учти: ты подвергнешь себя опасности, если уйдешь прежде назначенного времени. — Меня не пугают опасности! — воскликнул я. Тут вмешался Аркл: — Ради бога, не уходите, Квотермейн! Останьтесь на сколько сможете, пока я еще с вами, то есть пока нас не разлучат, а это, поверьте, произойдет очень скоро. Когда все закончится, для меня начнется новая жизнь, а до тех пор не оставляйте меня одного, ибо надвигается война. Каким бы жгучим ни было мое желание, удовлетворив любопытство, поскорее убраться подальше от этих жутких туземцев, прочь из земли, где странный воздух опьяняет человека и давит на психику, меня все-таки тронула просьба Аркла. В нем явно шла борьба между унаследованными от предков убеждениями или, скорее, идеями человека его происхождения и положения и снедающей беднягу страстью к загадочной прекрасной женщине, жрице некоего языческого культа (чувство, прямо скажем, недостойное британского джентльмена). Возможно, если я останусь, мне удастся вытащить беднягу из ловушки или же произойдет нечто такое, что поумерит его пыл. Но если я сейчас уйду, Аркл будет обречен. Одна за другой рухнут преграды, отделяющие цивилизованного христианина от руководствующихся низменными инстинктами язычников; его окутают темные суеверия древних времен, которые сохранились здесь в своем первозданном виде. Тогда Аркл станет — не только по названию, но и фактически — вождем этих звездопоклонников-дабанда. Он будет жить вместе со жрицей на острове, вдалеке от родины, и наконец, отыграв свою роль, станет жертвой какого-то мерзкого ритуала. Возможно, с ним произойдет то же самое, свидетелями чему мы с Хансом оказались недавно ночью в заповедном лесу на берегу озера Моун. Я вздрогнул, представив себе все слишком явственно. Беспомощного, одурманенного человека в погребальных пеленах бросают с песнями и цветами в бездонное озеро вслед за женщиной, которая наделила его властью, прежде чем погубить. А может, и того хуже — бедняга потеряет разум от разочарования, отчаяния и безысходности или тех испытаний, каким нас подвергли в лесу. О, его ловко заманили в ловушку ароматом розы и блеском драгоценных камней, но хотел бы я знать, что за всем этим кроется. В отличие от Аркла, я смотрел на вещи трезво и понимал, что кончиться добром подобные игры просто не могут. Все это разом пронеслось у меня в голове, и я уже собирался ответить, что останусь и посмотрю, чем же дело кончится, как вдруг циновка откинулась и вошел жрец в сопровождении двух мужчин. Спутники его явно были люди простые, из сословия земледельцев. Они пали ниц пред Арклом, отныне верховным вождем дабанда. Священнослужитель поклонился и сообщил, что у этих посланников есть важные новости. Он велел им говорить, и старший из крестьян повиновался, начав свой рассказ: — О владыка и отец народа дабанда, обещанный Щит священной Тени и отец Тени будущей! Вчера на закате мы с сыном искали потерявшегося козла и забрели в Западное ущелье, которое ведет из священной земли к абанда, живущим на склоне и равнинах. Козел нашелся у дальнего входа в расщелину. Мы кинулись за ним, боясь, как бы он не забежал на сторону абанда, ведь туда нам путь заказан. Однако эта упрямая скотина услышала нас и ринулась вперед. Не успели мы с сыном опомниться, как козел уже очутился на чужой земле. Мы сидели на границе, не смея двинуться дальше, и подзывали козла. Он уже пошел было на наш зов, как вдруг из кустов появились вооруженные люди во главе с Кенекой, тем самым, который передал тебе право стать нашим вождем и которого прокляла Энгои. «Не двигайтесь с места и внимательно слушайте, — сказал он, — а иначе мы забросаем вас копьями». Мы замерли, не смея пошевелиться, а он продолжал: «Я, Кенека, благородный вождь дабанда и Щит Тени, стал ныне также и вождем абанда. Да, я намерен вновь объединить под своим правлением два народа, разделенные в давние времена. Ступайте к Кумпане, старейшине Совета, и пусть он расскажет Тени, что абанда гибнут от засухи, ибо жрецы дабанда удерживают дождь своим колдовством. Урожай погибает на корню, коровы и козы не дают молока, источники пересыхают, а несчастные дети голодают и молят о смерти. Поэтому, если через шесть дней дождь не прольется на их землю, я, вождь двух народов, поведу тысячи воинов абанда через ущелье. Теперь, когда я, Щит Тени, сделался их предводителем, абанда нечего бояться старого пророчества. Мы убьем всех, кто против нас: Кумпану и членов Совета, которые настраивают Тень против меня; мы лишим жизни жрецов, этих проклятых колдунов, черных магов. Мы пройдем через заповедный лес и не побоимся лесных духов; мы переплывем священное озеро; я заберу Тень, и она будет моей — и тогда два народа снова станут единым целым. Отныне дождь будет щедро орошать земли как за горой, так и в долине кратера, а все люди будут жить счастливо и в достатке. И наконец, мы убьем белого вора, которого прозвали Странником и Рыжим быком. Да, он умрет под пытками, будет принесен в жертву небесным светилам — Луне и звездам. Мы убьем также и белого охотника Макумазана, ведь, как оказалось, мне велели привести его в эту землю вовсе не для моего блага, но со злодейским умыслом — отдать мое место Рыжему быку. Желтолицего слугу Макумазана мы тоже убьем. Похороним всех троих заживо или сожжем их на жертвеннике. Никто не спасется, ибо день и ночь все дороги будут под охраной. А если кто-то и ускользнет, его непременно поймают и убьют. Абанда давно бы уже расправились с Рыжим быком, если бы того не спас Макумазан. А теперь идите и возвращайтесь завтра в этот же час с ответом». Потом, господин, убив нашего козла, Кенека и его люди ушли, посмеиваясь. А мы с сыном пришли сюда, дабы рассказать обо всем. В комнате воцарилась тишина. Кумпана казался растерянным, а жрецы от возмущения лишились дара речи. Признаться, я был напуган обещанной нам столь ужасной перспективой, равно как и Ханс, сидевший позади меня на земле. Готтентот, правда, невозмутимо курил, однако спокойствие его наверняка было напускным. — О баас, — вздохнул он, — и зачем только вы пришли в эту землю, кишащую привидениями? Почему не сбежали сразу, как только получили от Кенеки слоновую кость? Теперь нас заживо похоронят или зажарят на жертвенном огне, как оленей. — Ха! Не хватает еще бояться Кенеки! Да этот негодяй не посмеет приблизиться ко мне даже на триста шагов! — свирепо ответил я по-голландски. И умолк, заметив перемену в поведении Аркла. Минуту назад он казался обеспокоенным и несчастным, по вполне понятным причинам, а теперь вдруг преобразился: разом взбодрился и повеселел, как истинный англосакс (сам я к ним не принадлежу, ибо родился в колонии), почуявший запах пороха. — Квотермейн, завтра я смогу нормально ходить? — Думаю, да. Только не снимайте повязку. Кумпана приказал крестьянам удалиться и ожидать, пока за ними не пришлют. Когда земледельцы ушли, он велел жрецам созвать Совет Тени. В комнате немедля собралось с полдюжины старейшин. Наверное, они, почуяв недоброе, все это время болтались снаружи где-нибудь неподалеку. Войдя, члены Совета поклонились Арклу и мне и расселись прямо на земле. Кумпана передал им слова крестьян, и старейшины, похоже, совсем не удивились, как будто знали обо всем заранее. Затем он спросил, как же им быть. Жрецы высказывались все разом, очень быстро и мудреными словами, так что я ничего не понял. Кумпана, судя по всему, тоже не особо к ним прислушивался; стало быть, он советовался с ними для соблюдения формальностей. После этого он с большим почтением поинтересовался мнением Аркла. — О, мы должны одолеть зверя, то есть Кенеку! — воскликнул тот с чувством. — Однако сначала давайте выслушаем Макумазана. Он человек мудрый и многое повидал в этой жизни. Кумпана повернулся ко мне и осведомился, согласен ли я, что нам следует сражаться с абанда. — Разумеется, нет, ведь у противника намного больше воинов, чем у вас. Лучше поискать какой-либо другой выход. Они хотят, чтобы пошел дождь, а ваши жрецы, как я слышал, якобы умеют его вызывать. Так сделайте это. Дайте абанда столько воды, сколько они захотят, и тогда никакой войны не будет. Конечно, я вовсе не верил в способность жрецов, Тени или кого-нибудь еще вызвать дождь на поля абанда и покончить с засухой, просто мне хотелось послушать, что ответит Кумпана. Как ни странно, он отнесся к моему совету уважительно. Сказал, что план хорош и заслуживает внимания, а потому они представят его на рассмотрение Энгои, то есть Тени. Она-то и примет окончательное решение. — Ты хочешь сказать, — уточнил я, — что она может послать абанда дождь, если пожелает? — О да, — ответил он с кротким удивлением, — в любое время и в любом количестве. Я сдался: бесполезно использовать логические доводы в споре с чудаками или безумцами. Вообще-то, удивляться тут особо нечему: многие аборигены верят в могущество заклинателей дождя. Неожиданно Ханс тоже решил высказаться. — Ты, Кумпана, считаешь себя мудрым, — нагло заметил он, сидя на корточках. — Вы все тут считаете себя таковыми, но только Ханс мудрее вас всех. И вот что я скажу: если хочешь разрушить дом — убери столб, который поддерживает его крышу. Почему абанда так расхрабрились и вознамерились отобрать у вас озерную жрицу? Дело в том, что они считают Кенеку, своего предводителя, настоящим вождем народа дабанда и верховным жрецом, который имеет законное право на Тень. Потому-то они и не опасаются больше ни вас, ни проклятия вашей Энгои. Убейте Кенеку, и они снова станут вас бояться и не посмеют вторгнуться в землю, которую всегда считали священной. — Но как же нам убить Кенеку? — спросил Кумпана. — Да очень просто. Когда эти двое понесут ответ — если только ты не предпочтешь сделать это сам, — я пойду с ними, прикинувшись одним из дабанда, и спрячусь за камнем, — (тут Кумпана скептически покачал головой), — а как только явится Кенека, застрелю его. Делов-то! Выслушав это хладнокровное предложение, Кумпана усомнился, что им удастся избавиться от Кенеки подобным способом. Казалось, старик верил в то, что жрец Энгои умирает каким-то особым образом, но вот как именно, этого он не уточнил. Будь возможна иная смерть, полагал глава Совета Тени, негодяя давно бы уже не было в живых. Однако Кумпана выразил готовность рассмотреть и предложение Ханса тоже. По всей видимости, оно его ни в малейшей степени не смутило. Выслушав все мнения, Кумпана холодно объявил, что сейчас он изложит их Энгои и узнает волю небесной властительницы из уст Тени, ее земного воплощения и служительницы. Я, само собой, ожидал, что старик отправится на остров. Вспомнив загадочные древние здания, которые возбудили мое любопытство, я уже прикидывал, как бы уговорить его взять меня с собой; правда, мне совсем не улыбалась очередная прогулка по ночному лесу. Но не тут-то было. Кумпана связался с Энгои абсолютно иным способом. Велев всем замолчать, он приказал добавить циновок на окна и дверь, так что в помещении стало совсем темно. Затем сел на пол, два жреца опустились на корточки по обе стороны от него, а члены Совета Тени сели вокруг них, взявшись за руки. Ханс, почуяв, что дело пахнет привидениями, тут же ретировался. Мы же с Арклом оказались вне этого круга, выступая в роли сторонних наблюдателей. «Ей-богу, — подумал я, не смея нарушить тишину, — все это очень сильно смахивает на спиритический сеанс». Хотя чему тут удивляться? Мне припомнилось изречение старого мудрого Соломона о том, что «нет ничего нового под солнцем». Несомненно, у всех народов земли, цивилизованных или диких, на протяжении десятков тысяч лет тут и там появлялось нечто подобное: свои спиритические сеансы или такие вот собрания жрецов с целью вопросить богов, духов или иные силы, о которых непосвященные и понятия не имели. Жрецы произносили какие-то молитвы на древнем языке, которого я не понимал (и, возможно, они сами тоже). Но в любом случае было ясно, что это призыв. Те, что замыкали круг, пели торжественные гимны, а Кумпана задавал ритм движением головы и рук. Постепенно темп его становился все медленнее и медленнее, и вот наконец старик уронил подбородок на грудь и погрузился в глубокий транс или сон. Тогда я понял: Кумпана был попросту медиумом, как выражаются в спиритических кругах. Вероятно, он имел дар общения, реального или воображаемого, с внеземным разумом и с людьми на расстоянии, а также обладал способностями к ясновидению. Это позволило старику возвыситься над прочими и возглавить Совет Тени, местный орган управления. Впоследствии моя догадка подтвердилась. Кумпана, который не отличался высоким происхождением и не принадлежал к семье жрецов, тем не менее затмил всех, став, благодаря своему мистическому дару, фактическим правителем дабанда. Вождь племени был всего лишь исполнителем его указаний и супругом Тени, которому суждено однажды, в назначенный Советом срок, умереть вместе с нею. Что же до Тени, то она, по всей видимости, являлась оракулом, передававшим членам Совета указания от мистического божества, а уж они истолковывали их, как им нравится, если только она сама не давала какую-либо подсказку, что, как я сразу догадался, случалось достаточно часто. Жрецы играли сравнительно небольшую роль в устройстве этого государства в миниатюре, вернее, того, что от него осталось. Думается, когда-то государство сие было сильным и по-своему цивилизованным. Дабанда поклонялись Луне и другим планетам (то есть не были классическими язычниками-солнцепоклонниками) и величием своим были обязаны магической силе, а вовсе не успехам в войнах. Но в конце концов они проиграли воинствующим народам. В этом грешном мире дух постоянно противоборствует плоти. Как сказал кто-то из великих, кажется Наполеон, Провидение всегда на стороне сильнейших. Местные жрецы, однако, не только проводили религиозные обряды и приносили жертвы перед алтарем. Они были учеными людьми и врачевателями, владели зачатками знаний по астрономии, преуспели в составлении и толковании гороскопов. Подозреваю также, что они умели достаточно точно предсказывать затмения. Кроме того, жрецы дабанда вели записи. Затрудняюсь сказать, была ли у них развитая система письменности, или же использовались весьма примитивные знаки. Эти люди тщательно оберегали от чужаков свои секреты. Вот и все, что мне удалось выяснить о загадочной религии абанда за время краткого пребывания среди этого народа. Теперь же я стал живым свидетелем одного из ее проявлений. После того как Кумпана погрузился в транс, пение продолжалось довольно долго, но постепенно стихало, и теперь оно звучало довольностранно, словно бы разливаясь где-то среди морских просторов. По крайней мере, у меня возникла именно такая иллюзия: видно, я попал под гипнотическое воздействие этого гимна. То ли из-за пения, то ли из-за того, что в комнате стояла кромешная темнота, но тело мое полностью оцепенело, а разум оставался бодрым, словно бы я спал и видел сон. Мне привиделась расплывчатая фигура Кумпаны. Он стоял в каком-то большом полутемном коридоре и что-то говорил прекрасной женщине, которую я прежде видел у алтаря. Она выслушала его, вытянула руки вперед и возвела очи горе, ожидая вдохновения свыше. Наконец по ее рукам пробежала дрожь, судорога исказила черты лица, а глаза закатились и чуть ли не выскочили из орбит. Видимо, дух Энгои овладел жрицей-прорицательницей. Она быстро зашевелила губами, изливая поток слов, — и вдруг видение испарилось без следа. Разумеется, то был сон, вызванный соответствующей окружающей обстановкой и каким-то тяжелым запахом, о котором я забыл упомянуть. Наверняка жрецы чем-то окропили все помещение. Однако сон, в котором мне довелось узреть оракула, выглядел поразительно реальным; я вспомнил, что удивительно схожие церемонии проводили жрецы Древней Греции и африканские прорицательницы. Я, Кумпана и остальные пробудились (Аркл с Хансом впоследствии признались мне, что тоже спали и видели сон). Старый провидец зевнул, потер глаза, потянулся и тихо сказал, что получил от Энгои точные указания о том, как следует действовать дальше, чтобы спасти народ дабанда, но вдаваться в подробности не стал. Он велел привести к нему крестьян. — Отправляйтесь к Западному ущелью вместе с этим человеком, — произнес Кумпана, указывая на одного из жрецов, — и завтра на закате ждите Кенеку на прежнем месте. Когда он явится сам или пришлет вестников, скажите, что его слова передали Энгои, и вот ее ответ: «Вспомни, что ты проклят, о предатель Кенека. Ты волен выбирать любой путь, но он все равно приведет тебя в могилу. Передай абанда, что дождь их народ получит в изобилии: он будет идти, пока от засухи не останется и следа. Однако если эти люди осмелятся последовать за тобой в землю Моун, на берега священного озера, то на них падет такое страшное проклятие, какого не знали даже их предки. Имей также в виду, о Кенека, что Энгои известны твои сокровенные мысли. Ибо в действительности тебе нет никакого дела до бесплодных полей абанда, ты охотишься за Тенью. Так знай же, что она больше не существует для тебя. Та, кого ты пытаешься похитить, мертва. Тебя ждет участь убийцы Тени». Кумпана заставил обоих крестьян и жреца, которому предстояло идти с ними, дважды повторить это загадочное послание. Убедившись, что посланники выучили текст наизусть, он отпустил их без дальнейших церемоний, словно им и не предстояла важная миссия. Мне едва удавалось сдерживать раздражение, я так и кипел от гнева и вообще был сыт по горло всей этой мистической историей. Надвигалась какая-то война, и дабанда ожидали, что я тоже буду в ней участвовать. Однако я вовсе не хотел драться. С какой стати мне ввязываться в междоусобицу двух племен, где обе стороны хотят захватить жрицу, способную дать им дождь? Да еще плюс ко всему здешняя нездоровая атмосфера угнетающе действовала на психику. Не спорю, таинственные африканские обычаи и древние суеверия очень интересно исследовать, но всему есть предел, тем более если за фасадом невинности скрывается какая-то извращенная жестокость. Словом, мне очень хотелось сбежать оттуда, с Арклом или без него, прежде чем вся гниль выйдет наружу и случится что-нибудь ужасное. Честно признаюсь, я был напуган. Сперва ночь, проведенная в заповедном лесу, а теперь еще этот спиритический сеанс — все это здорово действовало мне на нервы, подобно манипуляциям старого Зикали в Черном ущелье. Я всегда верил, что людей окружают невидимые силы. Большинству из нас никогда не найти тайные двери в пограничной стене, разделяющей два мира, хотя кое у кого и имеется ключ от них. Также я убежден, что нет ничего опаснее и губительнее, чем пытаться вступить в контакт с этими силами или заглянуть внутрь, когда калитку отворил кто-то другой. В городе дабанда эти двери были постоянно приоткрыты, и местные жители получали через них тайные знания и впускали, выражаясь языком Ханса, призраков; причем последние упорно навязывались также и тем, кто вовсе не желал иметь с ними дела. Короче говоря, я хотел вернуться к нормальной привычной жизни, раз и навсегда позабыв о священном озере Моун, жрице по имени Тень и ее почитателях. — Кумпана, — спросил я, — значит, между вашим народом и абанда скоро начнется война? — Да, — ответил он и довольно жутко улыбнулся. — Будет война… в некотором роде. — Тогда вот что, Кумпана. Я не имею никакого желания впутываться во все это и немедля покидаю вашу страну. Можешь сколько угодно пугать меня опасностями, но я отчаливаю. — Боюсь, это невозможно, господин Макумазан. Разве ты не слышал слова Энгои? Грядет конец засухи, что три года свирепствовала на склонах горы. Приближается великая буря, и ты не сможешь далеко уйти. Даже если ты спасешься от копий абанда, дождь остановит тебя. Кроме того, — тут же добавил он с усмешкой, не дав мне возразить, — нам говорили, что господин Макумазан очень храбрый человек и любит сражения. — Тебя обманули. Кто, интересно, такое сказал? — Это не важно. Мы знаем о тебе больше, чем ты думаешь, Макумазан. Нам рассказали о том, что Кенека заплатил тебе вперед слоновой костью и золотом, после чего ты добросовестно выполнял условия соглашения, не покидая его вплоть до самого прибытия в нашу страну. О, мы не сомневаемся, что господин Макумазан человек необычайно честный и всегда держит свое слово. Особенно если ему хорошенько заплатить за услуги. Тут Аркл, надо отдать ему должное, резко вмешался: — Замолчи, Кумпана! Зачем ты оскорбляешь гостя? — Благодарю вас, Аркл, — прервал я его по-английски, — но я вполне могу и сам за себя постоять. После чего снова обратился к Кумпане на его языке: — Тебя ввели в заблуждение. Я никогда не строил из себя храбреца и не имею ни малейшего желания участвовать в распрях, которые меня не касаются. Моя сделка с Кенекой заключалась в том, что я должен был сопровождать его в эту землю, а не сражаться. Если бы ты умел читать на моем языке, я показал бы тебе соглашение, которое мы заключили в письменном виде. Кенека, которому надлежало стать вашим вождем, сказал, что в одиночку ему не справиться. Это так, без нас с Хансом он бы далеко не ушел. Да, не будь нас, абанда убили бы его, как пытались убить белого Странника, вашего нынешнего вождя. Не стану отрицать, Кумпана: мне и впрямь хорошо заплатили, поскольку именно так я зарабатываю на жизнь. И все же не только это привело меня сюда, была и другая причина. Мне рассказали о священном озере, о вашем малочисленном племени и интересных обычаях, а так как я по природе своей любопытен, мне захотелось увидеть все это своими глазами. — Полагаю, ты вволю насмотрелся, — заметил Кумпана. — Так или иначе, — продолжал я, пропустив его слова мимо ушей, — никто не упрекнет Макумазана в том, что он не отработал сполна полученную плату. Поэтому я приму участие в вашей войне и сделаю все, что в моих силах, тем более у меня с Кенекой свои счеты: его предательство стоило жизни двум моим слугам. Только я требую, чтобы Совет Тени и белый Странник, который, не вняв моим увещеваниям, стал-таки вашим вождем, пообещали, что сразу после войны мне и моему слуге не станут более чинить препятствий и позволят уйти с миром. — Мы клянемся тебе в этом именем Энгои, господин! — с готовностью воскликнул Кумпана, и вид у него при этом был пристыженный. — Прости, если мои слова обидели тебя. Насчет любви к сражениям я только повторил то, что мне поведал твой слуга Ханс, а об остальном узнал от Кенеки. — То есть от человека, который оказался предателем и лжецом, — заметил я сердито. А затем спросил также и у Аркла, дает ли он мне обещание, что меня отпустят, когда закончится война. — Разумеется, Квотермейн, если вы этого хотите, — ответил он по-английски. — Правда, я надеялся, что вы побудете с нами еще немного. Сказать честно, мне будет без вас одиноко, — добавил Аркл и вздохнул, как мне показалось, обреченно — что и немудрено, учитывая обстоятельства. — Почему же вы остаетесь здесь? — Это мой долг, моя судьба. Меня пленили чары, которые невозможно развеять. Кроме того, Квотермейн, как вы не понимаете, — прошептал он быстро, — если я нарушу клятву (чего я делать не хочу) или хотя бы попытаюсь, то не проживу и дня. — Я прекрасно все понимаю, Аркл, и очень сожалею, — кивнул я, после чего откланялся и вышел из дома. — Баас, — сказал Ханс, когда мы оказались на улице, — помните ту ловушку из ивовых прутьев, которую я смастерил, чтобы поймать угря, — (он имел в виду усатую ильную рыбу), — в низовье Тугелы, когда у нас закончилась еда? Ловушка получилась очень хорошая, баас. Угорь проскользнул внутрь, дверца моментально захлопнулась, он не смог выбраться, и мы его съели. Эта земля, баас, такая же ловушка для Рыжего быка, а Тень — приманка. Немного погодя эти люди-призраки непременно зажарят и съедят бедолагу. Я вздрогнул, представив себе эту картину. И заметил: — Смотри, Ханс, как бы нас самих не съели. — О нет, баас, вам это не грозит. Этим дабанда просто не на что вас ловить. К счастью, у них есть только одна Тень, а ловушка без приманки бесполезна.Глава 17
ВЕЛИКАЯ БУРЯ
К вечеру над побережьем священного озера и над всей землей вокруг, насколько хватало глаз, собрались муссонные облака. — Баас, — сказал Ханс, — а Тень-то оказалась неплохой заклинательницей. Помните, Кумпана сказал, что она обещает дать дождь этим абанда? Без малого три года бедняги страдали от засухи. Теперь-то им хватит воды. — Может, тогда они не станут воевать, — невозмутимо заметил я. Погода и в самом деле была своеобразной. Жара, и без того стоявшая в последние дни, неуклонно продолжала расти. Сдается мне, в тот вечер температура поднялась до сорока пяти градусов в тени. Кроме того, наблюдалась страшная духота, воздух был такой густой, что мне казалось, будто я дышу кремом. При малейшем усилии я обливался по́том. Я лежал в кровати, раздевшись до рубашки, тщетно пытаясь устроить в помещении хоть небольшой сквозняк, дышал как рыба, выброшенная на песок, и молился, чтобы поскорее разразилась буря и принесла прохладу. В могущество Тени я не верил. Полагаю, что Кумпана и остальные старики просто-напросто хорошо знали приметы местной погоды и смогли рассчитать, когда же долгая засуха наконец прекратится. Вот и все пророчество. Правда, надо признать, что по каким-то неведомым причинам засуха сия никогда не затрагивала долину кратера, а потому дабанда неизменно собирали богатый урожай и не голодали. Ханс, как истинный готтентот, был равнодушен к жаре. Он сходил в город на разведку и сообщил мне, что люди встревожены надвигающейся бурей. Одни срочно укрепляли крыши, а другие перевозили свои запасы в пещеры и прочие надежные места. С полей спешно убирали остатки урожая, даже дети были при деле. Жрецы строили над алтарем что-то вроде шалаша из пальмовых листьев, должно быть, чтобы дождь не потушил огонь, который будто бы горел там с незапамятных времен. На землю опустилась жаркая ночь. Я не мог глаз сомкнуть и только жадно глотал воду, подкисленную соком какого-то дикого фрукта, который рос в кратере. Он походил на сливу и дарил напитку вяжущий вкус и прохладу. Рассвет был сер, как в Лондоне в ноябре, ничто не нарушало тишины. Долгожданный дождь не слишком торопился. Позавтракав, вернее, поковырявшись для вида в тарелке, поскольку есть совершенно не хотелось, я потихоньку побрел по жаре к дому вождя. На стук вышел жрец, но внутрь меня не впустили, сославшись на то, что Странник сейчас занят, беседуя с членами Совета. Я понял намек и пошел домой. Наверняка они боятся, как бы я не повлиял на Аркла, а потому хотят ограничить наше общение. Скажите, какие психологи! Можно подумать, что Кумпана и остальные жрецы видят людей насквозь, читают мои мысли как открытую книгу. Я заподозрил, что они, хоть и не понимают нашего языка, все равно уловили смысл моих слов, когда я уговаривал Аркла сбросить оковы и покинуть эту землю. Почему дабанда так старались удержать его там? До сих пор я задаю себе этот вопрос. Они хранили свои соображения в тайне, но, видимо, какая-то крайняя нужда заставила их пойти на это. В тот момент я пришел к выводу, что ими руководило честолюбие. Малочисленный, охваченный суевериями народ стремился вернуть себе былое величие. Для этого они должны были объединиться с многочисленным племенем абанда под правлением сильного и толкового вождя, человека разумного и образованного, который знал законы цивилизации. Поэтому Аркла заманили в землю Моун, подсунув бедняге в качестве приманки прекрасную женщину по имени Тень, к которой его непостижимым образом тянуло. Других причин я не видел. Правда, вынужден признать, была в моей версии одна загвоздка. Выходит, что Тень, кем бы она ни являлась, действительно влюбила в себя Аркла на расстоянии, как он утверждал, а некоторые из ее жрецов и советников и впрямь умели заглядывать в будущее. А впрочем, они могли действовать, исполняя некое древнее пророчество, каковые довольно популярны среди мистически настроенных африканских туземцев и которые, из-за весьма туманного и запутанного содержания, европейцам понять трудно. Несомненно, и меня дабанда тоже заманили в свою страну с определенной целью. Я вспомнил, что при любой возможности эти люди старались разузнать у меня как можно больше о нашей системе управления и о всем таком прочем, хотя напрямую подобных вопросов и не задавали. Вожди этого преданного забвению малочисленного народца, в особенности мудрый Кумпана, хотели снова возродить его былое величие, только и всего. Вот какой мне виделась истинная цель их заговора. Вернувшись, я обнаружил, что какие-то люди укрепляли крышу нашей хижины, а другие рыли вокруг дома канаву, которая соединялась с расположенным поблизости отводным каналом. Видно, дабанда основательно готовились к буре. Я вошел в комнату, прилег и попытался вздремнуть, но шум снаружи не давал мне и глаз сомкнуть. Звуки были довольно странными, однако выглянуть наружу и выяснить, чем они вызваны, было лень. На закате меня навестил Кумпана. Несмотря на холодный прием с моей стороны, он держался безукоризненно вежливо. Проверив, все ли готово для защиты дома от бури, он извинился за свое вчерашнее поведение. Старик признался, что вовсе не считал меня трусом или излишне корыстным человеком, но говорил сие намеренно, дабы задеть мое самолюбие и вынудить пообещать остаться с ними до конца войны, поскольку знал, что слово свое я уже не нарушу. Меня поразило, сколь тонко разбирался Кумпана в человеческой природе, он буквально видел меня насквозь. Однако я не стал ничего ему говорить, поскольку обессилел от жары. Тогда, сменив тему, старик попросил меня не выходить на улицу, ведь буря могла разыграться в любую минуту, да и не только поэтому. — Тебе интересно, что это за странные звуки? — спросил он. — Тогда давай поднимемся на крышу и посмотрим. Как я уже упомянул, мое внимание действительно привлекли весьма любопытные звуки: казалось, будто мимо проносились одно за другим фыркающие и мычащие стада. Оказавшись на крыше, я понял, в чем дело. Просто невероятное количество всевозможных зверей устремилось из города к лесу: наверняка они надеялись укрыться там от надвигающейся бури. Кого тут только не было: канны и бубалы, гну и черные антилопы, ориксы, буйволы, квагги и множество мелких животных. Объятые страхом, все они скакали в сторону деревьев. — Звери чувствуют, что время пришло, и обезумели от страха, — пояснил Кумпана. — Никого из дабанда они не тронут, потому что хорошо знают нас и подчиняются нашим приказам. Но если они почуют тебя, чужака, то мигом растопчут. Я согласился с доводами старика и стоял, изумленно взирая на самое странное зрелище, какое мне только доводилось видеть за всю свою богатую охотничью практику. Потом я повернулся и собрался было сойти вниз, но Кумпана попросил меня задержаться, если хочу узреть нечто еще более удивительное. Тут я услышал звук, который ни с чем не спутаешь. Это трубил слон. — Ты вроде бы говорил, — заметил я удивленно, — что с земли Моун прогнали всех слонов. — Так и есть, Макумазан. Наверное, они бегут от великой бури и землетрясений и решили укрыться в стране, где жили на протяжении нескольких поколений, пока мы не изгнали их. Тем временем в облаке пыли по правую руку от нас появился огромный слон. Он несся опрометью, а за ним следовало все стадо. Я сразу узнал его по размерам, отметинам на хоботе и лбу, а особенно по огромным бивням. Это был тот самый король слонов, с которым у нас состоялась любопытная встреча на холме посреди равнины, где, по словам Кенеки, собирались эти животные. Да, именно его мы и видели в окружении свиты, что гналась за нами до самого лагеря. Даже после всего случившегося в этой таинственной стране появление гигантского самца показалось мне столь неожиданным и непостижимым, что я был поражен до глубины души. А Ханс позади меня осел наземь и забормотал: — Allemachte! Баас, да ведь это тот старый черт, который сбросил Дырчатого и Джерри в воду, а в меня дунул со всей силы. Он пришел за нами. Теперь все кончено. — Погоди, — ответил я как можно тише, — может, он пришел сюда совсем с другой целью. И я снова принялся наблюдать за величественным созданием, которое неслось мимо города. За ним бежало еще десятков пять или даже семь слонов. К моему удивлению, я заметил среди них только зрелых самцов, а вот самок и слонят не было. Кумпана, словно бы угадав мои мысли, произнес: — Да, тут только самцы, которые выросли в этой земле в давние времена. Поэтому они и вернулись к себе домой, а самки с детенышами ушли в другое место. Тем более что в них мы не нуждаемся. — Почему это? — резко спросил я, но старик притворился, будто не расслышал. Когда слоны промчались мимо и растаяли вдалеке за деревьями вместе с остальными животными, мы спустились с крыши, и Кумпана перед уходом еще раз напомнил, чтобы я не покидал укрытия, пока буря не уляжется полностью. — Постой, — спохватился я, — а где белый Странник, ваш новый вождь? — Он у себя, Макумазан. Там, где ему и полагается быть. — Ты, как видно, хочешь разлучить нас? — Ненадолго, Макумазан, это лишь пойдет на пользу вам обоим. Ведь ты же хочешь увести его от нас, да? Что ж, с твоей стороны это вполне естественно, однако для нас совершенно недопустимо. Белый господин дал клятву Тени, именуемой также Сокровищем озера, и должен остаться с нею и нашим народом. Если Странник нарушит слово, то его тут же убьют, а если ты будешь подстрекать его к этому, то и тебя ждет та же участь. Поэтому лучше не вмешивайся, Макумазан, пока война не закончится. — Ты уверен, что будет война? Когда же? — Да, господин, война между нами и народом абанда начнется, когда небеса завершат свое дело, — ответил он, указывая пальцем в небо. — Кенека непременно попытается забрать обратно все то, что потерял. Ты тоже примешь участие в этой схватке, господин, хоть и не совсем так, как это себе представляешь. В назначенный час я приду за тобой. А теперь прощай, буря совсем близко, мне нужно найти укрытие. Когда Кумпана ушел, мы с Хансом вспомнили о стаде слонов, возглавляемом гигантским старым слоном. Моего слугу очень расстроило их загадочное появление. — Говорю вам, баас, это были не слоны, а люди, заколдованные здешними колдунами. Ох, чую я, в этой земле скоро произойдет нечто ужасное. Мой готтентот как в воду глядел. Вдруг началось настоящее светопреставление. Густой воздух наполнился стонами, каких я прежде не слышал. Видать, всему виной был ветер, разгулявшийся среди верхушек деревьев, просто мы пока не ощущали его дуновения. Казалось, будто все в мире страдальцы собрались вместе и изливали свою боль и печаль, издавая протяжные стоны и всхлипывания. — Баас, это проделки призраков… — начал было Ханс, но договорить не успел, так как пол у нас под ногами внезапно заходил ходуном. Стены медленно покачивались, и мне сделалось дурно, внутренности буквально выворачивало наизнанку. Несколько полочек, грубо сколоченных моим хозяйственным слугой, упали на пол. — Землетрясение! — воскликнул я. — Бежим отсюда, пока крыша не рухнула! Хансу не пришлось повторять дважды, он одним прыжком оказался у двери. Последовав его примеру, я выбежал через небольшой сад на открытое пространство, ибо там было безопаснее. Почувствовал новые толчки, я замер и упал на землю, где и остался лежать, отчаянно молясь, чтобы меня не поглотили разверзшиеся недра. — Смотри! — воскликнул Ханс и показал на круглую башню, откуда астрологи дабанда наблюдали за звездами, вернее, на то, что от нее осталось. Как раз в эту минуту башня накренилась, будто сделала нам реверанс, как и деревья, и рухнула с грохотом, которого мы не расслышали из-за стенаний ветра. Постепенно толчки прекратились, а вместе с ними и завывания ветра. Наступила напряженная и пугающая тишина. Смеркалось, и воздух пронизывало алое зарево, будто по небу разлили расплавленное железо, но солнца видно не было. В этом сиянии очертания предметов искажались и все вокруг выглядело чудовищным. Вдруг сияние это распалось на разноцветные хлопья сумасшедших оттенков. Они представлялись мне крылатыми фантастическими существами, похожими на животных, населявших землю в эпоху рептилий, только неизмеримо бо́льших размеров. Но вот призрачные фигуры улетели на своих радужных крыльях, и непроницаемая густая тьма окутала весь мир от земли до неба. Но уже в следующий миг чернильная ночь вспыхнула ярким светом. Повсюду засверкали молнии, и в их свечении окрестности было видно на многие мили. Огненные стрелы, казалось, стремились разрушить все вокруг: они испепеляли деревья, разбивали на куски большие камни, лежащие неподалеку. Не сговариваясь, мы с Хансом поднялись и побежали к дому. И едва только успели заскочить внутрь, как раздался раскат грома. За долгие годы кочевой жизни мне приходилось много раз наблюдать грозы в Африке. Однако сей катаклизм даст сто очков вперед всем остальным. Никогда я не слышал ничего подобного. Раскаты грома походили на выстрелы из миллиона винтовок, грохот огромных револьверов, камнепад и неразборчивое бормотание — причем на все это сразу. К тому же звуки многократно отражались от скалистых стен огромного кратера, внутри которого жил народ дабанда, и становились в десять раз сильнее. Да прибавьте сюда еще постоянные удары молний. Словом, вся эта картина была воистину ужасающей и подавляюще действовала на психику. Наблюдая за Хансом, я заметил, что он, до смерти перепуганный, сначала покрылся синюшными пятнами, а потом побелел как полотно и начал выкрикивать что-то о Судном дне. Признаться, мне и самому уже стало казаться, что событие сие не за горами. Затрудняюсь сказать, как долго продолжался этот ужас, пока природа показывала свой норов, ибо потерял счет времени и плохо соображал. Наконец хаос несколько улегся, и теперь молнии сверкали лишь изредка. Но только я решил, что буря иссякла, как начался дождь, вернее, настоящий потоп. Такое не часто увидишь: будто кто-то наверху опрокинул гигантское ведро. Потоки проливного дождя низвергались с неба несколько часов подряд. Наш дом, сложенный из бревен, устоял во время землетрясения, ибо был специально построен так, чтобы противостоять толчкам. Однако крыша треснула в двух местах, вода попала внутрь, и очень скоро нас затопило по пояс. Если бы кровлю загодя не укрепили каким-то раствором, не успевшим до конца застыть, и он не закрыл бы трещины, то нас бы попросту смыло. К счастью, все обошлось. Нам повезло, что кровати, стоявшие на возвышении, оказались выше уровня воды, и поэтому, когда толчки прекратились, мы с Хансом спокойно легли и уснули. Проснувшись, я увидел проблеск дневного света. Дождь уже не лил с прежней силой. Завернувшись с головой в шкуру, я взобрался на крышу. Передо мной развернулась печальная картина страшного опустошения. Окружающая местность частично оказалась под водой, многие дома были разрушены землетрясением или смыты наводнением, а многие деревья в лесу расколоты ударами молний. Каменную платформу скрыло настоящее озеро, а шалаш, сооруженный для защиты алтарного огня, как мы потом узнали, был расплющен, и священный огонь — к великому ужасу всего народа дабанда, а в особенности жрецов — погас. Меж тем, хоть за кольцом кратера дождя было поменьше, чем здесь, насколько мы могли видеть, там все же лило сильно, как никогда, и вдалеке вновь разразилась гроза. Целых трое суток продолжалась эта страшная непогода. Сильная буря время от времени сопровождалась подземными толчками. Все это время мы с Хансом не выходили наружу, и нас никто не навещал, кроме женщин, которые приносили нам еду, мужественно исполняя свои обязанности. Женщины эти рассказали, что их соплеменники в ужасе, ведь если верить летописям, народ дабанда прежде никогда не знал подобных бурь. На четвертый день появился Кумпана, еще более невозмутимый, чем прежде. Старик сообщил, что в земле Моун никто не погиб, да и урожай, который дабанда загодя убрали с полей, тоже пребывает в целости и сохранности. Однако абанда, чьи дома стоят на склонах гор и прилегающих равнинах, сильно пострадали. Многие утонули в потоках, низвергавшихся по склонам, или погибли под развалинами домов, которые из-за нехватки древесины были построены из камня и не устояли перед землетрясением. Посевы зерновых, созревающие в стране абанда позже, чем в земле Моун, тоже были уничтожены. Я заметил, что после такого потрясения абанда, должно быть, передумают сражаться; к тому же они ведь получили дождь, как и просили. — Вовсе нет, — ответил Кумпана, — этим людям нужна пища, которую теперь можно найти только в нашей стране, и они знают об этом. Поэтому мы просим тебя, господин, пойти завтра с нами на войну. — Куда именно? — Пока что не могу этого точно сказать тебе, Макумазан. У нас есть указание идти к Западному ущелью. Добравшись туда, мы, несомненно, получим новые приказы, как действовать дальше. — От кого же вы их получите? — спросил я раздраженно. — От вашего нового вождя? — Нет, господин, мы будем выполнять указания Энгои, которые она передает по воздуху. — Опять двадцать пять! — воскликнул я. — Ну а Странник, ваш вождь, пойдет с нами на битву? — Нет, господин, он останется охранять город. А теперь прощай, у меня еще много дел. Завтра в назначенный час я пришлю за тобой. — Ну и влипли же мы! — воскликнул я, когда дверь за ним закрылась. — Нет, баас, — возразил Ханс, — тут напрашивается другое слово, которое ваш покойный отец никогда не позволил бы мне произнести. Сей почтенный человек всегда говорил, что мир полон чудес и тот, кому дано, видит их, прежде чем отправиться в место, где есть один только огонь, вроде того, какой полыхал в ту ночь, когда разыгралась буря. Ну и смешная получится война, баас, где приказы доставляют по воздуху, а воины не знают, что делать, пока им это не объяснит женщина-призрак. Потом, когда мы вернемся в Дурбан или, скорее всего, попадем в огненное место, баас, будет забавно вспомнить об этом. — Уймись, богохульник, и послушай. Я собираюсь выбраться из этой дыры. Мы пойдем к Западному ущелью, а потом сбежим через него в пустыню. — Да, баас, и оставим здесь оружие и все остальное. Да проклятые абанда убьют нас на своей земле, а если мы даже и убежим от них, то наверняка заблудимся или умрем с голоду. Эх, баас, при таком раскладе нам далеко не уйти. Готтентот продолжал говорить, неся несусветную чушь, в которой, впрочем, попадались крупицы здравого смысла, но я уже не обращал на него внимания. Кто бы знал, до чего же мне все надоело! Эх, вот бы ветер подхватил меня и унес из этой земли, пропади они все пропадом, эти дабанда и абанда. Ну да что толку в пустых мечтаниях. И я решил покориться судьбе. В тот день я снова попытался повидаться с Арклом. Однако, когда мы с Хансом пробрались по грязи к хижине вождя, путь нам преградили его стражники, которые вежливо велели убираться. Тут я понял, что стена между нами непреодолима, вернулся в дом и изложил в дневнике все, что я об этом думаю. Исписанные карандашом страницы сейчас лежат передо мной, и, признаться, я с трудом верю, что сии гневные слова вышли из-под руки такого сдержанного человека, как я. Ночью у алтаря состоялась торжественная церемония, на которую меня не пригласили, да я и сам не пошел бы. Наверняка она была связана с восстановлением священного огня, ибо с крыши мы видели, как он вдруг снова запылал. Это зрелище наблюдало огромное количество народу, среди них был и Аркл. Ханс приметил его, одетого как дабанда и в сопровождении жрецов с факелами. Меня огорчало, что британский джентльмен играет роль верховного жреца у странного, чуждого нам народа, исповедующего язычество, но изменить что-либо было, увы, не в моих силах. Религиозный обряд — я полагаю, что это был именно он, — сопровождался печальной музыкой и таким же пением, а еще барабанным боем, которого я здесь раньше не слышал. Церемония продолжалась довольно долго и завершилась факельным шествием обратно в город. Наутро, сразу после завтрака, явился Кумпана в сопровождении трех сотен копейщиков. Он небрежно, будто речь шла об увеселительной прогулке, заметил, что если мы готовы, то пора отправляться на войну. Я беззаботно ответил, что заждался его, ибо предвкушаю битву и бью в нетерпении копытом, как боевой конь из библейской Книги Иова. Старик улыбнулся и ответил, что рад это слышать, и пожелал мне сохранить и впредь такой настрой. Еще он добавил, что наслышан о моем проворстве и умении быстро бегать. «Погоди, — подумал я, — скоро сам увидишь, с какой скоростью я покину эту страну, если мне улыбнется удача». А вслух спросил, кто же позаботится о наших пожитках, когда мы будем далеко отсюда. Кумпана заверил меня, что их перенесут в надежный тайник и будут охранять, а я призадумался, сумею ли получить обратно свое имущество. Мы отправились в дорогу под охраной двух воинов. Они несли наши винтовки, патроны и необходимую экипировку. Когда мы проходили через город, где женщины в одиночестве восстанавливали дома и сады после бури, какая-то девушка протиснулась сквозь стражей и протянула мне записку. Послание было от Аркла. Я развернул его и прочел:Любезный Квотермейн! Пожалуйста, не судите меня строго. Я не мог пойти с Вами, но, думаю, Вы вряд ли поймете почему. Да я и не сумел бы уйти далеко, ибо нога моя еще не зажила окончательно. Что бы ни случилось, ничему не удивляйтесь, ведь дабанда отличаются от всех прочих людей и живут по своим собственным законам, каковые стороннему наблюдателю трудно постичь, равно как и следовать им. А самое главное — ни в коем случае не пытайтесь бежать, иначе Вас и Вашего слугу Ханса ждет неминуемая смерть.Дж. Т. А.
Вот и все, да мне и того было довольно. Очевидно, Ханс прав, Аркл оказался в ловушке, как угорь, хотя в его случае более удачным было бы сравнение с угодившим в западню быком. Более того, Кумпана или кто-то из членов проклятого Совета догадался о моем намерении сбежать, и Аркл таким образом предупреждал меня о возможных последствиях. Похоже, в этой стране новости разносились быстрее обычного и распространялись по каким-то неведомым каналам. Что ж, придется отказаться от этой затеи, которая, признаться, была безумной с самого начала. В трех милях от деревни, сильно разрушенной после бури, мы встретили примерно две с половиной сотни копейщиков, которых Кумпана именовал гордым словом «войско». Я спросил у него, где же остальные, а он со странной усмешкой ответил, что все воины здесь, а прочие сильные и здоровые мужчины остались для охраны города и вождя. Тогда я поинтересовался, сколько человек могут выставить против нас абанда. Старик сказал, что сам точно не знает, но где-то около десяти или двенадцати тысяч. Тут уж я, не в силах далее сдерживаться, раздраженно осведомился, как же он, интересно, надеется победить опытного противника, численно превосходящего нас приблизительно в сорок раз. Кумпана благодушно ответил, что сие ему неведомо, ведь он не полководец, а всего лишь жрец и советник, но, разумеется, все произойдет согласно указаниям, которые он получит. И с явной насмешкой добавил, что я один стою многочисленного войска, ведь Кенека и народ абанда боятся мудрости и оружия белого человека. Тогда я сдался, опасаясь из-за его насмешек потерять над собой контроль и наговорить такого, о чем впоследствии пришлось бы сожалеть. Почти весь день мы шли по прекрасной долине кратера. Затопленные ручьи, ставшие потоками, которые мы с трудом перешли вброд, свидетельствовали о бушевавшей здесь накануне буре, равно как и оползни на склонах и расщепленные молниями стволы деревьев. По пути мы не встретили ни единого человека. Лишь несколько коров паслись в одиночестве, видимо отбились от стада. Земля казалась совершенно необитаемой, даже диких зверей, которые, должно быть, водились в лесу, нигде видно не было. Я спросил Кумпану, куда же подевались все люди, и он пояснил, что они, наверное, спрятались, опасаясь новой бури, или же боятся абанда, которые под командованием Кенеки могут осмелиться войти в землю Моун. Наконец после полудня мы пришли в деревню. Пробираясь к ней, мы обогнули глубокие расщелины, явно появившиеся вследствие недавнего землетрясения. Несколько местных жителей — сплошь старики и старухи — приготовили немалое количество пищи; видимо, их заблаговременно предупредили о нашем появлении. Теперь мы находились в пяти или шести милях от скалы, опоясывающей весь кратер, правда отсюда ее было не разглядеть. Деревня стояла в лощине, которую окружали высокие деревья; они росли так густо, что загораживали обзор. Мы на славу подкрепились, после чего Кумпана велел нам оставаться тут до наступления ночи и хорошенько отдохнуть, поскольку затем придется снова отправиться в путь, чтобы достичь скалы на рассвете. Я спросил его, что же будет дальше, но старик снова ответил, что не знает. — Возможно, — сказал он, — нам придется перейти ущелье и поджидать там абанда или же напасть на них первыми. Не исключено также, что мы просто удалимся восвояси. И Кумпана поспешно ретировался, пока я не забросал его очередной порцией вопросов. В лучах заходящего солнца я видел, как старики, которые нас кормили, зашагали на восток, взгромоздив на спины узлы. Они явно не собирались возвращаться. Желая набраться сил перед грядущим испытанием, я лег и проспал до трех часов ночи, когда Кумпана разбудил нас и предложил позавтракать, потому что войско готово выступить. Наскоро перекусив, мы отправились в путь. На небе сиял лишь тонкий серп убывающей луны. Если бы меня не вели за руку, я наверняка заблудился бы среди деревьев в кромешной тьме. Однако самих дабанда темнота, казалось, ничуть не смущала. У этих людей зрение было не хуже кошачьего. Дорога шла все время в гору, потому что теперь мы взбирались по склону утеса. Вскоре небо стало серым, близился рассвет. Тогда мы остановились и стали дожидаться, когда встанет солнце. Оно взошло как-то неожиданно, вдалеке, над восточным краем кратера. Лучи коснулись скал, хотя сам кратер все еще скрывался во мгле. Вернее, перед нами развернулась странная и жуткая картина того, что раньше было скалой. У всех, даже у этих бесстрастных молчунов-туземцев, дружно вырвался вздох удивления: от гребня до основания эта громада была расколота надвое подземным толчком, а на месте узкого, всего в несколько ярдов, ущелья теперь зияла огромная пропасть, никак не меньше четверти мили в диаметре! Куда же подевалась скала? Во всяком случае в самой расщелине не осталось никаких обломков. Стало быть, подземные толчки, вызвавшие столь невероятные разрушения, прокатились сквозь кратер наружу, к прилегающим равнинам. Затрудняюсь объяснить, почему эпицентр чудовищного по своей силе разрушения находился именно в этом месте. Мне неведома природа землетрясений, но, похоже, скалы здесь оказались более хрупкими и не такими мощными. И потом, вполне возможно, гигантское кольцо кратера было разрушено не только тут. Вполне понятно, что дабанда сильно обеспокоились: кто знает, чем обернется для их народа эта катастрофа. Ведь теперь они уже не были защищены от остального мира монолитной скалой с несколькими узенькими расщелинами, через которые могла пройти лишь горстка людей. Отныне, как заметил Ханс, между ними и остальной Африкой лежала просторная дорога, по которой запросто пройдет целое войско, даже не перестраиваясь. Уединению дабанда, таким образом, пришел конец, и отныне их затерянная цивилизация была открыта всем. Осознавал ли Кумпана всю серьезность положения? Вероятно, хотя трудно было что-либо прочесть на его невозмутимом лице. Знал ли он о случившемся до того, как привел нас сюда? Если да, то зачем тогда он пришел в это место с горсткой воинов? Имел ли старик некий тайный умысел? Увы, в тот момент я не знал ответа ни на один из этих вопросов.
Глава 18
АЛЛАН СПАСАЕТСЯ БЕГСТВОМ
— Если ты собирался перейти расщелину вместе с ними, — и я указал на две с половиной сотни грозных воинов дабанда, — то теперь, когда она так расширилась, можешь забыть об этом. — Понимаю, господин, — кивнул старик. — И что же мы будем делать, Кумпана? Вернемся домой? — Я не знаю, господин. Давайте подойдем поближе, хорошенько осмотрим щель в скале и тогда уж решим, что делать дальше. Может быть, абанда испугались обвала и убежали. Или же боятся, что из земли Моун придет новое землетрясение и поглотит их заживо. — Возможно, — ответил я. А про себя подумал, что, пожалуй, нужно нечто большее, чтобы охладить ярость доведенного до отчаяния Кенеки. Кумпана отдал приказ воинам, и те, слепо повинуясь, тут же зашагали вперед, к новому проходу. Они, похоже, смирились с неизбежным или же свято верили в защиту невидимых сил. — Баас, — сказал мне Ханс, — мы тут не главные, а всего лишь нечто вроде амулетов на счастье, поэтому давайте лучше держаться позади. Что-то мне здесь не нравится, баас. Готтентот, как обычно, рассуждал разумно. Ведь если дабанда там ждет засада или нечто подобное, нам вовсе не обязательно становиться первыми жертвами. Так что, рискуя вновь вызвать насмешки Кумпаны, я пристроился в хвосте маленькой колонны, аккурат за носильщиками. И представьте, мы действительно угодили в засаду: эта военная хитрость с неизменным успехом используется по всему миру. Мне вспомнилась поэма Вальтера Скотта, где он описывает, как совершенно безлюдные шотландские холмы вдруг ощетинились врагами, которые выпрыгивали из-за каждого куста и из зарослей папоротников. Точно такая же сцена разыгралась сейчас в Центральной Африке, вот только вместо кустов и папоротников здесь были камни, во множестве лежащие вокруг нового прохода. Видимо, Энгои и впрямь защищала дабанда своей божественной силой, ибо все копейщики, без сомнения, полегли бы на месте, если бы какой-то олух из числа абанда не дунул сдуру в рог, дав сигнал к атаке еще до того, как враги приблизились к входу в ущелье. Скалы тут же пришли в движение, воины абанда бросились к нам с дикими воплями. Наши герои кинули на них один лишь взгляд, после чего развернулись и, не дожидаясь команды, сплошной стеной ринулись оттуда прочь. То ли струсили и решили спешно уносить ноги, то ли так было задумано с самого начала. Честно сказать, не знаю и знать не хочу. — Баас, бежим! — крикнул Ханс и помчался в обратную сторону, подавая мне пример. Я припустил вслед за ним, по нашим же собственным следам, и мчался что есть сил, даже не пытаясь отстреливаться. Кажется, я уже упоминал, как перед самым походом Кумпана заметил, что считает меня хорошим бегуном. И это сущая правда. То есть теперь-то, ясное дело, все уже давно в прошлом, однако в ту пору я был крепким молодым мужчиной со здоровым сердцем и отличными легкими. Одним словом, мы с Хансом бросились наутек и бежали довольно долго. — Баас, — едва отдышавшись, сказал мой героический слуга, когда мы покрыли две или три мили вниз по склону, — пусть нам не пришлось вести этих ребят на битву, но зато сейчас мы находимся в самом авангарде. Так и было, лишь самые резвые из них опережали нас. Не вдаваясь в излишние подробности, скажу только, что мы бежали целый день, изредка останавливаясь, чтобы отдышаться и восстановить силы. Накануне ночью Кумпана со своим отрядом достиг местности, покрытой густыми лесами, где и разбил лагерь. И сейчас я понял, каким верным стратегическим ходом оказалось отступление, ибо за нами, на безопасном расстоянии, следовали тысячи воинов абанда (хотя, возможно, их было только несколько сотен; недаром же говорят, что у страха глаза велики). Однако догнать нас враги не могли, хотя и сделали отчаянный рывок, явно не собираясь никого щадить. Возможно, они тоже боялись засады и продвигались осторожно, посылая вперед разведчиков. Так или иначе, но абанда отказались от наступления. В город дабанда мы вернулись засветло, на обратный путь ушло вдвое меньше времени. Наших преследователей нигде видно не было. В городе нас ждали члены Совета и несколько местных жителей, которые, похоже, заранее знали, когда именно мы вернемся. Как им это удалось, ума не приложу. На помосте возле алтаря выставили стражников. Самое приятное, что для возвратившихся героев заранее приготовили еду и сварили пиво. Боже мой, как же мы набросились на угощение, особенно на питье! Ханс поглощал пиво, словно бездонная бочка, мне даже пришлось вырвать кружку у него из рук. Утоляя голод, я тревожно оглядывался по сторонам и заметил, что, кроме этих людей, в городе никого нет, он будто вымер. — Интересно, куда это все ушли? — спросил я готтентота. — Наверное, в лес, баас, к слоновьим призракам, — ответил он, запихивая в рот кусок мяса. — И полагаю, мы тоже отправимся за ними. Так и случилось. Вскоре явился Кумпана, совершенно спокойный, но слегка потрепанный. Вежливо заметив, что у меня на редкость сильные ноги, он сказал, что мы должны сейчас же укрыться наозере и держаться поближе к лесу, потому что в нем легче всего оторваться от преследователей. — Разумеется, — ответил я, — но я надеюсь, что в этот раз ты, Кумпана, будешь держаться поближе к нам. Так что пришлось нам, и без того уже порядком измотанным, двигаться дальше. Мне даже не удалось побывать в нашем домишке. На опушке леса я оглянулся и увидел, как орды воинов абанда ворвались в незащищенный город. Нет, они не грабили и не жгли его, а просто бежали за нами по пятам. Достигнув каменного помоста, неприятели все же остановились, а один из них, скорее всего сам Кенека, в сопровождении нескольких туземцев взбежал по лестнице и разбросал головешки священного костра, потушив его во второй раз. Кумпана, стоявший рядом со мной, содрогнулся при виде подобного кощунства. — Ничего, он за это заплатит! Да, он за все поплатится! — пробормотал старик. И громко добавил: — Скорее, глупцы, скорее! Энгои ждет вас! Мы нырнули в лесную чащу и потеряли врагов из виду. Произошло это уже под вечер, солнце как раз клонилось к закату, так что мы двигались вместе с ним, пока не углубились в лес. Прежде чем царивший кругом вечный полумрак превратился в непроницаемую тьму, мы пришли туда, где на заболоченной почве росло всего несколько деревьев. Здесь, на берегу мелкого озера, образованного паводковыми водами, Кумпана объявил привал до утра, ибо тем, кто не различает в темноте тропинки, лучше не гулять по лесу до восхода солнца. — А что, если абанда настигнут нас ночью? — спросил я. — Нет, они не осмелятся войти в лес до рассвета, да и потом, уже утром, преследовать нас решатся лишь самые храбрые воины, потому что абанда знают: в это священное место вход им заказан. Поскольку я слишком устал, чтобы разбираться во всех тонкостях, то просто принял его слова на веру и лег спать, надеясь, что на этот раз Кумпана нас не бросит. Сказать по правде, я порядком измучился, бегая весь день по жаре, и положился на судьбу: будь что будет. Следует признать, что в целом в ту ночь я неплохо отдохнул и, к счастью, не испытал никаких потрясений вроде тех, что нам с Хансом довелось пережить после первого знакомства с заповедным озером. Впрочем, где-то приблизительно в полночь я вдруг проснулся. Лунный серп ярко светил в небе и отражался в воде. На дальнем берегу озера я увидел среди деревьев гигантские призрачные фигуры, отбрасывающие длинные тени. Я не мог понять тогда, сон это или явь. И невольно вспомнил слонов, убегавших от бури под защиту леса, где они, вероятно, и сейчас находились вместе с остальными животными. Затем я снова лег и проспал до самого утра. Мы встали и наскоро перекусили. Уж не знаю, несли ли воины дабанда провизию с собой из города, или же ее доставили сюда ночью, но еды неизменно хватало для всех нас. Когда мы покончили с трапезой, Кумпана велел идти дальше. Мы медленно обогнули разлившееся озеро и углубились в настоящую лесную чащу, причем по пути я заметил, что нас стало гораздо меньше: вместо двухсот пятидесяти воинов я насчитал лишь двадцать пять. Остальные загадочным образом исчезли. Я спросил Кумпану, куда они подевались. — О, копейщики пошли потолковать с дикими животными, которых после шторма в лесу значительно прибавилось. Они скажут им, что мы пришли с миром и попросят не причинять нам вреда. Его ответ показался мне настолько глупым, что я прекратил расспросы. Однако у Ханса было на этот счет иное мнение. — Я уже говорил, баас, здесь живут не простые звери, а призраки, особенно это касается слонов. Проклятые колдуны имеют над ними власть, в чем мы убедились собственными глазами. Наверняка дабанда пошли прогнать зверей с нашего пути, как и сказал Кумпана. Вот и хорошо, баас, — многозначительно добавил Ханс, — ведь винтовок-то у нас с вами нет. — А не мог бы ты найти того чернокожего слугу, которому я дал понести свое оружие? — спросил я и покраснел. — Нет, баас, его нынче не сыскать. Возможно, его убили или он украл и спрятал твою винтовку. Тех, кто нес запасное оружие, тоже теперь не найти. — А где твоя винтовка? — спросил я резко. — Баас, — ответил он унылым голосом, — признаться, я ее выбросил. Да, когда я думал, что эти абанда вот-вот схватят нас, то кинул винтовку, чтобы бежать быстрее. Мы переглянулись. — Ханс, а помнишь, как Том и Джерри сделали то же самое, когда нас преследовали слоны? И как потом бедные охотники из-за этого переживали, говорили, что повесились бы от стыда, не будь они христианами? А помнишь, незадолго до того, как оба погибли, спая нас, ты дразнил их, предлагая снова выбросить ружья, если им тяжело нести их? — Да, баас, я думал об этом всю ночь. — А ведь мы, Ханс, поступили гораздо хуже, чем они. Эти двое бежали от зверей, а мы — от врагов. Вдруг придется сражаться, а винтовок-то у нас и нет. — Знаю, баас. Ох, как же я понимаю теперь Тома и Джерри! И мне так стыдно, что впору в петлю лезть. — Тогда висеть нам с тобою рядом, ведь мы оба виноваты. Подумать только, я отдал свою винтовку дикарю, зная, что вряд ли получу ее обратно! Теперь мы беззащитны перед врагом, а дабанда будут потешаться надо мною, белым человеком, который пообещал служить им! Тут Ханс расчувствовался и даже смахнул со щеки слезу раскаяния. Мы немного помолчали. — Баас, — сказал готтентот, всхлипывая, — нет ничего плохого в том, что вы дали понести свою винтовку чернокожему слуге. Так поступают все белые. А если он украл ее или был убит, тут уж ничего не поделаешь. Другое дело я, баас. Я прохвост, что и говорить! Но даже такие, как я, баас, могут чему-то научиться. — И чему же ты научился, Ханс? — Тому, что мы не должны судить друг друга, потому что и сами можем попасть в такой же переплет или даже похуже. Ох, баас, до чего же мне стыдно, что я смеялся над Томом и Джерри. Если мы когда-нибудь вернемся на Занзибар, баас, я отдам все заработанные в этом путешествии деньги маленькой дочке Джерри, которая ходит в школу. А еще прибавлю туда свою долю золота, полученного от Кенеки. Ни единого шиллинга не потрачу на джин и новую одежду. — Что ж, Ханс, это весьма похвально. Ну а мне-то что делать? Тут я должен дать объяснения. Описывая, как мы убегали от воинов абанда, я кое о чем умолчал, поскольку испытывал стыд. Однако теперь, раз уж я упомянул об этом нашем разговоре с Хансом, мне придется честно все рассказать. Как я уже говорил, в какую-то минуту абанда, стремительно наступая, ринулись прямо на нас. Имея при себе тяжелые винтовки и боеприпасы, мы с готтентотом сильно отставали и рисковали получить удар копьем в спину. Тогда-то я и отдал винтовку и патроны длинноногому воину, который шел налегке с одним копьем. Увидев это, Ханс сделал кое-что похлеще. Он выбросил свое оружие. После чего мы изо всех сил рванули вперед и избежали опасности. Можно, конечно, в свое оправдание сказать, что нас к тому вынудили обстоятельства. В отношении Ханса это будет вполне справедливо, однако мне, белому человеку, такой поступок непростителен. Ведь дабанда считали меня храбрецом и признавали мое превосходство перед ними. Теперь же они наверняка потешаются надо мной, как в свое время Ханс над Томом и Джерри. Не стану кривить душой: этот постыдный случай останется самым большим позором во всей моей охотничьей практике. Ханс не единственный, кто чему-то научился на собственном печальном опыте; я тоже получил урок, который теперь не забуду до конца жизни. Бо́льшую часть дня мы осторожно продвигались через лес, делая по команде Кумпаны короткие привалы. Густая мгла не добавляла нам отваги, чего уж тут греха таить. Порой я видел неподалеку слонов и других животных. Они спокойно провожали нас взглядами, не убегали в страхе и не пытались напасть. Будто и впрямь считали дабанда своими друзьями. В тот раз я окончательно убедился в правдивости слов Кумпаны о том, что его соплеменники имеют особую власть над дикими животными. Звери выглядели по-настоящему дикими, однако с любопытством принюхивались — как видно, признавали туземцев по запаху. Ханс, само собой, как я уже упоминал, был иного мнения. Готтентот упорно придерживался своей абсурдной теории о призраках и переселении душ. К вечеру мы наконец вышли из леса и очутились перед большим озером. Как я обрадовался, увидев на берегу несколько сотен дабанда, а рядом с ними также и Аркла! Он заметно выделялся на фоне туземцев ростом, комплекцией и рыжей бородой, хоть и был одет как все прочие и тоже держал копье. Когда мы подошли поближе, я пожал Арклу руку. — Вы что-то приуныли, Квотермейн, — заметил он. — Видать, вам крепко досталось. — Так и есть. Никогда еще не убегал я от врагов так быстро. И я потерял оружие, чего солдат никак не может допустить. Просто с винтовкой тяжело бегать — ну, вы понимаете… Да и в любом случае, признаюсь честно, я не хотел стрелять в людей, которые не сделали мне ничего плохого. — Мне понятно, почему вы выбросили оружие. Когда абанда охотились на меня, я сделал то же самое. Предпочитаю жить без винтовки, нежели умереть с нею в руках. — Тут я бы поспорил, но нет времени. Скажите лучше, к чему весь этот спектакль? Зачем меня и две с половиной сотни воинов потащили сражаться с тысячным войском врага, какой в этом смысл? — Не могу сказать наверняка, Квотермейн, ведь я в этой стране всего лишь для украшения и мне далеко не все рассказывают. По-моему, вас отправили в качестве приманки. Видите ли, Кенека считает вас важной фигурой. Должно быть, он объявил абанда, что если ему удастся захватить Макумазана, живого или мертвого, то они победят и он всего добьется, а вы знаете, чего именно хочет этот тип. Наверняка Кенека пообещал абанда, что они станут могущественным народом и впредь никогда не будут страдать от засухи и других напастей. Дескать, дабанда они сделают рабами, а Энгои проявит свою силу и мудрость им на благо. — Однако это не объясняет, с какой стати мы отправились сражаться, не имея ни единого шанса на победу. Все, что было в наших силах, — это спастись бегством. — Вы бежали, Квотермейн, чтобы абанда увязались за вами, иначе даже Кенека не заставил бы их войти в землю Моун, где расположено священное озеро. Уловка удалась, и скоро наши враги здесь появятся. Не сердитесь на меня, я тут совершенно ни при чем, честное слово. — Хотелось бы верить! — воскликнул я. — Если бы я узнал, что вы сыграли подобную шутку со своим соотечественником, который спас вам жизнь, то после этого и знать бы вас не пожелал. А все-таки, Аркл, к чему все это? Зачем было заманивать абанда в эту страну? Ведь прогнать их отсюда будет непросто. — Понятия не имею, Квотермейн, — ответил он вполголоса. — Мне лишь кажется, что дабанда хотят их уничтожить. Этих несчастных ожидает нечто ужасное, но, видит бог, я ничего не знаю. Жрецы не считают нужным мне рассказывать. В эту минуту Ханс пихнул меня локтем в бок. — Смотрите, баас, — сказал он, показывая на кромку леса. Больше сотни рослых воинов ровным строем выходили из сумрака. Впереди всех шел Кенека. Судя по возгласу, Аркл тоже его заметил. — Что ж, — произнес я, — бежать некуда, так что придется биться насмерть. У вас есть винтовка, Аркл? Дайте ее мне, и я застрелю Кенеку. — Винтовку у меня забрали, а когда я воспротивился, объяснили, что мне нельзя иметь оружие белого человека, тем более что якобы оно мне больше не понадобится. Как раз в эту минуту Аркла окружили жрецы дабанда, оттеснив меня, так что я его уже не видел. Поднялась суматоха. Кумпана и другие военачальники старались выстроить копейщиков в две шеренги. Меня и Ханса запихнули в середину первой, и мы стояли бок о бок, безоружные, если не считать револьверов с несколькими патронами, которые нам, к счастью, удалось сохранить. Аркла держали позади второй шеренги в окружении жрецов и воинов. Такие меры предосторожности навели меня на мысль, что дабанда защищали вождя, а вовсе не готовились к битве с абанда. Тем не менее схватка казалась неизбежной. Позади нас озеро, впереди — враг: отступать было просто некуда. Абанда между тем приближались. Я рассматривал их лица, и меня поразило одно обстоятельство. Само собой, они были порядком измотаны, ибо сперва пережили землетрясение и бурю, а затем им еще пришлось гнаться за нами через лес. Однако, помимо усталости, в глазах этих людей отчетливо читался страх. Но чего им бояться? Хотя абанда и пришлось оставить часть воинов позади (очевидно, для осады города), они все же по-прежнему превосходили нас числом, раза в три или даже в четыре. Может быть, с ними что-то приключилось в лесу, как тогда со мной и Хансом? Или абанда угнетало, что они совершили святотатство, ступив на запретную землю, чего прежде, в течение многих лет, никогда себе не позволяли? Только изменник Кенека, их нынешний вождь, осмелился на подобное. Опасались ли эти люди мести со стороны неких сверхъестественных сил? Кто знает… Но их страх ощущался вполне отчетливо, буквально висел в воздухе. Сейчас воины абанда выглядели жалким подобием своих смелых собратьев, которые охотились на Аркла или пытались отрезать нас от горного перевала. Тем не менее враги продолжали маршировать походным строем и, видимо, собирались атаковать нас и уничтожить. Однако это мое предположение оказалось ошибочным. Невдалеке от нас абанда остановились и выстроились буквой «П». Пока я гадал, что будет дальше, из строя вышел Кенека и приблизился к нам на пятьдесят шагов. Ему ничто не угрожало, ведь у дабанда не было луков. Они вооружились лишь длинными тяжелыми копьями, которые так далеко не добросить. — О народ дабанда! — воззвал он зычным голосом. — Вы бежали быстро, но я вас настиг. Теперь вы в моей власти. Отступать некуда, позади вода. Вижу, белый человек Макумазан потерял свою винтовку, с которой он так ловко управляется. При этих словах мне захотелось проверить, не попаду ли я в него из пистолета. Но я вовремя вспомнил, что патронов осталось совсем мало, и сдержался. — Впрочем, — продолжал Кенека, — я не хочу убивать вас, о народ дабанда. Вы были моими соплеменниками и, надеюсь, станете моими подданными. Да и Макумазана с его слугой я тоже убивать не желаю. Ведь эти люди спасли мне жизнь и мы вместе проделали долгий путь. Я убью только белого Странника, который прячется за вашими спинами. Этот вор занял мое место, присвоил себе мои законные права и собирается украсть Тень, обещанную мне в жены. Отдайте же его добровольно, чтобы я покарал негодяя на ваших глазах, и впредь будьте верны мне. Тогда я никому не причиню зла, даже хитрому шакалу Кумпане. Тут Кумпана шагнул вперед и заговорил спокойно, но чеканя каждое слово: — Прекрати свою глупую похвальбу, о Кенека, мерзкий предатель. Ты сам отдал белому Страннику все свои привилегии в обмен на жизнь. А затем коварно набросился перед алтарем на Энгои, да еще вдобавок затоптал вчера священный огонь жертвенника. Ну и чего ты добиваешься? Никак забыл, что был проклят Тенью? Слушайте меня, о народ абанда, — продолжал он громче. — Зачем вы воюете с нами? Разве вы не получили в избытке дождь, который просили у Энгои? Разве засуха в вашей земле не закончилась? Отдайте нам человека, который обманул вас, и ступайте себе домой с миром, иначе вы погибнете. Неужто вы не слышали от отцов и дедов о древнем пророчестве? Там говорится, что скалы низвергнутся на голову тех, кто посмеет ступить в заповедный лес и взглянуть на священное озеро, что дикие звери в клочья разорвут нечестивцев. А избежавших этой страшной кары охватит безумие. Разве скалы уже не обрушились на вас, убив тех, кто жил возле их подножия? Вы хотите сполна испытать на себе силу проклятия или же отдадите этого человека и уйдете с миром? Вы должны сделать выбор до заката, ибо потом будет уже поздно. Воины абанда сильно встревожились. Они обеспокоенно перешептывались, а их командиры совещались. Откровенно говоря, я сильно сомневался, что храбрые и преданные туземцы согласятся выдать человека, ставшего их предводителем, того, вместе с кем они надеялись захватить землю дабанда, овладеть ее богатствами и обрести покровительство свыше. Однако мне так и не довелось проверить, прав я или нет, ибо в эту минуту Кенека, очевидно почуяв опасность, снова подал голос: — Народ абанда, разве безродный Кумпана, а не я, благородный Кенека, назначен свыше Щитом Тени и великим колдуном? Когда гора низверглась, не я ли провел вас через нее и объединил обе земли? Разве не послушны мне дикие звери? Кто не верит, пусть спросит у белого господина Макумазана и его слуги. Они видели, как я повелеваю животными. Не забывайте, что я провел вас целыми и невредимыми мимо множества слонов, которые бежали прочь по первому моему слову. Эй, ты, белый вор, — он указал копьем на Аркла, — если ты не трус, то выходи и сразимся, как мужчина с мужчиной, и пусть Тень достанется победителю. Если ты побоишься со мной драться, то придется передать Тени, что Странник, который утверждает, будто влюблен в нее и пришел издалека, чтобы завоевать ее, всего лишь трус. Сердце белого человека еще бледнее его лица. Услышав такие слова, Аркл взревел, вырвался из рук жрецов и ринулся мимо нас прямо на Кенеку. К своему ужасу, я заметил, что он безоружен. Наверное, выронил копье или жрецы отобрали его. Только представьте, он шел на врага с голыми руками! — Пусть никто не вмешивается! — крикнул он на ходу. Кенека замахнулся было копьем, но Аркл ловко увернулся, бросился на соперника, схватил древко копья, сломал его как прутик и бросил под ноги противнику. Затем они схватились и начали бороться. Оба отличались храбростью и силой, так что предсказать исход схватки было мудрено. Однако развязка наступила раньше, чем я ожидал. Аркл сбил Кенеку с ног, и тот остался лежать на земле, почти лишившись чувств. Прежде чем абанда успели прийти на подмогу своему главарю, Аркл поднял его на руки, как ребенка, прошел с ним через обе шеренги дабанда и швырнул к ногам жрецов!Глава 19
БРАЧНЫЙ СОЮЗ И ПРОКЛЯТИЕ
Из-за проливных дождей, обрушившихся на эти земли во время бури, возникло великое множество ручьев; все они дружно устремились в озеро, и то в результате разлилось. Прежняя береговая линия, обрамленная камышом, на сотню ярдов ушла под воду. Метелки камыша образовали заросли далеко от нынешнего берега и отделили плес от остального водного пространства, которое в лучах заходящего солнца превратилось в жидкое золото. В ту минуту, когда Аркл изо всех сил швырнул Кенеку на землю перед жрецами, из камышей вдруг появился большой челнок, вернее, даже барка. На веслах по обоим бортам сидели тридцать девушек в белых одеждах. На корме располагалось любопытное резное кресло, судя по всему рассчитанное на двух человек. На нем восседала женщина, та самая, кого местные назвали Энгои или Тенью, статная, молодая и красивая. Ее одежды сверкали на солнце, будто сотканные из золота и расшитые драгоценными каменьями. Хотя, может, так оно на самом деле и было. Голову красавицы венчал высокий шлем с крыльями, наподобие шлема викингов, а из-под него струилась вуаль с серебряными блестками, которая скрывала почти половину лица. Они плыли так бесшумно, что никто даже не услышал плеска весел. Когда челн пристал к берегу, жрецы бросились к нему и вытащили на берег. Царственная особа поднялась. — Энгои! Энгои! — раздавались повсюду крики. Женщина возвышалась над всеми в своих сверкающих одеждах, поочередно оглядывая распростертого на земле Кенеку, его рыжебородого победителя, высоких и большеглазых копейщиков дабанда в белых одеждах и воинов абанда, стоявших поодаль. Вдруг она заговорила, и в наступившей тишине ее звонкий голос могли слышать все до единого. — Я, Сокровище озера, приветствую вас, слуги Энгои. Приветствую и тебя, белый господин из далекой страны. — (Это относилось к Арклу, поскольку меня красавица попросту не замечала.) — Я приветствую всех вас. Скажи мне, о Кумпана, глава моего Совета, кто эти люди, грозящие вам копьями? — О Энгои, это народ абанда. Они нарушили клятву предков и, не страшась проклятия, осмелились ступить на священную землю Моун, чтобы убить нас, а тебя, о божественная Тень, сделать женой вот этого пса. — Тут он показал на Кенеку, который уже пришел в себя, приподнялся и внимательно слушал. — Схватите же его и предайте по закону суду. И чтобы глаза мои его больше не видели. Народ абанда, — продолжала она громко, дрожащим от гнева голосом, — отныне проклятие Кенеки падет и на вас тоже, и вы лишаетесь моей милости. Ступайте прочь, и пусть свершится звериный суд, и сами вы станете подобны диким зверям, доколе не утихнет гнев небес, и тогда вы приползете ко мне, как рабы, и будете смиренно молить о прощении. Абанда внимательно слушали и во все глаза смотрели на озаренную светом жрицу. Затем они стали переговариваться, как мне показалось, готовясь к нападению. Однако я ошибся. Внезапно всех охватила паника, ужас исказил лица, воины задрожали, прикрыли глаза руками и, ни слова не говоря, развернулись и обезумевшей толпой бросились обратно в лес в надежде найти там укрытие. Мгновение — и все абанда исчезли в мрачной гуще леса. Топот тысяч ног замер вдалеке. Прекрасная дева по имени Тень не сводила глаз с воды. А затем она обернулась к Арклу и нежно произнесла: — О белый господин из далекой земли, наша мечта исполнилась, и мы снова встретились, как и было предначертано свыше. Теперь я твоя, а ты мой, но если ты хочешь уйти вместе со своим спутником, — тут она впервые глянула на меня, — то путь все еще свободен. Можешь идти, если таково твое желание, но учти, что в этом случае, отныне и впредь, мы пойдем по жизни порознь. А если пожелаешь остаться со мной, знай, что не найдется силы на небе или на земле, способной разлучить нас до самого конца времен, пока звезды, которым мы служим, сияют на небе. Как ты решишь, так и будет. Аркл стоял потупившись, будто терзался сомнениями. Затем он поднял голову, и глаза их встретились. Казалось, сияние Энгои передалось ему, и я понял, что она победила. — Прощайте, друг мой, — сказал он мне, обернувшись, — больше уж мы не встретимся. Вы, верно, думаете, что я сошел с ума или даже изменил своим ценностям. Таков ваш приговор, таковым я окажусь и в глазах нашего общества. Однако я сердцем чувствую, что любовь не может привести к чему-то дурному, и в моем безумии заключена истинная мудрость. Эта женщина — моя судьба, я был рожден, чтобы завоевать ее, потерял и вновь нашел. Прощайте же, Квотермейн, вспоминайте обо мне иногда, и я тоже вас не забуду. Может статься, мы встретимся снова, в другом месте, — он показал на небо, — и тогда вы поймете все, о чем я умолчал. С этими словами Аркл пожал мою руку, ступил на нос лодки и прошел между сидящими прямо, как статуи, девушками на корму к своей возлюбленной. Она открыла ему свои объятия, и они поцеловались на глазах у всех. Так Тень заключила брачный союз в присутствии своих подданных. Эти двое сидели рядышком, как на троне. Жрецы подтолкнули лодку, и девушки направили ее в заросли камыша, в сторону острова и вечерней зари. Солнце спряталось за горизонтом, и воды священного озера будто бы налились свинцом, а странная лодка и ее пассажиры растаяли во мгле. Лишь один еще раз они показались, когда барка выплыла из камышей на темное лоно вод. Последние лучи заходящего солнца пробились сквозь облака, пока оно еще окончательно не скрылось за утесами кратера, отразились золотом в зеркале озера и высветили лодку, облекая ее сияющим ореолом. Затем лучи пропали, и тени вновь вступили в свои права. — Это хороший знак для Рыжего быка и прекрасной дамы-призрака, которая его увезла, — задумчиво произнес Ханс. — Видите, баас, солнце умерло и опять ожило, чтобы пожелать им удачи. — Надеюсь, ты прав, — ответил я и отвернулся от озера в самом мрачном расположении духа. Аркл, по крайней мере, получил женщину, о которой так страстно мечтал, а вот я, признаться, чувствовал себя одураченным. Мне постоянно приходилось делать за всех грязную работу: за Белую Мышь, Кенеку, Аркла, Кумпану — и, честно говоря, было неприятно ощущать себя этаким скромным подручным инструментом, который становится никому не нужен, когда работа закончена.В ту ночь мы разбили лагерь на берегу озера. Мне почти не спалось, на душе было тревожно. В таинственной тьме камышовых зарослей то и дело раздавались крики птиц и тоскливые стоны ветра, но эти звуки не шли ни в какое сравнение с шумом, который доносился из леса. Взбешенные слоны яростно трубили, ревели также и другие звери; но что самое ужасное, я слышал отчаянные крики истязаемых людей. Они звучали так громко и настойчиво, что я бы обязательно нашел Кумпану и потребовал у него объяснений, если бы только знал, где его искать. Впрочем, было ясно, что старик в любом случае ничего мне не скажет. В конце концов наступила тишина, и мне удалось немного поспать. Хмурым утром, когда солнце еще не взошло, а унылый серый туман окутал озеро, пришел Кумпана. Он принес нам поесть и объявил, что пора двигаться в обратный путь. С восходом солнца мы вступили в ненавистный мне заповедный лес. Пройдя шагов триста, я наткнулся на что-то мягкое. Посмотрел себе под ноги и с ужасом обнаружил истерзанное тело воина абанда. По всему было видно, что его убил слон. — Ханс, смотри! — воскликнул я, указывая на ужасную находку. — Вижу, баас. Думаю, мы встретим тут множество погибших. Разве баас не слышал ночью, как слоны-призраки охотились на абанда? Похоже, именно за этим колдуны дабанда и привели их сюда. — Да, я что-то такое слышал, — прошептал я, припомнив страшное пророчество Тени: «Ступайте прочь, и пусть свершится звериный суд». Боже правый, так это было судилище! Ханс как в воду глядел. Вокруг валялось несколько сотен трупов несчастных абанда. Какая жуткая смерть! На них охотились в темноте, их растаптывали и рвали на куски обезумевшие животные. Слоны, вероятно, шли по следам своих жертв, полагаясь на обоняние. Если таким образом рука судьбы расправилась с приспешниками Кенеки, то что же тогда, интересно, ожидало его самого? Ведь он, судя по всему, ушел далеко вперед, и я его нигде не видел. Если раньше я просто недолюбливал дабанда, то теперь буквально их возненавидел и желал только одного — поскорее покинуть эту жестокую землю, сплошь населенную колдунами. Ибо тщетно пытался я найти какое-либо иное, логическое объяснение невероятной власти этих людей над дикими животными. Нет, похоже, тут и впрямь без чародейства не обошлось. Разумеется, нападение слонов на абанда могло быть трагическим совпадением: несчастные совершенно случайно наткнулись на стадо, в страхе убегая от той, кого считали земным воплощением богини Энгои. Однако мне в это верилось с трудом, ведь, следуя за нами по пятам, абанда спокойно прошли через лес мимо слонов, а я уже упоминал, как эти животные следили за нами из-за деревьев. Почему в тот раз слоны не напали на них? У меня есть только одно объяснение. Потому что тогда с ними был Кенека, которого звери хорошо знали и беспрекословно слушались. Разве он не продемонстрировал нам свою власть над этими гигантскими животными еще до того, как мы вошли в землю абанда? Все изменилось, когда воины лишились его защиты. Слоны мигом на них напали, растоптали и разорвали на куски. Такая участь ждала бы и нас с Хансом, если бы мы шли одни. Впрочем, сейчас нам ничего не угрожало. Слонов мы больше не видели: как я потом узнал, отомстив воинам абанда, они чинно покинули лес и вслед за старым самцом отправились через долину кратера к ущелью, из которого и появились. Понятия не имею, что затем с ними сталось; скорее всего, слоны вернулись в свое логово, туда, где мы впервые с ними встретились. После множества привалов, которые Кумпана устраивал непонятно зачем, мы к вечеру выбрались наконец из этого ужасного леса, и тут нашим глазам предстало нечто еще более устрашающее. Вокруг алтарного помоста и по улицам города бегали сотни воинов абанда — в разорванных одеждах, а иные и голышом. Они в ужасе таращили глаза и пронзительно кричали. Эти помешанные едва ли походили на людей: с пеной у рта они катались по земле, рвали на себе волосы и кусали друг друга. — Баас, да они тут все разом спятили, — испуганно заметил Ханс, прячась за моей спиной. Среди африканских туземцев бытует суеверный страх перед безумием, которое они считают карой небесной. — Не прикасайтесь к ним, баас, а не то и мы сойдем с ума. В его увещаниях не было надобности, ибо я и сам желал держаться подальше от столь омерзительного зрелища. До сих пор мне не дает покоя вопрос: что могло привести несчастных в такое состояние? Наверное, страх тех, кто вернулся с озера живым, передался их собратьям, ожидавшим в городе, и они лишились рассудка. Или же теперь, когда абанда остались без поддержки Кенеки, суеверия, которые он всячески обуздывал, всплыли с новой силой и взяли над ними верх. Они вспомнили о древнем проклятии, каковое должно было пасть на голову всякого, кто ступит на землю Моун, откуда их изгнали еще в незапамятные времена, и оттого повредились умом. Кто знает, в чем была истинная причина, но только несчастные и в самом деле «стали подобны диким зверям», как то предсказывала жрица по имени Тень. Я был так потрясен и напуган, что, признаться, обрадовался, когда, завидев нас, абанда сбились в кучу и с истошными воплями и криками убежали прочь. Наверное, вернулись в свою землю. Вскоре все их тысячное войско растворилось в сгущающейся тьме, и совершенно невредимый город дабанда погрузился в безмолвие. Мы с Хансом побрели к нашему дому, где нашли горящий светильник и недавно приготовленный ужин. Вероятно, женщины, приставленные к нам, все это время добросовестно выполняли свои обязанности. Первое, что по возвращении бросилось в глаза, — это аккуратно разложенные на кроватях винтовки и патроны, которые мы считали безвозвратно утерянными. — Allemachte! — воскликнул Ханс. — Баас, за время странствий нам довелось повстречать немало странных людей, но с этими дабанда никто не сравнится. Все они тут, и мужчины и женщины, баас, сплошь колдуны и служат самому дьяволу. Неудивительно, что бедные абанда повредились в уме. Затем он устало опустился на табуретку и принялся молча поглощать ужин. Я тоже рухнул на стол напротив него, ибо от усталости и потрясений ноги меня уже не держали. В ту минуту я почти согласился с Хансом. Теперь я, конечно, понимаю, что все те странные события можно объяснить вполне естественными причинами. Не было ничего мистического в том, что стадо слонов напало на воинов абанда в лесу, ведь животные, должно быть, взбесились после бури и землетрясения, а оставшиеся в живых дикари и их собратья помешались от страха и собственных суеверий. Вполне естественно, что столь пылкий мужчина, как Аркл, поддался очарованию прекрасной жрицы, чьи достоинства приумножила завеса тайны, которая окутывала эту самую Энгои. Правда, я до сих пор не понимаю, каким образом вышеупомянутая дама смогла установить с ним телепатическую связь (если уместно употребить здесь подобное выражение). Хотя очень может быть, что все это существовало лишь в воображении Аркла, а романтические чувства проснулись в его сердце, когда он впервые увидел красавицу на берегу озера. Однако все вместе: жуткие события, подкрепленные легендами, которых я вдоволь наслушался, многочисленные загадочные обряды, странные и отвратительные происшествия, в которых мне невольно пришлось принимать участие, и, наконец, исчезновение Аркла в этом так называемом земном раю — губительно подействовало на вымотанного до предела (как морально, так и физически) человека. Вот почему я, ощущая полнейший упадок сил, слег в постель. И неудивительно, что у меня вскоре началась нервная горячка. В таком состоянии я пробыл целую неделю, а потом еще семь дней приходил в себя. За это время почти ничего не случилось. От Ханса я узнал, что жизнь в городе шла своим чередом, как было до великой бури. Люди спокойно возделывали сады, священный огонь на жертвеннике вновь горел, а жрецы подняли смотровую башню, откуда, как и прежде, наблюдали за звездами. Народ вел себя так, будто не произошло ничего необычного или же все это уже стерлось из их памяти. Преисполненный беспокойства и дурных предчувствий, я хотел лишь одного: бежать из этой страны, как только окончательно поправлюсь и наберусь сил, чтобы выдержать длительное путешествие. Много раз пытался я вызвать к себе Кумпану, ибо, судя по всему, он единственный обладал тут реальной властью, но мне неизменно отвечали, что его нет на месте. В конце концов старик пришел, нацепив на лицо свою неизменную слащавую улыбку, и выразил сожаление, что не имел возможности появиться раньше и, будучи целителем, вылечить меня быстрее. Я ответил, что все это пустяки и я уже вполне здоров, так как сроду подолгу не валялся в постели. А затем осведомился, нет ли каких-нибудь новостей. — Совсем немного, господин. С озера пришло известие, что Энгои и ее муж, Щит Тени, пребывают в добром здравии и весьма счастливы. Абанда вернулись в свою землю, где вновь обрели ясность ума, ведь слоны убили только двести воинов — не так уж и много. Они покорились нам, передали, что не намерены продолжать войну, и пообещали, что впредь будут нашими верными слугами и станут жить с нами как единый народ. — Одним словом, все вышло так, как ты и хотел, — заметил я. — Верно, господин. Теперь мы вновь станем великим племенем, единым народом, как и было сотни лет назад. Абанда храбрые воины, их женщины плодовиты, а наши рожают мало или вообще бесплодны. Теперь соседи больше не посмеют угрожать нам, а будут послушны нашей мудрости и сделают все, что мы им велим. — Полагаю, Кумпана, это и было главной целью вашего Совета? — Верно, господин, и во многом из-за этого мы призвали тебя в землю Моун, однако ты никак не мог понять наши мотивы, как и многое другое. Без тебя Кенека ни за что не спасся бы от арабов, а белый господин, Щит Тени, — от абанда, после того как мы изгнали его из страны за безрассудство, чему даже я был не в силах помешать. — Но зачем, Кумпана, ты вернул Кенеку и сразу же лишил его власти, объявив вне закона? — Видишь ли, Макумазан, если бы Кенека не вернулся и не был изгнан снова, то он не переметнулся бы к абанда, не пошел бы вместе с ними на нас войной, чего мы упорно добивались, дабы свершилось старинное пророчество. Но абанда не последовали бы за Кенекой, ведь они боятся Энгои и ее служителей, не будь тебя, прославленного Макумазана, белого человека, чья слава повсюду бежит впереди него, как затравленный шакал. Вот мы и отправили тебя к ущелью, сделав вид, что нам предстоит битва. Я еле сдерживал гнев, не желая вступать с Кумпаной в бесполезный спор: это надо же было так опозорить почтенного охотника! — Так, выходит, ты это предвидел, Кумпана, — произнес я с ядовитой иронией, — и нарочно все подстроил? — Таков мой дар, господин, — пояснил он мягко, словно делая снисхождение невежественному глупцу. У меня перехватило дыхание от столь неслыханной дерзости, но я опять решил сменить тему, чувствуя, что спорить с ним бесполезно. — А зачем ты привел сюда нынешнего мужа Тени и соединил этих двоих супружескими узами? Не проще ли было отдать ее в жены Кенеке или кому-то другому из твоего народа? — Дело в том, господин, что наш народ… — Тут он употребил арабский глагол, смысл которого я могу приблизительно перевести как «изжил себя». — Мы слишком древняя раса, и нам нужна свежая кровь. Поэтому нынешняя Энгои должна была стать женой чужака, которому предстояло выступить в роли хранителя знаний, искусств и законов великих белых людей. От их союза, господин, родится будущая Энгои. У нее будет большое сердце, и она, — голос старика звучал торжественно, — сделает дабанда самым могущественным народом во всей Африке. Да, Макумазан, именно она, а не та, что ныне правит нами, и не белый Странник, ее супруг. — Очередное пророчество, Кумпана? — Да, господин, и оно обязательно исполнится, — ответствовал он все так же торжественно. Но тут же сменил тему, словно бы мы коснулись чего-то запретного, и продолжил как ни в чем не бывало: — Сегодня полнолуние, и перед алтарем свершится важный обряд. Я прошу тебя принять в нем участие, а завтра ты сможешь покинуть нас, как мы и договаривались. — Рад это слышать! — воскликнул я. — Но я больше не хочу присутствовать ни на каких ваших ритуалах! — Тем не менее, господин, — возразил Кумпана и вновь улыбнулся этой своей непостижимой улыбкой, — я уверен, что на этот раз ты и твой слуга удовлетворите наше желание. — Значит, у меня нет выбора? — О, господин, я этого не сказал. Однако я уверен, что вы придете, и непременно пришлю за вами стражников, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. С этими словами он встал, поклонился и ушел. После его ухода я вспомнил, что так и не выяснил, какова участь Кенеки. — Баас, — сказал Ханс, — я всегда считал вас умным, но Кумпана намного умнее. Он даже мне даст фору. Кумпана всегда заставляет нас плясать под свою дудку, а потом еще и насмехается. Нам придется пойти ночью к алтарю, иначе стражники, которых он якобы выделил для защиты, отведут нас туда насильно и будут действовать вежливо, но настойчиво. Интересно, баас, что нам покажут на этот раз? — Откуда мне знать? — огрызнулся я, раздраженный насмешками Ханса. — Возможно, госпожа Тень и ее царственный супруг решили почтить подданных своим визитом. — Сомневаюсь, баас. Наверняка эти двое сейчас сидят рядышком, держась за руки, влюбленно глядят друг на дружку и говорят всякие глупости о том, как прекрасна луна. Спустя полгода, когда им захочется потрогать кого-то еще, увидеть новые лица и луна перестанет их радовать, — вот тогда они вернутся к людям, но никак не раньше. Уж скорее это связано с Кенекой, если тот еще жив. Хотя мы ведь не слышали вестей о его смерти. Я бы предпочел увидеть его, баас, а не влюбленную парочку, которая знай себе воркует: «Ах ты, мое солнышко» и «В целом мире нет никого лучше тебя, прелесть моя». — Ох, не дай бог попасть тебе на язык, — ответил я и пошел прочь.
Проницательный Ханс умел угадывать правду не хуже заправских колдунов, и на сей раз интуиция тоже его не подвела. Когда обещанная стража проводила нас ночью прямиком к алтарю, мы убедились, что центром всеобщего внимания на сей раз и впрямь оказался Кенека. Интересно, что это был уже второй суд над ним, на котором нам довелось присутствовать. Но еще более любопытным мне показалось то обстоятельство, что даже сдержанные дабанда, за многие века благоденствия и строгого правления жрецов ставшие ко всему безразличными, дружно проявили живой интерес к этому событию. Ибо все до единого горожане и многие жители окрестных деревень собрались в ту ночь на площади перед алтарем. Жрецы тоже присутствовали здесь в полном составе. Астрологи наблюдали за небом со своих башен и громко объявляли присутствующим послания звезд, а в перерывах между ними хор, скрытый за алтарем, заводил ритуальные песнопения. Священный огонь горел, как сигнальный маяк, гораздо ярче, чем прежде. Право же, он напоминал пылающую печь. Перед алтарем в отблеске пламени стоял Кенека, связанный и под охраной, а по обе стороны от него сидели члены Совета Тени в белых одеждах. Они представляли то ли судей, то ли присяжных, а скорее всего, выполняли обе эти функции сразу. Рядом с ними стоял Кумпана. В этом спектакле ему отводилась роль обвинителя. После того как нас с Хансом доставили на площадь и усадили неподалеку от Кумпаны, прямо напротив Кенеки, началось разбирательство. Думаю, нет нужды описывать его в подробностях; если говорить вкратце, то глава Совета просто перечислил все преступления Кенеки, начиная с пространного рассказа о совершенном в юности святотатстве по отношению к бывшей Энгои — прегрешении, приведшем к его изгнанию или бегству. Похоже, вина этого человека была куда большей, чем мне казалось. Затем последовал рассказ о злодеяниях, свидетелями которых я был сам. Наконец обвинительная речь закончилась, и Кенеке по традиции предоставили последнее слово. Он с достоинством заявил, что дабанда не имеют никакого права его судить, поскольку он является законным вождем этого народа. Правда, вменяемые ему преступления не отрицал и не оправдывался, наверное понимал, что им нет прощения. Когда он закончил, Кумпана обратился к Совету и жрецам: — Что скажете? Виновен ли Кенека? — Виновен, — ответили они в один голос. Народ, собравшийся на рыночной площади, вторил им согласным гулом. Тогда Кумпана крикнул астрологам на башнях: — Какое возмездие за свои грехи, совершенные против Тени и народа, заслужил предатель Кенека, тот, кого прокляла сама Энгои? Предсказатели на башнях вгляделись в звезды, как будто ища у них ответа, и разом заговорили на незнакомом мне языке. Наконец астролог, который стоял справа, воскликнул: — Внемлите гласу небес! Пусть тот, кто погасил огонь, накормит его! Глядя, как вспыхнуло пламя, когда жрецы подбросили в костер еще дров, я в недоумении сказал Хансу, что, по-моему, топлива в костре и так вполне достаточно. — Ох, до чего же баас недогадлив! Разве не ясно, что они собираются принести Человека-сову в жертву? Женщина, которая доставляет нам в хижину еду, рассказывала, что так здесь поступают со всяким, кто осмелится поднять руку на Тень Энгои, а иногда и с ее мужем, если тот ей надоест. — Боже мой! — воскликнул я, побледнев. Прежде чем я успел произнести еще хоть слово, трус Кенека, уступивший Арклу свои привилегии в обмен на жизнь, с перекошенным от страха лицом и выпученными глазами, начал молить меня о спасении. Не помню, что именно я попытался было сказать в его защиту, но Кумпана сразу осадил меня, заявив, что на жертвеннике вполне хватит места для двоих. Он пояснил, что по древнему закону земли Моун тот, кто защищает приговоренного к смерти преступника, должен разделить его участь. Услышав это, я с достоинством встал, медленно спустился по ступенькам, прошел сквозь толпу зевак и направился к нашему дому. Мне было невмоготу смотреть, как человека, каким бы мерзавцем он ни был, сожгут заживо. — Прощай, Макумазан! — крикнул Кенека, когда я поравнялся с ним. — На беду повстречал я тебя! Передай своему другу, белому вору, который украл ту, что принадлежала мне, если встретишь его прежде, чем покинуть эту землю, что придет день, когда вместо ее губ он тоже поцелует пламя костра! От этих жестоких слов вся моя жалость к Кенекепропала. Ведь он рассчитывал таким образом посеять во мне беспочвенные страхи и сомнения, да и в Аркле тоже, если я все ему передам. — Перестань говорить глупости и умри достойно, как мужчина, — сказал я ему. Если даже Кенека и ответил, я его не расслышал, ибо жрецы снова затянули свою варварскую песню, заглушая все вокруг. На краю площади я невольно обернулся. Как раз в эту минуту его бросили в огонь: в пламени костра вырисовывался могучий силуэт Кенеки. Люди, до сих пор хранившие молчание, разразились радостными криками. Немного погодя меня нагнал Ханс. — Баас, я рад, что они сожгли этого пса Кенеку. — Почему? — спросил я удивленно, ибо его слова показались мне безжалостными. — По двум причинам, баас. Во-первых, он оставил тогда в ущелье Тома и Джерри на верную гибель. Этот подлый трус бросил своих товарищей. Во-вторых, он крикнул вам вслед, что, будь победа на его стороне, он бы сжег вас, баас, Рыжего быка и меня. Вот зачем я остался, баас, — чтобы увидеть его смерть. — Пора собираться, Ханс, завтра мы уходим. — Вот как, баас? И куда же мы направимся? — Понятия не имею. Куда угодно, лишь бы убраться из этой проклятой страны. Я до сих пор не пойму, за каким чертом дабанда меня сюда заманили. — Чтобы ты привел с собой Кенеку, баас. — А этот негодяй им зачем понадобился? Они прекрасно обошлись бы и без него. — Дабанда хотели его сжечь, баас. Наш приятель согрешил против другой Тени, та умерла, а он сбежал. Жрецы ничего не забывают, вот они и вернули Кенеку, чтобы наказать за былые грехи. Белую Мышь специально послали выманить его из дому, пообещав, что он женится на новой Тени. Вот почему Белая Мышь так старалась спасти его от арабов, ведь иначе алтарь остался бы без своей жертвы. О, как ловко они все это проделали, зная Кенеку, баас! — Возможно. Да вот только меня они обратно уже нипочем не заманят.
Глава 20
ПРОЩАНИЕ
После варварской расправы над Кенекой мое пребывание в земле Моун, названной так в честь священного озера, подошло к концу. Хотя есть еще кое-что, о чем стоило бы упомянуть напоследок. Остаток дня после той жуткой церемонии мы с Хансом провели в сборах: связали грузы для носильщиков (их должны были прислать утром); распорядились о приготовлении еды в дорогу; проверили состояние обуви, которая порядком поизносилась, — и все в таком духе. В свободное время я пытался определиться с маршрутом. Вернуться ли нам тем же путем, каким мы пришли сюда? Или решиться на отчаянное путешествие к Западному побережью? Честно говоря, я не знал, что предпочесть, а Ханс только и делал, что указывал на трудности и опасности обоих вариантов. Ложась спать, я все еще колебался, а потому отложил окончательное решение до утра в надежде, что меня посетит вдохновение. Так и случилось, хотя и произошло сие весьма любопытным образом. Посреди ночи я проснулся и в свете лампы, которая горела все время, увидел женщину в белых одеждах. Она стояла у изножья кровати и как будто смотрела на меня. — Что за чертовщина… — начал я торопливо, но она сделала мне знак замолчать. А затем отдернула вуаль, открывая лицо. Белая Мышь! Тут не могло быть ошибки, хоть я и видел ее прежде всего пару раз: трогательная изящная фигурка, бездонные умоляющие глаза, вьющиеся темные волосы, милое встревоженное личико, такое загадочное, будто она хранила какую-то тайну. — Белая Мышь! — прошептал я. Признаться, я боялся говорить громко, ведь она могла оказаться призраком или в лучшем случае сном. — Да, это я, Макумазан, вернее, когда-то меня так звали арабы. — Но ты же мертва! Тебя убили во дворе дома Кенеки! — Нет, господин, тогда враги не смогли убить меня. Я спаслась и вернулась в эту страну раньше тебя, помогая вам путешествовать легко и безопасно. — Раньше нас? Но как тебе это удалось? — Я не могу открыть тебе свой секрет, господин, да это и не важно. А потом мы еще раз встретились в заповедном лесу, когда его обитатели… э-э-э… доставили тебе и Хансу неприятности, и я пришла, чтобы проводить вас. — Я так и знал! — воскликнул я. — Но ты пропала, прежде чем я смог проверить свою догадку. Тогда я почти поверил, что ты… гм… не обычная женщина, а… гм… призрак или что-нибудь в этом роде. — Это меня не удивляет, — ответила она и мило улыбнулась. — Ты ведь и сейчас сомневаешься в том, что я обычная женщина? Так? — Ну да. — Положа руку на сердце, я и сама иной раз в этом сомневаюсь, господин Макумазан, ну да какая разница. Речь сейчас совсем о другом. Кем бы я ни была, сегодня я выступаю в роли посланницы и принесла тебе письмо. Прочти его, когда я уйду, мне кажется, что написавший не ждал ответа. Но если ты все-таки захочешь что-то ему сказать, то просто держи ответ в уме, я почувствую его и передам слово в слово. — Мне опять кажется, что ты призрак, Белая Мышь, обычные женщины так не говорят, — заметил я, взял из ее рук небольшой бумажный свиток и положил его на кровать. По правде сказать, сейчас меня гораздо больше, чем содержание письма, занимала она сама. — Многим сие неведомо, о Макумазан, но разве не все мы призраки? Однако бывает, если оболочка груба, что призрачного света, который озаряет нас изнутри, как лампа, не видно. Господин, у меня мало времени, а я должна сказать тебе еще кое-что. Могу ли я надеяться, что ты меня выслушаешь? — Белая Мышь, разве есть для меня на этой земле большее удовольствие, чем слушать тебя? Легкая улыбка вновь тронула ее губы и задела некоторые струнки моей души, как бывает, когда мы слышим звуки скрипки. По какой-то таинственной причине улыбка собеседницы вызывала у меня в памяти именно образ дрожащих струн. — Полагаю, господин, что если бы мы беседовали в другой стране, то ты бы совсем не обрадовался. Ведь у твоего народа считается ужасным услышать голос женщины-призрака из зачарованной обители. В этом случае я бы отправилась вслед за тобой, оставаясь невидимой, как поступала до сих пор. — Что ты имеешь в виду? — спросил я с беспокойством. — Ничего такого, господин, чего тебе стоило бы опасаться. Просто ты мне нравишься, а призраки и женщины хотят быть рядом с теми, кого они любят. О, я наблюдала за тобой с самого начала: сколько трудностей выпало на твою долю, но ты не позволил им сломить себя. Я видела твое сердце, оно достойно всяческих похвал. В этой земле, господин, тебе нет равных. — Рад это слышать, — ответил я скептически, так как не очень жаловал народ дабанда. И к тому же мне было неловко от ее похвал, а потому я решил просто сменить тему: — Белая Мышь, сделай одолжение: прежде чем мы расстанемся, объясни, что все-таки привело меня в эту землю? — Господин, но ты сам захотел сюда прийти. Если желания настоящие, они рано или поздно исполняются. К тому же, кроме тех причин, о которых поведал тебе Кумпана, были и другие. Только ты все равно их не поймешь, даже если бы я и попыталась тебе объяснить. — Почему? — Потому что они имеют отношение к тому, о чем ты забыл. Да, к другим жизням из далекого прошлого, когда ты, я, белый Странник, Тень, обитающая на озере, Кумпана и Кенека знали друг друга, как и сейчас. Человеческая жизнь, господин, подобна толстой книге, но всякий раз мы читаем лишь одну ее главу, полагая, будто это вся история, и даже не догадываемся о том, что было прежде, и о том, что нас ждет в будущем. Тут мне подумалось, что во все эпохи находились мудрецы вроде Платона, которые высказывали похожие суждения. Однако европейцу трудно принять подобное, а вот на Востоке эта теория прижилась лучше. И, не желая углубляться в столь обширную тему, я просто спросил: — Белая Мышь, а ты сама, стало быть, об этом догадываешься? — Да, господин, и мне известно не так уж мало. Обитатели земли Моун, которых ты считаешь дикарями, ослепленными ложной верой, хранят мудрость нашего народа. — Да уж, — ответил я резко, — прошлой ночью мне посчастливилось наблюдать плоды вашей мудрости, когда человека заживо сожгли на жертвенном алтаре. — Ты ошибаешься, господин. В нашей мудрости нет места жестокости. Та, что правит нами, не запятнала себя недостойными деяниями. Она плакала, узнав об участи Кенеки и тех, кого он сбил с пути истинного, но знала, что всему этому суждено было исполниться, а потому повелела предать его смерти. Мы, обитательницы озера, отреклись от суетного мира, и все наши помыслы лишь о небесной обители. Не суди нас строго, господин, и не оценивай по законам племени дабанда. Ну вот, я сказала достаточно. Знай, тебе нечего опасаться на обратном пути. Не сомневайся, ты доберешься домой целым и невредимым и проживешь долгую жизнь. Иди, следуя зову собственного сердца, и пусть тебе сопутствует успех. Прощай, господин Макумазан. Не поминай нас лихом, ведь теперь ты понял — или же поймешь это позже, — что женщины со всеми их недостатками лучше и мудрее мужчин, потому что порой нам открывается свет истины, скрытый от вас. С этими словами Белая Мышь склонилась, взяла мою руку и поцеловала ее. Затем отодвинула висевшую на двери завесу и скользнула в темноту. Признаться, меня порадовало, что я нашел в земле Моун хоть кого-то, кто мне нравился и кому нравился я сам! И тут с противоположного конца комнаты, где спал Ханс, едва слышно донесся его голос (а ведь я совершенно позабыл о готтентоте). — Надеюсь, это был последний поцелуй, баас? Можно мне уже вылезти, а то я совсем запарился и чуть не задохнулся под этой шкурой, не зная, куда спрятать глаза? — Видать, уши свои ты не спрятал? Ладно, хватит уже молоть чушь! Лучше скажи, что ты думаешь о Белой Мыши? — О баас, — ответил Ханс, садясь на постели, — я думаю, она призрак и колдунья еще даже похлеще всех остальных. Только она хорошая, хоть и обманула меня в том поселении арабов, выдав себя за ревнивую жену Человека-совы, Кенеки, и заставив поверить, что я нравлюсь ей больше, чем он. Но сейчас я доволен, баас, ведь Белая Мышь сказала, что наше путешествие окончится хорошо, а привидения разбираются в таких вещах. А вы, как я погляжу, опечалены тем, что с нею расстались? Вон и о письме, которое она доставила, напрочь забыли. Конечно, баас, чтение — занятие скучное, целоваться куда как интереснее. — Принеси лампу, — велел я, развязал веревочку, сплетенную из душистой травы, и развернул свиток. Письмо сие оказалось, как я и ожидал, от Аркла. На листке, вырванном из тетради, было написано следующее:Дорогой Квотермейн! Мы узнали, что Вы собираетесь в дорогу, и я решил написать Вам на прощание и передать письмо с той, кому могу доверять. Не осуждайте меня, Квотермейн, за то, что я покинул родную страну, пренебрег традициями, в которых меня воспитали, и женился на языческой жрице из Экваториальной Африки. Любовь сильнее привязанности к Родине и устоев общества. Мы не можем противиться ей, ведь это судьба. Возможно, Вы не поверили в подлинность моей истории, приняв ее за безобидные фантазии романтика. Замечу лишь, что для меня случившееся было вполне реальным и естественным, хотя, возможно, и определенные совпадения также сыграли здесь свою роль. Полагаю, Вы тоже обратили внимание на колдовские способности и суеверия этого таинственного древнего народа и нашли — если не для всего, то для многого — вполне разумные объяснения. О, как бы мне хотелось разделить Ваш скептицизм, но, увы, я не могу, ибо верю в реальность этой силы! Тут я бы хотел кое-что прояснить. Та, что зовется у дабанда Энгои, или Тенью, или Сокровищем озера, сама никакой силой не обладает. Она лишь медиум, а силой наделены другие, и больше всех глава Совета — то есть Кумпана. Может быть, Вы заметили, сколь неестественно звучал голос Энгои в тот день перед алтарем и позже, на лодке, когда мы с нею сочетались браком? Мне, во всяком случае, он показался странным; со мной она разговаривала совсем иначе, как обычная женщина с любимым мужчиной. А как странно говорила она, например, когда объявляла приговор абанда, отдавая их на расправу диким зверям, которые, несомненно, были послушны приказам дабанда. (И кстати, безумие, постигшее выживших воинов, тоже навели на врагов они, о чем я узнал впоследствии.) Так вот, клянусь Вам, Квотермейн, бедная женщина была не в себе, когда произносила эти слова, равно как и приказ относительно того, чтобы негодяя Кенеку заживо сожгли на костре. Короче говоря, моя жена находилась под неким странным гипнотическим воздействием. С годами, похоже, дар медиума иссякнет. Вот почему жрецы дабанда убивают Энгои, когда она достигает определенного возраста, а заодно лишают жизни и ее мужа. После чего ее место занимает новая Тень. Вы, пожалуй, скажете, что нас обоих ожидает страшная участь. Так знайте же, Квотермейн, что я вовсе не собираюсь сидеть и покорно ждать, когда судьба нас настигнет. Я восстану против жрецов и Совета, свергну их (пока не знаю, как именно) и заменю жестоких правителей гуманными и безупречными во всех отношениях. В самом крайнем случае мы с женой заблаговременно покинем эту страну. Так что не считайте нас потерянными навсегда, а меня — изменником. Правильнее будет сказать, что мы просто спрятались на какое-то время вдали от цивилизации. Меж тем я, признаться, очень счастлив. Для меня открылась книга древней мудрости, которую я считал потерянной для мира. Как бы я хотел показать Вам этот остров и его древние строения, а также сокрытые в них письмена, языка которых пока не разобрал. Но, увы, это невозможно: малейшая попытка, безусловно, будет стоить Вам жизни. Так что Вы должны идти своей дорогой, а я пойду своей. Может статься, что наши пути еще пересекутся в этом мире. Я очень благодарен Вам, Квотермейн, за все, что Вы для меня сделали. Надеюсь, Вы будете сполна вознаграждены за все испытания, а опасности обойдут Вас стороной. Да благословит Вас Бог, друг мой (если позволите мне так Вас называть), и прощайте! Прошу Вас и Ханса никому не рассказывать обо мне, а также о народе дабанда, земле Моун и священном озере. А главное, не возвращайтесь сюда сами и не посылайте других белых людей — на мои поиски или же с целью исследований. Подобного рода попытки неизменно будут караться смертью. Позвольте мне на этом завершить свою историю и бесследно исчезнуть, как то нередко случается с путешественниками по всей Африке. Прощайте!Всегда Ваш, Джон Таурус Аркл
P.S. Прилагаю также записку, адресованную капитану охотников, на чье попечение я оставил припасы и снаряжение. Вас к нему проводят. Он человек более или менее грамотный, так что сумеет прочесть мое послание. Я приказываю ему передать в Ваше распоряжение все вышеупомянутое, а сверх того — запечатанную коробку, в которой Вы найдете золото. Надеюсь, оно Вам пригодится. Советую Вам держать путь к Западному побережью. Охотники могут сопровождать Вас туда, во всяком случае до тех пор, пока Вы не встретите белых людей.Дж. Т. А.
Вот какое любопытное письмо я получил, чему был несказанно рад. Ведь оно дало мне надежду, что однажды Аркл вырвется из этой проклятой страны, один или вместе с женщиной, волею судьбы ставшей его супругой. Кроме того, разве он не приоткрыл таким образом, пускай и совсем чуть-чуть, завесу тайны, которая до сих пор оставалась для меня темнее ночи? Я убежден, что именно так и есть. На этом я ставлю точку и заканчиваю свою историю. Дабы изложить все наши приключения во время обратного путешествия к Западному побережью и подробно рассказать о впечатлениях, мне пришлось бы начать писать второй том, однако делать этого у меня нет ни времени, ни желания. Достаточно сказать, что все закончилось хорошо. Меня проводили в лагерь Аркла. Благодаря его снаряжению, а главное, деньгам я в конце концов благополучно достиг побережья и отплыл в Южную Африку. Там я распустил слух, будто бы вернулся из длительной поездки в Португалию, где охотился.
— Баас, а что такое родственная душа? — спросил у меня однажды Ханс, когда мы вспоминали Аркла и его возлюбленную. Я растолковал это готтентоту как мог. — Баас, а помните, прежде чем сгореть, Кенека сказал, что однажды Рыжий бык разделит его участь? Если такова плата за то, чтобы обрести родственную душу, то я рад, что у меня ее нет… разве что вы, баас!
Следует добавить, что с тех пор я никогда более ничего не слышал о Джоне Таурусе Аркле (если только это его настоящее имя, в чем я лично сомневаюсь). Ну а теперь, спустя много лет, я впервые решился изложить в письменном виде его удивительную историю.

ГОЛОВА ВЕДЬМЫ (роман)
Гармония печальная — звучи,С теченьем лет неспешным наполняясьРыданьями и смехом нашей жизни.Смерть-королева на незримом тронеНам рассылает радости и горе —Так будет до скончания времен.Когда же мир оставим бренный сейИ устремимся в вечное Ничто,Тогда придет конец страданьям нашим,Печалям, песням, радости и горю —Всему конец. Нас ждут покой и свет…А. М. Барбер
Жизнь сироты Эрнеста полна взлетов и падений. Он любит жизнь и движется вперед. Но зыбучие пески милой сердцу Англии сменяются красным песком Изандлваны, в клочья разрывающей сердце. Два шага вперед, один назад. Что движет им? Любовь или злая судьба?.. Он верит в свою путеводную звезду. Вот только какая она?
Часть I
Глава 1
ЯВЛЕНИЕ ЭРНЕСТА
— Подойди сюда, мальчик, дай на тебя взглянуть. Эрнест сделал шаг вперед, потом другой — и посмотрел в лицо своему дяде. Эрнест был симпатичным мальчиком лет тринадцати, с большими темными глазами, черными кудрявыми волосами и той особой печатью породы на лице, которая всегда отличает англичанина из хорошего рода. Дядя, казалось, бросил на него рассеянный взгляд, однако это впечатление было обманчивым, на самом деле он оглядел мальчишку с ног до головы. Помолчав, он снова заговорил: — Ты мне нравишься, мальчик. Эрнест молчал. — Насколько я понимаю, твое второе имя — Бейтон. Я рад, что они назвали тебя Бейтоном; это девичья фамилия твоей бабушки, добрая старая фамилия. Эрнест Бейтон Кершо. Кстати, ты когда-нибудь имел дело с другим твоим дядей, сэром Хью Кершо? Щеки мальчика вспыхнули. — Нет, никогда; и никогда не хотел этого. — Почему же? — Потому что, когда моя мама написала ему перед смертью, — тут голос мальчика дрогнул, — сразу после того, как банк лопнул и все ее деньги пропали, он ей ответил, что поскольку его брат — я имею в виду моего отца — женился на нежелательной особе, он не видит никаких причин заботиться о его вдове и сыне; впрочем, он послал ей пять фунтов. Она отослала их обратно. — Узнаю твою мать; благородство у нее было в крови. Твой дядя, должно быть, мерзавец — кроме того, он солгал. Твоя мать происходит из куда более благородного рода, чем Кершо. Кардусы — одна из самых старинных семей в восточных графствах. Знай, мальчик, наша семья жила в Фенн-он-Линн много столетий, до тех самых пор, пока твой дед, бедный слабый человек, не был вовлечен в судебное разбирательство и не пустил семью по миру. Все на первый взгляд было по закону… но скоро, очень скоро все вернется. Кстати, у этого сэра Хью всего один сын. Знаешь ли ты, что если с ним что-то случится, то ты будешь следующим наследником? В любом случае ты станешь баронетом. — Не нужно мне его титула, — хмуро ответил Эрнест, — и вообще ничего от него не нужно. — Титул, мальчик, — это невещественное наследство, которым человек никому не обязан. Оно ему не достается — оно ему просто принадлежит. Однако скажи мне, когда в точности он прислал те пять фунтов — я имею в виду, за сколько времени до смерти твоей матери? — Примерно за три месяца. Мистер Кардус некоторое время молчал, нервно барабаня белыми пальцами по столу, а затем снова заговорил: — Я надеюсь, моя сестра не умерла в нищете, Эрнест? — За две недели до ее смерти у нас почти не осталось еды, — спокойно и прямо ответил мальчик. Мистер Кардус отвернулся к окну, и тусклый свет декабрьского дня отразился от его совершенно лысой головы. Прежде, чем снова заговорить, он отступил в тень — возможно, чтобы скрыть нечто, похожее на слезы, переливающиеся в его добрых черных глазах. — Почему же она не обратилась ко мне? Я бы мог помочь ей. — Она говорила, что вы поссорились, когда она вышла замуж за моего отца, и что вы сказали ей никогда больше вам не писать и не обращаться к вам — и что она никогда этого не сделает. — Тогда почему этого не сделал ты, мальчик? Ты ведь знал, как обстоят дела. — Потому что однажды мы уже обратились за помощью. Я не хотел снова просить. — Ну да, — пробормотал Кардус, — ты унаследовал семейный характер. Бедняжка Рози, голодающая, на пороге смерти — и я со своими нелепыми обидами… О мальчик, мальчик, когда станешь мужчиной, никогда не создавай себе идолов, ибо они затмевают здравый смысл. В таком храме больше нет места ничему другому, забыто все — обязанности, голос крови, иногда даже сама честь. Взгляни на меня: у меня есть такой идол — и он заставил меня забыть о моей сестре и твоей матери. Не напиши она перед самой смертью — я не вспомнил бы и о тебе. Мальчик удивленно уставился на мистера Кардуса. — Идол? — Да, — все так же задумчиво сказал дядя, — именно идол. Идолы есть у многих людей, их обычно держат в шкафу, запертыми вместе с семейными скелетами; иногда это вообще одно и то же. У идолов много имен; чаще всего это имя женщины, иногда страсть, а вот добродетель — не часто. — Как же зовут вашего идола, дядя? — спросил, заинтересовавшись, мальчик. — Моего? О, это неважно. В этот момент распахнулась дверь в углу, и в комнату вошла высокая костлявая женщина с пронзительными, похожими на бусины, глазами. — Сэр, мистер де Талор ждет вас в конторе. Мистер Кардус тихонько присвистнул. — О, скажи, что я уже иду. Кстати, Грайс, этот юный джентльмен будет жить с нами, его комната готова? — Да, сэр. Мисс Дороти позаботилась об этом. — Хорошо. Где мисс Дороти? — Она отправилась в Кестервик, сэр. — О… а мастер Джереми? — Он где-то здесь, сэр. Недавно я видела его с подстреленным хорьком за спиной. — Скажи Сэмпсону или слугам найти его и прислать сюда, к мастеру Эрнесту. Это все, спасибо, Грайс. Ну, Эрнест, мне надо идти. Надеюсь, ты будешь здесь счастлив, мой мальчик, когда твое горе уляжется. Джереми будет тебе товарищем — он, конечно, неотесан и довольно груб, это правда, но все же это лучше, чем ничего. Кроме того, есть еще Дороти — тут голос мистера Кардуса явственно смягчился, — но она девочка. — Кто такие Дороти и Джереми? — перебил его племянник. — Это ваши дети? Мистер Кардус немного рассердился, и это было заметно. Густые белые брови сошлись в одну линию над темными глазами. — Дети, вот еще! — довольно резко ответил он — У меня нет детей! Они мои подопечные. Их фамилия Джонс. С этими словами он вышел из комнаты. «Что ж, он крепкий орешек, — подумал Эрнест, оставшись в одиночестве. — Не думаю, что мне когда-нибудь доводилось видеть такую блестящую лысину. Интересно, а маслом он ее смазывает? Во всяком случае, он добр ко мне. Возможно, было бы лучше, если бы мама написала ему раньше. Тогда она могла бы остаться жива…» Поспешно вытерев руками слезы, выступившие на глазах при мысли об умершей матери, Эрнест направился к большому камину и внимательно осмотрел его изнутри, а также внимательно изучил старинную голландскую плитку, которой камин был выложен. Потом мальчик надел свое пальто, чтобы согреться, и продолжил обследовать комнату. Она заслуживала интереса, самой примечательной ее особенностью были старинные дубовые панели на стенах. Они тянулись высоко вверх, до самого потолка, а тот поддерживался мощными стропилами из того же дуба; из дуба были сделаны и ставни на узких окнах, выходящих на море, и двери, и массивный стол, и даже каминная полка. Такое количество благородного дуба, безусловно, придавало комнате солидности и величия, однако веселой ее назвать было трудно — не делали ее жизнерадостнее даже многочисленные доспехи и сверкающее оружие, развешанные по стенам. Одним словом, это была замечательная комната, но на посетителей она производила несколько гнетущее впечатление. Не успел Эрнест прийти к такому заключению, как обстановка в комнате заметно оживилась, поскольку двери распахнулись, пропуская здоровенного бультерьера довольно устрашающего вида, который немедленно стал устраиваться перед камином, где, очевидно, привык лежать. Увидев Эрнеста, он остановился и принюхался. — Привет, — сказал Эрнест. — Хорошая собачка! Бультерьер зарычал и оскалил зубы. Эрнест выставил вперед ногу, чтобы защититься от возможного нападения. Пес оценил этот дар, немедленно вонзив в ногу зубы. Эрнест почувствовал сильную боль, но постарался не показать страха, схватил кочергу и так сильно ударил пса по голове, что кровь заструилась из раны, и чудовище, оставив свою жертву, с воем умчалось прочь. Эрнест все еще упивался своей победой, когда дверь снова распахнулась, на этот раз от яростного толчка, и на пороге появился мальчик. Примерно одного возраста с Эрнестом, чумазый и широкоплечий, с отросшими волосами и довольно невыразительным лицом, на котором, впрочем, сейчас пылали яростью огромные серые глаза. Увидев Эрнеста, мальчик насупился и шагнул вперед — в точности, как это недавно сделал бультерьер. — Это ты ударил мою собаку? — спросил он. — Я ударил собаку, но я… — вежливо и спокойно начал Эрнест. — Мне не нужны никакие «но». Драться умеешь? Эрнест поинтересовался, задан ли этот вопрос с целью получения общей информации или для какой-то конкретной цели. На это он услышал только нетерпеливое: — Драться умеешь?! Немного поразмыслив, Эрнест ответил, что при известных обстоятельствах он может сражаться, как дикий кот. — Тогда берегись: я собираюсь проделать с твоей головой то же, что ты сделал с моей собакой! Эрнест со всей доступной вежливостью возразил на это, что обороняться он будет всеми доступными средствами. На это Джереми Джонс — а это был именно он — ответил уже действием, стремительно кинувшись на Эрнеста; его волосы развевались, как у свирепого краснокожего индейца. Он со всей силы ударил Эрнеста в левый глаз, и тот растянулся на полу. Немедленно вскочив на ноги, Эрнест вернул удар, и через секунду они оба покатились по полу, от всей души награждая друг друга тумаками и пинками. Было вполне очевидно, за кем, в конечном счете, останется победа, потому что Джереми даже в столь нежном возрасте обладал уже недюжинной силой, которая впоследствии и сделала его столь заметным персонажем этой истории, и неминуемо должен был сокрушить соперника. Однако Эрнест сражался столь отчаянно и с таким полным пренебрежением к последствиям этой драки, что ему все еще удавалось сдерживать напор Джереми. К счастью для него, Судьба решила вмешаться, пока чаши весов еще медлили склониться в одну или другую сторону. Вмешалась же она, приняв облик маленькой женщины — по крайней мере, выглядела она именно так, — которая внезапно появилась перед дерущимися с личиком, исполненным негодования, и грозно выставленным вперед указательным пальцем. — Противные мальчишки! Что скажет Реджинальд, хотелось бы мне знать? Джереми, ты ужасный мальчик! Мне стыдно, что ты мой брат. Поднимайтесь сейчас же! — Мой глаз! — прошепелявил Джереми, поскольку губа у него была разбита. — Это Долли!Глава 2
РЕДЖИНАЛЬД КАРДУС, ЭСКВАЙР, МИЗАНТРОП
Покинув гостиную, в которой он разговаривал с Эрнестом, мистер Кардус миновал длинный коридор старого дома и вышел во внутренний дворик. На его противоположной стороне, ограниченной глухой стеной, стояло небольшое аккуратное здание красного кирпича, одноэтажное и состоящее всего из двух комнат и небольшого коридора. К нему примыкали невысокие застекленные оранжереи, а за ними, у самой стены находился навес, под которым стоял котел, подававший горячую воду. Маленькое здание красного кирпича служило конторой мистеру Кардусу, поскольку он был юристом по профессии; длинные оранжереи были домом для сотен орхидей — ибо орхидеи были единственным увлечением мистера Кардуса. В целом и контора, и орхидеи смотрелись странновато и немного неуместно в этом мрачном старинном дворе. Они стояли напротив такого же старинного и мрачного на вид одноэтажного дома, покрытого шрамами, нанесенными ему за века строптивой погодой. Вероятно, именно такие мысли пришли в голову и мистеру Кардусу, когда он пересекал двор. — Странный контраст, — бормотал он себе под нос, — очень странный. Примерно такой же, как между Реджинальдом Кардусом, эсквайром, мизантропом из Дум Несс — и мистером Реджинальдом Кардусом, адвокатом, председателем попечительского совета Стоксли, бейлифом Кестервика и все прочее. И в обоих случаях — все это части одного и того же создания… Сочетание старого и нового стилей! Мистер Кардус не пошел сразу в контору. Сперва он свернул направо и вошел в длинную застекленную оранжерею, по которой, переходя из секции в секцию, добрался до помещения, в котором готовились к цветению наиболее выносливые сорта орхидей. Стеклянная дверь вела отсюда прямо в контору. Здесь его и без того тихие шаги сделались совсем бесшумными, словно у кота, и мистер Кардус остановился у стеклянной двери, внимательно наблюдая за крупным кряжистым человеком, стоявшим в глубине кабинета и задумчиво смотревшим на двор. — Ага, друг мой, — тихо и непонятно произнес мистер Кардус, — сапоги начинают жать… Что ж, самое время. Затем он так же бесшумно открыл стеклянную дверь, все тем же кошачьим мягким шагом прошел в кабинет, быстро уселся за стол и взял перо. По всей видимости, крупный мужчина был настолько поглощен своими мыслями, что не слышал мистера Кардуса и продолжал бессмысленно глазеть в пространство. — Итак, мистер де Талор, — мягко произнес адвокат, — я к вашим услугам. Крупный человек сильно вздрогнул и резко обернулся. — Проклятье, Кардус! Как вы сюда попали? — Разумеется, вошел через дверь… вы же не предполагаете, что я спустился по печной трубе? — Это очень странно, Кардус, но я не слышал, как вы вошли. Вы меня напугали. Мистер Кардус издал короткий сухой смешок. — Вы были слишком заняты своими мыслями, мистер де Талор, и боюсь — не самыми приятными. Чем могу помочь? — Откуда вы знаете, что они неприятные, Кардус? Я никогда не говорил об этом. — Если бы мы, юристы, ждали, что наши клиенты расскажут нам все свои мысли, мистер де Талор, нам бы пришлось очень долго докапываться до истины. Мы должны уметь читать по лицам наших клиентов, а иногда и по их спинам. Вы даже не представляете, как выразительна может быть иная спина, если, конечно, вы наблюдательны. Вот ваша, например, сегодня выглядит крайне неуверенно… надеюсь, ничего серьезного? — Нет, Кардус, нет! — отвечал мистер де Талор, нетерпеливо отмахиваясь от темы выразительных спин, — ничего особенного, просто деловой вопрос, по которому я пришел спросить вашего совета, поскольку вы человек проницательный. — Все мои лучшие советы — к вашим услугам, мистер де Талор. Так в чем заключается вопрос? — Дело, Кардус, вот в чем, — де Талор уселся в удобное кресло, повернув к адвокату свое широкое и довольно вульгарное лицо. — Речь идет о производстве смазки для железнодорожных вагонов. — О том самом, которым вы владеете в Манчестере? — Точно так. — Что ж, мне кажется, это вполне удовлетворительная тема для беседы. Ведь производство окупается, не так ли? — Нет, Кардус. В том-то и дело: раньше оно приносило прибыль, а теперь нет. — Как это? — Понимаете, когда мой отец получил патент и начал это дело, он был единственным на рынке, так что заработал на этом изрядно; могу сказать вам, что и я не жаловался на прибыли, но теперь — что вы думаете?! В прошлом году появилась какая-то паршивая фирма, «Растрик и Кодли». Они взяли новый патент и установили низкие цены, гораздо ниже тех, что мы можем себе позволить! — Что же дальше? — Дальше мы снизили цену, разумеется, но теперь дело идет нам в убыток. Мы надеялись разорить их — но они держатся. Их кто-то поддерживает, за ними кто-то стоит, говорю вам — потому что эти Растрик и Кодли не стоят и шестипенсовика! Кто — одному богу ведомо, я не думаю, что они и сами об этом знают. — Все это очень прискорбно, но что же вы хотите от меня? — Только одного, Кардус. Мне нужен ваш совет насчет продажи производства. У нас неплохой кредит, и мы можем продать дело за хорошенькую сумму — не такую хорошую, как хотелось бы, но все же довольно большую…. Но я не знаю, стоит ли продавать — или пока попридержать? Мистер Кардус задумался. — Это трудный вопрос, мистер де Талор, но что до меня — я всегда был противником резких движений. Та фирма все же может разориться, и тогда вы пожалеете о сделанном. Если бы вы сейчас продали свою — то сделали бы конкурентам подарок, а это, я полагаю, в ваши планы не входит. — Разумеется, нет! — Кроме того, вы очень обеспеченный человек, вы не так уж зависите от этого смазочного производства. Даже если дела будут плохи, у вас остается земля в собственности, здесь, в Чезвик Несс. Если бы я был на вашем месте, я бы придержал продажу, даже если бы это грозило мне потерями в дальнейшем — и доверился бы фортуне. Мистер де Талор испустил вздох облегчения. — Я и сам так думаю, Кардус. Вы мудрый человек, и я рад, что мы думаем одинаково. К черту «Растрик и Кодли», вот что! — О да, разумеется — к черту! — улыбнулся адвокат, поднимаясь из-за стола, чтобы проводить клиента до дверей. На другом конце коридора была еще одна дверь, наполовину застекленная. Она вела в комнату, по виду напоминавшую обычную канцелярию. Возле этой двери де Талор остановился и с интересом уставился на сидевшего за письменным столом человека. Человек этот был стар, высокого роста и крепкого телосложения, а одет был с необычайной аккуратностью — но в полный охотничий костюм: сапоги, бриджи, шпоры и все остальное. Крупную голову венчала шапка густых, взлохмаченных седых волос, придававшая человеку несколько дикий вид, которому способствовал еще и странно искривленный рот. Левая его рука неподвижной плетью висела вдоль тела. Мистер Кардус проследил за взглядом своего гостя и рассмеялся. — Странный клерк, не правда ли? Безумен, глуп и наполовину парализован — не каждый адвокат может похвастаться таким служащим. Мистер де Талор с явным беспокойством посмотрел на объект их наблюдения. — Если он безумен — то как же он справляется с работой клерка? — О, он вполне безобидный сумасшедший, а кроме того — у него прекрасный почерк. Он отлично переписывает документы. Де Талор не отводил от безумца недоверчивого взгляда. — Полагаю, он потерял память? — Да, — отвечал мистер Кардус с улыбкой. — Возможно, это и к лучшему. Он не помнит ничего, кроме своих заблуждений. Мистер де Талор с явным облегчением заметил: — Он ведь провел с вами много лет, не так ли, Кардус? — Да, очень много. — Зачем вы вообще его сюда взяли? — Разве я никогда не рассказывал вам его историю? Если хотите, мы можем вернуться в мой кабинет, и я расскажу вам ее, это недолго. Помните те времена, когда наш друг, — тут Кардус кивнул на старика за дверью, — еще держал свору охотничьих собак, и в округе его называли «отчаянным наездником Аттерли»? — Да, помню. Из-за них он и разорился, старый дурак. — И, разумеется, вы должны помнить Мэри Аттерли, его дочь. Мы с ней были влюблены друг в друга в юности. Широкие скулы мистера де Талора залил густой румянец, и он кивнул. — В таком случае, — продолжал мистер Кардус невозмутимо, хотя в голосе его послышались нотки тщательно сдерживаемых эмоций, — вы помните и то, что я был счастливейшим из людей, поскольку получил благословение ее отца на помолвку и брак с Мэри Аттерли, как только я смогу продемонстрировать ему, что мой доход достиг определенного уровня. Здесь мистер Кардус сделал паузу, но затем продолжил: — Однако мне пришлось отправиться в Америку по делам крупного банка в Норвиче. Дела затянулись, да и путешествия в те времена были долгими. Когда я вернулся домой, Мэри была… замужем за человеком по фамилии Джонс. За вашим другом, мистер де Талор. Он жил в вашем доме, в Чезвик Несс, когда они впервые встретились. Впрочем, возможно, вам даже лучше известно об этой части моего рассказа. Де Талор выглядел очень смущенным. — Нет, я почти ничего об этом не знаю. Джонс влюбился в нее, как и все прочие, а потом я узнал, что они собираются пожениться, только и всего. Было жестокостью так поступить с вами, Кардус, но… но, Господи, вы же не могли быть настолько глупы, чтобы доверять ей? Горькая улыбка озарила лицо Кардуса. — Да, пожалуй, это было жестоко — но это вовсе не относится к моей истории. Брак вышел недолгим и неудачным: странный рок обрушился на всех, кто имел к нему отношение. У Мэри осталось двое детей, когда она сделала лучшее, что могла сделать — умерла от стыда и тоски. Джонс, до этого очень богатый человек, был обманом доведен до банкротства и покончил с собой. «Отчаянный наездник Аттерли» еще некоторое время процветал, но затем разорился на своих собаках и лошадях, а также на спекуляциях, связанных с кораблестроением. Его хватил удар, парализовавший половину тела и лишивший его речи и большей части рассудка. Я перевез его сюда, чтобы спасти от сумасшедшего дома. — Это было очень благородно с вашей стороны, Кардус. Вы были добры к нему. — О нет, он вполне заслужил все это — однако он отец бедняжки Мэри. Он, впрочем, пребывает в уверенности, что я — дьявол, но это неважно. — Вы ведь забрали к себе и ее детей? — Да, я их взял под опеку. Девочка напоминает свою мать, хотя у нее никогда не будет такого взгляда… Мальчишка похож на старого Аттерли. Мне нет до него дела. И слава Господу — они оба совсем не похожи на своего отца. — Так вы знали Джонса? — быстро спросил де Талор. — Да, мы встречались после того, как он женился. Как ни странно, я был с ним и за несколько минут до его гибели. Теперь, мистер де Талор, я не смею вас более задерживать. Я думал, что вы, возможно, могли бы рассказать мне какие-то детали супружеской жизни Мэри. Эта история трогает меня, а ее результаты для моей собственной жизни оказались на удивление… далеко идущими. Я уверен, что еще не знаю всего до конца. Мэри писала мне незадолго до смерти и намекала на что-то, чего я никак не мог понять. Кто-то стоял за всем этим, кто-то помогал Джонсу. Ну, ничего, я найду ответ рано или поздно, и тогда, кто бы это ни был, он заплатит за свою подлость. Провидение порой идет странными путями, мистер де Талор — однако в конце обидчика всегда ожидает ужасная месть. Что такое? Вы встревожены? Бросьте, это обычная болтовня в конторе адвоката, не так ли? Бледный, как полотно, мистер де Талор поднялся, коротко кивнул мистеру Кардусу и торопливо вышел из кабинета. Адвокат наблюдал за ним, пока дверь не закрылась, и тут выражение его лица разительно переменилось. Белые брови сошлись на переносице, тонкие черты лица ожесточились, а в мягком доселе взгляде черных глаз полыхнула ненависть. Он сжал кулаки и потряс ими в сторону закрывшейся двери. — Ты, лжец! Пёс! — громко произнес Кардус. — Дай-то Бог мне прожить подольше, чтобы расправиться с тобой так же, как я расправился с ними! Один покончил с собой, другой — безумный паралитик, но ты — ты будешь нищим, даже если мне потребуется двадцать лет, чтобы разорить тебя! О да — это ударит по тебе больнее всего. О Мэри! Мэри! Мертвая и обесчещенная — из-за тебя, подлец! Дорогая моя, смогу ли я когда-нибудь снова обрести тебя… И с этими словами странный человек опустил голову на стол и глухо застонал.Глава 3
СТАРЫЙ ДУМ НЕСС
Когда через полчаса или около того мистер Кардус вернулся в дом, чтобы занять свое место за обеденным столом — поскольку в те времена в Дум Несс было принято обедать в середине дня, — он был в не слишком хорошем настроении. Воды того бассейна, куда собираются события нашей жизни и который мы называем своим прошлым, не часто волнуются, пусть они и горьки на вкус. Конечно, мистер Кардус вполне овладел собой — хотя этим утром сам изрядно взбаламутил эти горькие воды. В длинной, обшитой дубовыми панелями комнате, обычно используемой в качестве гостиной и столовой, мистер Кардус нашел «отчаянного наездника Аттерли» и его внучку, маленькую Дороти Джонс. Старик уже сидел за столом, а Дороти резала хлеб и выглядела при этом вполне взрослой девицей, словно ей было все двадцать четыре, а не четырнадцать лет. Она была странным ребенком — с ее спокойной взрослой уверенностью, чисто женскими замашками и манерой одеваться, с ее любопытным и одухотворенным личиком и огромными голубыми глазами, ярко сиявшими на нем. Впрочем, сейчас это милое личико выглядело более встревоженным, чем обычно. — Реджинальд! — воскликнула она при виде Кардуса (он сам настоял, чтобы она звала его по имени). — Мне жаль говорить это вам, но у нас произошло прискорбное происшествие. — Что такое? — нахмурился мистер Кардус. — Снова Джереми? Мистер Кардус мог быть очень строгим, когда дело касалось Джереми. — Боюсь, что так. Эти два несносных мальчишки… Впрочем, Дороти не было нужды продолжать объяснение, поскольку в этот момент распахнулась дверь, и на пороге появились молодые джентльмены, о которых шла речь и которых, словно овец, подталкивала востроглазая Грайс. Эрнест шел впереди, тщетно пытаясь сохранить непринужденный вид — поскольку ему приходилось придерживать сырой бифштекс под глазом, расцвеченным всеми цветами радуги. Позади него плелся Джереми, по-прежнему лохматый и чумазый. Его раны были либо неподвластны чарам сырого бифштекса, либо же он выбрал добровольный путь страданий и лекарство, составленное на основе жира и муки. На мгновение в комнатевоцарилась тишина, а затем мистер Кардус с убийственной вежливостью поинтересовался у Джереми, что означает его вид. — Мы подрались, — сердито отвечал мальчик. — Он ударил… — Благодарю, Джереми. Мне не нужны подробности, однако я воспользуюсь возможностью, чтобы высказать в присутствии вашей сестры и моего племянника, что я думаю о вас. Вы — невоспитанный хам, а к тому же еще и трус. При этих несправедливых словах мальчишка покраснел до корней волос. — Да, теперь можете заливаться краской, но позвольте сказать, что это именно трусость — затевать ссору с мальчиком, только что переступившим порог моего дома… — Я должен сказать, дядя, — вмешался Эрнест, вовсе не считавший проявлением трусости драку, к тому же, в которой принял участие сам, и в глубине души полагавший, что противнику досталось куда больше. — Это я первый начал. Это было не вполне правдивое заявление — если не считать началом драки схватку с бультерьером, — однако оно все равно не произвело на мистера Кардуса большого впечатления, поскольку он, видимо, был и в самом деле очень сердит на Джереми за другие проступки. Однако это была та ложь, на которую ангелу, ведущему подсчет наших грехов и добродетелей, не стоит обижаться. — Мне нет дела до того, кто из вас начал первым! — заявил мистер Кардус сердито. — И я сержусь отнюдь не только из-за драки. Ты дискредитируешь меня, Джереми, и свою сестру. Ты грязнуля, ты лентяй, ты ведешь себя не как джентльмен. Я отправил тебя в школу — ты сбежал из нее. Я даю тебе хорошую одежду — ты ее не носишь. Говорю тебе, мальчик, я не собираюсь больше терпеть это. Я хочу поговорить с мистером Хэлфордом, священником из Кестервика, чтобы он занялся образованием Эрнеста. Ты отправишься вместе с ним, и если я не увижу твоих успехов в ближайшие месяцы — я умываю руки. Ты меня понял? Во время этой суровой отповеди мальчик стоял посреди комнаты, переминаясь с ноги на ногу. По завершении речи мистера Кардуса он встал ровно. — Ну, — продолжал мистер Кардус, — что ты должен сказать? — Я хочу сказать, — выпалил Джереми, — что мне вовсе не нужно ваше образование. Вы вовсе не заботитесь обо мне! Его серые глаза пылали возмущением, а на лице полыхал румянец обиды. — Никому нет до меня дела, кроме моей собаки, Нейлза! Вы же из меня самого сделали собаку — швыряете мне подачки, как я швыряю Нейлзу кости! Не нужно мне ваше образование, я не буду учиться! И красивая одежда ваша мне не нужна, я не буду ее носить. Я больше не хочу быть для вас обузой. Отпустите меня, я стану рыбаком и буду сам зарабатывать себе на хлеб! Если бы не она, — тут он кивнул на сестру, в ужасе застывшую возле стола, — и не Нейлз, я б давно ушел, вот что я скажу! Но как бы там ни было — я больше не буду вашей собакой. Я буду зарабатывать себе на жизнь — и мне никого не придется благодарить за это! Дайте мне уйти туда, где надо мной не будут издеваться, если я буду честно трудиться! Я достаточно силен для этого, отпустите меня! Вот я и сказал то, что должен был! С этими последними словами парень разрыдался и бросился вон из комнаты. С его уходом улетучился, как показалось, и гнев мистера Кардуса. — Не думал, что в нем столько силы духа, — пробурчал он. — Что ж, хорошо, давайте обедать. За обедом разговор не клеился, предшествовавшая ему сцена оставила тяжелое впечатление — и Эрнест, будучи наблюдательным мальчиком, погрузился в созерцание того, как Дороти хлопочет за столом, исполняя обязанности хозяйки: режет мясо для своего безумного дедушки, приглядывает, у всех ли все есть на тарелках и в бокалах — одним словом, проявляет искреннюю заботу и внимание ко всем присутствующим. Наконец, обед подошел к концу, и мистер Кардус вместе со старым Аттерли отправились обратно в контору, оставив Дороти наедине с Эрнестом. Она и начала беседу. — Надеюсь, твой глаз не болит. Джереми очень больно бьет. — О нет, все в порядке. Я привык к дракам. Когда я учился в школе в Лондоне, мне часто приходилось драться. Мне жаль его — я имею в виду твоего брата. — Джереми? О да, он вечно попадает в неприятности, а теперь, я думаю, все кончится совсем плохо. Я делаю все, что в моих силах, чтобы добиться порядка, но у меня не получается. Если он не пойдет к мистеру Хэлфорду, я даже и не знаю, что будет. Маленькая леди тяжело вздохнула. — О, клянусь тебе — он пойдет! Пойдем, найдем его — и постараемся уговорить, — воскликнул Эрнест. — Мы можем попробовать, — с сомнением протянула Дороти. — Подожди минутку, я только надену шляпку, а потом, если ты уберешь эту гадость с лица, мы можем прогуляться в Кестервик. Я собиралась отнести книжку — одну из тех, по которым я учу французский, — обратно старой мисс Чезвик, она там живет. — Хорошо, — отвечал Эрнест. Вскоре Дороти вернулась, и они направились на задний двор, в каретный сарай, где у Джереми была маленькая комнатка: здесь он набивал чучела птиц и хранил свою коллекцию яиц и бабочек. Однако Джереми здесь не было. Расспросив Сэмпсона, старого шотландца-садовника, присматривавшего за орхидеями мистера Кардуса, Дороти выяснила, что Джереми отправился стрелять бекасов, взяв ружье Сэмпсона. — Это в духе Джереми, — вздохнула девочка. — Он всегда уходит стрелять, вместо того, чтобы решать проблемы. — Он умеет бить птиц влет? — заинтересовался Эрнест. — О, еще как! — с гордостью отвечала Дороти. — Не думаю, что он хоть раз промахивался. Мне бы хотелось, чтобы он умел так же хорошо делать и все остальное. В глазах Эрнеста акции Джереми выросли сразу на пятьдесят процентов. По пути обратно в дом они заглянули в окно конторы, и Эрнест увидел «отчаянного наездника Аттерли» за работой — старик прилежно переписывал бумаги. — Он ведь твой дед, да? — Да. — Он… тебя узнает? — В каком-то смысле — да, но вообще он совершенно безумен. Он считает, что Реджинальд — это дьявол, которому он обязан служить в течение определенного количества лет. У него есть специальная трость, он делает на ней насечки, каждый месяц по одной. Все это очень печально. Весь этот мир — очень печальное место, — вздохнула Дороти. — Почему он в охотничьем костюме? — спросил Эрнест. — Потому что он всегда любил охоту. Он и сейчас любит лошадей. Иногда можно увидеть, как он выбирается из-за письменного стола и со слезами на глазах смотрит в окно, если кто-то приезжает верхом. Однажды он даже выбежал из конторы и пытался забраться на лошадь и ускакать — но его остановили. — Почему бы не позволить ему выезжать верхом? — О, он убьет себя. Старый Джек Тейрес, который живет в Кестервике и зарабатывает себе на жизнь ловлей крыс и хорьков, когда-то служил у дедушки псарем — когда у него еще были собаки. Так вот, он говорит, что дедушка всегда был немного сумасшедшим — по части верховой езды. Однажды в полнолуние они с дедушкой отправились охотиться на оленя, который забрел сюда из какого-то парка. Они подняли его в маленькой роще возле Клаффтона, в пяти милях отсюда, и дед гнал его мимо Стартона и Эшли, а затем загнал к самому морю, в полутора милях отсюда, на границу зыбучих песков. Луна светила так ярко, что было светло, как днем. На последней миле олень уже выбился из сил, от него до собак оставалось не больше сотни ярдов — и расстояние все сокращалось. Когда они оказались на берегу, олень кинулся прямо в море, а за ним собаки и дед. Еще через сотню ярдов они настигли оленя и убили, а потом дедушка просто развернул коня и поплыл к берегу, и собаки за ним. — Ничего себе! — восхищенно прокомментировал историю Эрнест. — А что же Джек Тейрес, что он делал? — О, он оставался на берегу и молился. Он думал — они все утонут. За разговорами Эрнест и Дороти добрались до старого дома, построенного на небольшом мысе, выступающем за пределы береговой линии; дома, овеваемого всеми ветрами, стоящего над беспокойными волнами, ведущими бесконечную битву с известняковыми скалами. Это было уединенное и мрачное место. Дом словно выглядывал из-под массивных серых скал, почти совсем лишенных растительности, если не считать пучков жесткой травы и колючих листьев морского падуба. Перед ним расстилался океан, неспешно обрушивавший волну за волной на песчаные дюны; лишь несколько парусов на горизонте нарушали его величественное одиночество. Слева, насколько мог видеть человеческий глаз, тянулись скалы, кое-где прерываемые расщелинами и гротами — словно выщербленная челюсть старухи. За этим скальным хребтом на многие мили тянулись пустоши, поросшие разноцветным вереском и ограниченные дамбами, куда вода попадала при помощи ветряных мельниц, что придавало пейзажу несколько голландский оттенок. — Смотри! — сказала Дороти, показывая на маленький белый домик, стоящий примерно в полутора милях от берега. — Там находятся большие шлюзовые ворота, а прямо за ними начинаются зыбучие пески, поглотившие однажды целую армию — как Красное море египетских воинов. — Надо же! — воскликнул не на шутку заинтересованный Эрнест. — И этот дом построил мой дядя? — Глупый мальчик! Его построили сотни лет назад. Кто-то по фамилии Дум — потому это место и называется Дум Несс; по крайней мере, я так думаю… У Реджинальда есть старинная карта, времен Генриха VII, и Дум Несс на ней уже отмечен, значит — Думы жили там задолго до этого. Посмотри, — продолжала она, когда они обошли старый дом справа и оказались на тропе, ведущей на самый верх скалы — там, наверху, виднеются развалины аббатства Тайтберг. Дороти указала на руины большой церкви и великолепно сохранившуюся башню, стоявшие в нескольких сотнях футов от них, почти на самом краю утеса. — Почему ее не отстроят заново? — спросил Эрнест. Дороти покачала головой. — Потому что через несколько лет море поглотит его. Уже почти все кладбище скрылось под водой. То же самое будет и с Кестервиком, куда мы направляемся. Кестервик когда-то был большим городом. Короли Восточной Англии сделали его своей столицей, там жил епископ. Кроме того, это был довольно крупный порт. В городе жили тысячи людей. Но море надвигалось и надвигалось. Оно затопило гавань и разрушило скалы — и люди, конечно, не могли его сдержать. Теперь Кестервик — всего лишь маленькая деревушка на берегу моря, впрочем — с красивой старинной церковью. Но настоящий Кестервик лежит там, под водой. Если пройти по берегу после хорошего шторма, можно найти сотни обломков кирпича и плитки, из которых были построены его дома, ушедшие под воду. Только вообрази! В один прекрасный воскресный день, во времена королевы Елизаветы, целых три приходские церкви в одночасье рухнули с утеса в море! Дороти продолжала рассказывать затаившему дыхание Эрнесту историю старинного города, который пал, подобно Вавилону — пока они не подошли к небольшому и довольно современному домику, скрывающемуся в зарослях деревьев; вернее, скрывающемуся летом — потому что сейчас на ветвях не осталось ни одного листа. С этим домиком Эрнесту предстояло очень близко познакомиться через несколько лет… Дороти оставила его у ворот, а сама отправилась отдавать книгу, заметив, что ей стыдно вести в дом мальчика с таким роскошным синяком под глазом. Вернулась она довольно быстро и сказала, что мисс Чезвик нет дома. — А кто такая мисс Чезвик? — с любопытством спросил Эрнест, жадно впитывавший любые новые сведения. — О, это чудесная старушка, — отвечала Дороти. — Ее семья много лет жила в местечке Чезвик-Несс, но потом брат мисс Чезвик проиграл все состояние в карты, и поместье было продано за долги. Его купил мистер де Талор, этот ужасный толстяк, который приезжал сегодня утром, ты, должно быть, видел его. — Она живет здесь одна? — Да, но у нее есть прелестные племянницы — дочери ее покойного брата, мать которых тяжело больна; если она умрет, то одна из девочек переедет сюда. Она моя ровесница, и я очень жду ее приезда. На некоторое время воцарилась тишина, а потом маленькая женщина тихо произнесла: — Эрнест, мне кажется — ты добрый мальчик, поэтому я хочу попросить тебя кое о чем. Я хочу, чтобы ты помог мне с Джереми. Эрнест, раздувшись от гордости от такого комплимента, выразил горячую готовность сделать все, что в его силах. — Видишь ли, Эрнест, — продолжала Дороти, не сводя с мальчика больших голубых глаз, — Джереми все время создает проблемы. Он хочет идти своим путем. Ему не нравится Реджинальд, а Реджинальду не нравится он. Если Реджинальд входит в одну дверь, Джереми немедленно выходит в другую. Кроме того, он вечно дерзит Реджинальду. Это очень нехорошо, потому что, как бы там ни было, Реджинальд очень добр к нам, хотя у него и нет на это причин, кроме того, что он, как мне кажется, очень любил нашу маму. Если бы не Реджинальд, которого я очень люблю, хоть он иногда и бывает странным, то просто не знаю, что бы сталось с нами и с дедушкой. Поэтому я считаю, что Джереми должен лучше к нему относиться и лучше себя вести — вот и хочу тебя попросить обуздать его грубость и постараться подружиться с ним… и научить вести себя как следует. Это ведь не так уж и много — взамен на доброту твоего дяди к нам. Понимаешь, я-то могу хоть как-то отплатить Реджинальду, приглядывая за домом, но Джереми ничего для этого не делает. Прежде всего, я хочу, чтобы ты убедил его не противиться поездкам к мистеру Хэлфорду. — Хорошо, я попробую, но я хотел спросить — где училась ты? Ты так много знаешь! — О, я учусь сама, по вечерам. Реджинальд хотел нанять мне гувернантку, но я отказалась. Как я смогу заставить Грайс и слуг слушаться меня, если сама буду вынуждена повиноваться какой-то странной женщине? Так у меня ничего не выйдет. Они как раз добрались до руин аббатства Тайтбург. Уже почти стемнело, как всегда и бывает зимой — и Дороти внезапно вскрикнула, потому что из-за полуразрушенной стены поднялась высокая широкоплечая фигура с ружьем в руках. Позади нее маячило что-то белое — и через мгновение Дороти поняла, что это Джереми, возвращающийся с охоты и, видимо, поджидавший их. — О Джереми, как ты меня напугал! В чем дело? — Я хочу поговорить с ним, — последовал лаконичный ответ. Эрнест спокойно стоял на месте, ожидая, что будет дальше. — Послушай! Ты сегодня утром наврал — чтобы попытаться выручить меня. Ты сказал, что драку начал ты — а начал ее я. Я должен был сказать ему сам, — с этими словами Джереми вытянул палец в сторону Дум Несс, — только у меня во рту скопилось столько слов, что я никак не мог с ними разобраться. Но сейчас я хочу сказать тебе спасибо, и знаешь — забирай мою собаку, вот! Он — упрямый злобный дьявол, но он тебя полюбит, если ты будешь к нему добр! С этими словами Джереми схватил изумленного Нейлза за шиворот и сунул пса в руки Эрнесту. Несколько мгновений в душе Эрнеста шла отчаянная борьба, ибо ему очень хотелось стать хозяином бультерьера — однако джентльменские чувства одержали верх. — Не надо мне твоего пса — и я ничего такого не сделал. — Нет, сделал! — горячо возразил Джереми, испытывая огромное облегчение от того, что Эрнест отказался от Нейлза, которого Джереми очень любил. — По крайней мере, ты сделал куда больше, чем кто-либо за всю мою жизнь. И знаешь что — однажды я верну тебе этот долг. Сделаю для тебя все, что в моих силах. — Правда? — прищурился Эрнест, бывший весьма сообразительным юношей и вспомнивший просьбу Дороти. — Правда, клянусь! — Что ж, тогда пообещай, что будешь ходить со мной к этому Хэлфорду. Я не хочу заниматься в одиночестве. Джереми задумчиво потер лицо неимоверно грязной рукой. Это было гораздо больше того, на что он рассчитывал — но слово есть слово. — Хорошо! — ответил он. — Я пойду с тобой. Затем он свистнул Нейлзу, повернулся и исчез в темноте. Так было положено начало дружбе, которую эти двое пронесли через всю свою жизнь.Глава 4
МАЛЬЧИКИ
Джереми сдержал данное слово. В назначенный день он оказался готов, по его собственному выражению, «заняться с этим парнем, Хэлфордом». Более того, в этот день он явился в гостиную аккуратно подстриженным, в приличном костюме и — о, чудо из чудес! — с практически чистыми руками. За все эти муки Джереми был вознагражден открытием, что «занятия» были вовсе не таким уж и страшным делом, как он ожидал. Кроме того, они носили довольно нерегулярный характер, и потому у мальчиков оставалось вдоволь времени на все истинно мужские развлечения. Зимой они блуждали по пустошам и болотам в поисках бекасов и диких уток, при стрельбе по которым Эрнест неизменно промахивался, а Джереми бил с невероятной точностью. Летом они плавали, ловили рыбу и искали яйца в птичьих гнездах. Таким образом, они ухитрялись сочетать необременительное обучение — с истинным опытом приобретения по-настоящему глубоких знаний о жизни животных и птиц, а также с укреплением духа и тела. То были счастливые года для них обоих, но Джереми, сравнивая их с теми, что он прожил до приезда Эрнеста, находил нынешнее свое положение практически райским. То ли манеры его действительно улучшились, то ли Эрнест умело служил буфером между Джереми и мистером Кардусом — но теперь они с опекуном ссорились гораздо реже. Джереми сам видел, что старый джентльмен (впрочем, так мистера Кардуса можно было назвать, лишь повинуясь местным традициям, на самом деле он был, скорее, среднего возраста) стал более терпим к нему; впрочем, понимал он и то, что ему никогда не стать любимчиком Кардуса. Что до Эрнеста, то юношу все любили, в особенности женщины, которые всегда были готовы выполнить любую его просьбу. Удивительно, что Эрнеста это обстоятельство совершенно не испортило — но это было именно так. Невозможно было не обратить внимания на Эрнеста Кершо — настолько он был обаятелен, воспитан и начисто лишен даже тени чванства. Всегда готовый помочь, не забывающий добро, он был щедр до такой степени, что, казалось, имел весьма смутное представление о том, что принадлежит ему, всем делясь с друзьями. Обладая всеми этими качествами, а также быстрым умом и врожденным благородством, он, что совершенно неудивительно, всегда был популярен и в мужском, и в женском обществе. Эрнест вырос красивым юношей; войдя в возраст, он приобрел прекрасное телосложение, глаза у него всегда были красивые и выразительные, а весь облик дышал мужеством и одухотворенностью. Его доброта и острый ум делали его еще более привлекательным. Что касается Джереми, то он не сильно изменился, став взрослым — разве что сильно увеличился в размерах. Из года в год его плечи становились все шире, а сила возросла до немыслимых пределов. Впрочем, того же нельзя было сказать о его интеллекте — разум его мужал не с такой быстротой, и Джереми по-прежнему с трудом воспринимал новые идеи, однако приняв их, больше уже не отступал с выбранного пути. У него, этого простодушного гиганта, была в жизни одна истинная страсть — его друг Эрнест. Эта привязанность росла вместе с Джереми, пока не стала его неотъемлемой частью, превратившись едва ли не в преклонение. Они почти не расставались, за исключением того времени, когда Эрнест решил уехать за границу, чтобы изучать иностранные языки, к которым он испытывал тяготение. Джереми очень не нравилась идея разлуки с Эрнестом, но еще больше его отвращала мысль о жизни за границей, поскольку он был очень замкнутым юношей. Только из этих соображений, скрепя сердце, он и согласился на разлуку. Так они и прожили эти годы до своего восемнадцатилетия, и тут мистер Кардус, повинуясь внезапному порыву, объявил о намерении послать их обоих в Кембридж. Эрнест навсегда запомнил этот день, поскольку именно тогда он впервые познакомился с Флоренс Чезвик. Он как раз вышел от дяди и искал Долли, чтобы передать ей дядины распоряжения, когда неожиданно столкнулся со старой мисс Чезвик, которую сопровождала юная леди. Мисс Чезвик представила ее как свою племянницу — и молодая девушка сразу привлекла внимание Эрнеста. При знакомстве она — ровесница Эрнеста — коснулась его крепкой ладони своими тонкими пальчиками, в тот же момент бросив на него такой острый взгляд карих глаз, что впоследствии он признавался Джереми, будто этот взгляд пронзил его насквозь. Флоренс была замечательной девушкой. Вьющиеся волосы каштанового цвета вились локонами вокруг ее красивой головки, глаза были карие; кожа имела оливковый оттенок, черты лица были несколько мелковаты — но полные алые губы в улыбке приоткрывали ряд безупречных жемчужных зубок. Росту она была небольшого, однако прекрасно сложена, и, несмотря на юный возраст, фигурка ее вполне сформировалась. Пока Эрнест наблюдал за ней, в комнату вошел его дядя и был должным образом представлен пожилой дамой ее племяннице — по ее словам, Флоренс приехала, чтобы скрасить ее одиночество. — Как вы нашли Кестервик, мисс Флоренс? — светски поинтересовался мистер Кардус. — Что ж, это больше, чем я ожидала — хотя немного скучноват, — сдержанно отвечала девушка. — О, возможно, вы привыкли к более оживленным местам? — Да, пока моя мать была жива, мы жили в Брайтоне, там довольно оживленно. Нельзя сказать, что мы очень уж участвовали в светской жизни — мы для этого были слишком бедны — но, во всяком случае, мы могли за ней наблюдать. — Вы любите жизнь, мисс Флоренс. — Да, ведь она так коротка. Я хотела бы, — продолжила она, чуть откинув голову назад и прикрыв глаза, — увидеть в этой жизни как можно больше — и испытать все чувства. — Возможно, мисс Флоренс, некоторые из них вы найдете довольно неприятными, — с улыбкой заметил мистер Кардус. — Вполне может быть — но лучше путешествовать по неприятной стране, чем безвылазно просидеть всю жизнь в райском уголке. Мистер Кардус снова улыбнулся: девушка его явно заинтересовала. — Знаете, мисс Чезвик, — меняя тему разговора, обратился он к пожилой даме, которая сидела, расправляя свои кружева и выглядя довольно ошеломленной словами своей племянницы, — этот молодой джентльмен в скором времени отправляется в колледж, как и Джереми? — Вот как? — откликнулась мисс Чезвик. — Что ж, Эрнест, я надеюсь, ты достигнешь больших успехов. Пока Эрнест с присущей ему скромностью пытался опровергнуть это смелое предположение, мисс Флоренс снова вмешалась в разговор, оторвавшись от созерцания длинных ног молодого джентльмена, которые он, от смущения под ее острым взглядом, заплел вокруг ножек стула. — Я не знала, что в колледж принимают мальчиков. Вскоре они ушли, и чуть позднее Эрнест в разговоре с Дороти охарактеризовал Флоренс словом «бестия». Впрочем, по-своему она была привлекательна, и в течение следующих нескольких лет они стали довольно близки. Итак, Эрнест и Джереми отправились в Кембридж — однако нельзя сказать, чтобы они блистали во время обучения, и наставники не торопились возносить им похвалы. Впрочем, Джереми удалось отличиться во время традиционных университетских гонок, и на некоторое время он покрыл себя славой, которую, впрочем, не слишком ценил, будучи чрезвычайно скромным молодым человеком. Эрнест не отличился даже в спорте. Однако правдами и неправдами, помаленьку они все же добрались до конца обучения и даже получили какие-то ученые степени, а затем без сожаления расстались с берегами Кэма, на которых провели столько веселых дней: Джереми сразу вернулся в Кестервик, а Эрнест отправился с визитами к многочисленным товарищам по учебе. Так закончился первый круг их жизни.Глава 5
ОБЕЩАНИЕ ЕВЫ
Когда Джереми вернулся в Дум Несс из Кембриджа, мистер Кардус принял его со своей обычной полупрезрительной холодностью, которая так часто приводила юношу в замешательство. Нельзя сказать, что мистер Кардус действительно не любил Джереми — неприязнь прошла много лет назад, в тот день, когда мальчик собрался «идти зарабатывать себе на хлеб»; однако он никак не мог простить молодому человеку то, что он был сыном своего отца — и потому не мог справиться с инстинктивной неприязнью. Впрочем, мистер Кардус старался держать себя в руках и не позволять этой неприязни мешать их общению, во всяком случае — сделать для этого все возможное. Он потратил на обучение обоих юношей одинаковые суммы, до последнего фунта — однако Эрнесту он отдавал эти деньги с любовью, а Джереми — из чувства долга. Джереми все это прекрасно понимал и более всего на свете хотел сам зарабатывать себе на жизнь, чтобы стать независимым от мистера Кардуса. Но одно дело — хотеть зарабатывать, и совсем другое — зарабатывать на самом деле, это хорошо известно беднякам. Когда Джереми задумался, как ему справиться с поставленной задачей, идей оказалось катастрофически мало. Впрочем, многого он не хотел; Джереми не был амбициозен. Он был бы совершенно счастлив, если бы смог заработать на крышу над головой, еду, одежду, порох и пули — дальше этого его амбиции и не заходили. Впрочем, нужно было учесть и два непременных условия, от которых он не желал отказываться: вокруг должна была быть дикая природа — и рядом должен был находиться Эрнест. Без Эрнеста, по мнению Джереми, жизнь вообще ничего не стоила. В течение недели с лишним после его возвращения домой эти противоречивые мысли буквально кипели у него в голове, и в конце концов Джереми, решив, что с него хватит, решил посоветоваться с сестрой, у которой — он это прекрасно понимал — в три раза больше мозгов, чем у него, и вообще надо было сразу обратиться за советом к ней! Долли устремила на него пытливый взгляд своих голубых глаз и молча выслушала все от начала до конца. — Теперь ты видишь, Долл, — он с детства ее так называл, — в каком я затруднительном положении. Я понятия не имею, чем мне заняться — либо я сам поведу свой корабль, либо сдамся и позволю другим управлять им. Кроме того, мне нужен Эрнест, я не могу без него обойтись. Если бы не он, я бы просто эмигрировал. Отправился бы валить лес в Ванкувере или клеймить бычков где-нибудь в Америке, — добавил он задумчиво. — Ну ты и дурень, Джереми! — неожиданно сказала его сестра. Он вскинул голову — нисколько не оспаривая ее заявление, а просто желая получить дополнительные разъяснения. — Я говорю — дурень ты, братец. Простофиля. Как ты думаешь, чем я занималась все эти три года, пока вы в своем колледже катались на лодках и весело проводили время? Я думала! — Я тоже, но ничего хорошего из этого не вышло. Думать — бесполезно. — Да, если только этим и ограничиться. Но я не только думала, я еще и действовала. Я разговаривала с Реджинальдом и предложила ему свой план, а он его одобрил. — Ты всегда была очень умная, Долл, тебе достались все мозги, а мне — только рост и мускулы, — печально согласился Джереми. — Ты даже не спросишь, что именно я придумала? — голос Дороти прозвучал резковато, потому что бесхитростный Джереми коснулся больного вопроса: ее роста. — Так я и жду, когда ты расскажешь. — Ты должен пойти на службу к Реджинальду. — О боги! — простонал Джереми, закатывая глаза. — Куколка, мне это совсем не нравится! — Замолчи и выслушай меня до конца. Ты пойдешь на службу к Реджинальду, и он будет платить тебе сто фунтов в год, так что жить ты можешь в другом месте, если не нравится оставаться здесь. — Но мне не нравится эта служба, Долл! Я ее ненавижу, это дьявольское дело. — Хотелось бы мне знать, какое право вы имеете так говорить, мистер Всезнайка! Позвольте вам напомнить, что многие люди — куда лучше и умнее вас! — вполне довольны тем, что зарабатывают на жизнь в адвокатской конторе. Я так полагаю, что честный человек будет и честным юристом, как и во всякой другой профессии! Джереми с сомнением покачал головой. — Все юристы — кровососы! — сердито сказал он. — Значит, будешь сосать кровь! — решительно сказала его сестра. — Послушай, Джереми, не будь свиньей и не расстраивай мой план! Если ты провалишься в глазах Реджинальда, он больше палец о палец ради тебя не ударит. Ты ему не нравишься, ты прекрасно это знаешь — и он с удовольствием устроит тебе разгон, если у него будет для этого повод. И где ты в таком случае окажешься, хотела бы я знать? Джереми затруднился ответить, где он окажется, поэтому Дороти продолжала: — Считай это временной работой, в любом случае. Кроме того, подумай вот еще о чем: Эрнест собирается стать адвокатом, и если ты откажешься сейчас, а с Реджинальдом что-нибудь случится, некому будет помочь Эрнесту в конторе, а я знаю, что это для адвоката главное. Последний довод Джереми признал самым весомым аргументом. — Я буду самым странным клерком на свете, — печально вздохнул он. — Почти таким же, как дедушка. Как он поживает, кстати? — О, как обычно — пишет, пишет и пишет целый день. Он думает, что так быстрее окончится срок его службы. Завел себе новую трость и отметил на ней все месяцы и годы, какие ему осталось служить — маленькие обозначают месяцы, а длинные — годы. Осталось восемь или десять больших зарубок. Каждый месяц он зачеркивает одну короткую. Ужасно это все… Ты же знаешь, он считает Реджинальда дьяволом и ненавидит его. Как-то раз у него не было работы в конторе, и я застала его за рисованием — он рисовал Реджинальда с рогами и хвостом, такие ужасные рисунки… и мне кажется, он таким и видит Реджинальда. Еще он все время рвется отправиться верхом, особенно ночью. Только на прошлой неделе его нашли в конюшне — он уже седлал серую кобылу, ту самую, на которой иногда ездит Реджинальд, ты знаешь. Когда, ты говоришь, Эрнест возвращается? — добавила девушка после недолгой паузы. — Я же сказал, Долл, — в следующий понедельник. Дороти помрачнела. — О, мне показалось, ты сказал — в субботу… — Зачем тебе это? — Только чтобы успеть приготовить его комнату. — Да она готова, я вчера туда заглядывал. — Чушь! Что ты в этом понимаешь! — Долли вспыхнула. — Уходи, мне надо пересчитать простыни, а ты мне мешаешь. Джереми спрыгнул со стола, на котором сидел, свистнул Нейлзу, который был теперь старым и умудренным опытом псом, и отправился на прогулку. Некоторое время он шел, засунув руки в карманы и уставившись себе под ноги, размышляя о своей незавидной судьбе и представляя себя в образе клерка, постоянно находящегося под назойливым и недружелюбным взглядом мистера Кардуса. Внезапно он заметил двух дам, стоящих всего в нескольких ярдах от него на самом краю обрыва. Джереми уже собирался развернуться и поскорее удрать, поскольку не выносил дамского общества и считал в глубине души — впрочем, ни с кем этим мнением не делясь, — что женщина есть корень всех зол на свете. Однако его заметили, и он счел подобное стремительное отступление невежливым. В одной из этих молодых дам — а они были очень молоды — он узнал мисс Флоренс Чезвик, которая ничуть не изменилась за прошедшие годы. У нее были все те же кудрявые каштановые волосы, те же острые карие глаза и полные губы, те же мелкие черты и решительное выражение лица. Ее фигура всегда казалась Джереми несколько… квадратной, но теперь немного вытянулась. В облегающем платье Флоренс выглядела почти красивой, и даже ее угловатость, которую большинство женщин сочли бы прискорбным дефектом внешности, придавала ей решительности и силы, которые и делали Флоренс Чезвик куда привлекательнее доброй сотни хорошеньких девушек. — Как поживаете? — резко, в своей обычной манере поинтересовалась Флоренс. — Судя по вашему виду, вы спите на ходу. Прежде чем Джереми смог найти достойный ответ на это замечание, другая молодая леди, все это время задумчиво смотревшая вдаль с обрыва, обернулась — и Джереми окаменел. Опыт у него был невелик — и все же он никогда раньше не видел таких красавиц. Она была едва ли не на две головы выше своей сестры — такая высокая, что лишь природная грация спасала ее от того, чтобы показаться нескладной. Волосы у нее тоже были темными, но гораздо темнее, чем у сестры. Черные локоны развевались на ветру, и черными были ее прекрасные глаза, осененные длинными ресницами. Ее кожа была легкого оливкового оттенка, губы напоминали кораллы, зубки были мелкие и ровные. Кажется, все преимущества, которыми Природа могла бы наделить женщин, достались этой девушке в избытке, она буквально лучилась здоровьем и красотой. Ко всем ее прелестям стоило добавить и нежный взгляд, присущий только воистину добрым женщинам, и нежный голос, и острый ум, и полное отсутствие тщеславия или самолюбования — такова была Ева Чезвик в расцвете ее юных чар. — Позвольте представить вам мою сестру Еву, мистер Джонс. Однако на данный момент мистер Джонс был практически парализован и даже не смог снять шляпу. — Послушайте! — нетерпеливо сказала Флоренс. — Она не Медуза, вам нет нужды превращаться в камень. Это замечание привело Джереми в чувство — мисс Флоренс обладала незавидным даром опускать людей с небес на землю. Он снял шляпу, как всегда, довольно мятую и грязную, и пробормотал что-то неразборчивое. Что касается Евы, то она мило покраснела и с готовностью заметила, что мистер Джонс, без сомнения, смущен ужасным состоянием ее, Евы, платья (честно говоря, Джереми вообще понятия не имел, надето ли на Еве платье — и уж тем более не думал о его состоянии). — Понимаете, я лежала на траве и смотрела вниз, в расщелины скалы. — Что? Но зачем? — Там… кости. Место, где они сейчас стояли, когда-то было частью кладбища Тайтбургского аббатства, и по мере того, как море наступало, множество костей давно усопших жителей Кестервика вымывалось из их тихих могил и оставалось на пляже и прибрежных скалах. — Смотрите! — сказала она, опускаясь на колени, и Джереми немедленно последовал ее примеру. Примерно в шести футах ниже, на той глубине, на которой обычно хоронят покойников, были хорошо видны остатки гнилого дерева и свинцовые пластины, а еще, что было ужаснее всего, на восемь с лишним дюймов выступали из земли кости человеческой ноги, сломанные и истлевшие. На уступе скалы, примерно в двадцати пяти футах от вершины и в шестидесяти футах от дна расщелины, скопилась целая коллекция человеческих костей. — Разве это не ужасно? — спросила Ева, зачарованно глядя в расщелину. — Просто потрясающе! Посмотрите — маленький череп ребенка возле большого черепа. Возможно, это была его мать. А что это там, в песке? Большая часть того предмета, на который она указывала, была хорошо видна на светлом фоне. Она напоминала зарывшееся в песок пушечное ядро, однако Джереми пришел к другому выводу. — Это часть свинцового гроба, — сказал он. — О, мне хотелось бы спуститься туда и посмотреть все своими глазами! Вы можете это сделать? Джереми покачал головой. — Я проделывал это, когда был мальчиком — тогда я был намного легче. Сейчас не стоит и пытаться — зыбучие пески меня не выпустят, и я уйду на самое дно. Ради этого прекрасного создания он был готов на все — однако прежде всего он был разумен и практичен и не видел особой доблести в том, чтобы за просто так свернуть себе шею. — Да, — разочарованно сказала девушка, — вы довольно тяжелы. — Пятнадцать стоунов, — печально откликнулся Джереми. — Но во мне нет и десяти! Я могла бы спуститься, я полагаю. — Без веревки лучше и не пытаться. Их разговор прервал звонкий голосок Флоренс: — Когда вы двое закончите рассматривать эти отвратительные останки, возможно, Ева, мы отправимся на ланч? Если бы вы только знали, как глупо вы выглядите, растянувшись там, словно два турка, которых собираются сечь палками. Может быть, подниметесь? Для Евы этого оказалось достаточно, она быстро встала, и Джереми вновь последовал ее примеру. — Почему ты не дала нам спокойно изучить эти кости, Флоренс? — с притворной обидой сказала Ева. — Потому что у тебя действительно глупый вид. Видите ли, мистер Джонс, все древнее и замшелое, все, имеющее отношение к покойникам, умершим столетия назад, почему-то очаровывает мою сестру. Она была бы рада прийти домой и начать рассказывать об этих костях — кому они принадлежали, кто были эти люди, чем занимались и все такое. Она называет это воображением, а я — выдумками. Ева вспыхнула, но ничего не сказала; видимо, она не привыкла отвечать на колкости старшей сестры. Они простились с Джереми, и девушки отправились домой. — Что за урод этот Джереми! — заметила Флоренс. — Мне он уродом вовсе не показался, — тихо ответила ее сестра. — Я думаю, он очень мил. Флоренс пожала своими угловатыми плечами. — Разумеется — если тебе нравятся гиганты с мозгом совы. Ты должна познакомиться с Эрнестом — вот кто действительно очень мил! — Эрнест тебе нравится, судя по всему. — Да, — просто ответила Флоренс. — И я надеюсь, что, когда он приедет, ты не полезешь в мой сад. Ева улыбнулась. — Тебе не нужно бояться. Обещаю оставить твоего Эрнеста в покое. — Что ж, это сделка! — голос Флоренс прозвучал резко. — И не забудь сдержать свое слово!Глава 6
ДЖЕРЕМИ ВЛЮБЛЕН
У Джереми в этот день впервые за много лет не было аппетита за обедом, и этот феномен не мог не встревожить Дороти. — Мой дорогой Джереми! — сказала она после обеда. — Что с тобой? Ты съел всего лишь кусочек говядины и не притронулся к пудингу! — Ничего, — сухо ответил ее брат, и разговор на этом был исчерпан. Через некоторое время Джереми заговорил сам. — Долл, ты знакома с мисс Евой Чезвик? — Ну, я видела ее два раза. — Что ты о ней думаешь? — А ты что о ней думаешь? — отвечала эта подозрительная юная особа. — Я думаю, что она прекрасна, как… как ангел! — Весьма поэтично! И что же дальше? Вы встречались? — Ну конечно — иначе откуда бы я знал, что она прекрасна? — Ага, теперь понятно, почему только один кусок говядины! Джереми залился краской. — Я собиралась к ним сегодня — хочешь пойти со мной? — продолжала его сестра. — Да, я пойду. — Все лучше и лучше. Это будет первое мое приглашение, на которое ты откликнулся. — Ты не думаешь, что она будет возражать, Долл? — Почему она должна возражать? Большинство людей не против, чтобы их навещали, даже если у них симпатичное личико. — Симпатичное личико? Да она красавица с ног до головы! — Хорошо, хорошо, пусть красавица. Я отправляюсь в три, не опаздывай. После этого разговора Джереми отправился наводить красоту, а его сестра смотрела ему вслед с тем серьезным и озабоченным видом, который был присущ ей с самого детства. — Он влюбился в нее! — сказала она себе. — И это неудивительно: любой бы на его месте влюбился, она же «красавица с головы до ног», по словам Джереми, а на что еще смотрят мужчины? Мне бы хотелось, чтобы она тоже успела влюбиться в него, прежде чем Эрнест вернется домой. Дороти вздохнула. Без четверти три Джереми вернулся преображенным. Выглядел он особенно огромным — в черном сюртуке и своих воскресных брюках. Когда они добрались до коттеджа, в котором жила старая мисс Чезвик со своими племянницами, им суждено было испытать некоторое разочарование, поскольку ни одной из молодых леди не было дома. Впрочем, старушка была дома и приняла их очень сердечно. — Полагаю, вы пришли навестить мою недавно приехавшую племянницу, — сказала она. — На самом деле я в этом просто уверена, мистер Джереми, поскольку вы никогда в жизни не навещали меня раньше. Ах, это просто восхитительно, как молодые люди меняют свои привычки ради пары ясных глаз! Джереми мучительно покраснел, однако Дороти пришла ему на помощь. — Мисс Ева приехала, чтобы остаться с вами жить, мисс Чезвик? — Да, думаю — так и будет. Понимаете, моя дорогая — только это между нами — ее тетушка в Лондоне, у которой Ева жила… она — мать дочерей на выданье. Еву, конечно, прятали, пока это было возможно, но теперь ей исполнилось двадцать, и это становится уже неприличным. С другой стороны, все прекрасно понимали, что если Ева начнет выезжать со своими кузинами, ни у одной из них не будет шанса устроить свою жизнь, потому что на них никто и не взглянет, пока она в комнате. Так что, как видите, Ева отправлена сюда в ссылку — в наказание за свою привлекательность. — Многие из нас согласились бы и на более тяжелое наказание, если б только могли быть обвинены в том же грехе, — немного грустно заметила Дороти. — О, дорогая моя! — живо откликнулась старушка. — Я уверена, что вы именно так и думаете. Каждая молодая женщина жаждет быть красивой и вызывать восхищение мужчин, но разве это приносит истинное счастье? Сомневаюсь. Чаще всего неумеренное восхищение вызывает к жизни бесконечные неприятности и, возможно, в конце концов, даже разрушает счастье самой женщины и тех, кто с ней связан. Когда-то я тоже была красивой женщиной, моя дорогая — я уже достаточно стара, чтобы говорить об этом без обиняков — и скажу вам, что Провидение не может злее подшутить над женщиной, нежели дать ей красоту и не дать при этом острого ума и сильного характера. Безвольная, глупая красота — худшее, что может случиться с женщиной. Ее достоинства обязательно навлекут на нее зависть других женщин и станут неиссякаемым источником проблем — ибо привлекут к ней любовников, с которыми она просто не будет знать, что делать. Иногда конец такой женщины очень печален. Я видела, как подобное случалось, и не один раз, моя дорогая. Впоследствии, через много лет и совсем при других обстоятельствах, Дороти Джонс часто вспоминала эти слова мисс Чезвик, признавая, что старушка была во всем права — но сегодня они ее не убедили. — Я отдала бы все на свете, чтобы быть похожей на вашу племянницу! — упрямо сказала девушка. — И любая другая девушка — тоже. Спросите хоть Флоренс! — О, дорогая моя, это вы сейчас так думаете. Подождите еще лет двадцать — а потом, если вы обе будете еще живы, сравните, кто из вас счастливее. Что касается Флоренс, она, конечно же, хотела бы быть похожей на Еву; разумеется, ей неприятно повсюду появляться вместе с девушкой, рядом с которой она выглядит маленькой неуклюжей замарашкой. Полагаю, она была бы счастлива, если бы Ева осталась в Лондоне — как сейчас ее кузины рады, что она уехала. Ах, Дороти, милая! Я так надеюсь, что они не поссорятся! Флоренс ужасна, когда сердится. С этим Дороти не могла не согласиться. Она очень хорошо знала характер Флоренс. Тем временем старая леди обратилась к Джереми: — Однако, мистер Джереми, эти разговоры, должно быть, кажутся вам глупыми. Расскажите мне, участвовали ли вы еще в каких-нибудьгонках? — Нет, — отвечал Джереми, — я растянул мышцы руки во время университетской регаты, и рука все еще болит. — А где мой дорогой Эрнест? Как и большинство женщин, какого бы возраста они не были, мисс Чезвик обожала Эрнеста. — Он возвращается домой в понедельник. — Он как раз вовремя — Смиты собирают всех на теннис. Я слышала, потом хотят устроить танцы. Вы танцуете, мистер Джереми? Джереми пришлось признать, что он этого не делает; на самом деле никакая сила на земле не смогла бы затащить его в бальный зал. — Жаль, в здешних краях так мало молодых людей. Флоренс на днях их пересчитывала, и результаты неутешительны: на одного холостого мужчину в возрасте от двадцати до сорока пяти лет приходится девять незамужних женщин в возрасте от восемнадцати до тридцати! — Значит, только одна из этих девяти и имеет шанс выйти замуж, — заметила Дороти. — А что будут делать остальные восемь? — заинтересовался Джереми. — Полагаю — станут старыми девами, как я! — отозвалась мисс Чезвик. Дороти быстро произвела расчеты в уме — получалось, что примерно через пятнадцать лет при нынешнем положении вещей в радиусе трех миль от Кестервика будут проживать, по крайней мере, двадцать пять старых дев. Потрясенная этой мыслью, Дороти встала и начала прощаться. — Я знаю, кто точно не останется без мужа, если только мужчины не глупее, чем я о них думаю! — сказала добрая старушка, награждая Дороти поцелуем. — Если вы имеете в виду меня, — сказала Дороти, слегка покраснев, — то я не настолько тщеславна, чтобы думать, будто кто-то заинтересуется маленьким существом, единственная добродетель которого — аккуратное ведение домашнего хозяйства. Не думаю также, что и сама хочу о ком-то заботиться. — О, дорогая, в мире еще остались здравомыслящие мужчины, которые предпочитают добрую и хозяйственную женщину — хорошеньким личикам. До свидания, моя дорогая. Хотя Джереми и был разочарован визитом к мисс Чезвик, поскольку не застал дома Еву, на следующее утро ему посчастливилось встретить обеих сестер на берегу моря. Однако, оказавшись в ее присутствии, он внезапно осознал, что ему очень мало есть, что сказать, и потому прогулка, говоря по чести, могла бы выйти очень скучной, если бы ее не оживляли острые и саркастические замечания Флоренс. Впрочем, на следующий день он упрямо повторил попытку, заявившись к Еве с целой охапкой каких-то цветов (выдранных прямо с корнями), которыми она накануне выразила желание обладать. Так продолжалось до тех пор, пока его застенчивость не пошла на убыль; в конце концов они стали хорошими друзьями. Разумеется, все это не могло укрыться от острого взгляда Флоренс, и в один прекрасный день, после того как Джереми отвесил ее сестре неуклюжий комплимент и ушел, она суммировала свои наблюдения следующим образом: — Этот теленок влюбился в тебя, Ева! — Чепуха, Флоренс! И почему это ты называешь его теленком? Нехорошо так говорить о людях. — Отлично, если ты найдешь другое подходящее определение, я с радостью приму его. — Я думаю, что он хороший, честный мальчик с задатками джентльмена, и, даже если он в меня влюбился, я не думаю, что в этом есть что-то постыдное! — Дорогая, мы обсуждаем какую-то чушь. Знаешь, я скоро начну думать, что и ты влюбилась в этого «мальчика с задатками джентльмена» — о да, это намного лучше «теленка», хотя и не так выразительно. Ева сдалась и бежала с поля боя. — Ну, Джереми, как твои дела с красавицей-Евой? — в тот же день поинтересовалась у брата Дороти. — Знаешь что, Долл, — отвечал Джереми с видом человека, находящегося на последней ступени отчаяния, — не смейся над своим братом! Если б ты только знала, что я чувствую вот здесь, внутри…. если бы ты знала… ты не знаешь… — Что? Тебе плохо? Может быть, немного бренди? — воскликнула Дороти в неподдельной тревоге. — Не будь дурочкой, Долл! Это не имеет отношения к моему желудку, это вот здесь! — и он постучал себя по правой стороне груди, искренне веря, что сердце находится именно там. — И что же ты чувствуешь, Джереми? — Чувствую! — со стоном отвечал ее брат. — Чего я только не чувствую! Когда я не нахожусь рядом с ней, мне кажется, что я тону… знаешь, как бывает, когда уходишь гулять без обеда? Вот так я себя все время и чувствую. А когда она смотрит на меня, меня бросает то в жар, то в холод. Когда улыбается — как будто кто-то пристрелил пару вальдшнепов справа и слева от меня… — Хорошо-хорошо, Джереми, — перебила его Дороти, начиная думать, что ее брат повредился рассудком. — А что будет, если она не улыбнется? — Тогда, — грустно покачал головой Джереми, — как будто кто-то стрелял, да промахнулся. И хотя его сравнения звучали несколько своеобразно, Дороти было совершенно ясно, что ее брат испытывает вполне искренние чувства. — Ты действительно любишь эту девушку, дорогой? — мягко спросила она. — Знаешь, Долл, мне кажется, что… да. — Так почему же ты не предложишь ей выйти за тебя замуж? — Выйти за меня? Да я недостоин даже чистить ее туфли! — Честный джентльмен подходит любой женщине, Джереми. — Кроме того, у меня ничего нет, и я не могу содержать ее, даже если бы она сказала да, хотя она не скажет! — Сейчас нет, со временем будет. Помни, Джереми, она очень привлекательная женщина и очень скоро найдет себе других воздыхателей. Джереми застонал. — Но если бы ты сейчас заручился ее согласием, и если она порядочная женщина, а я думаю — она порядочная, то это уже не имело бы никакого значения, и вы могли бы сыграть свадьбу через несколько лет. — Так что же мне делать? — Я бы спросила, любит ли она тебя, и если да — то согласна ли ждать несколько лет. Джереми задумчиво присвистнул. — Я поговорю об этом с Эрнестом, когда он приедет. — На твоем месте этот вопрос я бы решила самостоятельно! — быстро отозвалась сестра. — Торопиться тоже не следует. И двух недель не прошло, как мы познакомились. Я поговорю с Эрнестом. — Тогда ты можешь очень пожалеть об этом! — с какой-то странной страстью в голосе воскликнула Дороти, порывисто встала и вышла из комнаты. — Вот те раз, и что это она имела в виду? — удивился Джереми, оставшись один. — Вечно она преувеличивает, когда дело касается Эрнеста. Впрочем, смятение по-прежнему не покидало его душу; влюбленный Джереми со вздохом надел шляпу и отправился гулять. В воскресенье — на следующий день после беседы с Дороти — он снова встретил Еву, на этот раз в церкви. Там она, по мнению Джереми, была особенно похожа на ангела — но подойти к ней он не смог. Уже на выходе из церкви ему удалось переброситься с ней парой слов, но не больше, поскольку проповедь в тот день оказалась длинной, и проголодавшаяся Флоренс спешила домой. А потом настал долгожданный понедельник — день возвращения Эрнеста.Глава 7
ЭРНЕСТ НЕОСТОРОЖЕН
Кестервик — слишком маленькая деревня, и ближайшая железнодорожная станция находилась в четырех милях от него, в Раффеме; Эрнест должен был приехать двенадцатичасовым поездом, и Дороти с братом отправились встречать его. Когда они добрались до станции, поезд уже показался вдалеке, и Дороти успела подняться на платформу. Паровоз пыхтел и никуда не торопился — как это свойственно всем поездам на одноколейках восточных графств — однако в положенное время прибыл на станцию и выпустил из своих недр Эрнеста с его багажом. — Привет, Куколка! Значит, пришла меня встретить? Как ты, старушка? — весело закричал Эрнест, заключая Дороти в объятия. — О Эрнест, перестань! Я уже слишком большая, чтобы целовать меня на людях, словно маленькую девочку. — Большая? Хм… Мисс Пять Футов С Небольшим! Кроме того, никаких людей здесь больше не наблюдается. Других пассажиров не было, и одинокий носильщик уже унес вещи Эрнеста к коляске. — Нечего смеяться над моим ростом! Не всем же быть размером с майский шест, как ты, или здоровенным, как Джереми. Джереми уже спешил к ним — он увидел Эрнеста через застекленные двери конторы; вскоре все трое ехали домой, оживленно переговариваясь и стараясь перекричать друг друга. В дверях Дум Несс их встречал мистер Кардус, делавший вид, будто просто смотрит на океан, но на самом деле с нетерпением ожидавший Эрнеста, к которому он успел очень привязаться за все эти годы… хотя тщательно скрывал свои чувства. — Здравствуй, дядя, как поживаешь? Выглядишь прекрасно! — закричал юноша, едва коляска остановилась. — Все хорошо, Эрнест, благодарю. Ну а тебя и спрашивать не нужно. Я рад тебя видеть. Ты вовремя, потому что в моей оранжерее как раз распустились Batemania Wallisii и Grammatophyllum speciosum. И последний просто великолепен. — Правда? Прекрасно! — интерес Эрнеста был совершенно искренним, поскольку он разделял любовь своего дядюшки к орхидеям. — Пойдем скорее, покажешь мне их! — Полагаю, сначала лучше отправиться за стол. Орхидеи могут подождать, обед — нет. Удивительно было наблюдать, как этот юноша словно озарил своим внутренним светом довольно мрачное семейство. Все улыбались друг другу и смеялись каждой его шутке. Даже суровая Грайс рассмеялась, когда он изобразил обморок «при виде ее красоты», даже на безумном лице старика Аттерли промелькнуло подобие улыбки узнавания, когда Эрнест схватил его руку и горячо тряс ее, во всеуслышание объявив, что старик прекрасно выглядит. Он был добрым и сердечным юношей, при виде которого исцелялись сердца, пораженные унынием. После обеда он отправился вместе с дядей в оранжерею и провел там добрых полчаса в обществе старого Сэмпсона, с гордостью демонстрировавшего цветущие орхидеи. Садовник не менее всех остальных любил «мастера Эрнеста». Он частенько говаривал, что «немногие ребята могут отличить Одонтоглоссум от Собралии», а Эрнест мог, более того, он мог сказать, хорошо ли себя чувствует тот или иной саженец. Сэмпсон всегда втайне оценивал людей по их отношению к орхидеям — и мастер Эрнест удостоился его высочайшей оценки. На самом деле этот угрюмый шотландец просто не любил признаваться в своих чувствах. Юный Эрнест давно покорил его сердце своим открытым, сердечным, добродушным нравом и искренней любовью к людям. Они все еще любовались пышным цветением Грамматофиллума, когда мистер Кардус заметил, что к нему в кабинет направляется мистер де Талор — как мы помним, двери в оранжерее были стеклянные и выходили прямо в кабинет адвоката. Эрнест был очень удивлен и заинтересован изменениями, которые произошли в облике его дядюшки при виде де Талора. Только что перед ним был добродушный пожилой джентльмен с блестящей лысиной, воркующий над своим садоводческим шедевром — и вот он уже подобен мирному коту, при виде самой безобидной собаки превратившемуся в ощетиненный комок ярости. Мрачная страсть, владеющая душой мистера Кардуса, немедленно вернулась, изменив его почти до неузнаваемости: черты лица ожесточились, верхняя губа задрожала, темные глаза полыхнули адским пламенем — и в тот же миг лицо окаменело, словно превратившись в непроницаемую маску. Это было странное изменение. Они могли видеть де Талора из оранжереи, однако он их не видел, и потому с минуту они просто наблюдали за ним. Гость мистера Кардуса обошел кабинет, бросил презрительный взгляд в сторону оранжереи, затем остановился у стола мистера Кардуса и бросил взгляд на лежавшие там бумаги. Похоже, его ничего не заинтересовало, поскольку он почти сразу отошел к окну, сунул большие пальцы в прорези своего жилета и задумчиво уставился на двор. В его облике было что-то, настолько невыносимо вульгарное и дерзкое, что Эрнест не удержался от смеха. Мистер Кардус опомнился, сердясь отчасти на себя, а отчасти на Эрнеста, и торопливо сказал: — Ах, мой друг, я задержал тебя. Иди же — мне нужно в контору. С этими словами он поспешно вышел из оранжереи, и Эрнест расслышал, как он приветствует своего гостя в своей обычной сдержанной манере, которая была так хорошо знакома юноше, и как де Талор отвечает ему: «Как поживаете, Кардус? Как идут дела?» Выйдя из оранжереи, Эрнест обнаружил, что Джереми ждет его. За много лет все обитатели дома привыкли, что Джереми не должен входить в оранжереи. Не то чтобы ему это было прямо запрещено — это был всего лишь еще один знак неприязни мистера Кардуса, больно ранивший самолюбие Джереми. — Что собираешься делать, старик? — спросил он Эрнеста. — Ну, я собирался навестить Флоренс Чезвик, но ты, я полагаю, не хочешь составить мне компанию… — Нет, я пойду! — Ушам своим не верю! Кто бы мог подумать! Долл! Ты слышишь? — Девушка как раз вышла из дверей дома. — Что это случилось с нашим Джереми? Он собирается идти с визитом! — Полагаю, у него есть свой интерес, — заметила мисс Дороти. — Я надеюсь, старик, ты не отбил у меня Флоренс? — Полагаю, ты немного потерял бы, будь это так! — ехидно заметила Дороти, нетерпеливо постукивая ножкой. — Тише, тише, Куколка! Я очень люблю Флоренс, она умная и симпатичная. — Если быть умной означает вечно говорить колкости и иметь дьявольский характер, то она, бесспорно умна, а что касается внешности, то это вопрос вкуса — и не мне обсуждать женскую привлекательность. — О, как мы смиренны! Прах на главе твоей и вретище на плечах — но как сверкают эти голубые глазки! — Замолчи, Эрнест, или я рассержусь! — О, не надо, прошу — оставь эту привилегию людям с дьявольским характером. Ну же, не сердись, Долли — давай поцелуемся и будем друзьями. — Я не стану целовать тебя, мы не будем друзьями, и вообще — идите, куда хотите! — с этими словами она повернулась и убежала прежде, чем кто-то из них смог остановить ее. Эрнест тихонько засвистел, размышляя о том, почему Дороти так реагирует на безобидное поддразнивание. Затем они с Джереми отправились наносить визит. Их поход не увенчался успехом. Ева, которую Эрнест никогда не видел и о которой не слышал ничего, кроме того, что она «прехорошенькая» — а Джереми, хоть и мечтал посоветоваться с ним, все никак не мог решиться на откровенный разговор, — лежала в постели с головной болью, а Флоренс ушла гулять с подругой. Зато старая мисс Чезвик была дома и приняла их обоих очень тепло, особенно своего любимчика Эрнеста, которого и наградила ласковым поцелуем. — Повезло мне, что у меня две племянницы — иначе не видать бы мне у себя дома двух таких молодых джентльменов! — Я полагаю, — галантно отвечал Эрнест, — что беседовать с пожилыми дамами намного приятнее, чем с молодыми. — Правда, мастер Эрнест? Тогда почему же ты выглядел таким разочарованным, когда узнал, что моих племянниц сейчас нет? — Исключительно потому, — находчиво отвечал этот молодой джентльмен, — что потерял возможность подтвердить мои убеждения в этом вопросе. — Я спрошу тебя об этом еще раз, когда они обе будут здесь — чтобы они имели возможность принять участие в этой дискуссии! — улыбнулась старая леди. Вскоре они простились с мисс Чезвик, после чего пути их разделились. Джереми отправился домой, а Эрнест — к своему старому учителю, мистеру Хэлфорду, у которого остался на чай. Было уже больше семи часов — чудесный июльский вечер — когда Эрнест возвращался в Дум Несс. К дому можно было добраться либо поверху, либо прямо по берегу моря. Эрнест выбрал второй путь и вскоре оказался под сенью хмурых развалин Тайтбергского аббатства, по-прежнему бросавшего вызов своему извечному врагу — морю. Совершенно неожиданно он понял, что молодая леди в широкополой шляпе и с тростью, идущая ему навстречу, — это Флоренс Чезвик. — Как поживаете, Эрнест? — довольно холодно поинтересовалась она, однако слабый румянец, окрасивший ее оливковую кожу, выдавал волнение. — О чем размечтались? Я тебя вижу уже добрых двести ярдов, но ты меня не замечаешь. — Разумеется, я мечтал о тебе, Флоренс. — Правда? — сухо откликнулась девушка. — А я-то подумала, что Ева справилась со своей головной болью — надо сказать, ей удивительно к лицу головные боли, кстати — и что ты ее видел, и что теперь мечтаешь о ней. — А почему я должен о ней мечтать, даже если бы я ее увидел? — По той же причине, что и все мужчины на свете — потому что она красива. — Красивее тебя, Флоренс? — Разумеется красивее! Я вовсе не красива! — Глупости, Флоренс, ты очень красива! Она остановилась и взяла его за руку. — Ты правда так думаешь? — она пристально посмотрела в темные глаза Эрнеста. — Я рада, что ты так думаешь. Они были совсем одни в этих летних сумерках, ни на пляже, ни на скалах не было ни одной живой души. Прикосновение руки Флоренс, ее искренность волновали Эрнеста; тихая красота этого вечера, сладость свежего морского воздуха, рокот волн, угасающий багрянец неба — все это тоже не могло не добавить очарования всей сцене. Лицо девушки было очень привлекательно, особенно сейчас, когда она так пристально смотрела на Эрнеста — и не забудем, ему был всего двадцать один год. Он медленно склонился к ней, словно давая возможность отстраниться, избежать прикосновения — но она не хотела отстраняться, и в следующий миг он поцеловал ее трепещущие губы. Это было глупо — ведь он не любил Флоренс, и он едва ли сделал бы это, прислушайся он к голосу рассудка… Но дело было сделано — и кто же может повернуть время вспять? Эрнест увидел, как побледнело ее смуглое личико, на секунду показалось, что она сейчас обнимет его за шею… но уже в следующую секунду Флоренс отвернулась от него. — Ты… серьезно? Или ты играешь со мной? — Серьезно ли я? О да! — Эрнест, я… — Девушка снова взяла его за руку и заглянула в глаза. — Ты действительно любишь меня так же, как… теперь мне не стыдно это произнести… как я люблю тебя? Эрнест чувствовал себя ужасно. Поцеловать молодую женщину — это одно, он и раньше делал это, но подобный всплеск чувств испугал его, это было гораздо больше того, на что он рассчитывал. Какая-то его часть чувствовала удовлетворение при виде того, какие сильные чувства испытывает к нему Флоренс — однако Эрнест отдал бы все, чтобы она не испытывала подобных чувств. Он колебался, не в силах ответить сразу. — Как ты серьезна! — наконец смог сказать юноша. — Да, — просто ответила она. — Я серьезна, я давно уже серьезна. Вероятно, ты достаточно хорошо меня узнал, чтобы понять: я не та женщина, с которой можно играть. Надеюсь, что и ты тоже — серьезен, иначе худо будет нам обоим. С этими словами она отбросила его руку, словно она жгла ее. Эрнест попытался взглянуть на все холодно и рассудительно — и нашел, что положение совершенно ужасно. Что нужно сказать или сделать, он не знал, поэтому стоял молча, и молчание помогло ему больше, чем любые слова. — Вот как, значит… Я тебя напугала, Эрнест. Это потому, что я люблю тебя. Когда ты меня поцеловал, мир вокруг сделался так прекрасен, и я словно услышала музыку небес. Ты пока еще не понимаешь меня — я слишком неистова, я знаю — но иногда я думаю, что сердце мое глубоко, словно море, и что я могу любить в десять раз сильнее, чем все эти легкомысленные женщины вокруг меня. Я могу так любить — а могу и ненавидеть. Подобные слова никак не могли успокоить Эрнеста. — Ты странная девушка, — тихо сказал он. — Да! — отвечала она с улыбкой. — Я знаю, что я странная; но пока я с тобой — мне так хорошо, а когда тебя нет — моя жизнь пуста, и в голове мечутся только горькие мысли, словно летучие мыши. Однако, доброй ночи! Мы ведь увидимся завтра на танцах у Смитов, не правда ли? И ты будешь танцевать со мной? И ты не должен танцевать с Евой, помни! — или, по крайней мере, не слишком часто — иначе я буду ревновать, а это будет плохо для нас обоих. Так значит — доброй ночи, мой дорогой, доброй ночи! — и она снова подняла к нему свое пылающее личико для поцелуя. Эрнест поцеловал ее — у него не было иного выхода — и она ушла. Он смотрел ей вслед, пока ночные тени не поглотили ее фигурку, а затем уселся на большой валун, растерянно вытер лоб и засвистел. По крайней мере, попытался засвистеть!Глава 8
ИДИЛИЯ В САДУ
В ту ночь Эрнест спал очень плохо: вчерашняя сцена никак не шла у него из головы, и он проснулся в угнетенном состоянии, которое всегда следует за неприятностями, совершенными глупостями и неумеренным употреблением салата из омаров. Его мрачное настроение не мог развеять даже прекрасный солнечный день; напротив, он, скорее, усугубил его. Эрнест был неопытен в любовных делах, но, даже будучи неопытным, понимал, что впутался в крайне неловкую ситуацию. Он нисколько не был влюблен в мисс Чезвик — скорее, он опасался Флоренс. Она была, как он и говорил вчера, так ужасно серьезна. Будучи всего на год старше Эрнеста, она, тем не менее, обладала таким сильным и жестким характером, такой волей к достижению своих целей, которыми вряд ли могли похвастаться представительницы ее пола в любом возрасте. Об этом-то он знал уже давно — он лишь не мог предположить, что вся эта воля и страсть будут с такой силой направлены именно на него. Злосчастный поцелуй словно распахнул ворота шлюзов ее души — и теперь поток чувств Флоренс грозил смыть несчастного Эрнеста Кершо. Он понятия не имел, что ему теперь делать. Поначалу он хотел рассказать все Дороти и спросить у нее совета, но инстинктивно догадался, что делать этого не следует. Затем он подумал о Джереми, но отказался и от этой идеи. Что мог знать Джереми о подобных вещах? Эрнест даже и не догадывался, что Джереми буквально распирает от его собственной сердечной тайны, заговорить о которой ему мешало смущение. Чем дольше Эрнест размышлял, тем яснее ему становилось, что у него остался лишь один безопасный выход из неприятного положения: бегство. Да, это позорно, что правда то правда, но, по крайней мере, Флоренс не сможет последовать за ним. Он уже давно договорился с одним из университетских друзей отправиться путешествовать во Францию в конце августа, то есть — недель через пять. Что ж, он поменяет планы и отправится в путь немедленно. Частично утешившись этой мыслью, он принялся одеваться, готовясь к вечеру у Смитов, где ему снова предстояло встретиться с Флоренс; большим облегчением было думать, что уж там-то она не будет требовать от него новых поцелуев. Танцы должны были начаться после лаун-тенниса, Дороти и Джереми собирались участвовать в турнире и потому уже ушли. Эрнест, по понятным причинам, отказался — и собирался ограничиться одними танцами. Когда он вошел в бальный зал особняка Смитов, уже началась первая кадриль. Пробираясь между гостями, Эрнест почти сразу наткнулся на Флоренс Чезвик, которая сидела рядом с Дороти, а позади девушек маячила огромная фигура Джереми. Казалось, обе девушки ждали Эрнеста, потому что Флоренс немедленно освободила ему место на скамье и пригласила сесть рядом. Эрнест сел. — Ты опоздал, — негромко заметила она. — Почему ты не пришел на теннис? — Я полагал, что наша команда и без того укомплектована, — ответил Эрнест, кивая в сторону Джереми и Дороти. — Почему ты не танцуешь? — Потому что меня никто не приглашает! — довольно резко ответила Флоренс. — Кроме того, я ждала тебя. — Джереми! — обернулся Эрнест к другу. — Флоренс говорит, ты не пригласил ее на танец. — Не говори ерунды, ты прекрасно знаешь, что я не танцую. — Конечно! — вставила Дороти. — Это сразу бросается в глаза: во всем зале нет более несчастного на вид человека, чем ты. — И такого же огромного, — ввернула Флоренс. Джереми немедленно забился в угол, стараясь выглядеть меньше ростом. Его сестра была совершенно права: танцы были истинной пыткой для Джереми Джонса. Тем временем кадриль закончилась, и начался вальс, который Эрнест танцевал с Флоренс. Оба неплохо вальсировали, и Эрнест старался кружиться как можно больше, чтобы избежать любой возможности разговоров во время танца. Во всяком случае, пока не прозвучало ни единого намека на события вчерашнего вечера. Отведя после танца Флоренс на место, он спросил: — Где твои тетушка и сестра, Флоренс? — Сейчас придут, — коротко ответила девушка. Следующий танец — галоп — Эрнест танцевал с Дороти, которая сегодня больше напоминала ребенка, нежели взрослую женщину, в своем белом муслиновом платье. Однако — ребенок или женщина — выглядела она очень привлекательно. Эрнест даже подумал, что никогда еще не видел, чтобы это серьезное маленькое личико с огромными голубыми глазами было столь красиво. Нет, Дороти не была хорошенькой — в общепринятом смысле слова, — однако ее лицо было одухотворенным, его словно освещала присущая ей доброта и вечное стремление заботиться о других… — Ты сегодня прелестна, Куколка! — сказал Эрнест. Она вспыхнула от удовольствия и просто ответила: — Я рада, что ты так думаешь. — Да, именно так я и думаю: ты — прелестна. — Перестань, Эрнест! Разве ты не можешь подыскать кого-нибудь другого, чтобы потренироваться расточать комплименты? Зачем тратить их на меня? Я хочу посидеть. — Честное слово, Куколка, не знаю, что на тебя нашло в последнее время — ты все время сердишься. Она вздохнула и мягко ответила: — Сама не знаю, Эрнест. Я и правда все время какая-то сердитая… но ты не должен смеяться надо мной. О, вот и мисс Чезвик с Евой идут сюда. Эрнест и Дороти подошли к Джереми и Флоренс. Девушки уселись на скамейку, юноши встали рядом: Эрнест перед ними, Джереми позади. После слов Дороти оба молодых джентльмена стали оглядывать комнату, а Дороти и Флоренс с тревогой смотрели на Эрнеста. Так преступник со страхом и надеждой ждет приговора суда, который должен решить его судьбу… — Я никого не вижу! — легкомысленно заметил Эрнест. — Ах, нет, вот они. О боже! Чего бы ни ожидали Дороти и Флоренс от Эрнеста, не спуская с него глаз, — увиденное никак не могло их удовлетворить. Дороти побледнела и откинулась назад с вымученной улыбкой разочарования: она ожидала подобной реакции. Однако Флоренс не признавала разочарований — и вся кровь бросилась ей в лицо, исказив его гримасой ярости. Между тем, Эрнест, забыв обо всем, смотрел в дальний конец зала, понятия не имея о той драме, что разыгрывалась буквально у него под носом; точно так же вел себя и Джереми, точно так же вели себя и все мужчины в этом бальном зале. И там было на что посмотреть. К центру зала неспешно шла, или, вернее, выступала — поскольку даже в преклонном возрасте она сохранила поистине королевскую осанку — старая мисс Чезвик. В любой другой ситуации ее приход не остался бы незамеченным, однако сейчас все взгляды были устремлены отнюдь не на нее, а на то ослепительное создание, что ее сопровождало. Старая леди казалась совсем крошечной рядом с высокой и статной Евой Чезвик, одетой в белое платье китайского шелка, к корсажу которого была приколота одна-единственная роза. Вырез платья был довольно глубоким, и прекрасные точеные руки, плечи и шея были обнажены. Ева обошлась почти без всяких украшений — лишь в густых черных волосах, уложенных короной вокруг изящной головки, блестела бриллиантовая звезда. Ее костюм был прост — и потому великолепен; так же великолепна была и она сама — женщина почти совершенной красоты, при взгляде на которую в зале воцарилось молчание. Любой наряд был бы ей к лицу; будучи очень высокой, она, тем не менее, почти плыла над полом, грацией уподобившись белоснежному лебедю, гибкая, словно ива. Однако этим описание ее достоинств не исчерпывалось. Эти восхитительные темные глаза лучились тем светом, который не суждено было забыть человеку, на которого упал этот нежный и царственный взгляд, однако в нем не было ни капли дерзости или надменности. Вероятно, именно так светят звезды… Ее коралловые уста были чуть приоткрыты; казалось, Ева сама не осознавала своей красоты и того, что она затмевала всех остальных женщин, просто проходя рядом с ними. Даже если их красота еще минуту назад казалась яркой, несомненной — рядом с Евой все меркло. Ей хватило нескольких секунд, чтобы пересечь бальный зал, но Эрнесту уже казалось, что они давным-давно встретились с ней глазами — и что этот чарующий взгляд навсегда останется в его сердце. Восторженный взгляд юноши заставил Еву слегка покраснеть, в этом не было никаких сомнений. Она прошла мимо него, гадая про себя, кто он — и слегка наклонив голову в скромном приветствии. — Ну вот, наконец, и мы, — обратилась Ева к своей сестре, и голос ее был необыкновенно музыкален. — Представляешь, что-то случилось с колесом двуколки, и нам пришлось остановиться, чтобы его могли починить. — Разумеется! — откликнулась Флоренс. — Я-то подумала, что вы специально пришли попозже, чтобы произвести впечатление. — Флоренс! — с укором заметила ее тетушка. — Ты не должна так говорить. Флоренс ничего не ответила и судорожно поднесла к лицу кружевной платочек. Она успела искусать губы до крови. К этому времени Эрнест пришел в себя. Он увидел, как к ним направляются несколько молодых людей, и сразу понял их намерения. — Мисс Чезвик! — сказал он. — Вы меня представите? Не успела старая леди сделать это, как оркестр вновь заиграл вальс. Через пять секунд Ева уже плыла по залу в объятиях Эрнеста, а молодым людям оставалось лишь оплакивать свою нерасторопность и проклинать сквозь зубы — говоря по чести — «этого щенка Кершо». Танцевала Ева божественно, ноги ее были легки. Почти невесомо опираясь на его руку, она вальсировала с Эрнестом во всем блеске своей красоты, и даже старая леди Эстли соизволила опустить свой высокомерно задранный нос на дюйм, а то и больше — и соизволила спросить, кто этот красивый молодой человек, танцующий с «высокой девушкой». Вскоре танец закончился, и Эрнест тут же заметил некоего решительного молодого человека, идущего к ним с явным намерением заручиться согласием Евы на следующий танец. — У вас есть карточка? — быстро спросил он. — О да. — Вы позволите мне вписать мое имя на следующий танец? Мне кажется, у нас неплохо получается. — Да, мы прекрасно поладили. Вот она. Претендент нетерпеливо кружил вокруг них, сердито глядя на Эрнеста. Эрнест весело кивнул ему и решительно вписал свое имя в бальную карточку Евы — на три танца вперед. Глаза Евы расширились, однако она ничего не сказала; партнер действительно оказался великолепен. — Могу я спросить, Кершо…. — грозно начал неудачливый соперник. — О, разумеется! — доброжелательно откликнулся Эрнест. — Буквально через несколько минут, мой друг, я в вашем распоряжении. И они с Евой вновь закружились в танце. Когда танец закончился, они оказались как раз рядом со скамьей, на которой в одиночестве сидела старая мисс Чезвик. Флоренс и Дороти танцевали, а Джереми по-прежнему мрачно стоял в углу, отчаянно напоминая медведя, у которого разболелась голова. Ева с улыбкой протянула ему руку. — Надеюсь, вы потанцуете со мной, мистер Джонс? — Я не танцую, — коротко ответил он и отошел. Ева с удивлением смотрела ему вслед — отказ прозвучал довольно грубо. — Мне кажется, у мистера Джонса плохое настроение! — с улыбкой сказала она Эрнесту. — О, он странный человек; выход в свет всегда заставляет его нервничать, — небрежно отмахнулся Эрнест. Их окружила целая толпа потенциальных партнеров по танцам, и Эрнесту пришлось отступить перед их напором. Между тем бал близился к концу. В зале, несмотря на открытые окна, было очень жарко, поэтому разгоряченные танцоры выходили в сад прогуляться. Оказались среди них и Ева с Эрнестом, только что станцевавшие свой третий вальс и окончательно убедившиеся, что у них «прекрасно получается вместе». Вышли на свежий воздух и еще трое — Флоренс, Дороти и ее брат. Удивительно, как люди, объединенные несчастьем, стараются держаться вместе. Эти трое шли молча; им нечего было сказать друг другу. Вскоре они увидели две высокие фигуры, стоящие возле кустов, над которыми мерцал, догорая, китайский фонарик. Высокий рост способен выдать человека даже в темноте, и потому не могло быть никаких сомнений в том, кто эти фигуры. Троица несчастных остановилась. Именно в этот миг китайский фонарик ярко вспыхнул в последний раз — и осветил прекрасную сцену. Эрнест склонился к Еве, его темные глаза горели страстью, он о чем-то умолял. Ева слегка зарумянилась и не смотрела на него — ее взгляд был прикован к розе у нее на корсаже; девушка подняла руку — кажется, для того, чтобы отстегнуть цветок. Свет оказался настолько ярок, что Дороти впоследствии никак не могла забыть, какую длинную тень отбрасывали длинные ресницы Евы на нежную щеку. Через миг все погрузилось во тьму, что происходило возле кустов дальше — никто не видел, однако когда Ева вернулась в бальный зал, цветка на платье у нее больше не было. Как бы ни была очаровательна и романтична сцена в этом маленьком подобии Эдема, где в те мгновения царили молодость, красота и любовь, — никто из трех зрителей не оценил ее по достоинству. Джереми забыл о присутствии дам и зашел так далеко, что ругался вслух, однако они не упрекали его: возможно, это давало хоть какой-то выход и их чувствам. — Я думаю, нам пора домой, уже поздно, — помолчав, сказала Дороти. — Джереми, ты не сходишь за коляской? Джереми молча исчез во тьме. Флоренс не произнесла ни слова, просто взяла веер обеими руками и медленно согнула его пополам, так, что пластинки из слоновой кости щелкнули, сломались, брызнули осколками. Затем она бросила исковерканный веер на дорожку и растоптала его. Было что-то несказанно жестокое в том, как она расправилась с красивой безделушкой. Это действие казалось инстинктивным результатом какого-то мучительного мыслительного процесса; оно было доказательством тех чувств, которые испытывали обе девушки, и даже нежная и сдержанная Дороти не видела сейчас в этой жестокости ничего странного. В этот момент они с Флоренс были близки, как никогда раньше — и никогда уже не будут; общий жестокий удар на мгновение спаял их души воедино. В тот же момент они догадались, что обе любят одного и того же человека; они предполагали это и раньше, подсознательно не любя друг друга, — однако сейчас неприязнь была забыта. — Флоренс, я думаю…. — сказала Дороти тихим, слегка дрожащим голосом, — что мы с тобой «сошли с дистанции», как выражается Джереми. Твоя сестра слишком красива, чтобы противостоять ей. Он влюбился. — Да! — отвечала Флоренс с горьким смешком, ее карие глаза пылали. — Ее высочество изволило бросить платок новому фавориту — и он не преминул подхватить его. Мы всегда звали ее «султаншей». Флоренс снова рассмеялась. — Возможно, — заметила Дороти, — она просто флиртует с ним. Я надеюсь, что Джереми… — Джереми! Да какие шансы у Джереми против него?! Эрнест поладит с женщиной за два часа, а Джереми не справится с этим и за два года. Мы все любим сильные чувства, шторм, страсть, моя дорогая. Не обманывай себя. Флиртует! Да она будет по уши влюблена в него к концу недели. И кто бы мог не влюбиться в него…. — теперь дрогнул и голос Флоренс. Дороти не ответила, она знала, что Флоренс права. Несколько шагов они сделали в полном молчании. — Дороти? А знаешь, что на самом деле случается с фаворитками султанов? — Нет. — Их конец печален — другие обитатели гарема убивают их. Как правило. — Что ты хочешь сказать? — О, не пугайся, разумеется, я не имею в виду, что мы должны убить мою дорогую сестричку. Нам надо подумать, как сбросить ее с пьедестала. Ты поможешь мне придумать план? Первое потрясение уже прошло, и теперь лучшая сторона Дороти вновь управляла ее разумом. — Разумеется, нет! Эрнест имеет право на собственный выбор, и если твоя сестра оказалась лучшей — ничего не поделать, побеждает сильнейший. Хотя, конечно, это немного нечестно. Бой был неравный…. — добавила она, вспомнив ослепительную красоту Евы. Флоренс с презрением посмотрела на нее. — У тебя совсем нет характера! — А что ты собираешься делать? — Что делать? — Флоренс резко повернулась и посмотрела на Дороти. — Я собираюсь отомстить. — О Флоренс, как злобно это прозвучало! Кому ты собираешься мстить и за что? Эрнесту? Он не виноват, что ты… что он тебе нравится. — Разумеется, виноват, но дело совершенно не в этом, виноват, не виноват… Я страдаю! И запомни мои слова, потому что они сбудутся: он тоже будет страдать! С какой стати я должна нести эту ношу одна? Однако даже он не будет страдать так, как она! Я говорила ей, что люблю его, она пообещала мне оставить его в покое — ты слышишь, обещала! — и тут же украла его у меня, только для того, чтобы удовлетворить свое тщеславие — она, которая могла бы выбрать любого! — Тише, Флоренс! Держи себя в руках, тебя могут услышать. Кроме того, должна сказать, что мы делаем из мухи слона: в конце концов, она всего лишь подарила ему розу. — Меня не волнует, услышат меня или нет! Я знала, что так будет, я знала, что так должно было случиться, и знаю, что будет дальше. Попомни мои слова: не пройдет и месяца, как Эрнест и моя обожаемая сестрица будут сидеть на утесе в обнимку! Мне достаточно закрыть глаза — и я вижу эту картину. О, вот и Джереми. Ты нашел коляску? Отлично. Пойдем, Дороти — попрощаемся и уедем. Вы ведь завезете меня домой, не так ли? Полчаса спустя собрались домой и мисс Чезвик с Евой; подъехала к дому и двуколка Эрнеста. Однако мисс Чезвик была очень обеспокоена из-за сломанного колеса их коляски, и Эрнест счел своей обязанностью убедиться, что они без приключений доберутся домой, а потому приказал двуколке следовать за ними, а сам забрался в коляску, не дожидаясь приглашения. Разумеется, мисс Чезвик задремала, но Эрнест и Ева вряд ли последовали ее примеру. Возможно, они слишком устали, чтобы разговаривать; возможно, они уже постигли блаженство, которое иногда может принести и совершенно безмолвное общение; возможно, то, как нежно сжимал Эрнест маленькую ручку, доверчиво лежащую в его ладони, было красноречивее любых слов… Не спеши возмущаться, мой читатель! Ты или я — любой из нас поступил бы так же и чувствовал себя при этом абсолютно счастливым. Во всяком случае, эта поездка закончилась слишком быстро. Флоренс сама открыла им дверь — она уже отпустила служанку спать. Подойдя к дверям своей комнаты, Ева обернулась, чтобы пожелать сестре спокойной ночи, однако та в ответ не кивнула, как обычно, а шагнула к Еве и крепко ее поцеловала. — Поздравляю! Премилое платье — и отличная победа! — С этими словами Флоренс еще раз поцеловала Еву и ушла к себе. «Совершенно не похоже на Флоренс, — подумала Ева. — Не могу вспомнить, когда она целовала меня в последний раз». Она еще не знала, что есть поцелуи, скрепляющие мир и любовь, — а есть поцелуи, означающие начало войны и мести, поцелуи предательства. Первым был Иуда, поцеловавший своего Учителя — и предавший Его…Глава 9
ЕВА ЧТО-ТО НАХОДИТ
Наутро после бала Эрнест проснулся с сильной головной болью. Сначала лишь она и занимала все его мысли, но потом взгляд его упал на увядающую алую розу, лежащую на туалетном столике, и он улыбнулся. Затем настал черед отрывочных, зачастую бессвязных мыслей, которые всегда сопровождают даже самые приятные воспоминания — и улыбаться он перестал. В конце концов, Эрнест зевнул и поднялся с постели. Когда он добрался до гостиной, которая выглядела прохладной и уютной, в отличие от залитого ярким июльским солнцем двора, он обнаружил, что все остальные уже позавтракали. Джереми ушел, но его сестра была там, немного бледная — вероятно, из-за позднего возвращения домой. — Доброе утро, Долл! — Доброе утро, Эрнест, — ее голос прозвучал довольно холодно. — Я старалась сохранить чайник горячим, но теперь, боюсь, он все-таки остыл. — Ты добрый самаритянин, Куколка. У меня голова раскалывается. Надеюсь, чай поможет. Дороти улыбнулась, подавая ему чашку; если бы она могла сейчас говорить с ним откровенно, то сказала бы то же самое о своем сердце. Эрнест выпил чай и, по всей видимости, почувствовал себя лучше, поскольку довольно веселым тоном спросил девушку, как ей понравились вчерашние танцы. — О, все было просто прекрасно, спасибо. А тебе — понравилось? — Все было ужасно, Долл, клянусь! Долл? — Да, Эрнест? — Разве она не прелестна? — Кто, Эрнест? — Кто! Ева Чезвик, разумеется! — Да, Эрнест, она очень мила. В ее голосе прозвучала странная нотка, и Эрнест почел за благо не развивать тему дальше. — Где Джереми? — Он ушел. Эрнест наскоро прикончил вторую чашку чая и тоже вышел из дома, где почти сразу наткнулся на Джереми, спешащего куда-то. — Привет, мой друг! Как чувствуешь себя после вчерашних безумств? — Хорошо, спасибо, — сухо ответил Джереми. Эрнест вскинул на него испытующий взгляд. Голос несомненно принадлежал Джереми, однако тон был непривычен и даже незнаком. Эрнест схватил друга за руку. — Что-то случилось, старик? — Ничего. — Случилось, я же вижу! Что такое? Выговорись! Я отличный исповедник, вот увидишь. Джереми молча высвободил руку. Он выглядел отчужденным, Эрнест никогда его таким не видел, и это больно ранило его. Отступив, он сказал совсем другим тоном: — Ну, конечно, если тебе нечего сказать, то я пойду… — Как будто ты не знаешь! — Честью клянусь — не знаю! — Тогда зайдем ко мне — и я тебе скажу! — с этими словами Джереми распахнул дверь своего небольшого убежища в каретном сарае, где он набивал свои чучела, хранил коллекции яиц и бабочек и чистил оружие, и величественным жестом пригласил Эрнеста войти. Эрнест вошел и уселся на стол, уставившись на чучело выпи, которую давным-давно подстрелил Джереми; теперь оно было сильно побито молью и выглядело довольно нелепо, стоя на одной ноге в углу комнаты. С трудом оторвавшись от бессмысленного взгляда стеклянных глаз выпи, Эрнест спросил: — Ну, так в чем же дело? Джереми повернулся к Эрнесту спиной — он чувствовал себя лучше, говоря на такие темы, если не смотрел в глаза собеседнику, — и, обращаясь к пустому пространству перед собой, сказал: — Я думаю, что это было очень непорядочно с твоей стороны! — Что именно? — Прийти и отбить у меня единственную девушку, которую…. которая…. — Которую ты когда-либо любил? — предположил Эрнест с некоторым сомнением. — Которую я когда-либолюбил! — с облегчением выпалил Джереми, поскольку эта фраза весьма точно выражала его чувства. — Э-э-э, старина, если бы ты был чуть красноречивее и пояснил, о какой именно богине ты говоришь… — Да о ком еще я могу говорить, если есть всего одна девушка, которая… которую… — Которую ты когда-либо любил? — Которую я когда-либо любил! — Тогда, во имя Священной Римской империи — кто она? — Да Ева Чезвик! Эрнест присвистнул. — Послушай, старик! — сказал он после недолгой паузы. — Почему ты не сказал мне раньше? Я понятия не имел даже, что вы с ней знакомы. Ты с ней помолвлен? — Помолвлен? Нет! — Но вы с ней собираетесь… — Нет, конечно нет! — Послушай, старик, если бы ты просто повернулся ко мне и рассказал, как обстоят дела, мы могли бы во всем разобраться и… — Дела обстоят так, что я боготворю землю, по которой она ходит, вот! — А! — сказал Эрнест. — Это очень неудобно, поскольку я, видишь ли, тоже — по крайней мере, я так думаю. Джереми застонал, и Эрнест тоже застонал. Помолчав, Эрнест сказал: — Послушай, старик, что же нам делать? Ты должен был мне рассказать, но ты этого не сделал. Если бы ты сказал, я бы все понял. А теперь… теперь она меня просто сразила. — И меня тоже. — Вот что, Джереми. Я уеду и тебе тоже советую бежать отсюда. Не то чтобы мне нравилась сама идея бегства, но у нас ведь ничего нет, мы не можем жениться — да и она в том же положении. — И нам всего лишь двадцать один год. Мы не можем жениться в двадцать один год, — ввернул Джереми, — иначе к тридцати у нас будет огромная семья. У всех, кто женится в двадцать один, обстоит именно так. — Ей тоже двадцать один, она мне сказала. — Мне она тоже сказала! — сказал Джереми, решив показать, что Эрнест не единственный человек на свете, которому известен этот потрясающий факт. — Ну так что? Мы же не можем говорить об этом бесконечно? — Нет, — медленно сказал Джереми, и было видно, с каким усилием ему даются слова. — Это было бы несправедливо; кроме того, я полагаю, что дело уже сделано. Ты всем нравишься, старина, женщинам и мужчинам. Нет, ты не должен уезжать, и ссориться по этому поводу мы не станем. Я скажу тебе, что нам надо сделать — мы бросим жребий! Эрнеста поразило это блестящее предложение. — Великолепно! — сказал он, доставая из кармана шиллинг. — Один раз бросаем или три? — Один, разумеется, так мы быстрее покончим с этим. Эрнест положил монету на большой палец. — По твоей команде. Но каков же жребий? Мы же не можем ставить на кон живую девушку, как те ребята у Гомера? К тому же мы еще не захватили ее в плен. Это требовало некоторого обдумывания, и Джереми растерянно почесал в затылке. — Давай так: у победителя будет месяц на ухаживание, проигравший не должен вмешиваться. Если через месяц у победителя ничего не решится, проигравший использует свой шанс. Если она сделает свой выбор — проигравший будет держаться подальше. — Годится. Бросаю, смотри внимательно. Шиллинг взвился в воздух. — Орел! — рявкнул Джереми. Монета сверкнула, щелкнула по носу изумленную выпь, упала на пол и закатилась под ящик с образцами окаменелых костей доисторических животных, которые Джереми собирал в прибрежных скалах. Вдвоем юноши с трудом отодвинули ящик и уставились на монету. — Решка! — с восторгом прошептал Эрнест. — Я так и знал, что мне не повезет. Ладно, пожмем друг другу руки, Эрнест. Мы не станем ссориться из-за девушки. Они крепко пожали друг другу руки и расстались, однако с того дня — и довольно надолго — между ними появилось нечто неуловимое, чего раньше никогда не было. Сильна должна быть дружба, узы которой не ослабевают, когда на них падает тень любви к женщине…В тот день Дороти сказала, что хочет пойти в Кестервик за покупками, и Эрнест вызвался ее сопровождать. Они в полном молчании дошли до Тайтбургского аббатства; оба чувствовали себя неловко и странно скованно, и это мешало их привычным отношениям, которые всегда напоминали отношения брата и сестры. Эрнест уже начал тяготиться этим молчанием, когда Дороти внезапно остановилась. — Что это? Мне показалось, я слышала чей-то крик. Они прислушались — и на этот раз оба услышали женский голос, призывающий на помощь. Казалось, он доносился от скалы слева. Эрнест и Дороти поспешили на край утеса и принялись осматриваться. Если вы помните, в двадцати футах от вершины скалы и в пятидесяти с лишним от дна ущелья находился выступ, на котором скопились многочисленные останки, вымытые морем. Теперь он был почти недоступен, поскольку, хотя на первый взгляд спуститься на него было достаточно просто, с двух сторон над ним нависали скалы, образуя козырек, где незадачливому альпинисту было бы не за что ухватиться. Первое, что увидел Эрнест, наклонившись, была женская ножка, опиравшаяся на шаткий камень. Затем он увидел бледное и перепуганное личико Евы Чезвик, которая замерла в самом неудобном положении на узком уступе на самом краю пропасти, едва удерживаясь, чтобы не отпустить ненадежную опору. Было совершенно очевидно, что девушка не может двинуться с места, чтобы не рухнуть вниз — и лишь отчаянно цепляется за каменную стену, словно муха. — О боже! — вскричал Эрнест. — Держитесь, я уже иду! — Я больше не могу! Одно дело было пообещать, что он идет, и совсем другое — сделать это. Песок осыпался вниз, Эрнесту не за что было зацепиться, чтобы вытянуть девушку из пропасти. Он в отчаянии взглянул на Дороти. Ее быстрый ум в одно мгновение оценил ситуацию — и нашел решение. — Эрнест, ты должен спуститься к ней, лечь на этот каменный козырек и протянуть ей руку. — Но там не за что держаться. Если она повиснет на моей руке, мы оба рухнем вниз. — Нет, я буду держать тебя за ноги. Быстрее, у нее кончаются силы. Эрнесту потребовалось всего несколько секунд, чтобы добраться до того места, на которое указала Дороти, и улечься на камень. К счастью, он обнаружил удобный выступ песчаника, за который можно было держаться левой рукой. Тем временем Дороти уселась на землю и крепко обхватила лодыжки Эрнеста. Затем юноша протянул руку вниз и, схватив Еву за запястье, напряг все свои силы. Если бы у этой троицы были время и возможность взглянуть на себя со стороны, они бы, возможно, нашли в этой картине много смешного… однако ничего этого у них не было, и менее чем через полминуты их жизни могли бы стоить не больше фартинга. Эрнест напрягал все свои силы — но Ева была крупной девушкой, хоть и легкой на ногу, а ведь ему предстояло вытащить ее практически по вертикальной каменной стене! К тому же Эрнест почувствовал, что и Дороти начинает съезжать вниз. — Она должна приложить все усилия — иначе мы все упадем! — тихим прерывистым голосом произнесла Дороти. — Упритесь коленями и рванитесь вперед — это ваш единственный шанс! — крикнул Эрнест измученной Еве. Она поняла его — и отчаянно боролась за свою жизнь. — Тяни, Долл, ради бога, тяни! Получается! Последовало еще одно отчаянное усилие — и Ева оказалась рядом с Эрнестом. Потом еще несколько секунд — и все трое без сил повалились на землю на вершине утеса. — Боги! — воскликнул Эрнест. — Это было нечто! Дороти кивнула; она была слишком измучена, чтобы говорить. Ева слабо улыбнулась — и потеряла сознание. Вскрикнув, Эрнест склонился над ней и стал растирать ее холодные руки. — О Долл, она мертва! — Нет, она в обмороке. Дай мне твою шляпу. Прежде чем он успел понять, чего она хочет, Дороти уже вскочила на ноги и поспешила — настолько быстро, насколько смогла — к ручью, весело звеневшему в сотне ярдов от них и когда-то снабжавшему пресной водой старое аббатство. Эрнест продолжал растирать Еве руки, с каждой секундой приходя в отчаяние все сильнее. Ее лицо было ужасающе, мертвенно бледным, алый цвет растаял даже на губах. В полном замешательстве, не понимая, что он делает, Эрнест наклонился и поцеловал девушку, потом еще и еще. Этот способ приведения в чувство вряд ли найдется в каком-нибудь медицинском учебнике — однако на этот раз он возымел явственный эффект. Сначала на бледных щеках промелькнула лишь тень румянца, а затем он заполыхал вовсю. (Был ли тому причиной новый метод лечения от Эрнеста — или кровь просто прилила к щекам, мы не знаем. И не будем спрашивать.) Затем Ева вздохнула, открыла глаза и села. — Ты жива! Ты не умерла! — О нет, не думаю, хотя не могу вспомнить… что случилось? Ах да, я знаю! — С этими словами Ева закрыла лицо руками, словно заслоняясь от какого-то ужасного видения. Справившись с собой, она отняла руки и посмотрела на Эрнеста. — Ты меня спас. Если бы не ты, мое исковерканное тело сейчас лежало бы у подножия этой ужасной скалы. Я так благодарна тебе! В этот момент вернулась Дороти, принеся немного воды в черной шляпе Эрнеста — большую часть она пролила по дороге. — Вот, выпей, Ева! — сказала она. Ева попыталась это сделать, однако шляпу вряд ли можно назвать удобным сосудом, нужно иметь определенную сноровку, чтобы приспособиться пить из нее — и потому пролила на себя она гораздо больше, чем выпила. Однако и этой малости было достаточно. Ева положила шляпу на землю, и все трое рассмеялись — так забавно выглядели попытки девушки пить из старой потрепанной шляпы. — Долго ты там находилась до нашего появления? — спросила Дороти. — Нет, не очень, всего каких-то полминуты. — Зачем же ты туда полезла? — спросил Эрнест, водружая на голову мокрую шляпу, поскольку солнце припекало. — Я хотела посмотреть на кости. Я довольно сильная и думала, что справлюсь с подъемом… но песок такой скользкий. О, я совсем забыла! Взгляните-ка сюда! — С этими словами Ева показала тонкий, но прочный шнурок, привязанный к ее запястью. — Что это? — Я привязала другой его конец к странной свинцовой шкатулке, которую нашла в песке. Мистер Джонс сказал недавно, что это часть гроба, но это вовсе не так — это шкатулка с ручкой на крышке. Я не смогла ее вытащить, но у меня был с собой этот шнурок, и я привязала его к ручке. — Давайте вытащим ее! — воскликнул Эрнест, быстро развязывая шнурок на руке девушки. Он с силой потянул за шнур — однако шкатулка оказалась слишком тяжелой; справиться им удалось только втроем, и наконец они вытянули трофей на утес. Эрнест внимательно осмотрел шкатулку и решил, что она очень древняя. Массивная железная ручка на крышке была почти съедена ржавчиной, а свинец, из которого была сделана сама шкатулка, сильно пострадал от воды, хотя в некоторых местах сохранились остатки дубовых пластин, которыми он был обшит. Очевидно, морские волны вымыли эту странную вещь из чьей-то древней могилы, где она покоилась веками. — Как интересно! — сказала Ева, уже забывшая о своих злоключениях. — Что в ней может быть — сокровища или бумаги? — Не знаю, — протянул Эрнест. — Я не думаю, что такие вещи принято прятать на кладбище. Возможно, там останки маленького ребенка. — Эрнест, мне это не нравится! — взволнованно вмешалась Дороти. — Сама не знаю почему — но мне кажется, что эта вещь приносит несчастье! Лучше выбросить ее туда, где она была, или прямо в море. Это ужасная вещь, и мы уже едва не погибли из-за нее. — Чепуха, Куколка! Не думал, что ты так суеверна. Может, шкатулка и впрямь полна драгоценностей или денег? Вернемся домой и откроем ее. — Я вовсе не суеверна, и вы можете забрать ее домой, если хотите. Я лично ее трогать не буду и повторяю — она ужасна! — Хорошо, Долл, тогда тебе не достанется твоя доля сокровищ, мы с мисс Чезвик разделим все пополам. Вы ведь поможете мне донести ее до дома, мисс Чезвик? Если, конечно, не боитесь ее, так же, как Долл. — О нет, — отвечала Ева. — Я не боюсь. Я умираю от любопытства — что же там внутри?
Глава 10
НАХОДКА ЕВЫ
— Вы уверены, что не слишком устали? — спросил Эрнест после недолгого раздумья. — Вполне. Я чувствую себя отдохнувшей, — слегка вспыхнув, отвечала Ева. Эрнест тоже покраснел, видимо, из солидарности, и отправился за обломком ветви низкорослого дуба, выросшего посреди развалин аббатства прямо на месте алтаря. Он продел палку сквозь железную ручку шкатулки, и они с Евой взялись за ее концы. Дороти возглавила торжественную процессию. Джереми и мистер Кардус прогуливались возле дома и курили, когда удивительная компания показалась из-за поворота. Они поспешили навстречу. — Что это у вас? Что случилось? — спросил мистер Кардус у Дороти, которая обогнала своих спутников на добрых пятьдесят ярдов. — О Реджинальд, это долгая история. Сначала мы нашли мисс Еву Чезвик, она… едва не упала с утеса, и мы появились как раз вовремя, чтобы вытащить ее. — Ну вот, пожалуйста — снова мое везение! — огорченно воскликнул Джереми. — Я бы мог десять лет просидеть на этой скале — и у меня все равно не было бы ни единого шанса спасти мисс Еву! — …а потом мы подняли снизу эту жуткую шкатулку, которую нашла мисс Ева. Она привязала к ней веревку. — Да! — воскликнул, подходя, Эрнест. — И представьте — Дороти хотела, чтобы мы выбросили ее обратно в ущелье! — Да, хотела! Я сказала, что она приносит несчастье — и она действительно приносит несчастье, она проклята! Мистер Кардус решительно вмешался в спор, с интересом рассматривая находку. — Вздор, Дороти! Это очень интересно. Я думаю, в ней спрятали что-то ценное и закопали на кладбище аббатства ради безопасности — однако так и не вернулись за спрятанным. Позвольте, мисс Чезвик? Я донесу шкатулку, а Джереми сбегает за молотком и долотом. Совсем скоро мы разгадаем тайну этой шкатулки. — Очень хорошо, Реджинальд. Посмотрим! — бросила Дороти. Мистер Кардус с любопытством посмотрел на девушку. Странно, что она так быстро согласилась с ним. Они подошли к дому и вскоре были уже в гостиной. Джереми уже ждал их, вооруженный молотком и долотом. Он прекрасно умел обращаться с инструментами: вряд ли было на свете ремесло, которым бы он не владел в достаточной степени. Поставив шкатулку на стол, он приступил к делу. Свинец, хоть и частично съеденный соленой водой, был все еще крепок и не особенно податлив, поэтому Джереми потребовалось не менее четверти часа, чтобы разбить корпус шкатулки. Волнение собравшихся возрастало с каждым ударом молотка, но затем их ждало разочарование: то, что Джереми удалил, оказалось лишь частью внешнего защитного корпуса — под ним скрывался еще один сундучок, также из свинца. — Что ж, — заметил Джереми, — они знатно его спрятали! Он снова принялся за работу. Стенки второго сундучка оказались тоньше и поддавались лучше, так что Джереми быстрее справлялся с работой, но все же не настолько быстро, чтобы не вызвать нетерпения у окружающих. Наконец, передняя стенка отвалилась, и на свет появилась третья шкатулка, уже деревянная, изготовленная из мореного дуба в виде миниатюрного шкафчика с дверцей, запертой на металлическую защелку с замком. От нее шел сильный и пряный запах специй. Волнение собравшихся достигло наивысшей точки и передалось, кажется, всем, кто был в доме. Грайс зашла в гостиную и остановилась возле дверей, Сэмпсон и мальчишка-конюх заглядывали в окно, и даже старый Аттерли, привлеченный звуками ударов молотка, бездумно бродил вдоль дома. — Что же это может быть? — прерывисто вздохнув, прошептала Ева. Джереми осторожно высвободил шкафчик из свинцового плена и водрузил на стол. — Я открываю? После этого он без лишних слов поддел долотом дверцу шкафчика, нажал — и открыл шкатулку. Запах специй усилился, целое облачко их вырвалось наружу, заставив отпрянуть тех, кто наклонился слишком низко. Когда ароматная пыль рассеялась, внутри стал виден узелок из светлой ткани, довольно большой. Джереми решительно сунул руку в шкатулку и вытащил узелок. Он положил его на крышку шкатулки. Узелок оказался довольно увесистым. Странно, но Джереми, похоже, вовсе не хотелось продолжать исследование. По его мнению, узелок выглядел как-то… отталкивающе. В этот момент в открытую дверь вошла Флоренс Чезвик. Она пришла повидаться с Дороти и была очень удивлена, найдя такое собрание в гостиной. — Что здесь происходит? — спросила она. Кто-то наскоро пересказал ей события сегодняшнего дня — всеобщее внимание по-прежнему было приковано к странному узелку, который никому не хотелось трогать. — Хорошо, так почему же вы не развяжете его? — нетерпеливо спросила Флоренс. — Я полагаю, мы все немного боимся! — со смехом отвечал мистер Кардус, с любопытством оглядывая собравшихся. — Ну я, во всяком случае, не боюсь! — заявила Флоренс. — Дамы и господа, голова Горгоны вот-вот явится на свет, так что будьте осторожны и отвернитесь — иначе превратитесь в камень. — Это становится таким восхитительно-пугающим! — шепнула Ева Эрнесту. — Я знаю, там будет что-то ужасное! — обреченно промолвила Дороти. Тем временем Флоренс вытащила старинную булавку, которой был сколот узелок, и принялась разворачивать ткань. Едва она развернула первый слой, на стол снова посыпались специи. Убрав их в сторону, Флоренс принялась медленно и очень аккуратно разворачивать ткань дальше. Чем больше ткани она разматывала, тем более отчетливую форму приобретал узелок — и это была форма человеческой головы! Ева встала поближе к Эрнесту, а Джереми немедленно захотелось сбежать из гостиной. Дороти поняла, что ее дурные предчувствия относительно содержимого шкатулки начинают сбываться; мистер Кардус увидел это и заинтересовался еще больше. Только Флоренс и «лихой наездник Аттерли» не увидели ничего особенного. Еще один оборот ткани — и вся она соскользнула с того предмета, что был надежно ею укрыт. В гостиной воцарилась мертвая тишина, царившая несколько секунд, пока все рассматривали то, что скрывалось под тканью. Затем одна из женщин вскрикнула от ужаса, и тогда все, повинуясь какому-то общему импульсу, в страхе кинулись прочь из гостиной, восклицая на ходу: «Она живая! Живая!» Впрочем, нет, не все. Флоренс сильно побледнела, но осталась стоять возле стола, комкая в руках древнюю ткань. Остался и старый Аттерли — он замер и не сводил с предмета глаз, то ли парализованный страхом, то ли очарованный зрелищем. Казалось, и то, что было найдено в старинной шкатулке, отвечает старику таким же взглядом. Что же это было? Пусть читатель представит себе лицо и всю голову прекрасной женщины лет тридцати. Голова эта покрыта густыми и длинными каштановыми локонами, а венчает ее довольно грубо выкованная корона, усеянная негоранёнными драгоценными камнями. Пусть он представит себе бледное, обескровленное лицо, на котором выделяются лишь алые губы — однако плоть упруга и свежа, словно и речи нет об останках, несколько веков пролежавших в земле. Голова эта, по всей видимости, была когда-то безжалостно отсечена от тела столь острым клинком и так искусно, что теперь она могла спокойно стоять на ровной поверхности. Пусть представит он и самое страшное. Глаза мертвеца обычно закрыты — однако эта голова смотрела на вас широко открытыми глазами, осененными длиннейшими черными ресницами. Сами же глаза представляли собой два огненных шара, наполненных жидким пламенем — они перекатывались в глазницах, вращались и мерцали, словно и впрямь покойница устремляла свой жуткий взгляд на того из живых, кто осмелился нарушить ее сон. Именно этот страшный взгляд и привел в такой ужас зрителей, уверявших друг друга на бегу, что голова — живая. Только после тщательного изучения мистер Кардус смог понять, чем были эти огненные шары, — и читатель может догадаться, что на самом деле эта мертвая голова ничем не отличалась от любых умело забальзамированных останков. Глаза были изготовлены из кристаллов горного хрусталя, искусно ограненных и помещенных в голову, вероятно, на тонких пружинах. Проделано это было поистине с адским мастерством, и теперь они дрожали и вращались при малейшем сотрясении поверхности, даже от слишком сильных звуков. Сама же голова, что также обнаружил мистер Кардус, была забальзамирована не вполне обычным способом — когда извлекается мозг и полость заполняется смолой или битумом. Здесь же неведомый бальзамировщик использовал инъекции двуокиси кремния или какого-то похожего вещества прямо в мозг, вены и артерии. Пропитав всю плоть, вещество затвердело, придав человеческим останкам твердость мрамора. Вероятно, были использованы специальные пигменты для сохранения цвета волос и ресниц, а также окрашивания губ; помогли и многочисленные пряные специи. Однако самой страшной была насмешливая улыбка, которую адский художник сумел сохранить на этом прекрасном лице. Улыбка была достаточно широка, чтобы продемонстрировать белоснежные зубы и создать впечатление, что их владелица умерла, от души наслаждаясь своей злобной посмертной шуткой. Невыносимо было смотреть на это лицо давно умершей женщины, на эти густые волосы, на жуткую корону, страшные хрустальные глаза и леденящую улыбку. Однако в этом ужасе таилось и странное очарование: однажды увидевший это зрелище уже не мог его забыть до конца своих дней. Мистер Кардус выбежал из гостиной вместе со всеми остальными, однако потом здравый смысл возобладал, и он остановился. — Постойте! Не будьте такими глупцами, вы же не собираетесь убегать от головы покойницы, не так ли? — Вы тоже убежали! — задохнувшись, отвечала Дороти. — Да, побежал, признаю — меня поразили и испугали эти глаза. Но они, разумеется, стеклянные. Я иду обратно — все это крайне интересно! — Эта вещь проклята! — пробормотала Дороти. Мистер Кардус повернулся и снова вошел в гостиную; постепенно и остальные, успокоенные ярким светом солнечного дня, потянулись за ним. Впрочем, не все — перепуганная до смерти Грайс проболела от потрясения еще два дня. Что же касается Сэмпсона и мальчишки-конюха, наблюдавших все через окно, то они удрали на целую милю от дома, до самого утеса, где только и смогли остановиться. Когда все вернулись в гостиную, обнаружилось, что старый Аттерли по-прежнему стоит и смотрит в хрустальные глаза, а те словно отвечают ему таким же пристальным взглядом; Флоренс же все так же сжимает в руках полотно, глядя на широкую волну густых волос, рассыпавшихся по столу и свесившихся чуть ли не до самого пола. Как ни странно, волосы эти были того же цвета, что и у девушки — все это заметили, поскольку она сняла шляпку, когда начала разворачивать сверток. Сходство этим не ограничивалось: черты лица мумии тоже были очень похожи на Флоренс, похожа была презрительная улыбка, похожи были и красивые зубы. Честно говоря, мертвое лицо было куда более прекрасным, но в остальном эта женщина — а судя по грубо сделанной короне, она принадлежала к древнему племени саксов — и живая девушка девятнадцатого века вполне могли сойти за сестер, или за мать и дочь. Сходство это поразило всех без исключения — но никто не проронил ни слова. Приблизившись, они снова оглядели страшную находку. Дороти первой нарушила молчание. — Должно быть, она была ведьмой, — сказала она. — Я надеюсь, вы выбросите ее, Реджинальд, потому что она принесет в дом несчастье. Даже тому месту, где она была похоронена, не повезло — это было великое аббатство, а теперь там лишь безжизненные руины. Взгляните! Она похожа на Флоренс. Флоренс улыбнулась в ответ на эти слова — и сходство стало еще разительнее. Ева вздрогнула, заметив это. — Чепуха, Дороти! — воскликнул мистер Кардус, увлекавшийся антиквариатом и теперь начисто забывший о своем первом испуге, вновь превратившись в ревностного коллекционера. — Это же великолепная находка! Впрочем… я совсем забыл! — Тут в голосе его прозвучало явное разочарование. — Ведь эта шкатулка принадлежит мисс Чезвик. — О, вы можете забрать ее! — поспешно сказала Ева. — У меня нет ни малейшего желания владеть ею. — Прекрасно, я вам очень признателен! Я высоко ценю подобные реликвии. Тем временем Флоренс медленно обошла вокруг стола и уставилась прямо в хрустальные глаза. — Что ты делаешь, Флоренс? — резко окликнул ее Эрнест; сцена была жутковатой и раздражала его. — Я? — усмехнулась Флоренс. — Я ищу вдохновения. Это лицо выглядит таким мудрым, возможно, она чему-нибудь научит меня. Кроме того, мы с ней так похожи — я думаю, она могла бы быть кем-то из моих предков. «Значит, она тоже это заметила!» — подумал Эрнест. — Положи ее обратно в шкатулку, Джереми! — распорядился мистер Кардус. — Мне придется заказать для нее воздухонепроницаемый ящик. — Я сам могу его сделать — буркнул Джереми. — Обновлю свинцовые стенки первой шкатулки, а одну сторону сделаю стеклянной. Джереми очень осторожно взял голову. Положив ее в дубовую шкатулку, он тщательно смахнул пыль, закрыл дверцу и повесил шкатулку на крюк, торчавший из деревянной настенной панели в углу комнаты. — Ну хорошо, — сказала Флоренс. — Теперь, когда вы убрали вашего ангела-хранителя на место, я полагаю, мы можем пойти домой. Никто не хочет немного прогуляться вместе с нами? Дороти сказала, что пойдут все — кроме, разумеется, мистера Кардуса, вернувшегося в свой кабинет. Когда дружная компания тронулась в путь, Флоренс улучила момент и шепнула Эрнесту, что хочет поговорить с ним. Это встревожило и расстроило юношу — он боялся Флоренс и хотел прогуляться с Евой; по всей видимости, все эти мысли явственно отразились на его лице. — Не бойся! — усмехнулась Флоренс. — Я не собираюсь говорить тебе ничего неприятного. Разумеется, Эрнест отвечал, что ничего неприятного она сказать ему и не может, девушка вновь слабо улыбнулась, и они немного отстали от остальных. — Эрнест, — решительно начала Флоренс, — я хочу поговорить с тобой. Ты, конечно, помнишь, что произошло между нами два вечера назад на этом самом пляже. — Да, Флоренс, я помню, — отвечал Эрнест. — Так вот, то, что я сейчас собираюсь сказать, трудно выговорить любой женщине, однако я должна это сделать. Я ошиблась, Эрнест, говоря тебе, что люблю тебя, да еще и в такой необузданной манере. Сама не знаю, что на меня нашло — какой-то дурацкий порыв, наверное. Женщины по природе своей любопытны и взбалмошны, а я любопытнее всех прочих. Полагаю, я думала, что люблю тебя, Эрнест — мне так показалось, когда ты поцеловал меня; однако вчера вечером, когда я увидела тебя на танцах у Смитов, я вдруг поняла, что это было ошибкой, и ты мне просто симпатичен — не более чем я симпатична тебе. Ты меня понимаешь? Он не понимал ровным счетом ничего, однако поспешно кивнул, чувствуя, что для него все складывается наилучшим образом. Флоренс бросила на него быстрый взгляд и продолжала: — Итак, сейчас, на том же самом месте, где я произнесла те слова — я беру их обратно. Забудем эту глупую сцену, Эрнест. Я ошибалась, говоря, что мои чувства глубоки, как это море — я думаю, они не глубже ручья. Однако прежде, чем мы закончим этот разговор, ответь мне на один вопрос, Эрнест. — Разумеется, Флоренс, если смогу. — Когда ты… ну… поцеловал меня в тот вечер — ты ведь на самом деле ничего не чувствовал? Просто шалость, порыв — но не потому, что ты любил меня? Не бойся сказать мне правду, если это было так — я не стану сердиться. Это ты должен простить меня — ведь я сейчас разрушаю твою веру, не так ли? С этими словами она впилась в его лицо пронзительным и недобрым взглядом. Эрнест отвел глаза, не в силах выдержать этот взгляд. Легкомысленная ложь, что мужчины не видят стыда в том, чтобы воспользоваться порывом женщины, просилась на язык — но он не мог заставить себя произнести эти слова. Он не мог сказать ей прямо, что не любит ее — и потому постарался ответить уклончиво: — Я думаю, что ты, возможно, была более серьезна, чем я, Флоренс. Она рассмеялась — и от этого смеха ледяные мурашки поползли по спине юноши. — Спасибо за откровенность, это сильно облегчает дело, не так ли? Но знаешь… я ведь догадывалась. Особенно сегодня, когда стояла и смотрела на эту мертвую голову, как раз в тот миг, когда ты взял Еву за руку. — Но как! — вскинулся Эрнест. — Ведь ты стояла спиной к нам! — Да, но вы отразились в хрустальных глазах. Знаешь… когда я стояла и рассматривала вас в этом отражении, мой рассудок был чист и бесстрастен, словно я и была той мертвой женщиной… Я внезапно обрела мудрость. Однако нам пора, остальные заждались. — Я надеюсь, мы останемся друзьями, Флоренс? — с тревогой спросил Эрнест. — О да, Эрнест. Женщина всегда ревниво и с большим интересом следит за карьерой своего бывшего поклонника — а ты успел побыть моим поклонником примерно пять секунд — пока целовал меня. Теперь я буду следить за тобой всю оставшуюся жизнь, и мои мысли будут сопровождать тебя, словно тень. Спокойной ночи, Эрнест, спокойной ночи! — И она вновь улыбнулась насмешливой улыбкой, так похожей на улыбку мертвой женщины, и на мгновение задержала на юноше свой странный пронзительный взгляд. Эрнест пожелал ей доброй ночи и отправился домой вместе с остальными, чувствуя, что в сердце его поселился холодный страх.Глава 11
ГЛУБОКИЕ ВОДЫ
Джереми, не откладывая, занялся приведением в надлежащий вид «ведьмы» — так таинственную голову прозвали в Дум Несс; он изготовил воздухонепроницаемую витрину удлиненной формы, чтобы позволить красивым волосам растянуться во всю длину — однако сохранил и оригинальную защелку, и дубовую дверцу. Следующим шагом должна была стать подгонка передней стеклянной панели и откачивание из витрины воздуха. В результате витрина приобрела вид часов, и ее можно было вешать на стену в гостиной. Он как раз этим и занимался, когда в гостиную заглянул непрошеный гость — это был уже известный нам мистер де Талор — и заметил, что Джереми сделал на редкость уродливые часы. Джереми, не любивший де Талора, отвечал на это, что он не будет так говорить, когда увидит всю вещь целиком — с этими словами он открыл дубовую дверцу и развернул витрину так, чтобы ужасные хрустальные глаза смотрели на де Талора. Результат превзошел все ожидания. На мгновение де Талор замер, потом ахнул, потом смертельно побледнел и отшатнулся назад. Джереми воспользовался этим и без лишних церемоний закрыл дверь перед носом де Талора. Надо сказать, что де Талор вскоре пришел в себя, однако в течение многих лет ничто не могло заставить его войти вновь в эту комнату. Что же касается самого Джереми, то нужно сказать, что поначалу он ужасно боялся «ведьмы», но со временем — а работа заняла несколько дней — страх ушел, и Джереми начал испытывать даже нечто вроде мрачного удовлетворения. Он проводил долгие часы в своей мастерской, шлифуя дерево и стекло, подгоняя петли и замазывая швы, — но голова при этом была свободна, и он выдумывал разные истории, в которых прекрасное и зловещее создание, чья голова таким чудесным образом сохранилась и попала к ним в руки, играло заглавную роль. Было так странно смотреть на эту презрительную усмешку, на это прекрасное лицо — и думать, что давным-давно, столетия назад, мужчины любили целовать эти губы и играть с этими густыми волосами. Такова уж она была, эта древняя реликвия, сохранившая, благодаря непревзойденному мастерству какого-то старого монаха или алхимика, всю свою красоту на долгие годы после того, как утихли последние отголоски трагедии, с которой, должно быть, была связана ее смерть. Джереми был уверен, что здесь кроется какое-то ужасное преступление; пока он прилежно прижимал и забивал свинцовые прокладки, в голове у него составилась целая история о тех временах — и он даже начал проверять свои предположения, косясь на «ведьму» и стараясь угадать, соглашается она с его версиями или нет. Способ подтверждения был прост: дрожат ли хрустальные глаза, когда он говорит. Работа была кропотливой и медленной, но и придумывать истории Джереми был не мастак, так что мысли его текли неспешно, под стать работе — и вскоре он поддался какому-то странному очарованию собственных историй. Ему стало даже казаться, будто это честь для него — такая прекрасная дама посвящает его в свои тайны… Но если для Джереми голова покойницы служила источником вдохновения, то деда его она совершенно околдовала. Старый Аттерли теперь то и дело сбегал из своего кабинета, чтобы заглянуть в мастерскую к Джереми и хоть одним глазком полюбоваться на мертвую красавицу. Однажды поздно вечером, когда работа была уже почти закончена, а Джереми был дома, он вспомнил, что не закрыл дверь мастерской. Джереми снова надел куртку, вышел из дома через заднюю дверь и пересек двор, доставая из кармана ключ. Луна светила очень ярко, и Джереми в мягких домашних туфлях шел практически бесшумно. Когда он подошел к мастерской и собирался запереть дверь, ему почудился какой-то странный звук, доносившийся изнутри. Скажем прямо, Джереми был испуган — и на мгновение в его голове мелькнула мысль об отступлении. Пускай голова сама о себе позаботится! Эти хрустальные глаза были интересны при свете дня, однако он не испытывал ни малейшего желания смотреть в них ночью. Пусть это было глупо… но они выглядели слишком живыми! Он промедлил еще несколько секунд — и странный звук повторился; тогда Джереми решился на компромисс: он прошел за угол и заглянул в маленькое окошко своей мастерской. С бьющимся сердцем Джереми осматривал такое знакомое помещение… Лунный свет ярко освещал стол и длинный корпус витрины, которую Джереми уже изготовил. Он точно помнил, что запер голову в футляр, но теперь он был открыт, Джереми ясно видел, как отражается лунный свет в хрустальных глазах. В этот момент странный бормочущий звук опять повторился. Джереми шарахнулся назад, вытер пот со лба и второй раз за вечер подумал о побеге. Однако любопытство оказалось сильнее, и он снова шагнул к окошку. На этот раз он разглядел источник странных звуков. На его рабочем табурете сидел старый Аттерли, уставившись на голову, и что-то неразборчиво бормотал себе под нос. Эти звуки Джереми и слышал через дверь. Зрелище было жутковатым, и Джереми почувствовал, как холодок пробежал у него по спине. Пока он стоял и думал, что делать, старый Аттерли встал, закрыл футляр и вышел из мастерской. Джереми поспешил к двери, запер ее и вернулся к себе в комнату, продолжая недоумевать по поводу увиденного. Однако о произошедшем он никому не сказал ни слова, просто с того вечера старался не оставлять двери мастерской открытыми. Наконец работа была полностью сделана — и для любителя вышло совсем не плохо. Как мы уже и говорили, витрина отправилась на крюк, вбитый в стену гостиной, где ее и увидел мистер де Талор. Однако с того самого дня, как мисс Ева Чезвик едва не оказалась на дне пропасти в результате своих археологических изысканий, дела в Дум Несс пошли плохо. Все это чувствовали — разве что кроме Эрнеста, голова которого была занята совсем другими вещами. Дороти в те дни выглядела очень несчастной, похудевшей и усталой, хотя, если ее спрашивали о самочувствии, упрямо отвечала, что еще никогда в жизни не чувствовала себя лучше. Несчастен был и Джереми — и у него имелась на то веская причина. Он подхватил лихорадку, которой женщины, подобные Еве Чезвик, способны поражать сынов человеческих. Джереми был натурой самодостаточной и глубокой, и душа, скрывавшаяся под могучей оболочкой, была нежна и ранима. Он не часто давал волю чувствам, но если уж любил — то всем сердцем и изо всех сил. Именно там, в глубине этой честной и чистой души, навеки запечатлелся образ Евы Чезвик — еще до того, как сам Джереми смог осознать это. Словно на фотографической пластине, Ева Чезвик отпечаталась на его сердце, и теперь он смутно чувствовал, что это навсегда, и что эта пластина больше никогда не сможет быть использована заново. Ева была так добра к нему; ее глаза сияли так ярко и дружелюбно, когда они встречались… Джереми был уверен, что нравится ей (и это на самом деле было так), даже осмелился однажды неловко пожать эту изящную ручку — и ему показалось, что он ощутил ответное пожатие, после чего он не спал всю ночь. Вероятно, он ошибался во всем. Именно в тот момент, когда он начал чувствовать себя на вершине блаженства, появился Эрнест — и все надежды Джереми растаяли, как ночной туман в лучах утреннего солнца. В тот самый миг, когда эти двое встретились, Джереми уже знал, что для него все кончено. Словно для того, чтобы подтвердить это, Провидение само явилось к нему в облике маленькой монетки, и Джереми проиграл окончательно, даже без права на последнюю попытку. Что ж, все было честно… но пережить это было тяжело, и он впервые в жизни чувствовал, что сердится на Эрнеста. Да, он был зол на своего друга — и это делало Джереми еще более несчастным, ибо он знал, что гнев его несправедлив, и братская любовь, которую он испытывал к Эрнесту, не могла с ним смириться. Несмотря на все это, тень, упавшая между ними, все сгущалась. Мистер Кардус тоже переживал нелегкие времена — впрочем, в его случае они были связаны исключительно с тем, о чем никто из его молодых воспитанников не знал: с идеей мести, которая постепенно превращалась в манию. Мистер де Талор, которого он задался целью уничтожить, неожиданно выскользнул из-под его власти, и Кардус пока не знал, каким образом он может вернуть свое влияние на этого человека. Это огорчало и нервировало его до крайности. Что касается «лихого наездника Аттерли», то с тех пор, как он посмотрел в хрустальные глаза «ведьмы», разум его помутился окончательно и бесповоротно; Аттерли окончательно уверился в том, что мистер Кардус на самом деле является дьяволом. Дороти, всегда приглядывающая за стариком — дедом, который не знал, что она его внучка, — заметила изменения, произошедшие в его поведении. Он, как и прежде, усердно трудился, переписывая бумаги в конторе, однако теперь делал это с удвоенной энергией, словно стремясь поскорее освободиться от некоего обязательства. Кроме того, с таким же удвоенным вниманием он продолжал вырезать отметки на своей трости. Казалось, в жизни несчастного безумца появилась какая-то новая цель. Дороти забеспокоилась и обратила внимание мистера Кардуса на эти изменения, однако адвокат только рассмеялся и сказал, что они, скорее всего, связаны с полнолунием и скоро пройдут. Уж если кто в Дум Несс и был счастлив — так это Эрнест… разумеется, если не считать тех дней, когда он тонул в пучине отчаяния, а это случалось не менее трех раз в неделю. Когда Дороти впервые обратила внимание на его жалкий вид и отсутствие аппетита, она немедленно встревожилась и после ужина учинила Эрнесту настоящий допрос, чтобы узнать, в чем дело. Не прошло и пары минут, как она горько пожалела о своей настойчивости, поскольку счастливый влюбленный вывалил на нее целый ворох своих любовных переживаний, и продолжалось это не менее часа. Оказывается, еще один молодой джентльмен из тех, что присутствовали на балу у Смитов и танцевали с прекрасной Евой, добился определенных успехов: он нанес визит — трижды, прислал цветы — дважды (сам Эрнест посылал цветы каждое утро, обманом срезая прямо под носом у Сэмпсона лучшие орхидеи), гулял с Евой по окрестностям — один раз. Дороти покорно слушала и молчала, пока Эрнест не выдохся сам. Только тогда она произнесла: — Так ты и впрямь любишь ее, Эрнест? — Люблю? Да я… Однако мы не станем пересказывать здесь все цветистые и восторженные речи молодого человека. Когда он смолк, Дороти сделала удивительную вещь: она поднялась со стула, подошла к Эрнесту и нежно поцеловала его в лоб. Как он ни был взволнован мыслями о Еве, ему все же бросились в глаза черные круги под глазами девушки. — Я надеюсь, ты будешь счастлив, мой дорогой брат. У тебя будет прекрасная жена, и я думаю, что она столь же добра, сколь и прекрасна. Дороти говорила совсем тихо, и голосок ее звучал, как всхлип. Эрнест поцеловал ее в ответ, и она выскользнула из комнаты. Он недолго помнил об этом инциденте. Буквально через пять минут все его мысли снова заполонила Ева — он был всерьез и искренне влюблен. Честно говоря, его выходки на почве этой безумной влюбленности заставили бы плакать даже ангелов — при виде того, как человеческое существо с нормальным, на первый взгляд, мозгом так самозабвенно превращает самого себя в полного осла. Например, он мог ночи напролет прогуливаться вокруг коттеджа мисс Чезвик. Однажды он вздумал забраться в сад, чтобы без помех любоваться заветными окнами — но был сильно укушен собакой, после чего вынужден был обратиться в бегство; целую милю его преследовали не только означенная собака, но и констебль, чьи подозрения вызвала загадочная фигура, слоняющаяся вокруг коттеджа. На следующий день Эрнест имел удовольствие услышать из любимых уст зловещую историю о попытке кражи со взломом — однако во время рассказа на этих устах играла легкая улыбка: по всей видимости, Ева догадывалась, кто был тот несостоявшийся взломщик. Впрочем, Эрнест после этого случая довольно долго хромал, чему не стоило удивляться, учитывая, какие раны нанесли ему острые зубы свирепой твари по кличке Таузер. После этого Эрнесту пришлось отказаться от ночных бдений под окнами любимой, но он находил и другие безумные способы выразить свою любовь. Как-то раз он без предупреждения плюхнулся на колени посреди гостиной и жарко поцеловал руку Евы, а затем, придя в ужас от собственной дерзости, стремглав убежал из комнаты. Поначалу все это очень забавляло Еву. Она была довольна своей победой и находила особое удовольствие в том, чтобы командовать и даже помыкать влюбленным Эрнестом. Ожидая его визита, она старалась украсить себя, как только возможно, и использовала все маленькие женские хитрости и уловки, чтобы еще больше поработить несчастного. Почему-то даже годы спустя, вспоминая Еву, Эрнест прежде всего вспоминал ее такой, какой она была в этот короткий период их жизни. Он словно воочию видел, как она сидит на стуле в гостиной коттеджа, изящно откинувшись на спинку таким образом, чтобы продемонстрировать свою великолепную фигуру в наилучшем виде; видел маленькую ножку и тонкую щиколотку, словно невзначай выглядывающую из-под струящихся складок белого платья. На коленях у нее сидел маленький скай-терьер Тейлз — подарок соперника Эрнеста, сделанный две недели назад, — и Ева самым возмутительным образом то и дело целовала маленькую бестию, а глаза ее сияли невинным кокетством. Эрнест ни секунды не испытывал расположения к проклятому скай-терьеру!Для него было мукой смотреть, как драгоценные поцелуи растрачиваются на собаку, а Ева, прекрасно видя и понимая его мучения, целовала песика еще чаще и нежнее. Однажды Эрнест не выдержал. — Убери эту собаку! — безапелляционно заявил он. Ева повиновалась — но тут же вспомнила, что никто не имеет права диктовать ей, что делать, и снова подхватила пса на руки. Однако Тейлз, который, надо сказать, довольно скептически относился к поцелуям, счел, что все это становится слишком скучным, вывернулся из рук девушки и удрал в сад. — Почему это я должна была убрать свою собаку?! — с легким вызовом спросила Ева. — Потому что я ненавижу, когда ты ее целуешь — это так… жеманно! Он произнес это по-хозяйски — и это было первым намеком на желание обуздать Еву, а гордая женщина ничто в жизни не ненавидит так, как попытки обуздать ее. — Какое право ты имеешь диктовать мне, что я должна или не должна делать? — грозно вопросила она, постукивая ножкой по полу. Эрнест в те дни был само смирение, он сдался мгновенно. — Ничего, нет-нет, не сердись, Ева, — он впервые назвал ее просто по имени, до этого она всегда была для него мисс Чезвик. — Но я правда не могу видеть, как ты целуешь этого пса, я ревную к этой бестии! Яркий румянец вспыхнул на щеках Евы, и она переменила тему разговора. Через некоторое время кокетство Евы пошло на убыль. Теперь при встрече она уже не улыбалась Эрнесту прежней озорной улыбкой, но была серьезна, и ему не единожды казалось, что глаза у нее были заплаканы. Своей холодностью она приводила Эрнеста в отчаяние. Он говорил ей комплименты — она делала вид, что не замечает их, хотя румянец на щеках свидетельствовал, что это не так! Когда бы он ни прикасался к ее руке — она была холодна и безжизненна. Ева стала спокойнее — и это до смерти напугало Эрнеста. Однажды он попытался растопить этот лед пылкими речами, но она молча встала и отошла к окну. Он последовал за ней — и увидел, что ее темные глаза полны слез. Это оказалось еще ужаснее, чем ее холодность, и Эрнест, испугавшись, что обидел ее, беспрекословно повиновался ее тихой просьбе и ушел. Бедный мальчик! Он был очень молод. Будь он чуть опытнее, он бы нашел способ осушить эти слезы и развеять собственные сомнения. Как печально, что подобный опыт мы обретаем тогда, когда нам уже нет в нем большой нужды… Секрет Евы был очень прост. Она слишком долго играла с огнем — и он обжег ее. Темноглазый красивый мальчик со счастливым взглядом, который так хорошо танцевал, стал очень дорогим для нее человеком. Раньше она играла с ним — увы, теперь она любила его больше всех на свете. Это было ужасно: она влюбилась в своего сверстника, в юношу, который, насколько ей было известно, не имел особых перспектив в жизни. Ее гордость страдала, ей казалось унизительным, что она, уже выезжавшая в Лондоне, уже имевшая там пару вполне солидных и взрослых поклонников, стоявших перед ней на коленях и безропотно повиновавшихся ее приказам, должна сдаться и отдать свою красоту мальчику двадцати одного года, пусть даже в нем и шесть футов роста, а в сердце больше любви, чем во всех ее солидных поклонниках, вместе взятых… Возможно, Ева, будучи вполне сформировавшейся женщиной, все же не была достаточно взрослой, чтобы понять огромное преимущество любой девушки, чей образ с такой силой запечатлелся в сердце мужчины, который ей нравится; пока души обоих еще не очерствели и не закалились. Возможно, она просто не знала, какое это благословение — любить, и неважно — молодого или старого мужчину. Многие женщины слишком долго ждут, чтобы научиться не стыдиться своей любви. Возможно, она просто не понимала, что молодость Эрнеста — это тот недостаток, который очень скоро исчезнет, и что у него есть способности, которые могли бы привести его на сияющие вершины — если только она согласится вдохновлять его. Как бы там ни было — после долгих раздумий Ева понимала только две вещи: она любит Эрнеста всем сердцем — и стыдится этого. Однако девушка пока не могла решиться и сделать выбор. Легче всего было бы сокрушить беднягу Эрнеста, сказать ему, что его притязания смешны, прогнать его или уйти самой — и тем самым положить конец ситуации, которая казалась Еве все более абсурдной и которую никак — мы можем в этом не сомневаться — не помогала разрешить ее старшая сестра Флоренс. Однако Ева не могла этого сделать. Одна только мысль о жизни без Эрнеста заставляла ее похолодеть от ужаса; ей казалось, что единственное время, когда она была по-настоящему жива, — это время, проведенное с Эрнестом; он ушел и забрал ее сердце с собой. Нет, она не могла на это пойти, это было бы слишком жестоко. Было и еще одно решение: поощрить его ухаживания и согласиться на помолвку, отважиться на все ради него. Но и на это девушка пока не могла решиться. Ева Чезвик была очень мила, очень красива и очень добра, однако решительности ей явно не хватало…Глава 12
ЕЩЕ ГЛУБЖЕ
Пока Эрнест ухаживал, а Ева сомневалась, Время, чей интерес к земным делам подобен интересу, который серп проявляет к созревшему урожаю, продолжало свой неспешный и неотвратимый бег. Наступил конец августа — как наступал он уже тысячи раз с тех пор, как земля впервые совершила вращение вокруг своей оси и как наступит еще тысячи раз, пока не кончится отмеренный земле срок и мир не погрузится во тьму; дни сменялись днями, но — Эрнест все так же ухаживал, Ева — все еще сомневалась… Однажды вечером — это был очень красивый вечер — пара гуляла по берегу моря. Назначили они свидание заранее или встретились случайно — не имело никакого значения, главным было то, что они встретились и теперь шли рука об руку, заряженные своими чувствами, словно грозовое облако — электричеством. Впрочем — буря пока еще не разразилась. Подслушавший их разговор мог бы подумать, что эти двое впервые познакомились лишь вчера. Говорили они в основном о погоде. Беседуя, они набрели на небольшую парусную лодочку, вытащенную на берег, однако оставленную не так уж далеко от воды. В лодке стоял и задумчиво смотрел на море пожилой моряк. Руки он засунул в карманы, зубами крепко сжимал трубку, а взгляд его был устремлен куда-то в морскую пучину. По всей видимости, он не заметил появления влюбленной пары, пока они не оказались в двух ярдах от него. Только теперь он пришел в себя, развернулся, учтиво поклонился и поинтересовался, не хочет ли молодая леди совершить морскую прогулку. Эрнест выглядел удивленным, но и обрадованным. — А каков ветер? — Дует прямо от берега, сэр, а с приливом повернет в обратную сторону и в лучшем виде доставит вас на место. — Не хочешь отправиться под парусами в море, Ева? — О нет, благодарю. Мне уже пора домой, семь часов. — Тебе незачем так спешить. Твоя тетушка и Флоренс отправились на чай к Смитам. — Да нет же, я не могу… я просто и подумать не могла… Ева отказывалась вполне недвусмысленно, но моряк истолковал ее слова по-своему. Он уверенно подтянул парус, а потом спрыгнул на песок и сильным движением столкнул лодку в воду, так, чтобы она стояла прямо. — Прошу вас, мисс. — Да нет же, я не пойду. — Прошу вас! — Эрнест, я не хочу! — Пойдем, Ева, — улыбнулся Эрнест, протягивая ей руку. Ева приняла ее и грациозно запрыгнула в лодку. Эрнест и моряк вместе толкнули маленькое суденышко, Эрнест ловко прыгнул в лодку — и порыв ветра в тот же миг наполнил парус, разом отогнав лодку от берега ярдов на десять. — Почему моряк остался на берегу? — спросила Ева. Эрнест уверенно управлялся со снастями. Заложив курс от берега, он неторопливо оглянулся. Моряк стоял на берегу в той же задумчивой позе, в какой они нашли его — руки в карманах, трубка во рту, взгляд устремлен на воду. — Мне кажется, он не против, чтобы мы плыли без него, — заметил Эрнест. — Возможно, но ты должен вернуться за ним! Эрнест произвел несколько энергичных манипуляций — нисколько, впрочем, не повлиявших на ход лодки, — и вывел судно на открытую воду. — Сейчас мы обогнем скалу, развернемся и заберем его. Однако когда они совершили поворот и вернулись к тому пляжу, от которого отплывали, моряка на берегу не оказалось! — Очень жаль! — заметил Эрнест. — Вероятно, он отправился выпить чашечку чая. Ева собиралась рассердиться — но ей это так и не удалось, и она рассмеялась. — Если бы я думала, что ты сделал это нарочно, я бы ни за что, никуда и никогда больше с тобой не пошла! Эрнест выглядел испуганным. — Нарочно?! Они сидели бок о бок на корме, а раскаленное солнце медленно тонуло в океане. Под утесом уже залегли прохладные тени, но по воде прямо перед ними расстилалась великолепная золотая дорожка. Воздух был чист и свеж; для двух этих людей мир был прекрасен и беспечален — на земле их не ждали тревоги, на море — шторма… Ева сняла шляпку, и прохладный ветерок играл с ее локонами. Она опустила руку в воду и задумчиво следила за серебристой дорожкой, которую прочертили в воде ее пальцы. — Ева… — Да, Эрнест? — Ты знаешь, я уезжаю. Ева резко вытащила руку из воды. — Уезжаешь? Когда? — Послезавтра. Сначала в Гернси, а оттуда во Францию. — А когда же ты вернешься? — Думаю, это зависит… от тебя, Ева. Рука девушки снова вернулась в воду. Теперь они находились примерно в миле от берега. Эрнест ловко управлялся с парусом, и лодка плыла параллельно земле. Чуть помолчав, он снова заговорил: — Ева… Молчание. — Ева, ради бога, посмотри на меня! В его голосе прозвучало нечто, заставившее ее повиноваться. Она вытащила руку из воды и взглянула Эрнесту в глаза. Лицо юноши было бледно, губы дрожали. — Я люблю тебя, — сказал он тихим, низким, хриплым голосом. Ева рассердилась. — Зачем ты потащил меня в море? Я хочу домой! Все это чушь; ты всего лишь мальчик! Бывают в жизни такие моменты, когда человеческое лицо способно передать чувства и эмоции куда ярче любых слов — словно сама душа говорит на этом немом языке. Так произошло сейчас с Эрнестом: он не ответил ни слова на упреки девушки, но лицо его побледнело еще сильнее, а сверкающие, словно звезды, глаза буквально впились в Еву. То, что говорил этот взгляд — знали оба, да и не было таких слов в земных языках, чтобы передать во всей полноте то, что чувствовали сердца… Еще мгновение Ева держалась, сражаясь с этим молчаливым призывом всем своим женским естеством, а затем… О небеса! Она оказалась в его объятиях, руки его обвились вокруг ее талии, ее голова склонилась к нему на грудь, и все ненужные слова потонули во всхлипах и бессвязных признаниях… О лучезарный час почти убийственного счастья; сердца, которых коснулось это блаженство, узнают в свой час, что все это было не напрасно… Теперь эти двое молчали — не было необходимости в словах, слова не могли передать и половины того, что каждый из них хотел бы сказать. Да и, говоря по правде, губы влюбленных были заняты совсем другим… Тем временем солнце совсем зашло, и над тихим морем поднялась медовая луна, залив маленький корабль серебром. Ева осторожно высвободилась из рук Эрнеста и подалась вперед — она никогда не думала, что луна может быть столь прекрасна. Эрнест тоже смотрел на луну. Влюбленные всегда так делают. — Ты знаешь эти строки?Глава 13
МИСТЕР КАРДУС ОБЪЯВЛЯЕТ О СВОИХ ПЛАНАХ
— Эрнест, — сказал мистер Кардус наутро после событий, описанных в предыдущей главе, — я хочу поговорить с тобой у себя в кабинете. И с тобой тоже, Джереми. Они последовали за ним в кабинет, гадая, в чем дело. В кабинете мистер Кардус расположился у себя за столом, дождался, пока усядутся Эрнест и Джереми, а потом начал, по обыкновению не глядя им в глаза: — Пришло вам время, ребята, заняться делом и собой. Не следует учиться праздности — тому, что предпочитает большинство молодых людей. Чем вы сами предполагаете заняться? Джереми и Эрнест переглянулись с довольно глупым видом, но, по счастью, мистер Кардус и не ждал от них немедленного ответа. Во всяком случае, он продолжал, не дав им произнести ни слова: — Вы, кажется, никогда всерьез об этом не задумывались; буквально следуя завету Библии, вы не думали о завтрашнем дне. Что ж, вам повезло, что у вас есть тот, кто подумал об этом за вас. Вот что я собираюсь предложить вам обоим. Твое будущее, Эрнест, я хотел бы видеть в адвокатуре. Большинство молодых людей почитают это занятие глупым и скучным, однако это не твой случай: если ты проявишь способности и усердие, я мало-помалу буду передавать свое дело в твои руки — а в конце концов к тебе перейдет вся моя контора, ибо ничего другого у меня нет. Полагаю, ты иногда задаешься вопросом — что же это за дело? На первый взгляд, я не слишком погружен в дела, не так ли? Старый безумец служит у меня клерком, Дороти переписывает мои личные письма… и тем не менее, дела идут, принося доход. Могу сказать вам обоим по секрету — здесь сосредоточена лишь часть моего бизнеса. Другая моя контора находится в Лондоне, еще одна в Ипсвиче, третья — в Норвиче, хотя все они записаны на другие имена. Кроме этого я владею и другими конторами, самой разной направленности. Однако разговор сейчас не о них. Я связывался с Астером, большим человеком в суде — у него в канцелярии намечается вакансия. Дайте-ка взглянуть… да, со 2 ноября. Таким образом, Эрнест, я предлагаю тебе место в Линкольнс-Инн. Кроме того, я выделяю тебе ежегодное содержание в 300 фунтов и надеюсь, ты понимаешь, что не должен выходить за границы этой суммы. Вот, собственно, и все, что касается тебя. — Уверяю вас, я очень признателен вам, дядя! — горячо сказал Эрнест, как раз накануне вечером ясно осознавший, что ему необходимо найти себе какое-то занятие. Однако дядя прервал его. — Хорошо, хорошо, Эрнест, все понятно. Теперь о тебе, Джереми. Я предлагаю тебе работать на меня, и если ты будешь прилежен и докажешь свою полезность, то со временем я намерен выделить тебе часть семейного бизнеса. Чтобы ты не чувствовал себя полностью зависимым, я и тебе намерен назначить ежегодное содержание, сумму которого определю позднее. Мысленно Джереми застонал: перспектива стать адвокатом, даже с «долей в семейном бизнесе» его совершенно не привлекала, однако он вспомнил разговор с Дороти и поблагодарил мистера Кардуса со всей сердечностью, на какую только был способен. — Что ж, прекрасно, в таком случае я подготовлю дела — и ты сможешь занять свое место в конторе уже на следующей неделе. Полагаю, это все, что я хотел вам сказать. Правильно расценив его слова, юноши собрались уходить. Джереми пребывал в глубокой депрессии, вызванной образом того стула в конторе Кардуса, который ему предстояло занять так скоро. Однако мистер Кардус окликнул Эрнеста: — С тобой я хочу поговорить еще кое о чем, — задумчиво протянул он. — Закрой-ка дверь. Холодок пробежал по спине у Эрнеста: не мог ли дядя что-нибудь узнать про них с Евой? Эрнест и сам имел намерение поговорить с ним на эту тему, однако было бы некстати делать это сейчас, когда он еще не нашел нужных слов. Он прикрыл дверь в кабинет, а потом отошел к стеклянной двери, ведущей в оранжерею, и стал ждать дядиных слов, глядя на цветы. Однако мистер Кардус молчал, словно мысли унесли его куда-то очень далеко… — Что ж, дядя… — не выдержал, наконец, Эрнест. — Это деликатное дело, мой мальчик, но я должен покончить и с ним. Я собираюсь сделать тебе предложение, вернее — попросить кое о чем, и не жду от тебя немедленного ответа, поскольку дело это по своей природе таково, что требует тщательного обдумывания. Я хочу, чтобы ты выслушал меня и ничего пока не говорил. Ответ дашь, когда вернешься из-за границы. В то же время хочу предупредить тебя: мне бы не хотелось, чтобы твой ответ разочаровал меня; впрочем, я не думаю, что ты можешь быть настолько жесток. Скажу так же и то, что если это все же произойдет, ты проиграешь очень и очень многое… в финансовом смысле. — Не имею даже малейшего представления, к чему вы клоните, дядя! — сказал Эрнест, отворачиваясь от двери в оранжерею. — Не сомневаюсь. Сейчас ты все узнаешь. Слушай же — сначала будет немного истории. Много лет назад меня постигло огромное несчастье. Оно сотворило со мной то же, что иногда делает молния с деревом — оставляя кору невредимой, но сжигая сердцевину в пепел. Подробности не важны, в них не было ничего необычного, такое иногда случается с мужчинами и женщинами. Удар был так жесток, что я едва не повредился рассудком — и с того дня посвятил свою жизнь мести, как бы мелодраматично это ни звучало. Я был жестоко оскорблен и обижен — и решил, что те, кто обидел меня, должны испробовать той же горечи полной мерой. Так и произошло, моя месть настигла всех, кроме одного из них, ему удалось на время скрыться, но он все равно обречен. Неважно, я продолжу. У женщины, из-за которой все произошло — а там, где происходит несчастье, чаще всего оказывается замешана женщина, — были дети. Эти дети — Дороти и ее брат. Я усыновил их. С течением времени я полюбил девочку за ее сходство с матерью. Мальчика я так и не смог полюбить; я и сейчас не люблю его, хотя он настоящий джентльмен, в отличие от своего отца. Тем не менее могу смело сказать, что выполнил свои обязательства и перед ним. Я рассказываю все это тебе, чтобы ты смог лучше понять ту просьбу, с которой я собираюсь к тебе обратиться. Я тебе доверяю — ты никогда не проговоришься об этом и даже забудешь, если сможешь. Так вот, моя просьба… Эрнест в изумлении смотрел на мистера Кардуса. — Мое единственное и главное желание состоит вот в чем: ты должен жениться на Дороти. Эрнест смертельно побледнел и сделал попытку заговорить, однако мистер Кардус вскинул руку и продолжал: — Помни о моей просьбе! Умоляю, не говори пока ничего, только слушай. Разумеется, я не могу принудить тебя к этому — как и к любому другому — браку. Я могу только умолять тебя прислушаться к моей просьбе, ибо я знаю, что это и в твоих интересах. У этой девушки золотое сердце, и если ты женишься на ней, то унаследуешь все мое состояние, а оно очень велико. Я заметил, что в последнее время ты много общаешься с мисс Евой Чезвик — она, бесспорно, красивая женщина, и ты ею увлечен. Хочу лишь предупредить, что любые твои действия в этом направлении будут мне крайне неприятны и в значительной степени разрушат твое будущее — то, каким я его вижу. И снова Эрнест хотел заговорить — но его дядя не позволил ему сделать это. — Не хочу никаких признаний, Эрнест, не хочу, чтобы были произнесены слова, о которых мы оба впоследствии можем пожалеть. Насколько я знаю, ты собираешься уехать за границу со своим другом Батти на пару месяцев. Когда вернешься — тогда и дашь мне ответ насчет Дороти. Вот тебе чек на все расходы — потрать деньги так, как тебе захочется. Возможно, у тебя есть какие-то счета — оплати их. Он протянул юноше сложенный чек и сказал: — Теперь оставь меня, у меня много дел. Эрнест вышел из кабинета в полном смятении. Уже во дворе он машинально развернул чек. Там стояла огромная сумма — двести пятьдесят фунтов. Юноша сунул чек в карман и принялся размышлять над своим положением, которое казалось не просто затруднительным — почти безвыходным. Воистину, у этой дилеммы имелись два острейших рога, и будь Эрнест постарше — один из них пронзил бы его сердце. На мгновение его охватило яростное желание немедленно вернуться к дяде и все честно ему рассказать — однако, поразмыслив, он никак не мог понять, к чему это приведет. Во всяком случае, ему показалось, что он должен посоветоваться с Евой — они договорились встретиться на берегу в три часа. Больше ему не с кем было советоваться — о Еве он не хотел говорить ни с Джереми, ни с Дороти. Остаток утра Эрнест чувствовал себя ужасно, но время все же шло — и в три часа он уже был на месте. Примерно в миле от окраины Кестервика, то есть в двух милях от Тайтбургского аббатства, в море выдавалась скала, удивительным образом напоминавшая мыс, на котором стоял Дум Несс. Причиной ее удивительной сопротивляемости волнам было то, что она была не из песчаника, как остальные прибрежные скалы, а из более твердой породы. Волны смогли лишь выдолбить в камне некое подобие пещеры — так скалу и стали называть. Во время прилива в течение двух с лишним часов вода поднималась так высоко, что к скале можно было подобраться только на лодке, однако в остальное время здесь можно было без труда укрыться в гроте — и тогда никто не смог бы разглядеть прячущегося здесь ни с пляжа, ни из лодки, подплывшей со стороны моря. Именно здесь Эрнест и Ева договорились встретиться — и здесь он нашел ее сидящей на обломке скалы. При виде ее прекрасного лица Эрнест забыл обо всем на свете, а когда Ева, зарумянившись, подставила ему свое милое личико для поцелуя — во всей Англии не осталось парня счастливее Эрнеста Кершо. Потом она подвинулась — на камне было достаточно места для обоих — и Эрнест обнял ее за талию, а минуту спустя Ева положила головку ему на плечо, и оба были при этом очень счастливы. — Ты рано пришла. — Да, мне хотелось сбежать от Флоренс и обо всем хорошенько подумать. Ты даже не представляешь, какой неприятной она может быть. Она кажется всеведущей. Например, она знала, что мы вчера провели вечер вместе. За завтраком она сказала, что надеется, что мне понравилась морская прогулка при лунном свете. — Она колдунья! И что ты ей ответила? — Я сказала, что мне очень понравилось. К счастью, тетушка не обратила на это внимания. — Почему ты не сказала, что мы помолвлены? Ведь мы помолвлены, ты знаешь об этом? — Да, думаю — это так. — «Думаю»! Никаких «думаю»! И потом, если мы не помолвлены — то что же тогда между нами? — Ах, Эрнест, это так абсурдно звучит — быть помолвленной с мальчиком! Я люблю тебя, дорогой мой, люблю всей душой, но как я могу сказать, что мы помолвлены? Эрнест вскочил, охваченный гневом. — Я скажу тебе вот что, Ева: если я недостаточно хорош, чтобы объявить о наших отношениях, значит, я недостаточно хорош и для самих отношений! Да, пусть мальчик. Мне двадцать один год, это правда! Вечно все сводится к тому, что я слишком молод — как будто это вечно будет моим недостатком, как будто я не повзрослею! Разве ты не можешь подождать год или два?! — в глазах Эрнеста закипали злые слезы. — О Эрнест, Эрнест, будь же разумен, дорогой! Зачем злиться и расстраивать меня? Иди сюда и сядь со мной, дорогой. Скажи, а разве я не заслуживаю немного терпения? Насколько я понимаю, о нашем браке сейчас не может быть и речи, и потому вопрос состоит в том, стоит ли кричать во всеуслышание о нашей помолвке — это лишь даст пищу слухам и может не понравиться твоему дяде. — О боги! — выдохнул он — Я совсем забыл! Усевшись обратно на камень, Эрнест немедленно рассказал Еве о разговоре с дядей. Она слушала молча, а когда он закончил, тихо сказала: — Все это очень плохо. — Да, довольно плохо, но что же делать? — Сейчас, во всяком случае, ничего сделать нельзя. — Должен ли я все честно ему рассказать? — Нет, нет, не сейчас, будет только хуже. Мы должны подождать, дорогой. Ты уедешь на пару месяцев, как и планировал, а когда вернешься — мы посмотрим, что можно сделать. — Но, дражайшая моя, я не хочу тебя оставлять одну, это разрывает мне сердце. — Дорогой, я знаю, что это нелегко, но так надо. Ты не смог бы оставаться здесь и ничего не сказать о… нашей помолвке, а это привело бы только к тому, что твой дядя рассердился бы на тебя. Нет, тебе лучше уехать, Эрнест, а я пока постараюсь заслужить симпатии мистера Кардуса; если же мне это не удастся, то когда ты вернешься, мы составим новый план. Может быть, за это время ты вообще согласишься с доводами дяди и захочешь жениться на Дороти. Она ведь будет тебе лучшей женой, чем я, дорогой мой. — Ева, как ты можешь такое говорить? Это немилосердно! — А почему нет, Эрнест? Это же правда. Ну да, я знаю, что выгляжу лучше, все так думают — но Дороти гораздо умнее меня и уж во всяком случае — у нее большое сердце, гораздо больше, чем мое, хотя, честно говоря, я сейчас чувствую себя так, будто я — одно огромное сердце. Честное слово, Эрнест, тебе лучше подумать и пересмотреть свое решение. Откажись — и забудь про меня, дорогой мой, это убережет тебя от неприятностей. Я чувствую, что надвигается беда, это просто носится в воздухе. Женись лучше на Дороти и оставь меня наедине с моей печалью. Я освобождаю тебя, Эрнест! С этими словами Ева разразилась плачем. — Я подожду отказываться от тебя, пока ты не откажешься от меня, — сказал Эрнест, найдя способ осушить ее слезы. — А что до «забыть» — я никогда не смогу этого сделать. Пожалуйста, дорогая моя, не говори так больше — это убивает меня. — Хорошо, Эрнест, тогда давай поклянемся в вечной верности друг другу… но я знаю наверняка, что принесу тебе несчастье. — Что ж, это цена, которую мужчины платят за улыбки таких женщин, как ты, — отвечал Эрнест. — Пускай будет несчастье — я не боюсь его, ведь я знаю, что ты меня любишь. Когда я потеряю твою любовь — вот тогда и только тогда я сочту, что заплатил за нее слишком дорого. В течение всей последующей жизни Эрнесту не раз придется вспомнить эти слова…Глава 14
ПРОЩАНИЕ
В жизни есть некоторые сцены, довольно тривиальные на первый взгляд, однако особенно четко запечатлевающиеся в нашей памяти и хранящиеся там долгие годы в своей первозданной яркости. Можно забыть события, окружавшие эти сцены; они сольются в единый тусклый фон и будут неотличимы друг от друга, как деревья в лесу, на которые вы смотрите с большой высоты. Однако отдельные сцены или лица будут видны нам так же ясно, как если бы мы переживали тот самый момент в настоящем. Это может быть сцена из далекого детства, например — рыба, плеснувшая хвостом по воде под деревенским шатким мостиком. Сколько с тех пор мы видели рыб и рек — видели и забыли… но эта маленькая рыбка навсегда затаилась в хранилище нашей памяти, где до поры до времени спят воспоминания, которым не суждено быть стертыми никогда… Именно так — с отчетливой фотографической ясностью — запечатлелась в памяти Эрнеста сцена прощания с Евой на следующее утро, утро его отъезда за границу. Это было публичное прощание, потому что, как это часто случается с юными влюбленными, у них не было возможности попрощаться наедине. Все собрались в маленькой гостиной коттеджа мисс Чезвик: сама мисс Чезвик сидела на стуле с высокой прямой спинкой в нише у окна; Эрнест — возле стола, чувствуя себя крайне неудобно; Ева по другую сторону стола — сжимая в руках альбом и старательно разглядывая его. Позади всех, небрежно облокотившись на спинку стула, стояла Флоренс, постаравшаяся встать так, чтобы никто не мог толком разглядеть ее лица, а сама она видела всех. Эрнест со своего места видел лишь очертания ее смуглого личика, да чувствовал быстрые взгляды ее настороженных карих глаз. Они сидели так довольно долго, хотя впоследствии он не мог вспомнить, о чем они говорили, — в памяти остались лишь образы и сама эта сцена. Затем, наконец, наступил и самый ужасный момент — он понял, что пора уходить, и начал прощаться. Мисс Чезвик сказала что-то о том, как ему повезло, что он едет во Францию и Италию, и предупредила, чтобы он был осторожен и не терял голову от красоты заграничных девиц. Эрнест пересек комнату и обменялся рукопожатиями с Флоренс, которая хладнокровно улыбнулась ему в лицо, не сводя с него своих пронзительных глаз. В последнюю очередь он подошел к Еве, и она в замешательстве уронила свой альбом и носовой платок, поднимаясь со стула и протягивая ему руку. Он наклонился и поднял их; альбом положил на стол, а крошечный кусочек ткани, обшитый кружевами, сжал в кулаке и не отдал — это был единственный сувенир на память о Еве. Затем он взял девушку за руку и на мгновение взглянул ей в лицо. На губах Евы играла улыбка, но лицо было бледным и каким-то отчаянным. Расставаться было невыносимо тяжело. — Ну же, Эрнест! — весело сказала мисс Чезвик. — Вы двое смотрите друг на друга так, словно прощаетесь навеки. — Вполне возможно, что так и есть, — спокойно заметила Флоренс своим звучным и сильным голосом, и в этот миг Эрнест почувствовал, что ненавидит ее. — Прекрати каркать, Флоренс, это к несчастью! — строго сказала мисс Чезвик. Флоренс улыбнулась. Эрнест отпустил холодные пальцы Евы, повернулся и вышел из комнаты. Флоренс последовала за ним, надела шляпку и ушла в сад. Когда он вышел из коттеджа, то увидел, что она с притворным старанием собирает гвоздики. — Я хотела переговорить с тобой, Эрнест! — окликнула она его, выпрямляясь. — Пойдем со мной. Она провела его мимо окон гостиной, а затем по дорожке между кустами роз. Пройдя шагов двадцать, Флоренс остановилась и сказала: — Мои поздравления, Эрнест. Я надеюсь, вы оба будете счастливы. Такая красивая пара просто обязана быть счастливой, знаешь ли. — Но, Флоренс, кто тебе сказал… — Сказал?! Никто не говорил. Я видела это с самого первого мгновения. Насколько я помню — все началось в тот вечер у Смитов, когда она дала тебе розу, ну а на следующий день ты спас ей жизнь в совершенно романтичном и старомодном стиле. Потом события шли естественным путем, пока однажды вечером вы не отправились вдвоем на лодке… продолжать? — Не думаю, что это необходимо, Флоренс. Понятия не имею, откуда ты все это узнала. Флоренс медленно и самозабвенно ощипывала гвоздику — лепесток за лепестком. — Понятия не имеешь? — со смехом переспросила она. — Любовники часто слепы, но это не значит, что слепы и те, кто их окружает. Я часто думаю, Эрнест, как все же хорошо, что я поняла свою ошибку до того, как ты понял свою. Представь, что было бы, если бы я и в самом деле влюбилась в тебя — положение было бы совершенно ужасным, не так ли? Эрнест был вынужден признать, что это правда. — Однако, к счастью, этого не произошло. Теперь я всего лишь твой верный и преданный друг, Эрнест, и потому хочу по-дружески сказать тебе кое-что о Еве — вернее, предупредить. — Продолжай. — Ты любишь Еву, а Ева любит тебя, Эрнест, однако запомни: она слаба и податлива, словно вода. Она всегда такой была, с самого рождения. Красивые женщины часто бывают такими, Природа позаботилась, чтобы им достались не все ее дары. — Что ты имеешь в виду? — Только то, что сказала, ничего больше. Она слабая — и ты не должен удивляться, если она тебя бросит. — Святые небеса, Флоренс! Да она любит меня всем сердцем! — Это так, но женщины часто думают не только о своем сердце. Впрочем, я не хочу тебя пугать, просто… я бы на твоем месте не стала бы полагаться на Евино постоянство — как бы ни была уверена в ее нынешней любви. Ну перестань! Ты выглядишь таким потерянным, Эрнест, — я не хотела причинить тебе боль. Да, и помни: какие бы трудности не возникли у вас с Евой, я всегда буду на твоей стороне. Помни, что я твой верный друг, хорошо, Эрнест? — И Флоренс протянула ему руку. Эрнест пожал ее. — Хорошо, — коротко сказал он в ответ. Они вернулись той же тропинкой; когда они проходили мимо окон гостиной, Флоренс коснулась руки Эрнеста и молча кивнула на одно из окон. Оно было открыто. Мисс Чезвик в комнате уже не было, но Ева по-прежнему сидела за круглым столом. Она низко склонила голову, уткнувшись в альбом, и по движению ее плеч Эрнест понял, что она горько плачет. Потом она на мгновение подняла голову — и он увидел, что ее прекрасное лицо залито слезами. Эрнест непроизвольно шагнул вперед, намереваясь броситься обратно в дом — но Флоренс удержала его. — Сейчас лучше оставить ее одну, — шепнула она, уводя его, а когда они прошли несколько шагов, добавила уже в полный голос: мне жаль, что ты видел ее в таком состоянии — ведь если вы больше никогда не увидитесь или увидитесь очень не скоро, то у тебя в памяти надолго останется это болезненное воспоминание. Что ж, прощай. Надеюсь, ты отлично проведешь время. Эрнест молча пожал руку девушки — в горле у него стоял комок, мешавший говорить. Он повернулся и отправился домой, чувствуя себя совершенно несчастным. Что же касается Флоренс, то она заслонила глаза рукой от солнца и провожала Эрнеста взглядом, пока он не скрылся из виду; взглядом, в котором светились любовь и тоска, коим суждено было превратиться в жгучую ненависть. Когда юноша скрылся из виду, она опрометью бросилась домой, ворвалась к себе в спальню и упала на кровать, уткнувшись лицом в подушку, чтобы никто не услышал ее всхлипов; печаль очень быстро сменилась приступом ревности, столь яростной, что это могло бы внушить ужас тому, кто это видел…Эрнесту хватило времени лишь на то, чтобы вернуться в Дум Несс и наскоро пообедать — пришло время отправляться на станцию. Дороти собрала его вещи и сделала все необходимые приготовления к путешествию — те милые мелочи, о которых знают только женщины, — так что Эрнесту оставалось лишь зайти к дяде, который сердечно пожал ему на прощание руку и попросил не забывать об их разговоре, после чего можно было отправляться на станцию. В гостиной Эрнест обнаружил Дороти — с его пальто, шляпой и перчатками, — а также Джереми, который собрался ехать на станцию вместе с ним. Эрнест быстро оделся; странно, но все собравшиеся упорно и скорбно молчали, словно он отправлялся в какое-то дикое место со смертоносным климатом, а не в двухмесячный тур по европейским городам. — До свиданья, Долли, дорогая! — наконец воскликнул Эрнест и наклонился, чтобы поцеловать Дороти… но она отстранилась. Через минуту Эрнест уже выходил из дома. На станции они с Джереми перемолвились парой слов о Еве. — Ну так что, Эрнест? — немного нервно спросил Джереми. — Ты… поладил? — С ней? — Разумеется, с ней! С кем еще-то! — Да, только… Джереми? — Чего? — Я не хочу, чтобы ты об этом кому-нибудь говорил. Пока не надо. — Очень хорошо. — Послушай, старина… Я надеюсь, ты не очень расстроен? Джереми поднял свои серьезные честные глаза на друга и заговорил медленно, подбирая слова: — Если бы я сказал, что не расстроен — я бы солгал. Но я говорю: поскольку я не смог выиграть ее любовь, я рад, что этого добился ты… Потому что второй после нее человек, которого я больше всего люблю на свете, — это ты. Ты всегда был везунчиком, и я желаю тебе счастья. А вот и поезд. Эрнест крепко стиснул руку друга. — Спасибо, старина! Ты отличный парень и лучший в мире друг. Я знаю, удача была на моей стороне — но, быть может, пора ей повернуться в другую? Прощай! Эрнест планировал переночевать в Лондоне и уехать на следующее утро, в среду, в Гернси. Там в четверг он должен был встретиться со своим приятелем и отправиться вместе с ним в тур, начав с Нормандии, а дальше — как подскажет им фантазия. Пока что программу он выполнял безукоризненно — по крайней мере, первую ее часть. По пути от станции Ливерпуль-стрит в гостиницу, где Эрнест обычно останавливался, бывая в Лондоне, его экипаж пересек Флит-стрит и намертво застрял в пробке напротив дома номер девятнадцать. Номер дома попался на глаза Эрнесту, и он задумался — откуда ему известен этот дом? Довольно быстро он вспомнил, что на Флит-стрит, 19 находится контора господ Гослинга и Шарпа, банкиров его дяди, а также и то, что в кармане у него лежит дядин чек на 250 фунтов стерлингов. Решив не терять времени и обналичить чек, Эрнест выскочил из своего экипажа и направился в банк. Кассир уже вставал из-за кассы, поскольку до закрытия оставалось менее часа, однако чек у Эрнеста принял без колебаний и малейшего недовольства. Имя господина Кардуса, очевидно, было хорошо известно в этом учреждении. Свой путь по Лондону Эрнест продолжил, хрустя в кармане новенькими казначейскими билетами Банка Англии — и это обстоятельство оказало ему неоценимую услугу во время некоторых событий… о которых, впрочем, сейчас он и подумать не мог. Нам необязательно подробно следить за Эрнестом Кершо на его пути в порт Святого Петра, поскольку это короткое путешествие мало чем отличалось от путешествий других людей. Достаточно упомянуть, что он благополучно прибыл туда в среду днем, остановился в лучшем отеле, заказал номер и отдал должное здешнему обеду. Во время рейса из Саутгемптона Эрнест разговорился с одним из попутчиков — спокойным симпатичным мужчиной, судя по виду — иностранцем. К тому же и говорил он по-английски с каким-то странным, чуть заметным акцентом. Этого джентльмена — а он, без сомнения, был настоящий джентльмен — сопровождал в поездке мальчик лет девяти. Его манеры и поведение были безукоризненны, и Эрнест предположил, что перед ним отец и сын. Мистер Эльстон — так он представился Эрнесту — был человеком средних лет и на первый взгляд обладал ничем не примечательной внешностью, однако пообщавшись с ним некоторое время, никто не смог бы не заметить, что этот человек, несмотря на свою нейтральную внешность, обладает поразительной индивидуальностью. Из разговоров Эрнест сделал вывод, что мистер Эльстон прибыл из колоний, поскольку еще в колледже часто замечал, что колонисты гораздо менее сдержанны и закрыты, чем жители метрополии. Вскоре выяснилось, что мистер Эльстон прибыл из колонии в Натале и впервые за долгие годы посещает родину. До недавнего времени он занимал в Натале довольно высокий пост, однако в Англии скончалась престарелая сестра его отца, оставив ему наследство, и мистер Эльстон оставил государственную службу; теперь, после краткого визита «домой» — как все колонисты привыкли называть добрую старую Англию, даже если они никогда в ней не жили — они с сыном возвращались в Африку, чтобы отправиться в большую охотничью экспедицию по землям, расположенным между Секокени и заливом Делагоа. Все это Эрнест узнал еще до того, как они прибыли в гавань Святого Петра, где их пути разошлись. Однако, к радости Эрнеста, когда он вошел во двор отеля, то нашел там мистера Эльстона с сыном: они стояли посреди двора и выглядели довольно озадаченными. — Привет! — воскликнул Эрнест. — Я очень рад, что вы тоже остановились в этом отеле. Вам чем-нибудь помочь? — Боюсь, что да, парень. Дело в том, что я ни бельмеса не понимаю по-французски, а нам с моим мальчиком надо попасть в одно место… Если бы тут кто-нибудь говорил на зулу или сисуту — я был бы в своей тарелке, но французский для меня — варварский язык, а все эти люди вокруг, похоже, только на нем и болтают. Вот адрес. — Я говорю по-французски, — сообщил Эрнест, — и если хотите, могу пойти с вами. Табльдот только в семь часов, а сейчас нет и шести. — Очень любезно с твоей стороны. Спасибо! — Не за что. Я не сомневаюсь, что вы подскажете мне правильную дорогу в Зулуленде, если мне доведется там заплутать. — О, вот это — с удовольствием, даже не сомневайся, — рассмеялся Эльстон, и они отправились в путь. Найти место, которое разыскивал мистер Эльстон, оказалось нелегко, однако, в конце концов, Эрнест сделал это. Оказалось, что это маленькая старинная улочка, причудливо изогнутая и узкая, представляющая собой скопище старинных частных домов и лавочек, большая часть которых, судя по всему, специализировалась на продаже мыла и свечей. Наконец они подошли к номеру тридцать шесть — старому серому дому с собственным садиком. Мистер Эльстон внимательно и придирчиво изучил его. — Да, это то самое место! — сказал он. — Она часто рассказывала мне о гербе над дверью — кефаль, которую пронзают пиками три белки. Вот они, видите? Интересно, это все еще школа? Выяснилось, что это действительно была школа — и после недолгих переговоров их впустили внутрь и разрешили побродить по заросшему, огороженному каменной стеной саду, с каждым уголком которого мистер Эльстон был, по всей видимости, отлично знаком. — Вот дерево, под которым она любила сидеть, — грустно и тихо сказал он мальчику, указывая на старый тис, под которым стояла полусгнившая деревянная скамья. — Кто? — спросил заинтересованный Эрнест. — Моя покойная жена, мать этого парнишки; она здесь училась, — со вздохом отвечал мистер Эльстон. — Что ж, вот я и повидал это место. Пойдемте.
Глава 15
ЭРНЕСТ ПОПАДАЕТ В БЕДУ
Когда мистер Эльстон и Эрнест вернулись в гостиницу, до ужина оставалась еще четверть часа, поэтому Эрнест зашел к себе, умылся и надел черный сюртук, а после спустился выпить кофе. В кофейне был всего один посетитель — высокая симпатичная француженка лет тридцати. Она стояла возле незажженного камина, положив руку на каминную полку и сжимая кружевной носовой платок; первое впечатление Эрнеста о ней было то, что она очень красива — и слишком вызывающе одета. Дама тянулась к газете, лежавшей на каминной полке, и уронила платок. Эрнест быстро наклонился и поднял его. — Mille remerciments, monsieur, — воскликнула она, слегка присев в реверансе. — Du tout, madame. — Ah, monsieur parle français? — Mais oui, madame[414]. Затем они погрузились в оживленную беседу, в ходе которой Эрнест узнал, что мадам считает порт Святого Петра скучнейшим местом; что она провела здесь три дня со своими друзьями и едва не умерла от скуки; что она собирается пойти на танцы этим вечером — «разумеется, мсье будет там?» — и еще массу интересных вещей, поскольку мадам оказалась большой любительницей поговорить. В середине этого разговора открылась входная дверь, и в кофейню вошла еще одна леди, примерно того же возраста, что и мадам; за ней следовали двое молодых людей. У одного из них было лицо самого обычного английского образца, скорее добродушное, чем выразительное; однако при виде второго молодого человека Эрнест вздрогнул: он словно увидел свое собственное отражение, вернее — то, каким он мог бы стать, если бы потратил несколько лет на выпивку, игру в кости, поздние подъемы по утрам и все сопутствующие этим занятиям удовольствия. Молодой человек, вероятно, был джентльменом — однако джентльменом довольно дурного нрава, нездоровым и не вполне трезвым… по крайней мере, так показалось Эрнесту. — Пора обедать, Камилла! — бесцеремонно обратился молодой человек к мадам, одновременно смерив Эрнеста хмурым взглядом. Мадам сделала вид, что не понимает его, и продолжала что-то щебетать Эрнесту. — Камилла, пора обедать! — молодой человек повысил голос, и на этот раз мадам пришлось его услышать. — О-бье-дать? Что есть такое — обьедать? — Табльдот! — сердито пояснил молодой человек. — О, пардон! — послав Эрнесту обворожительную улыбку и кивок, мадам приняла руку сердитого молодого человека и величественно поплыла к выходу. До Эрнеста донесся сердитый голос молодого человека: «Почему это ты сделала вид, что не понимаешь меня?» Мадам просто пожала плечами в ответ. Эрнест немного помедлил — и последовал за странной четверкой. Когда он вошел в столовую, то увидел, что единственное свободное место за столом — возле его недавней знакомой из кофейни. Если бы Эрнест был немного наблюдательнее, то, возможно, сообразил бы, что мадам нарочно оставила для него место, поскольку до его прихода стул скрывался под пышными складками ее шелкового платья. Теперь же она проворно подвинулась и пригласила Эрнеста легким кивком. Эрнест сел — и мадам немедленно вовлекла его в очередную бесконечную беседу, что, казалось, было весьма неприятно сердитому джентльмену, сидевшему справа от нее, поскольку он порывисто отодвинул от себя тарелку. Однако мадам оставалась совершенно безмятежной и не обращала на выходки своего спутника никакого внимания, пока, наконец, он не прошептал ей на ухо нечто, от чего кровь прилила к ее прелестным щечкам. «Прекрати, слышишь!» — услышал Эрнест ее яростный шепот, а в следующий миг — последующие события требуют, чтобы мы говорили исключительно правду, — наступила очередь Эрнеста покраснеть, ибо — увы! — не было никаких сомнений, что дерзкая ножка мадам красноречиво прижалась к его ноге. Эрнест схватил бокал вина и торопливо пригубил, чтобы скрыть смущение; однако мы не можем с уверенностью сказать, хватило ли у него нравственного мужества выйти из этой щекотливой ситуации, найдя спасение за куда более холодной, но зато безопасной ножкой стула. История об этом умалчивает — будем надеяться, что наш герой остался тверд. Так это было или нет, но обедал Эрнест без аппетита, коему ситуация ну никак не способствовала. Тем временем мистер Эльстон, сидевший напротив, спросил его: — Не собираетесь сегодня на танцы, мистер Кершо? К изумлению Эрнеста, вместо него ответил джентльмен, сидевший справа от мадам — и тоже с немалым удивлением: — Да, я собираюсь. — Простите великодушно, — заметил мистер Эльстон, — но я обращался к другому джентльмену, слева от вас. — О разумеется. Мне послышалось, что вы сказали — Кершо. — Совершенно верно, я именно так и сказал, поскольку имя этого джентльмена — Кершо, как я полагаю. — Ну да, — вступил в разговор и Эрнест. — Я — Кершо. — Очень странно, — воскликнул мрачный молодой человек, — поскольку и я — Кершо. Я не знал, что есть другие… Кершо. — И я не знал других, — кивнул Эрнест, и лицо его потемнело, — кроме сэра Хью Кершо. — Я — сын сэра Хью Кершо, и меня тоже зовут Хью Кершо! — последовал ответ. — Ну конечно! — вскричал Эрнест. — Значит, мы кузены, я полагаю — поскольку я его племянник, сын его брата Эрнеста. Хью Кершо, судя по всему, не испытывал ни малейшего энтузиазма, узнав эту новость; он просто приподнял редкие брови и сказал: «О да, я припоминаю, мой дядюшка оставил сына». После этого он наклонился к своему соседу и отпустил какое-то замечание, заставившее того рассмеяться. Эрнест почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо; в тоне его кузена было нечто оскорбительное и дерзкое. Обед подошел к концу, и мадам, послав Эрнесту очередную обворожительную улыбку, удалилась. Эрнест с мистером Эльстоном выкурили по трубке, а около девяти часов отправились в Холл, или Залы Ассамблеи — здание, почти полностью состоявшее из стекла, где во время сезона трижды в неделю гости порта Святого Петра могли насладиться танцами, флиртом и беспечным весельем. Первой, кого Эрнест встретил здесь, оказалась мадам — теперь она была в вечернем платье, открывавшем ее белоснежные плечи. Она сидела возле самой двери и, казалось, наблюдала за входящими. Эрнест вежливо поклонился ей и хотел пройти дальше, но мадам, верная прежней тактике, уронила свой букет. Эрнест наклонился и поднял его, вернул владелице и снова собирался уйти, однако в этот момент заиграл оркестр, и мадам обратилась к нему: — О, прелестная музыка! Мсье вальсирует, не так ли? Через несколько секунд они уже кружились в танце. Эрнест заметил и своего кузена — тот стоял в углу и пристально смотрел на него отнюдь не дружелюбным взглядом. Мадам заметила, куда смотрит ее партнер. — Ах, мсье Хью не вальсирует, так жаль! Посмотрите-ка, он ревнует — вам не кажется? Эрнест трижды танцевал со своей очаровательной поработительницей; с последним вальсом завершился и весь бал. Кузен подошел к ним, и вся компания, включая мистера Эльстона, вышла на свежий воздух и побрела по узким и крутым улочкам, теперь совершенно пустынным, к отелю. Здесь Эрнест пожелал спокойной ночи мадам, а она протянула ему руку. Он пожал ее — и почувствовал, как в ладонь ему скользнул клочок бумаги. Не привыкший к таким трюкам Эрнест выронил его. Это была программа бала, на которой было что-то нацарапано карандашом. К сожалению, Эрнест был не единственным, кто видел это; кузен Хью, весьма нетрезвый, тоже заметил записку и попытался забрать ее, однако Эрнест оказался проворнее. — Дай мне это! — хрипло рявкнул кузен Хью. Вместо ответа Эрнест сунул записку в карман. — Что там написано?! — Я не знаю. — Что ты написала на программе, Камилла? — Бог мой, да отстань же ты от меня! — Я настаиваю, чтобы вы отдали мне записку! — взревел Хью. — Этот мсье — джентльмен, он этого не сделает! — сказала мадам, бросив многозначительный взгляд на Эрнеста, а затем повернулась и ушла в гостиницу. — Я не собираюсь отдавать вам записку, — сердито сказал Эрнест. — Ты отдашь мне ее! — Эта леди — ваша жена? — спросил Эрнест. — Это мое дело! Отдай записку! — Я не отдам вам ее, — начиная терять терпение, огрызнулся Эрнест. — Я не знаю, что там написано, да и не хочу знать, но что бы там ни было — леди дала ее мне, а не вам. Она не ваша жена, и вы не имеете права требовать у меня ее записку. Кузен Хью побледнел от ярости. Он и в лучшие свои времена не был добрым человеком, теперь же, пьяный и обуреваемый ревностью, он выглядел совершеннейшим злодеем. — Будь ты проклят! — прошипел он. — Чертов полукровка! Надо полагать, свои манеры ты перенял у мамаши! Больше он ничего сказать не успел, потому что удар Эрнеста отправил его прямиком в сточную канаву. Эрнест встал над ним, бледный и на удивление спокойный — и очень тихим, ровным голосом сказал, что если Хью позволит себе произнести хоть что-то неуважительное о его матери, то он, Эрнест, его убьет. После этого он позволил ему подняться на ноги. Хью Кершо покачнулся, а затем, повернувшись, прошептал что-то на ухо своему другу, тому самому добродушному англичанину с военной выправкой. Тот выслушал его, задумчиво погладил свои пышные усы и обратился к Эрнесту подчеркнуто вежливо: — Меня зовут капитан Джастис, я служил в гусарском полку. Полагаю, мистер Кершо, вы знаете, что никто не может позволить себе роскошь сбивать людей с ног и больше никогда не возвращаться к этому вопросу. Есть ли у вас здесь близкий друг? Эрнест покачал головой и указал на мистера Эльстона: — Вот единственный джентльмен, которого я знаю в этом городе, и я не могу просить его вмешиваться в это дело. Про себя Эрнест начал понимать, что дело принимает серьезный оборот. — Ничего, мой мальчик! — негромко откликнулся мистер Эльстон. — Разумеется, я с тобой. — Но я и в самом деле не имею права… — начал Эрнест. — Чепуха! У нас в колониях принято стоять друг за друга. Мистер Джастис… — Капитан Джастис, с вашего позволения, — отвечал тот с поклоном. — Капитан Джастис, меня зовут Эльстон, и я к вашим услугам. Капитан Джастис обернулся к Хью Кершо, с которого ручьями текла грязная вода, что-то шепнул ему, а затем прибавил громко: — На вашем месте, Кершо, я бы пошел и переоделся, вы простудитесь. Затем, обращаясь уже к мистеру Эльстону, Джастис произнес: — Я думаю, в курительной сейчас никого нет. Пойдемте, переговорим там. Эльстон кивнул, и они вошли в гостиницу. Эрнест последовал за ними, однако, чтобы не мешать, сел в дальнем углу курительной комнаты. Вскоре мистер Эльстон окликнул его. — Вот что, Кершо: дело серьезное, и поскольку касается оно вас лично, то лучше нам выслушать ваш ответ тоже лично. Короче говоря, ваш кузен, мистер Хью Кершо, требует, чтобы вы в письменной форме извинились за то, что ударили его. — Я готов это сделать, как только он принесет извинения за те слова, которые он использовал, упоминая о моей матери. Капитан Джастис одобрительно кивнул. — Это вполне разумное требование. Кроме этого, мистер Кершо требует, чтобы вы отдали записку, полученную от дамы. — Этого я, конечно, сделать не могу и не сделаю! — отвечал Эрнест, доставая карточку из кармана и разрывая ее на мелкие клочки. Капитан Джастис поклонился и вышел из комнаты. Через несколько минут он вернулся и сказал, обращаясь и к Эрнесту, и к мистеру Эльстону: — Мистер Хью Кершо не удовлетворен вашим предложением. Он отказывается принести свои извинения за любые выражения, использованные им в связи с именем вашей матери, и настаивает, чтобы вы сделали свой выбор: либо вы приносите письменные извинения, либо ваша встреча состоится завтра на рассвете. Вы должны помнить, что мы находимся на Гернси, где за оскорбление действием нельзя отделаться штрафом в сорок шиллингов. Разумеется, это не было правдой. Хотя на Гернси свои собственные законы и своя конституция, большинство здешних законодательных актов основаны на старинных норманнско-французских обычаях, а судебные разбирательства ведутся на французском языке — тем не менее, дуэли здесь считаются точно таким же преступлением, как и в Англии, в чем капитану Джастису впоследствии пришлось убедиться на собственном опыте. Однако сейчас никто из них этого не знал. Эрнест почувствовал, как сердце его забилось чаще. Только теперь он вполне понял, что имел в виду капитан Джастис. Ответил он просто и кратко: — Буду счастлив встретиться с моим кузеном в любом месте и в любое время, о которых вы договоритесь с мистером Эльстоном. После этого он вернулся на свое место и от души насладился трубкой — и совершенно новыми для себя ощущениями. Капитан Джастис с жалостью поглядел на юношу и негромко сказал мистеру Эльстону: — Мне жаль его. Кершо хороший стрелок. Полагаю, пистолеты выберете вы. В такой спешке трудно раздобыть клинки. Хороший мальчик. Жаль, клянусь Юпитером! Я думаю, ему недолго осталось занимать место в этом мире. — Глупое вышло дело! И мы все в него вляпались, это плохо. Нет ли другого выхода, как вы полагаете? — Насколько я понимаю — нет, и дело не решится, пока ваш молодой друг не испробует на вкус могильную землю. Этот Кершо скверный парень — и совершенно обезумел из-за этой женщины; он потратил на нее тысячи фунтов. И он не простит, что его изваляли в сточной канаве. Лучше бы вам уговорить вашего друга извиниться, потому что иначе Кершо убьет его. — Не дело так говорить. Я прожил нелегкую жизнь и хорошо разбираюсь в людях. Этот мальчик не той породы. Кроме того, неправ был ваш друг, а не мальчик. Если бы кто-нибудь сказал такое о моей матери — я бы пристрелил его. — Хорошо, мистер Эльстон. Теперь об оружии: у меня его нет. — У меня есть два револьвера смит-и-вессон, я купил их вчера, хотел забрать в Африку. Они стреляют очень крупнокалиберными пулями, капитан Джастис. — Слишком, я бы сказал. Если одна из них попадет куда угодно…. — Он не закончил фразу. Мистер Эльстон кивнул. — Мы положим их в двадцати шагах от каждого стрелка, чтобы дать им равные шансы промахнуться. Теперь о времени и месте. — Я знаю укромное место на берегу, примерно в полутора милях отсюда — оно подойдет. Вам надо будет спуститься по этой улице, а затем следовать вдоль линии моря, пока не увидите заброшенную хижину. Там мы вас встретим. — В котором часу? — Дайте подумать… пусть будет без четверти пять. В это время уже достаточно светло. — Очень хорошо. Корабль «Уэймут» уходит в половине седьмого. Я должен заранее собрать свои вещи и проследить за их отправкой на борт. Советую и вам сделать то же самое, капитан Джастис. Нам не стоит возвращаться сюда после того, как дело будет сделано. На этом они расстались. К счастью, управляющий гостиницей не спал, так что все заинтересованные стороны смогли оплатить счета и договориться об отправке багажа на борт судна, не вызвав ничьих подозрений. Эрнест, кроме того, написал записку своему приятелю, который должен был приехать завтра; в ней он довольно туманно объяснил, что его призывают неотложные дела. Эрнест не мог не улыбнуться — хоть улыбка и была печальной — при мысли о том, что дела эти вполне могут затянуться на целую вечность… Затем, уже у себя в номере, он написал еще два письма, одно Еве и одно — Дороти. Мистер Эльстон должен был отправить их в случае, если все закончится плохо. Первое письмо дышало страстью и нежностью, в нем Эрнест выражал надежду на воссоединение с любимой в ином мире — ах, как же крепко держится бедное человеческое сердце за эту идею! — второе было разумным и подробным. Закончив писать, Эрнест принял ванну, как советовал ему мистер Эльстон, затем прочитал молитвы, которым научила его мать, оделся в темный удобный костюм и сел у открытого окна. Ночь была напоена ароматами моря; его неумолчный ровный шум успокаивал душу. Из старинного городка не доносилось ни звука, все дышало покоем и миром. Сидя в темноте, Эрнест задавался мыслью — увидит ли он еще одну такую ночь, и если нет — то каковы ночи в том мире, куда ему предстоит отправиться. Когда он подумал о тех серых туманах, которые скрывают до поры этот неведомый мир, в душу его заполз холодный страх. Не смерти он боялся — а одиночества, царящего за пределами жизни; холодного бесконечного пространства, в котором нет никакой жизни. Встретит ли его там мать — или оттолкнет, если на его руках будет кровь? Следующей мыслью было воспоминание о Еве — и тут слезы выступили у него на глазах: было нестерпимо думать, что в этот одинокий безжизненный мир он отправится без нее…Глава 16
РАБОТА МАДАМ
Наконец небо на востоке посветлело, и Эрнест понял, что рассвет уже близок. Со вздохом поднялся он со своего места и сделал последние приготовления, внутренне готовя себя к тому, что если уж ему суждено сегодня умереть, то умрет он, как подобает английскому джентльмену. На лице его не должно быть ни малейшего признака страха — даже когда на него будет направлен ствол пистолета противника. Раздался негромкий стук в дверь, и мистер Эльстон вошел к нему в номер — совершенно бесшумно, поскольку был без обуви. В руках он нес ящик с двумя револьверами смит-и-вессон. — Нам пора идти, — тихо сказал он. — Я слышал, как капитан Джастис уже спустился вниз. Послушайте, Кершо, вы хоть что-то смыслите в этих штуках? — Да, я довольно часто практиковался дома — при помощи старых дуэльных пистолетов. Вообще-то я неплохо стреляю. — Значит, в этом нам повезло. Теперь берите-ка один из них, я научу, как с ним обращаться, и дам небольшой урок. — Нет, мистер Эльстон. Это было бы нечестно по отношению к моему противнику. Если бы я согласился, а потом убил его — я стал бы убийцей. — Ну, как вам угодно, однако пару слов я все-таки скажу и совет дам. Спусковые крючки в этих револьверах срабатывают от легчайшего прикосновения, я такое видел не раз. Когда дадут команду — прицельтесь хорошенько, лучше всего в грудь противника, и сразу нажимайте на курок. Запомните — нажимать, а не тянуть! Если сделаете, как я скажу, он даже выстрела услышать не успеет. Разумеется, не теряйте хладнокровия — и не будьте сентиментальны: никаких выстрелов в воздух и прочей подобной ерунды, от которой никакой пользы. Запомните мои слова: если вы его не убьете, он убьет вас. Он хочет этого, а правы — вы. Теперь нам пора. Ваш багаж уже внизу? — Все, кроме этого саквояжа. — Очень хорошо, забирайте его с собой. Мой мальчик заберет его вместе с моими вещами. Если вас не подстрелят, то лучше будет убраться отсюда поскорее. Я намереваюсь немедленно отплыть в Саутгемптон — оттуда в пятницу уходит корабль в Южную Африку. Я лично собираюсь на него сесть, а что мы будем делать с вами — решим после. — Да уж, — улыбнулся Эрнест, — сейчас об этом говорить не стоит. Через пять минут они встретились уже внизу, в холле гостиницы и тихо вышли через дверь, для удобства постояльцев остававшуюся открытой всю ночь. Спустившись по улице, которую им указал капитан Джастис, они оказались на берегу, свернули направо и не спеша пошли вдоль кромки моря. Раннее утро было прекрасно, Природа словно улыбалась им — хотя солнце еще не встало. Впрочем, Эрнест не думал о красоте этого утра. Происходящее казалось ему страшным сном. Наконец они дошли до заброшенной лачуги, смутно вырисовывающейся в серой дымке тумана. Возле хижины стояли два человека. — Они уже на месте, — тихо сказал мистер Эльстон. Все четверо вежливо поздоровались, приподняв шляпы, после чего капитан Джастис и мистер Эльстон занялись делом: стали отмерять шаги на песке и отмечать позиции стрелков. Эрнест подумал, что расстояние не превосходит короткую крикетную дорожку… — Ну что же — можем расставлять их? — спросил капитан Джастис. — Рановато, — отвечал мистер Эльстон. — Слишком мало света. Затем он подошел к дуэлянтам и сказал: — Джентльмены, я подготовил — в двух экземплярах — документ, подробно излагающий все обстоятельства этого несчастного дела. Сейчас я его зачитаю, а вам предлагаю поставить на обоих экземплярах свои подписи — это станет защитой… нам всем. Перо и чернильницу я захватил с собой. Никто не возражал, и он быстро прочел написанное. Документ был коротким и честным, поэтому все подписали его без разговоров. Рука Эрнеста при этом сильно задрожала… — Ну-ну, парень! — ободряюще сказал мистер Эльстон, пряча одну копию в карман, а другую передавая капитану Джастису. — Соберись! Будь мужчиной! Впрочем, несмотря на эти слова, он выглядел встревоженным и озабоченным едва ли не больше, чем остальные. — Я хочу сказать, господа! — обратился Эрнест ко всем присутствующим. — Ссору затеял не я. Было бы бесчестием отдать записку, написанную дамой. Однако я чувствую, что это ужасное дело, и если вы, кузен, готовы извиниться за слова, сказанные о моей матери, я готов принести ответные извинения за то, что ударил вас. Хью Кершо язвительно улыбнулся и, повернувшись к своему секунданту, что-то негромко проговорил. До Эрнеста донеслись слова «белое перо». Капитан Джастис громко произнес: — Мистер Хью Кершо отказывается приносить какие-либо извинения и настаивает на поединке. — Что ж, значит, вся кровь, что прольется, — на его руках! — торжественно объявил мистер Эльстон. — Давайте покончим с этой историей поскорее. Оба секунданта развели дуэлянтов по позициям и вручили им револьверы. — Встань боком и помни, что я тебе говорил! — прошептал мистер Эльстон. — Вы готовы, джентльмены? — спросил капитан Джастис. Ответа не последовало, но Эрнест почувствовал, что сердце замерло у него в груди, а перед глазами сгустился какой-то серый туман. В этот самый миг где-то совсем рядом взвился в воздух и запел жаворонок. Эрнест с трудом пришел в себя. — Раз! — Туман перед глазами растаял, и Эрнест увидел черное дуло, смотрящее прямо на него. — Два! — Первый солнечный луч ударил из-за кромки моря и отразился в бриллиантовой булавке Хью Кершо. Сами собой пришли на память слова мистера Эльстона, и Эрнест медленно навел револьвер на эту сверкающую точку. Удивительно — но в этот момент ему вспомнились хрустальные глаза «ведьмы» из Дум Несс. Он совершенно пришел в себя, и рука его обрела крепость камня. Затем потянулась невыносимо долгая пауза… — Три! Два выстрела слились в один. Что-то взъерошило волосы Эрнеста. Хью Кершо дико взмахнул руками, подпрыгнул и завалился на спину. Боже всемогущий, все было кончено! Секунду Эрнест мог только хлопать глазами, а затем вместе с остальными бросился к своему кузену. Хью Кершо лежал на песке, раскинув руки, его широко раскрытые глаза смотрели в голубое небо, словно он провожал взглядом собственную душу. Тяжелая револьверная пуля ударила рядом с булавкой, прошла через горло и вышла из основания черепа, раздробив позвоночник. — Он мертв! — торжественно объявил капитан Джастис. Эрнест до боли сжал кулаки. — Я убил его. Я убил своего кузена! — Вот что, парень! — сердито сказал мистер Эльстон. — Нечего заламывать руки, лучше поблагодари Провидение за свое спасение. Ведь он едва не убил тебя! Голова не задета? Эрнест машинально стащил с головы шляпу — и на песок упали несколько завитков его волос. В самой шляпе зияла аккуратная дыра, а в густых волосах была хорошо различима борозда, которую проделала пуля. Его кузен хотел убить его — и был действительно хорошим стрелком. Он был уверен, что попал Эрнесту в голову — но забыл о том, что тяжелый американский револьвер при выстреле подскакивает в руках… Все трое стояли и молча смотрели на тело; жаворонок, примолкший, было, после выстрелов, снова запел в небе. — Оставлять его здесь не стоит, — сказал наконец мистер Эльстон. — Надо перенести его в хижину. Капитан Джастис, что вы собираетесь делать дальше? — Полагаю, сдаться властям! — печально отвечал капитан. — Хорошо, хотя я бы не советовал вам это делать. Однако если вы все для себя решили — торопиться все равно нет нужды. Вы должны дать нам время убраться отсюда. Они подняли тело, бережно перенесли его в хижину и положили на пол. Эрнест остался стоять и смотреть на яркое пятно крови на песке. Подошедший мистер Эльстон быстро забросал пятно песком. — Теперь нужно дописать в этих бумагах, чем все закончилось. Они вернулись в хижину и дописали то, что следовало, стоя рядом с трупом Хью Кершо. Когда подошел черед Эрнеста ставить свою подпись, он уже почти желал, чтобы именно она отсутствовала под этим ужасным постскриптумом. Мистер Эльстон угадал его мысли. — На войне, как на войне, парень! — коротко бросил он. — Капитан Джастис, мы отправляемся в порт и наймем первую же лодку. Надеюсь, что вы не пойдете сдаваться властям раньше полудня — если это вас не затруднит. В этом случае расследование начнется только завтра, а я лично надеюсь, что завтра к одиннадцати часам утра берег Англии останется далеко позади, и я не появлюсь здесь ближайшие несколько лет. Капитан был, в сущности, добрым малым и не желал, чтобы еще у кого-то были неприятности. — Я точно сдамся — но не вижу решительно никаких причин торопиться. Не думаю, что мне грозит что-то серьезное. Бедняга Хью… вот уж он точно может позволить себе подождать! — со вздохом заключил капитан, бросив взгляд на тело, накрытое собственным пальто. — Полагаю, меня посадят месяцев на шесть, отличная перспектива, нечего сказать! Но вам, мистер Кершо, действительно лучше убраться отсюда, для вас все может оказаться куда серьезнее. Ведь он был вашим кузеном — и с его смертью вы становитесь, если не ошибаюсь, наследником титула. — Да, кажется, — вяло отвечал Эрнест. Здесь следует с сожалением отметить, что капитан Джастис ошибся. Вместо ожидаемых шести месяцев тюрьмы, он был осужден за убийство и приговорен к тюремному заключению. Впрочем, отбыв около года своего срока, он был помилован. — Пойдем, парень, нам надо поторопиться! — сказал мистер Эльстон. Вежливо поклонившись капитану Джастису, он покинул хижину; то же сделал и Эрнест. Отойдя на несколько ярдов, юноша оглянулся на ненавистное место. В дверях хижины стоял капитан Джастис, выглядящий очень подавленным, а слева от хижины еще можно было разглядеть то место, где упал мертвым его кузен. Эрнест больше никогда не видел ни этого человека, ни это место. — Кершо? — чуть погодя, окликнул его мистер Эльстон. — Что вы собираетесь делать? — Я не знаю. — Вы должны об этом подумать, положение серьезное. По английским законам дуэль — это убийство, а по зрелому размышлению — это место, скорее всего, находится в юрисдикции англичан… ну, или имеет схожие законы. — Наверное, мне лучше сдаться властям, как капитан Джастис… — Чепуха! Ты должен спрятаться где-то на год или два, пока шумиха не уляжется. — Где же мне прятаться? — У тебя есть деньги — или возможность их получить? — Да, почти двести пятьдесят фунтов. — Вот это удача! Что ж, в таком случае я предлагаю следующее: ты назовешься другим именем и поедешь вместе со мной в Южную Африку. Я собираюсь отправиться в охотничью экспедицию по землям, находящимся вне британской юрисдикции, поэтому шансов, что тебя там схватят и экстрадируют — крайне мало. Через годик-два, когда все забудется, вернешься в Англию. Что скажешь? — Какая разница, куда уехать? Теперь я отмечен на всю жизнь. — Парень, сейчас удача отвернулась от тебя, но дай время — и ты снова окажешься на коне. В это время им навстречу попался рыбак, который изумленно смотрел на двух джентльменов, гуляющих в столь неподобающий час; заключив, что это, скорее всего, следующие своей безумной моде купаться по утрам англичане, рыбак приветствовал их традиционным «Bonjour». Эрнест немедленно с подозрением уставился на него — он уже начал ощущать страшное бремя своей тайны. Вскоре они добрались до парохода; возле моста их уже ждал юный Роджер Эльстон — хотя ему было всего девять лет, он был столь же сметлив и самоуверен, как иные четырнадцатилетние англичане. — Наконец-то, отец! Как ты долго. Я думал, ты опоздаешь на лодку. Багаж я отправил на борт, наш и этого джентльмена тоже. — Очень хорошо, мой мальчик. Кершо, отправляйся за билетами, а я пока хочу избавиться от этого! — и он выразительно похлопал себя по карману пальто, где был спрятан револьвер. Эрнест поспешил исполнить поручение, и вскоре они уже сидели в лодке. Еще несколько минут — и к сильному облегчению Эрнеста, пароход отчалил от берега. На борту было не так много пассажиров, а те, что были, слишком страдали от морской болезни, чтобы обращать на Эрнеста внимание. Однако юноша все равно не мог избавиться от мысли, будто всем вокруг известно, что он только что убил человека. Его чувство вины было столь велико, что он видел выражение осуждения буквально на всех лицах встреченных по дороге людей. Он с трепетом смотрел на них в ответ, ожидая, что в любой момент будет схвачен, как убийца. Любому человеку, делавшему в своей жизни что-то неподобающее, знакомо это чувство. Пытаясь преодолеть отчаяние и страх, он укрылся в своей каюте и не покидал ее до самого Уэймута. Здесь они с мистером Эльстоном купили поношенную одежду и отчасти замаскировали себя. До Саутгемптона они добирались одним поездом, но в разных вагонах. Добравшись без всяких приключений в Саутгемптон, они купили билеты на большой корабль, отправлявшийся в Африку на следующее утро. Мистер Эльстон внимательно изучил список пассажиров, но, к счастью, не нашел в нем ни одного знакомого имени. Тем не менее, для большей безопасности билеты они купили третьего класса и зарегистрировались под вымышленными именами. Эрнест назвался Э. Бейтоном, а мистер Эльстон и его сын временно стали Джеймсами. Билеты они брали в разное время и на корабле делали вид, что не знакомы. Все эти меры безопасности были предприняты после того, как в Саутгемптоне мистер Эльстон разжился книгой по английскому уголовному праву, из которой выяснилось, что дуэль на Гернси никак не освобождает их от ответственности перед английским законом — и что капитан Джастис, скорее всего, ошибался насчет последствий. Наконец корабль отплыл, и Эрнест с облегчением увидел, как тают вдали очертания родных берегов. Один из пассажиров, камердинер джентльмена, направляющегося в Африку для поправки здоровья, любезно предложил ему газету. Это был сегодняшний «Стандарт». Эрнест раскрыл ее и поискал глазами зарубежные новости. Первым делом в глаза бросился заголовок — «Роковая дуэль»!«Порт Святого Петра на Гернси сегодня утром потрясла страшная новость — на дуэли убит английский джентльмен. Капитан Джастис из N-ского гусарского полка, бывший секундантом незадачливого джентльмена, сдался властям добровольно. Остальные участники дуэли, чьи имена неизвестны, скрылись с места преступления. Говорят, что их видели в Уэймуте, однако там их следы затерялись. Причина дуэли неизвестна, и в нынешнем состоянии полной неопределенности получить достоверную информацию не представляется возможным». С борта судна Эрнест отправил два письма. Одно — Еве Чезвик, а второе, содержавшее копию документа, составленного перед дуэлью, заверенную мистером Эльстоном, — своему дяде. В обоих письмах он просто и честно рассказал всю историю постигшего его несчастья, умоляя Еву — не забывать его и ждать счастливых времен, а дядю — простить его за все горе, которое он причинил своим поступком. Если они захотят написать ему, то пусть пишут Эрнесту Бейтону, до востребования, Марицбург. Почтовое судно подняло коричневый парус с большой белой литерой «П» — и исчезла в ночи. Эрнест чувствовал себя совершенно уничтоженным. На руках у него была кровь, на душе — отчаяние. Он с трудом добрался до своей койки и упал на нее, рыдая, словно ребенок. Еще вчера все вокруг любили его, он был весел и счастлив, перед ним маячила блестящая карьера. Сегодня он стал безымянным изгоем, беглецом вне закона, и над его юностью нависли мрачные тучи, в которых он не видел ни единого просвета. Пусть он поплачет — это был тяжелый и трудный урок…
Часть II
Глава 17
МОЯ БЕДНАЯ ЕВА
Через два дня после того, как почтовая лодка, подобно неторопливой морской птице, исчезла в ночи, Флоренс Чезвик совершенно случайно проходила мимо деревенского почтового отделения, направляясь с визитом к Дороти. Ей пришло в голову, что с дневной почтой могли прийти письма в Дум Несс, и она могла бы их занести. В Кестервике не было почтальона, а Флоренс знала, что мистеру Кардусу не всегда удобно приходить за письмами. Старик-почтмейстер действительно дал ей небольшую пачку писем и упомянул, что одно письмо есть и для мисс Чезвик. — Для меня, мистер Браун? — спросила Флоренс. — Нет, мисс, это для мисс Евы. — О, тогда пусть лежит. Я все равно иду сейчас в Дум Несс. Не сомневаюсь, что мисс Ева скоро заберет его. Флоренс знала, что Ева очень внимательно следит за почтой. Выйдя из конторы, она мельком просмотрела пачку писем и увидела, что одно из них, адресованное мистеру Кардусу, написано рукой Эрнеста. На письме стоял штемпель Саутгемптона. Что может делать там Эрнест? Он же собирался на Гернси… Девушка поспешила в Дум Несс и нашла Дороти сидящей в гостиной за шитьем. Флоренс поздоровалась и передала ей письма, с притворным равнодушием заметив: — Одно из них, кажется, от Эрнеста. — О, замечательно! Кому оно адресовано? — Мистеру Кардусу. Вот, кстати, и он сам. Мистер Кардус поприветствовал гостью и поблагодарил ее за принесенные письма. Просматривал он их с небрежностью человека, привыкшего ежедневно получать массу ненужной и неинтересной корреспонденции, однако внезапно движения его ускорились, и он торопливо вскрыл то самое письмо, что было от Эрнеста. Флоренс не спускала с него глаз. Мистер Кардус читал письмо — Флоренс читала по лицу мистера Кардуса. Старый адвокат привык скрывать свои эмоции, однако в данном случае они оказались сильнее его. Удивление, негодование, ужас, отчаяние сменялись на его лице; наконец, он закончил чтение, отложил письмо и стал просматривать какой-то документ, вложенный в конверт. — Что, Реджинальд? Что-то случилось? — спросила Дороти. — Да, случилось, — тихо и торжественно отвечал мистер Кардус. — Случилось то, что Эрнест — убийца и беглец. Дороти со стоном опустилась на стул, закрыв лицо руками. Флоренс смертельно побледнела. — Что вы имеете в виду? — резко спросила она. — Прочтите сами. Постойте! Прочтите вслух, и то, что в этом документе — тоже. Возможно, я ошибся, неправильно понял… Флоренс начала читать тихим, но спокойным голосом. Ее самообладание было поразительным на фоне растерянности и ужаса, охвативших мистера Кардуса и Дороти. Старик дрожал, как осиновый лист — Флоренс стояла, подобно незыблемой скале, хотя нет сомнений, что ее интерес к Эрнесту был ничуть не слабее. Когда она дочитала, мистер Кардус вновь заговорил. — Вы видите, я был прав. Он убийца — и он скрылся от правосудия. А я любил его, я так его любил! Пусть же идет с миром… — О Эрнест, Эрнест! — рыдала Дороти. Флоренс с презрением посмотрела на них обоих. — О чем это вы толкуете? С чего эти причитания? Убийца, еще чего! В таком случае, наши деды и прадеды — все сплошь убийцы! А чего вы хотели от Эрнеста? Чтобы он отдал письмо женщины и спас себя? Чтобы примирился с оскорблениями, которые этот человек нанес его матери? Да если бы он так поступил, я бы не перемолвилась с ним больше ни единым словом. Прекрати рыдать, Дороти! Ты должна им гордиться, он повел себя, как истинный джентльмен. Если бы я имела право, я бы точно гордилась! — Грудь Флоренс вздымалась, гордые губы кривились в презрительной гримасе. Мистер Кардус слушал ее очень внимательно, было видно, что ее энтузиазм увлек его. — В том, что говорит мисс Флоренс, что-то есть! — сказал он, наконец. — Я бы не обрадовался, если бы мальчику прислали белое перо. Однако случившееся все равно ужасно — убить своего двоюродного брата, да еще будучи следующим в очереди наследников титула… Старый Кершо будет в ярости, потеряв единственного сына, и Эрнест не сможет вернуться в Англию, пока старик жив — иначе тот сразу же потащит его в суд. — Это ужасно! — всхлипнула Дороти. — Он только начал жить, его ждала профессия, карьера — и вот он вынужден бежать в далекую, неведомую и чужую страну под вымышленным именем… — О да, это довольно печально! — согласился мистер Кардус. — Но что сделано, то сделано. Главное — что он жив. Он молод и будет жить дальше, в самом худшем случае ему придется построить свою жизнь с нуля там, на чужбине. Но как же тяжело об этом думать! Как тяжело… С этими словами адвокат удалился к себе в контору, бормоча «как же тяжело!».Когда Флоренс собралась домой, погода испортилась. Воздух стал влажным и холодным, море почти скрылось за плотной пеленой серого тумана. Все это не добавляло оптимизма сегодняшнему настроению. Вернувшись домой, Флоренс обнаружила Еву стоящей у окна в гостиной. Она являла собой воплощение меланхолии и смотрела на море. — О Флоренс, как хорошо, что ты вернулась, я уже всерьез подумывала о самоубийстве. — Вот как? Могу я поинтересоваться — с чего бы? — Не знаю. Возможно, это дождь вгоняет меня в тоску. — Меня лично — не вгоняет. — Да, как и ничто другое — ты живешь в Стране Постоянного Спокойствия. — Я делаю зарядку и содержу в порядке свою печень. Неудивительно, что у тебя депрессия, раз ты весь день сидишь дома. Почему ты не сходишь прогуляться? — Здесь некуда пойти. — На самом деле я понятия не имею, что на тебя нашло, Ева. Почему бы тебе не пройтись до утеса, или — постой! А на почте ты тоже не была? Я забирала письма для Дум Несс, и мистер Браун сказал, что и тебе пришло одно. Ева ожила в мгновенье ока и поспешила прочь из комнаты прежним своим легким шагом. Одного слова «письмо» оказалось достаточно, чтобы существенно изменить картину мироздания… Флоренс внимательно смотрела ей вслед. Когда дверь закрылась, она пробормотала: — Скоро ты перестанешь прыгать и резвиться… Сняв плащ, она заняла место Евы у окна и принялась терпеливо ждать. До почтового отделения было не более семи минут ходу, так что через четверть часа Ева должна вернуться… Сжав в руке часы, Флоренс ждала. Прошло 17 минут, когда открылась калитка, и Ева вошла в сад: лицо ее было серым от боли, она прижимала к глазам носовой платок. Флоренс снова улыбнулась. — Так я и думала! — пробормотала она. Из всего этого видно, что Флоренс была незаурядной женщиной. Она едва ли преувеличивала, говоря Эрнесту, что ее сердце глубоко, как море. Любовь, которую она подарила Эрнесту, была самым сильным чувством во всей ее энергичной и страстной жизни; когда любые другие характеристики и влияния рушились или забывались, лишь эта любовь незыблемо царила над всем, что заставляло Флоренс жить. И когда она обнаружила, что эта высокая и чистая любовь стала игрушкой для глупого мальчика, который целовал девушек, потому что это было для него так же естественно, как для утки — плавать, тогда бьющаяся в смертельной агонии любовь обратилась в свою противоположность: в ненависть. Однако женщина не ведает справедливости — и потому ненависть Флоренс не была направлена на один и тот же объект. Она могла бы отомстить только Эрнесту — но она все еще любила его столь же страстно, как и раньше. Месть была бы лишь эпизодом в истории этой страсти. Однако всю ненависть Флоренс выплеснула на свою ни в чем не повинную сестру, которая, как она считала, ограбила ее. Она была более сильной натурой — и она решила уничтожить слабейшего полностью. Сильная, как Рок, безжалостная, как Время, она посвятила этой цели всю свою жизнь. Флоренс знала: всё приходит к тем, кто умеет ждать. Она только забыла, что дольше всех умеет ждать Провидение — и потому именно оно всегда и выигрывает в самом конце. Ева вошла в дом, и Флоренс услышала, как она медленно поднялась по лестнице в свою комнату. Она тихо фыркнула и прошептала: — Бедная дурочка сейчас примется плакать над письмом, а потом откажется от Эрнеста. Будь у нее хоть капля смелости, она бы последовала за ним и постаралась скрасить его невзгоды — да заодно и привязать его тем самым к себе навеки. О, если бы у меня был такой шанс! Но шансы всегда выпадают глупцам. Затем она поднялась наверх и немного послушала возле двери в Евину комнату. Сестра громко рыдала. Флоренс решительно распахнула дверь и вошла. — Ну, Ева, ты уже сходи… Девочка моя, что случилось? Ева, рыдавшая на постели, только отвернулась к стене и продолжила плакать. — Да что случилось, Ева! Еслибы ты знала, как глупо ты выглядишь. — Ни… ни… ничего! — Нонсенс! Из-за «ничего» люди не устраивают таких сцен. Молчание. — Послушай, дорогая моя, как твоя любящая сестра, я должна все же узнать — что случилось? Голос Флоренс звучал повелительно, и Ева полубессознательно подчинилась приказу. — Эрнест… — Что — Эрнест? Он для тебя ничто, не так ли? — Нет! То есть… да. О, все это так ужасно! Там, в письме! — Ева судорожно коснулась густо исписанного листка бумаги, лежащего рядом с ней на постели. — Поскольку, как мне кажется, ты не в состоянии ничего толком объяснить, быть может, дашь мне это письмо, я прочту сама? — О нет! — Чепуха! Дай письмо. Возможно, я смогу тебе помочь. С этими словами Флоренс решительно отобрала у Евы письмо, отвернулась и быстро пробежала его глазами. Это было очень страстное, почти бессвязное письмо — короче говоря, именно такое, какое и мог написать безумно влюбленный юноша в сложившихся обстоятельствах. Флоренс хладнокровно дочитала письмо и аккуратно сложила его. — Итак, Ева… судя по всему, вы с ним помолвлены? Ответа не последовало, если не считать за таковой бурные рыдания. — То есть ты помолвлена с человеком, который только что совершил ужасное убийство и бежал от правосудия? Ева села на постели, прижимая руки к груди. — Это не было убийство, это была дуэль! — О да — дуэль из-за какой-то другой женщины, но это неважно, в глазах Закона это — убийство. Если его схватят — то повесят. — О Флоренс, как ты можешь говорить такие ужасные вещи! — Я всего лишь говорю правду. Бедняжка Ева… немудрено, что ты так расстроилась. — Все это так ужасно! — Полагаю, ты его любишь? — О да, всем сердцем! — Тогда тебе придется с этим как-то справиться — и никогда больше о нем не думать. — Никогда о нем не думать? Да я буду думать о нем всю жизнь! — Как бы там ни было, ты не должна иметь с ним ничего общего. У него кровь на руках, и он пролил ее ради какой-то дурной женщины. — Флоренс, я не могу бросить его, ведь он попал в беду. — Из-за другой женщины. Лицо Евы исказила короткая судорога боли. — До чего же ты жестока, Флоренс! Он всего лишь мальчик, мальчики иногда совершают ошибки. И любой может одурачить мальчика. — Судя по всему, некоторым мальчикам тоже удается дурачить людей — даже тех, кто мог бы и лучше соображать. — О Флоренс, что мне делать? У тебя такой ясный сильный ум, скажи — что мне делать? Я не могу, не могу отказаться от него! Флоренс уселась рядом с сестрой, обняла ее и поцеловала. Еву тронула ее доброта. — Моя бедная Ева! — сказала Флоренс. — Мне очень, очень жаль тебя. Но скажи мне — когда состоялась ваша помолвка? Тем вечером, что вы провели в море? — Да… — Полагаю, он тебя поцеловал и всякое такое… в том же духе? — Да. О, я была так счастлива! — Моя бедная Ева! — Говорю тебе — я не могу от него отказаться! — Ну, возможно, и не придется. Но отвечать на это письмо не следует! — Почему? — Потому что не следует — и все. Посмотри на ситуацию трезво: Эрнест только что убил собственного кузена из-за другой женщины. Ты должна каким-то образом выразить свое неодобрение. Просто не отвечай на это письмо. Если со временем он сможет своим поведением заслужить прощение, если останется верным тебе — тогда ты и дашь понять, что по-прежнему любишь его. — Но если я сейчас отвернусь от него, он снова попадет в руки той женщины — а ведь он любит меня. Я хорошо его знаю — он не тот человек, кто может долго оставаться в одиночестве. — Что ж, значит, так тому и быть. — Но Флоренс, ты забываешь, что я тоже люблю его! Я не могу перестать об этом думать! О, я люблю его, люблю! — С этими словами Ева уткнулась в плечо Флоренс и снова залилась слезами. — Моя дорогая, именно из любви к нему — проверь его, а кроме того, не забывай и о самоуважении. Доверься мне, Ева — не отвечай на это письмо. Я уверена — ты пожалеешь, если ответишь. Дай шумихе улечься, пережди несколько месяцев — а потом мы вместе придумаем, что делать дальше. Да, и прежде всего — нельзя, чтобы о вашей помолвке узнали. Будет ужасный скандал, который коснется тебя самым нелицеприятным образом… всех нас коснется, поскольку наше имя будет упоминаться. Тссс! Тетушка идет! Пойду и переговорю с ней, а ты постарайся успокоиться и приведи себя в порядок. Скажи лишь — ты последуешь моему совету, дорогая? — Да, думаю — да…. — с тяжелым вздохом отвечала Ева, снова утыкаясь в подушку. Флоренс кивнула и вышла из комнаты.
Глава 18
СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ
Вот так и случилось, что письмо Эрнеста Еве осталось без ответа. Однако мистер Кардус, Дороти и Джереми ему написали. Письмо мистера Кардуса было очень доброжелательным и теплым. Он выражал глубокую скорбь по поводу того, что случилось, и рассказывал о том, какой переполох вызвал злосчастный поединок — в том числе и о письмах с угрозами от старого Хью Кершо, который едва не обезумел из-за смерти сына. В конце письма мистер Кардус хвалил Эрнеста за решение уплыть от кровной мести за море и заверял, что в деньгах недостатка у него не будет — мистер Кардус готов был положить ему на содержание тысячу фунтов в год, если потребуется. Он всегда был щедр в отношении Эрнеста и отдельно упомянул, что если Эрнесту понадобятся дополнительные деньги на покупку земли или открытие собственного дела — пусть немедленно напишет об этом. Письмо Дороти было похоже на нее саму — нежное, доброе, переполненное сочувствием и заботой. Она просила его не падать духом и не терять надежды, что со временем все обстоятельства этого ужасного дела забудутся, и Эрнест сможет вернуться в Англию. Застенчиво и ласково просила она Эрнеста помнить, что есть лишь одна Власть, способная смыть кровь с его рук и даровать ему прощение. Дороти обещала писать ему каждый месяц, неважно, ответит он ей или нет. Это обещание она, разумеется, сдержала. Письмо Джереми было настолько характерным для него, что мы приведем его здесь полностью.«Дорогой старик! Твои новости выбили нас всех из седла в середине прошлой недели, и я до сих пор не могу прийти в себя: ты дрался на дуэли, а меня не было рядом, ну как так?! И вот что я тебе скажу: некоторые здесь, как старый де Талор, например, называют это убийством — но это чушь и сплетни, даже не думай об этом. Ведь это тебя вызвали, а не ты, и этот парень собирался убить тебя. Я ужасно рад, что ты сохранил присутствие духа и вырубил его. Конечно, было бы лучше прострелить ему правое плечо, это сохранило бы ему жизнь — но ты никогда не был особо ловок с пистолетами для такого трюка. Помнишь, как мы стреляли из старых дуэльных пистолетов в чучело, которое я установил на утесе? Ты тоже всегда норовил попасть в голову или живот, хотя и целился в сердце. Вот жаль, что ты мало тренировался, но что уж теперь плакать над пролитым молоком — кроме того, твой выстрел в итоге оказался довольно неплох. Значит, теперь ты отправляешься в охотничью экспедицию по Секокени. Это здорово, я считаю. При мысли о носороге у меня прям слюнки текут — я бы отдал палец за возможность подстрелить хоть одного. Жизнь здесь после твоего отъезда совсем унылая. Кардус мрачен, как Тайтбургское аббатство в ненастный день, Куколка вечно выглядит так, будто только что ревела или собирается вот-вот зареветь. Дед Аттерли по сравнению с этими двумя — прям бодряк. Что касается конторы — я ее ненавижу. Занимаюсь переписыванием бумаг, в которых ничего не понимаю, и делаю расчеты, в которых постоянно ошибаюсь. Твой дражайший дядюшка в своей неповторимой вежливо-издевательской манере сообщил мне на днях, что, по его мнению, я дрейфую где-то в районе отметки «полный идиот», но пока держусь на плаву. Я ответил, что совершенно с ним согласен. На днях встретил этого парнишку Смизерса — того, который подарил Еве ту паршивую собачонку. Он сказал кое-что неприятное — типа, интересно, повесят ли тебя, когда поймают. Я ему на это сказал, что повесят или нет — пока неясно, зато совершенно очевидно, что если он не перестанет ухмыляться, то я сломаю ему шею. Он предпочел очень быстро убраться восвояси. Кстати, и Еву Чезвик я тоже вчера встретил. Бледная. Спрашивала, слышали ли мы что-нибудь о тебе, сказала, что ты ей написал. Флоренс заходила и очень хорошо о тебе отзывалась. Сказала, что гордится тобой, или гордилась бы, если б имела на это право. Я ее раньше терпеть не мог, но теперь считаю, что она — молоток. Ладно, до свидания, старина. Я в жизни не писал таких длинных писем. Ты не представляешь, как я по тебе скучаю — жизнь стала совсем беспросветной. Вчера было первое число, я пошел и настрелял двадцать перепелок — потратил сорок шесть патронов. Неплохо, да? Если б ты был со мной — наверняка не дал бы мне птичек убивать. Не забывай писать мне почаще. До свидания, старик. Храни тебя Бог!Твой добрый друг, Джереми Джонс.
P.S. Один приятель мне сказал, что при стрельбе по большим зверям лучше целиться в верхнюю часть бока, тогда выстрел будет смертельным, поскольку либо сломает хребет, либо заденет почки, легкие или сердце. Но я подумал, что там слишком много мяса — не заберет ли оно убойную силу выстрела? Пожалуйста, опробуй этот метод и сообщи о результатах».
Примерно через две недели после того, как все эти письма были отправлены на имя мистера Эрнеста Бейтона, эсквайра, почтовое отделение в Марицбурге, провинция Наталь, Кестервик и его окрестности были охвачены нешуточным волнением. Причиной этого стало известие, что преподобный Хэлфорд, местный священник, чье здоровье в последнее время вызывало тревогу, был отправлен епископом в продолжительный отпуск на целый год. Его обязанности епископ возложил на преподобного Джеймса Плоудена. Мистера Хэлфорда в приходе очень любили и уважали, поэтому новость была воспринята, скорее, с огорчением, к которому примешивалось, однако, и любопытство в отношении нового священника. Когда стало известно, что мистер Плоуден прочтет свою первую проповедь в третье воскресенье сентября, весь Кестервик внезапно преисполнился небывалого религиозного рвения и собрался посетить в этот день местную церковь. Приходская церковь Кестервика, как ни странно, была большой и очень красивой, поскольку строили ее в те времена, когда народа здесь жило больше, и люди не жалели ничего, чтобы соорудить достойный храм для своего Бога — пусть даже на это их толкал, скорее, суеверный страх, чем истинно религиозные чувства. Церковь возвели довольно далеко от моря, и она счастливо избежала губительного воздействия морских волн, до сих пор оставаясь великолепным памятником архитектуры. Высокая башня, словно перст, указующий в небо, выглядела очень торжественно — особенно в этот тихий сентябрьский вечер, когда толпа прихожан текла сквозь старинные двери внутрь храма. Большинство из этих людей были здесь крещены — и большинству предстояло здесь же окончить свои земные дни. По крайней мере, именно так и думали Дороти и Ева, остановившись ненадолго возле памятника «Пяти неизвестным морякам» — в этой могиле были похоронены останки, найденные после сильного шторма на берегу. Сколько страдающих, заблудших, печальных людей стояло у этой могилы, обуреваемое теми же мыслями… и сколько еще будет стоять в будущем, когда уйдут в небытие и эти две несчастные, любящие души. Две эти милые женщины являли собой удивительный контраст, входя вместе под своды старинной церкви. Одна — высокая, величественная, царственно прекрасная, темноволосая, с неистовым горем, пылающим в очах. Вторая — почти неприметная, маленькая, но с чистым и ясным взором голубых глаз на милом, одухотворенном личике. Думали ли они, идя сюда вместе, насколько тесно связаны их судьбы? Знали ли, что обе стремятся всем сердцем к одному и тому же человеку — сейчас ввергнутому в несчастье и лишения, но все же составляющему для них весь мир? Возможно, они понимали это, но смутно, и это сближало их в те трудные дни. В любом случае, они никогда об этом не говорили, и малютка Дороти никогда не мечтала о победе, довольствуясь тем, что просто принимает участие в этой мучительной гонке. Добравшись до скамьи, которую обычно занимали Чезвики, они нашли там мисс Чезвик и Флоренс. Джереми отказался ехать: он испытывал необъяснимую неприязнь к священникам. Мистер Хэлфорд ему нравился, но у нового преподобного шансов не было. Всеобщего любопытства Джереми не понимал, предполагая, что и так вскоре будет видеть нового священника чаще, чем хотелось бы. «Вы, как стайка девчонок, носящихся с новой куклой! — бурчал он. — Только вот вам самим скоро надоест слушать, как она пищит». Служба шла своим чередом, и в церкви становилось все темнее — заходящее солнце светило сквозь западное витражное окно, и по лицам собравшихся пробегали разноцветные всполохи. Когда дело дошло до гимна перед проповедью, Ева уже с трудом могла разобрать слова: малиновый луч падал лишь от фигуры девы Марии на окне, да горели, переливаясь, свечи на кафедре, остальная часть церкви была погружена во мрак. Когда новый священник, мистер Плоуден, поднялся на кафедру и начал проповедь, Ева с любопытством рассматривала его, как и все собравшиеся. Это был довольно крупный человек, даже громоздкий. Голова у него тоже была большая, увенчанная шапкой спутанных черных волос. Лоб — высокий, с мощными надбровными дугами, выдающими властную и жестокую натуру. С темными лохматыми бровями странно контрастировали очень светлые серые глаза. Вся нижняя часть лица была синеватого оттенка, что свидетельствовало об обильной растительности — но сейчас мистер Плоуден был гладко выбрит, благодаря чему можно было убедиться, что у него мощная челюсть, квадратный подбородок и полные, резко очерченные губы. В целом мистер Плоуден мог считаться красивым мужчиной, а такие лица обычно принято называть «поразительными». Самой же заметной чертой его лица можно было считать странный изъян: в спокойном состоянии он был незаметен, но как только мистер Плоуден начинал нервничать, выходить из себя или распаляться, на лбу у него проступала выпуклая вена, причудливым образом — в виде идеального креста. Ева заметила эту метку — и посчитала ее неприятной и даже зловещей. Она отвела глаза. Этот человек ей не нравился, и она предпочла только слушать, а не смотреть. Голос у Плоудена был звучный, громкий, даже музыкальный — но слишком хриплый и грубый. «Он не джентльмен», — подумала Ева, откидывая голову на спинку скамьи и прикрывая глаза. С этого момента проповедь потеряла для нее всякий интерес, и она позволила своим мыслям унестись далеко-далеко, насколько это возможно в церкви. Мысли ее неслись над морем, по которому большой корабль прокладывал свой путь, а возле борта стоял молодой человек и с тоской смотрел в темноту. Она видела его очами души своей так ясно, что и с ней самой, с ее прекрасным лицом произошла удивительная метаморфоза: оно смягчилось и просветлело, губы вздрогнули и приоткрылись, свет любви разлился по нему, словно заря. Даже последний отблеск солнца, казалось, решил задержаться, любуясь этой красотой, и замер, словно бабочка, севшая на цветок… Внезапно Ева поняла, что в мерном течении проповеди случился какой-то перебой. Она вздрогнула, открыла глаза — и увидела, что по какой-то странной прихоти небес свет падает только на нее и на мистера Плоудена — и что мистер Плоуден, не отрываясь, смотрит на нее. Ева инстинктивно отпрянула в тень, священник кашлянул — и продолжил проповедь. Однако чудесное видение больше не вернулось к Еве — Плоуден спугнул его, и она запомнила лишь исполненный печали, укоризненный взгляд темных глаз Эрнеста… Выйдя из церкви, Дороти увидела, что ее ждет Джереми. До коттеджа Чезвиков они шли все вместе. Когда вокруг не осталось посторонних, Флоренс заговорила: — Симпатичный мужчина этот мистер Плоуден — и прекрасная проповедь. — Мне он не понравился, — коротко сказала Дороти. — А ты что думаешь о нем, Ева? — спросила Флоренс. — Я? О, я не знаю. Мне кажется, он не джентльмен. — Уверен, что нет! — поддержал ее Джереми. — Сегодня утром я видел его возле почты, он — деревенщина. — Не слишком ли радикальное определение, мистер Джонс? — нахмурилась Флоренс. — Не знаю, насколько оно радикальное, — прозвучал категоричный ответ Джереми, — но я уверен, что это так и есть. Возле коттеджа они распрощались и отправились по домам.
Глава 19
ЕВА ЗАНИМАЕТСЯ БОГОУГОДНЫМИ ДЕЛАМИ
Преподобный Джеймс Плоуден родился в семье богатого, но честного торговца сахаром. Он стал еще одним членом весьма многочисленного семейства, бывшего предметом постоянного беспокойства мистера и миссис Плоуден. Эти достойные люди, прекрасно осознавая собственные недостатки в вопросах образования, твердо решили, что ни деньги, ни любые трудности не станут препятствием для их отпрысков на пути в «благородные люди». А потому особняк Плоуденов близ Блумсбери в скором времени оказался переполнен самыми дорогостоящими слугами — няньками, медсестрами, боннами, гувернерами, наставниками и учителями — каждый из которых трудился не покладая рук, чтобы обеспечить идеальное «благородство» маленьких Плоуденов. Результаты этой деятельности были весьма причудливы и разнообразны — и едва ли эквивалентны огромным материальным затратам. Юные Плоудены обоих полов, как говорится, были отлично раскрашены, лакированы и позолочены по образу и подобию «благородных» — но могла ли вся эта окраска и позолота устоять перед вызовами реальной жизни, большой вопрос; впрочем, нас он не касается почти никак, если не считать одного члена этой большой семьи. Мастер Джеймс Плоуден пребывал примерно в середине списка юных Плоуденов — однако вполне мог бы его и возглавить, ибо с самого детства властно и умело правил своими братьями и сестрами — иногда тяжелой и безжалостной рукой. Он был самым сильным физически — и морально — и рука у него была действительно железная. За его проступки обычно расплачивались братья, предпочитавшие получить любое, пусть не заслуженное, наказание, нежели быть обреченными на те ужасы, которые братец Джеймс готовил для непокорных. Благодаря этому сам Джеймс считался в семье образцово-показательным ребенком; а поскольку он был действительно умен, голову его увенчивали лавры всех сортов и видов. Решение направить его по церковной стезе родители приняли, когда он был еще ребенком. Его будущая карьера всегда была предметом самых разнообразных спекуляций, поскольку старшие Плоудены принадлежали к тому типу родителей, которые любят устраивать судьбы своих чад едва ли не с колыбели, основываясь на тех склонностях и достижениях, которые означенные чада демонстрируют, скажем, года в три. Так вот, у матушки Джеймса был любимец — большой попугай с алым хвостом, из которого юный Джеймс любил выдергивать перья. Особенно его привлекало то, как при этом птица кричит от боли и бьется. Разумеется, вину за выдернутые перья должен был брать на себя кто-то из братьев — он и получал суровое наказание. Однажды этот безупречный план дал сбой. Попугай залез на свою клетку и сидел, соблазнительно свесив пышный хвост. Однако умная птица видела, что ее враг затаился неподалеку — и не теряла бдительности. Завидев тянущуюся к хвосту руку юного Джеймса, попугай молниеносно извернулся — и вцепился мальчишке в палец своим мощным клювом. Джеймс завопил от боли и ярости и швырнул птицу на пол, а потом еще и ударил ее книгой. Этого ему показалось слишком мало для достойной мести: видя, что оглушенная птица не может кусаться, Джеймс свернул попугаю шею. — Вот тебе, злобный дьявол! — прошипел он, бросая бездыханное тело в клетку. — Проклятье, у меня во лбу что-то лопнуло! — О Джеймс, что ты наделал! — закричал его младший брат Монтегю, прекрасно зная, что любые проступки Джеймса напрямую коснутся его самого. — Что за чушь! Это ты скажи, что ты наделал? Запомни, Монтегю — это ты убил попугая. Как раз в этот момент с прогулки вернулись мистер и миссис Плоуден, после чего в гостиной состоялась весьма оживленная и драматичная сцена, в подробности которой мы вдаваться не будем. Достаточно сказать, что Джеймс был оправдан, несмотря на явные доказательства его вины — на основании того, что он «хороший мальчик», а Монтегю, завывающий и протестующий, был сурово наказан. Джеймс, справедливо опасавшийся разоблачения, поспешил выйти из комнаты, однако мать окликнула его, когда он был уже в дверях. — Что это у тебя на лбу, Джеймс? — Не знаю. Что-то как будто лопнуло и теперь дергает. — Боже мой! Джон, ты только посмотри на мальчика — у него на лбу крест! Плоуден-старший очень внимательно изучил лоб сына, а затем торжественно снял очки и провозгласил: — Элизабет, это все решает! — Что именно это решает, Джон? — Как что? Будущую профессию мальчика, разумеется! У него на лбу, как ты справедливо заметила, крест. Конечно же, он должен посвятить себя Церкви! Даже не собираюсь спорить на эту тему, Элизабет. Вопрос решен. Таким образом, Джеймс Плоуден, эсквайр, со временем отправился на обучение в Кембридж, из стен которого вышел уже преподобным Джеймсом Плоуденом. Начав самостоятельную жизнь, он прежде всего выпросил у родителей свою часть состояния — вернее, вдвое больше того, на что мог рассчитывать — после чего счел разумным и удобным разорвать все связи с семьей: он считал своих родственников слишком вульгарными и мешающими его карьере. Однако так или иначе, но со всеми своими дарованиями — а он действительно был от природы умен, хитер и силен — и преимуществами, которые дарила материальная независимость, преподобный Джеймс Плоуден до сих пор так и не продемонстрировал заметных успехов. Он несколько раз становился местоблюстителем в различных приходах, заменяя священников, которые, подобно мистеру Хэлфорду, были вынуждены уйти в длительный отпуск по состоянию здоровья — только и всего. Со всех этих должностей преподобный Джеймс уходил без сожаления — да и никто из прихожан не сожалел о его уходе. Дело в том, что Джеймс Плоуден никогда не был популярен. У него были способности, возможности, деньги — вполне достаточно, чтобы жить без хлопот. В общем-то он был неплохим компаньоном — в самом обычном понимании этого слова; то есть при желании мог довольно сносно общаться и с мужчинами, и с женщинами. Первые равнодушно называли его «неплохим парнем», а вот вторые, особенно леди, повинуясь своему внутреннему инстинкту, его не любили. Джеймс Плоуден отталкивал их своей грубостью. Разумеется, невозможно привести всех людей к одному знаменателю или вывести общее правило, каким должен быть мужчина, однако по двум важным признакам о мужчине можно составить довольно точное мнение. Первый признак — его друзья, второй — то, как к нему относятся женщины. Человек, который нравится дамам, в девяноста девяти случаях из ста — славный парень, инстинкт женщин определяет это безошибочно, в противном случае они ни за что не одарят его своей симпатией. Нам могут возразить: мол, женщины часто любят, так сказать, злодеев. На это возможен лишь один ответ: значит, помимо злодейского, в этом человеке много хороших черт. Покажите мне мужчину, которого любят или любили всем сердцем две-три женщины его круга — и я без опаски доверю ему все, что у меня есть, не обеднев ни на пенни. Так вот, женщины не любили преподобного Джеймса Плоудена, хотя сам он с течением времени пришел к выводу, что недурно было бы заручиться любовью хоть одной из них. Проще говоря, Джеймс Плоуден решил, что его карьере поможет женитьба. Он ведь был достаточно проницательным человеком и не мог скрыть от себя тот факт, что до сих пор его успехи были более чем скромными. Он старался изо всех сил, но, несмотря на все свои достоинства и преимущества, терпел неудачу за неудачей. Оставался лишь один путь к успеху, который он пока еще не испробовал: это был брак. Брак с женщиной из высшего общества, умной и красивой, мог дать ему то социальное положение, в котором он так остро нуждался. У него есть достойная профессия, у него есть деньги, у него есть здравый смысл, пусть он грубоват — но выглядит неплохо, ему всего тридцать пять лет — так почему же не жениться по расчету, на крови, мозгах и красоте, чтобы засиять, пусть и отраженным, но новым блеском? Таковы были мысли, кипящие в деятельном мозгу преподобного Джеймса Плоудена с того момента, как он впервые увидел Еву Чезвик в старинной церкви Кестервика. В течение недели, или чуть более, по приезде мистер Плоуден на правах духовного пастыря Кестервика совершил первый официальный визит в дом мисс Чезвик. Все дамы оказались дома. Мисс Чезвик и Флоренс любезно приветствовали его; Ева была вежлива, но холодна, что явственно говорило о полном отсутствии интереса к его персоне. Тем не менее, его-то интересовала именно Ева. Он воспользовался возможностью, чтобы проинформировать всех собравшихся, но особенно — Еву, о том, что он чувствует свою огромную ответственность, как местоблюститель, и осознает тяжесть этой ноши. Он просил всех собравшихся — и особенно Еву — разделить с ним эту ношу. Он собирается создать новую систему посещений прихожан — помогут ли ему в этом милые дамы, особенно — Ева? Если помогут — можно считать, что это благое дело наполовину уже сделано. Ведь женщинам дано многое. Он убеждал их, что один визит юной леди, какой бы бесполезной она себя не считала до этого — а в случае с присутствующими это наверняка не так, — способен куда сильнее повлиять на самую отчаявшуюся и безбожную семью, чем шесть визитов таких благонамеренных, но несимпатичных священнослужителей, как он. Так может ли он надеяться, что дамы ему помогут? — Боюсь, что я уже слишком стара для этого, мистер Плоуден! — отвечала старая мисс Чезвик. — Но вы можете попытать счастья с моими племянницами. — Я уверена, что с радостью помогу вам, — откликнулась Флоренс, — если Ева составит мне компанию. Я всегда стесняюсь вторгаться в чужие дома без поддержки. — Ваша застенчивость вполне объяснима, мисс Чезвик — я и сам страдал от этого в течение многих лет, но теперь, к счастью, стало легче. Впрочем, я уверен, мы не станем беспокоить вашу сестру понапрасну. — Я буду рада помочь, если вы думаете, что я могу сделать что-то полезное, — просто ответила Ева, глядя на мистера Плоудена. — Однако хочу вас предупредить, что и сама не слишком тверда в вере. — Господь велел трудиться, мисс Чезвик — и вера придет сама. Посей семена — дерево поднимется и в свой срок принесет плоды. Она не ответила, и Плоуден продолжал: — Стало быть, вы позволите выделить вам те районы, которые необходимо посетить? — О да, мистер Плоуден, — бодро отозвалась Флоренс. — Хотите еще чаю? Мистер Плоуден отказался от чая и откланялся — ему еще предстояло много работы, поскольку он неукоснительно придерживался распорядка дня. Для себя он сделал вывод, что Ева Чезвик — самая красивая женщина, которую он когда-либо видел. Когда парадная дверь закрылась за мистером Плоуденом, мисс Чезвик весело сказала: — Я думаю, мы можем поздравить Еву с очередной победой. Мистер Плоуден не сводил с тебя глаз, дорогая, и надо сказать, я не удивлена — ты выглядишь очаровательно. Ева вспыхнула и сердито сказала: — Чепуха, тетя! Она вышла из комнаты, а мисс Чезвик задумчиво протянула: — Честное слово, не могу понять, что с Евой в последнее время, она такая странная… — Думаю, ты задела ее за живое, — сухо заметила Флоренс. — Мне кажется, она влюблена в мистера Плоудена. — Ах, вот в чем дело! — Старушка глубокомысленно кивнула.Вскоре обе мисс Чезвик получили в свое распоряжение отдаленный район прихода, и Ева была рада возможности хоть чем-то занять себя. Правда, теперь ей приходилось часто встречаться с мистером Плоуденом, что было не очень приятно, поскольку она все еще чувствовала к нему неясную неприязнь и избегала его взглядов. Однако чем лучше она его узнавала, тем меньше у нее оставалось поводов для этой неприязни. Да, мистер Плоуден не был джентльменом, но это было его несчастье, не вина. С Евой он вел себя почтительно, почти униженно; никогда не навязывал ей свое общество, хотя они все равно виделись почти ежедневно. Ему даже удалось разбудить в ней какое-то подобие энтузиазма, которого бедной Еве в последнее время недоставало. Она считала Плоудена хорошим священником, всем сердцем радеющим за свое дело. Однако он все равно ей не нравился. Ева так и не ответила на письмо Эрнеста. Несколько раз она бралась за перо, но вспоминала советы мудрой Флоренс — и откладывала его. «Он снова напишет!» — убеждала она сама себя. Ева не знала Эрнеста: он был не из той породы, что склоняется перед женщиной. Если бы она могла видеть, как ее возлюбленный стоит возле почтового отделения в Марицбурге в дни, когда приходит почта из Англии, и как приникает к окошку, когда расходятся люди, чтобы переспросить усталого клерка, «уверен ли» он, что на имя Эрнеста Бейтона больше нет никаких писем; если бы знала, какая боль терзает его сердце возможно, тогда ее душа смягчилась бы. Но она не знала — и потому каждую неделю в далеком Натале бедный Эрнест раз за разом переживал одно и то же разочарование…
Однажды мистер Эльстон отправился на почту вместе с ним. Увидев, как юноша спускается по ступеням почты, сжимая в руках белый конверт, мистер Эльстон спросил: — Ну что, Эрнест? Письмо наконец-то пришло? — Это от Дороти. Нет, Эльстон, оно не придет. Она меня бросила. Мистер Эльстон подхватил его под руку, и они неторопливо зашагали по рыночной площади. — Послушай меня, мой мальчик. Женщина, которая оставляет человека в беде или как только он оказывается далеко, — такая женщина бесполезна. Это печальный урок, согласен — но мир полон печальных уроков… и бесполезных женщин. Ты знаешь наверняка, что она получила твое письмо? — Да, она сказала об этом моему другу. — Тогда я говорю тебе: твоя Ева, или как ее там, еще бесполезнее, чем все бесполезные женщины этого мира. Она была взвешена, измерена — и признана негодной. Взгляни! — Тут мистер Эльстон указал на стройную кафрскую девушку, проходившую мимо с большим калебасом пива на голове. — Тебе лучше взять в жены эту Интумби, чем такую, как твоя Ева. Уж во всяком случае, она будет стоять рядом с тобой в любой беде, а если ты падешь в бою — убьет себя, чтобы не разлучаться с тобой. Пошли, будь мужчиной. Забудь о Еве! — Клянусь небом, я сделаю это! — отвечал Эрнест. — Вот и правильно. Теперь слушай: фургоны будут в Лиденбурге через неделю. Давай возьмем завтра повозку и отправимся в путь? У нас будет целый месяц на то, чтобы настрелять вильдербисте и куду, пока не станет достаточно безопасно, чтобы отправиться в страну лихорадки. Как только ты вступишь в Большую Игру, ты перестанешь думать об этой женщине. Нет, женщины тоже очень хороши — когда они на своем месте… но когда доходит до выбора между ними и Большой Игрой, я лично выбираю Игру!
Глава 20
ДЖЕРЕМИ ПОТРЯСАЕТ МИСТЕРА ПЛОУДЕНА
Месяца через два после бегства Эрнеста из Англии мистер Кардус получил от него письмо — в ответ на одно из своих. Эрнест сердечно благодарил дядю за доброту и в особенности за то, что мистер Кардус не примкнул к его гонителям. Что касается денег — Эрнест надеется, что сможет сам зарабатывать себе на жизнь, но если нужда возникнет — обязательно напишет. Письмо, довольно короткое, заканчивалось так:«…Поблагодарите Куколку и Джереми за их письма. Я бы ответил — да боюсь много писать; каждое письмо возбуждает столько болезненных воспоминаний и заставляет меня вновь и вновь думать обо всех дорогих моему сердцу людях и местах более, чем это было бы полезно. Все дело в том, дорогой дядюшка, что я, строго говоря, еще никогда в жизни не был настолько несчастен, а что до одиночества — так я его раньше и не знал по-настоящему. Иногда мне жаль, что убит мой кузен, а не я — я был бы мертв, похоронен и никому уже не помешал бы. Мистер Эльстон был моим секундантом в этой несчастной дуэли, и теперь я собираюсь вместе с ним в экспедицию по стране. Он очень добр ко мне и представил меня здешнему обществу. Люди здесь очень гостеприимны — в колониях все чрезвычайно гостеприимны — однако сто новых лиц не могут заменить одного старого друга, и я иногда думаю, что даже старик Аттерли был бы для меня лучшим компаньоном, чем любой из этих людей; кроме того, я все время чувствую себя самозванцем, вторгшимся в их привычный мир под вымышленным именем. До свидания, мой дорогой дядюшка. У меня нет слов, чтобы описать, как я благодарен вам за вашу доброту. Моя любовь и поцелуи Куколке и Джереми»Все обитатели Дум Несс были очень тронуты этим письмом, особенно Дороти, которая просто не могла без душевной муки думать о том, что Эрнест остался совершенно один в странной, чужой и далекой стране. Ее нежное сердечко жило любовью и печалью; она часто лежала ночью без сна, представляя, как Эрнест путешествует по бескрайним африканским равнинам. Она выписала все книги о Южной Африке, какие только смогла найти, и читала их, чтобы еще лучше представлять себе жизнь Эрнеста. Однажды Флоренс пришла навестить ее, и Дороти прочитала ей часть письма Эрнеста; закончив, она была поражена при виде слез в глазах Флоренс. Дороти полюбила ее за эти слезы… знай она, какие страсти бушуют в яростном сердце женщины, сидевшей перед ней, — она отшатнулась бы от нее, как от ядовитой змеи. Письмо Эрнеста тронуло Флоренс — но ненадолго. Рассказ об одиночестве Эрнеста едва не поколебал ее решимость, ибо она одна знала, почему он так одинок — и за что он расплачивается. Если бы дело касалось одного Эрнеста, она, возможно, и бросила бы свою жестокую игру — но Эрнест был не один. В этой истории была еще и ее сестра — сестра, которая ограбила ее, украв у нее любовника; сестра, чья ослепительная красота была оскорблением для Флоренс — и постоянным упреком. Да, ей было жаль Эрнеста, она была бы рада сделать его немного счастливее… но поскольку сделать это было можно, лишь отказавшись от мести Еве, — Эрнест был обречен страдать дальше. Да и почему бы ему не страдать? — надменно задавала Флоренс вопрос в пустоту. Разве она из-за него не страдала? Вернувшись домой, Флоренс рассказала Еве о письме от ее возлюбленного, однако ни словом не обмолвилась о его печали и отчаянии. Заводит новых друзей, предвкушает удовольствие от большой охоты — в общем и целом у него все хорошо. Ева слушала, и сердце ее понемногу ожесточалось; затем она отправилась на обход прихожан вместе с мистером Плоуденом. Время шло, а писем от Эрнеста все не было. Месяц, два месяца, полгода — никаких известий. Беспокойство Дороти росло, мистер Кардус не отставал от нее, но они старались не разговаривать на эту тему, лишь изредка говоря друг другу, что причина молчания Эрнеста, несомненно, в том, что он находится в экспедиции, где-то в глубине страны — и письма оттуда просто не доходят. Джереми, со своей стороны, также был сильно озабочен молчанием Эрнеста — жизнь казалась ему совершенно пустой. Он сидел в конторе своего дяди и делал вид, что занимается делом, переписывает какие-то документы, разбирает черновики — на самом деле большую часть времени он усиленно полировал ногти и размышлял. Переписку бумаг он без зазрения совести взвалил на собственного деда. «Так он все время занят, — пояснил он Дороти, — и у него нет времени на дурацкие мысли о дьяволе». Вдохновение снизошло на Джереми однажды ночью, во время утиной охоты. Ночь была ужасна — никому другому и в голову не пришло бы не только охотиться на уток, но и вообще выходить из дома. Болота наполовину замерзли, над ними дул свирепый восточный ветер; не обращая внимания на дикий холод, Джереми Джонс сидел на обледеневшем берегу дамбы, слушая хлопанье утиных крыльев и временами стреляя — когда силуэты летящих уток пересекали диск луны. Уток было не особенно много, и потому одиночество и тишина располагали к созерцанию и раздумьям. Эрнест не пишет. Он мертв? Нет, вряд ли, они бы узнали об этом. Тогда что? Невозможно узнать, невозможно выяснить. А почему невозможно-то? Хлопанье крыльев. Выстрел. Утка свалилась прямо к ногам Джереми. Отличный выстрел! Ну да, невозможно, потому что у них нет никаких возможностей выяснить все досконально. Выяснять-то должен тот, кто может оказаться за морем, а кто там может оказаться? Идея оглушила не хуже выстрела. А почему бы ему, Джереми, не отправиться за море и не выяснить все самому? Почему не поехать в Южную Африку и не найти Эрнеста? Если даже мистер Кардус не даст денег — не беда, можно заработать по дороге. Уж как-нибудь доберется. Проклятую неизвестность переносить все равно больше нет сил. Джереми вскочил, чувствуя небывалый прилив сил, быстро собрал добычу — всего три утки — свистнул своему ретриверу и поспешил домой, в Дум Несс. Мистера Кардуса и Дороти он нашел в гостиной у камина. «Лихой наездник Аттерли» тоже был здесь — сидел в своем любимом уголке, сжимая хлыст в испачканных чернилами руках и тихонько похлопывая им по своим высоким сапогам. Когда Джереми вошел, все повернулись к нему, кроме дедушки — тот, по обыкновению, ничего не слышал. — Как успехи, Джереми? — с грустной улыбкой спросила сестра. В последнее время ее личико всегда было грустным и бледным. — Три утки! — нетерпеливо отмахнулся Джереми, подходя ближе к огню. — Я ушел, когда они только-только разлетались. — Видимо, ты замерз, — рассеянно сказал мистер Кардус. Они с Дороти говорили об Эрнесте, и он все еще думал о нем. — Нет, холод ни при чем, я вернулся домой, потому что у меня идея! Оба слушателя удивленно подняли глаза. Идеи были не очень свойственны Джереми — ну, или, по крайней мере, он чаще всего держал их при себе, ни с кем не делясь. — Ну же, Джереми? — спросила Дороти нетерпеливо. — Я… это самое… Я больше не могу так — ну, насчет Эрнеста. Я собираюсь его найти. Если вы мне денег не дадите, — продолжал он, обращаясь к мистеру Кардусу почти яростно, — то и не надо, я заработаю. Это неважно. Я живу, как брошенная собака, пока не знаю, где он и что с ним. Дороти вспыхнула от радости. Вскочив, она подбежала к своему великану-брату, приподнялась на цыпочки, обхватила за шею и поцеловала в подбородок — куда смогла дотянуться. — В этом весь ты, Джереми, мой дорогой! — прошептала она с нежностью. Мистер Кардус тоже смотрел на Джереми — долго, в своей обычной манере, избегая прямого взгляда в глаза — а потом заговорил: — У тебя будет столько денег, сколько нужно, Джереми. А если ты привезешь Эрнеста обратно, целым и невредимым, я тебе оставлю двадцать тысяч фунтов! Мистер Кардус даже хлопнул себя по колену, что свидетельствовало о совершенно необычайной для него степени волнения. — Мне не нужны ваши двадцать тысяч… Мне нужен Эрнест! — хрипло пробормотал Джереми. — Я знаю, мальчик мой, знаю, что деньги здесь ни при чем. Просто найди его и сбереги его — и они будут твоими. Не надо так беспечно относиться к деньгам. Кроме того… я говорю тебе — храни его, береги его, потому что вернуться быстро вы не сможете, пока это проклятое дело не завершено. Когда ты едешь? — Со следующим почтовым дилижансом, разумеется. Они отправляются каждую пятницу, я не хочу тратить время впустую. Сегодня суббота, в следующую пятницу я отплыву из Англии. — Это правильно, это хорошо, ты отправишься как можно скорее. Я дам тебе завтра чек на пятьсот фунтов, и запомни, Джереми, не трать их впустую. Если Эрнест отправился в Замбези — следуй за ним. Найди его! Никогда не думай о деньгах — об этом я подумаю за тебя.Вечно твой любящий племянник Э. К.
Собрался Джереми быстро. Багаж его состоял в основном из мелочей. В четверг он должен был покинуть Дум Несс. В среду днем ему пришло в голову, что об отъезде на поиски Эрнеста надо сказать Еве Чезвик и спросить, не будет ли от нее сообщения. Джереми был единственным человеком — или думал, что он единственный, — кто был посвящен в тайну отношений Эрнеста и Евы. Эрнест просил сохранить это в тайне — и Джереми хранил тайну, как хранят ее мертвецы в могилах, никогда не обмолвившись ни единым словом даже родной сестре. Было около пяти часов вечера, когда мартовским ветреным днем он отправился к коттеджу Чезвиков. На окраине Кестервика, в трех сотнях ярдов от утеса стояли две или три хижины, совершенно беззащитные перед яростью штормового ветра с океана. Джереми как раз проходил мимо них, направляясь к тропинке, поднимающейся на утес и обозначающей границу деревни, когда ветер донес до него голоса, мужской и женский. Обладатели этих голосов, по всей видимости, ссорились. Джереми замедлил шаг. Вместо того чтобы подняться по тропинке на утес, он сделал несколько шагов вправо, вдоль скалистой стены, и увидел нового священника, мистера Плоудена, стоявшего спиной к нему и державшего за руку Еву Чезвик — судя по всему, против ее воли. Джереми не слышал, что именно он говорил, но тон Плоудена не оставлял сомнений: очень возбужденный, повелительный, почти хозяйский. В этот момент Ева немного повернулась, и до Джереми донесся ее ясный звонкий голос: — Нет, мистер Плоуден, нет! Отпустите мою руку. Ах, почему вы не желаете слушать? В этот момент ей удалось освободить руку, и она торопливо, почти бегом, бросилась в сторону Кестервика. Джереми был человеком не очень большого ума, вернее — не очень сообразительным человеком. Скажем прямо — соображал он медленно, но уж когда приходил к какому-то решению — становиться у него на пути было делом бесполезным и опасным. Вот и сейчас он не сразу понял смысл увиденной сцены, но когда понял — его широкое честное лицо покраснело, а в больших серых глазах зажегся опасный огонек. Мистер Плоуден повернулся — и увидел его. Джереми заметил знак креста у него на лбу, но гораздо больше его поразило выражение лица священника — менее всего оно могло бы принадлежать христианину. — Привет! — буркнул Плоуден. — Что вы здесь делаете? Джереми шагнул вперед, заслоняя ему дорогу. — Наблюдаю за тобой! — прямо ответил он. — Вот как! Прекрасное занятие — подглядывать и подслушивать… Думаю, это именно так называется. Что бы ни произошло между мистером Плоуденом и Евой Чезвик — это явно не улучшило характер преподобного. — Что ты имеешь в виду? — Я имею в виду то, что я сказал! — Хорошо, Плоуден, тогда я тоже скажу то, что имею в виду, и тебе придется меня понять, хоть говорить я и не мастак: я видел, как ты приставал к мисс Чезвик. — Это вранье! — Джентльмены не употребляют таких слов, но поскольку ты не джентльмен, я не обращу на это внимания. — Джереми вполне обладал опасным качеством, присущим англо-саксонской расе: чем опаснее становились обстоятельства, тем хладнокровнее он себя вел. — Я повторяю: я видел, как ты удерживаешь ее, несмотря на то что она хотела вырваться и уйти. — И что тебе с того?! — закричал мистер Плоуден, дрожа от ярости и поднимая толстую палку, на которую он опирался вместо трости. — Держи себя в руках — и все узнаешь. Мисс Ева Чезвик помолвлена с моим другом, Эрнестом Кершо, и поскольку его сейчас здесь нет и он не может позаботиться о своих интересах — о них позабочусь я. — Ах да! — сказал Плоуден с ужасной улыбкой. — Я слышал о нем. Убийца, насколько я помню. — Я бы рекомендовал вам, мистер Плоуден, уже в ваших собственных интересах, быть поосторожнее в выражениях. — Хорошо. Если предположить, что между вашим… вашим другом… — Так гораздо лучше, благодарю вас. — …и мисс Евой Чезвик что-то было — мне хотелось бы знать, что могло бы заставить ее передумать? Джереми громко расхохотался — надо признать, довольно наглым образом, что было рассчитано на то, чтобы раздражать людей наподобие мистера Плоудена. — Любому, кто имеет честь быть знакомым с вами, мистер Плоуден, и одновременно — с мистером Эрнестом Кершо, ваш вопрос покажется абсурдным. Понимаете… есть люди, которых просто нельзя сравнивать. Предположить, чтобы женщина, любившая Эрнеста, полюбила вас… чтобы вас в принципе полюбила женщина — это невозможно. Джереми снова рассмеялся. Толстые губы мистера Плоудена побелели от ярости. Крест на лбу почернел и пульсировал так, что Джереми показалось, будто он сейчас взорвется; глаза горели ненавистью. Тщеславие было самым уязвимым местом мистера Плоудена. Из последних сил он сдерживал себя, будь у него под рукой оружие — Джереми пришлось бы плохо. — Возможно, вы объясните смысл своего вмешательства и свою неслыханную дерзость — и дадите мне пройти? — О, с удовольствием! — жизнерадостно откликнулся Джереми. — Это очень просто: если я еще раз застукаю вас за подобными вещами, вам придется очень и очень плохо. Бить священников, конечно, нельзя, да и драться с ними нельзя — ведь они-то с вами не станут драться, — но зато их можно взять за шкирку и хорошенько потрясти, чтобы синяков не оставить. Так что ты запомни, преподобный — меня зовут Джереми Джонс, и в случае чего — я из тебя все зубы вытрясу, понял? С этими словами Джереми развернулся и был готов уйти. Разумеется, было не слишком мудро поворачиваться спиной к разъяренному зверю — а мистер Плоуден сейчас именно им и был. Уже повернувшись, Джереми подумал об этом — и успел шагнуть в сторону. Ему повезло: тяжеленная палка со свистом прошла в нескольких дюймах от его головы, не посторонись он — удар мистера Плоудена вышиб бы ему мозги. Как бы там ни было, удар был настолько силен, что палка вылетела из рук владельца. — Ах, ты ж! — только и сказал Джереми, бросаясь на преподобного. Мистер Плоуден был физически крепким человеком, но у него не было ни единого шанса против Джереми, который впоследствии стал известен как самый сильный человек в восточных графствах. Джереми сгреб его в охапку — исключительно уважение к святой Церкви не позволило ему просто сбить Плоудена с ног, — и священник оказался буквально смят в этих железных объятиях, словно лист бумаги. Джереми мог бы легко швырнуть его на землю, но не сделал этого — он преследовал иную цель. Он просто подержал преподобного Джеймса, дав ему вдоволь подергаться и побрыкаться, а затем резко развернул его — и выполнил свое обещание: начал его трясти. О, какая это была встряска! Сначала Джереми потряс его вперед и назад — за Эрнеста; потом из стороны в сторону — за себя, и, наконец, во всех направлениях сразу — за Еву Чезвик. Со стороны это было замечательное зрелище: крупный, массивный священник болтался, словно тряпичная кукла, в могучих руках невозмутимого и бесстрастного, словно сама Судьба, Джереми, стоявшего на слегка расставленных для большей устойчивости ногах и держащего Плоудена на вытянутых руках над землей. Наконец устал и Джереми. Перестав трясти свою жертву, он нанес ему всего один пинок — но какой! Ноги у Джереми всегда были особенно сильны, сапоги он носил тяжелые и прочные, так что результат вышел поразительный: мистер Плоуден взмыл в воздух и улетел лицом в колючий кустарник. «Этими ранами он вряд ли захочет похвастаться!» — удовлетворенно хмыкнул Джереми, вытирая пот со лба. Потом он пошел и вытащил из кустов своего поверженного врага — Плоуден был на грани обморока. Джереми отряхнул его, поправил, как смог, белый воротничок, нахлобучил широкополую шляпу на всклокоченные волосы и усадил Плоудена на мох, чтобы тот пришел в себя окончательно. — Спокойной ночи, преподобный Плоуден, спокойной ночи. В следующий раз захотите кого-нибудь ударить — не ждите, пока противник повернется спиной, это раздражает. Ах, да у вас, должно быть, голова болит. Я бы вам посоветовал отправиться домой и хорошенько выспаться! С этими словами Джереми отправился своей дорогой, исполненный радости и покоя. Когда он добрался до коттеджа Чезвиков, там царило смятение. Старая мисс Чезвик серьезно заболела — боялись, что у нее апоплексический удар. Джереми все же удалось вызвать Еву, всего на минуту. Она спустилась к нему, вся в слезах. — О бедная тетушка, она так больна! Мы думаем, что она умирает! Джереми пробормотал неловкие слова утешения — он действительно был расстроен. Ему нравилась старая мисс Чезвик. — Я завтра еду в Южную Африку, мисс Ева! — сказал он. Ева сильно вздрогнула и покраснела до корней волос. — В Южную Африку? Зачем? — Собираюсь найти Эрнеста. Мы боимся, что с ним что-то случилось. — О, не говорите так! Возможно, он… просто сильно чем-то занят и не может написать. — Еще я хочу вам сказать, что видел мистера Плоудена и вас. Она снова покраснела. — Мистер Плоуден был очень груб. — Я тоже так подумал. Но я думаю, теперь он очень раскаивается в содеянном. — Что вы имеете в виду? — Только то, что я его тряс, пока чуть не оторвал его уродливую башку! — О мистер Джереми, как вы могли! — воскликнула Ева строго, но в глазах ее не было ни намека на строгость. Из дома послышался голос Флоренс, зовущей Еву. — Я должна идти. — Что-нибудь передать Эрнесту, если я его найду? Ева заколебалась. — Я все знаю, — спокойно сказал Джереми, отводя глаза. — Мне нечего ему… Скажите, что я его очень люблю! С этими словами Ева повернулась и опрометью бросилась наверх.
Глава 21
ФЛОРЕНС СКЛАДЫВАЕТ МАРЬЯЖ
Состояние мисс Чезвик ухудшалось. Один раз она пришла в себя, начала что-то бормотать — но затем вновь погрузилась в забытье, от которого уже больше не очнулась. К счастью, ее состояние было столь тяжело, что услуги священника ей не требовались — ибо еще некоторое время после событий, описанных в предыдущей главе, мистер Плоуден был решительно не в состоянии исполнять свои обязанности. Встряска ли была тому виной, финальный удар или общее моральное потрясение — но в итоге преподобный был вынужден оставаться в постели в течение нескольких дней. Первой службой, которую он провел после болезни, стало отпевание почившей мисс Чезвик в фамильной гробнице Чезвиков — единственном земельном владении, оставшемся в их распоряжении. Позднее Флоренс заметила в разговоре с сестрой, что в этом таилась странная ирония: владения в несколько сотен акров постепенно сжались до нескольких квадратных футов земли, в которой упокоились почти все представители рода… После похорон тетушки сестры Чезвик вернулись в коттедж, показавшийся им опустевшим. Они обе любили старушку, особенно Флоренс — и потому, что обладала более чувствительной натурой, и потому, что провела с ней больше времени. Однако горе молодости перед уходом стариков не длится вечно, и через месяц или чуть более этого срока сестры почти справились со своими печалями. Теперь на первый план выходил вопрос, что им делать дальше. Небольшая собственность, оставленная им тетушкой, была разделена поровну, коттедж теперь находился в их совместном пользовании. Это позволяло им жить более или менее самостоятельно, однако не было никаких сомнений, что положение Флоренс и Евы оставалось довольно шатким и плохо защищенным. Тем не менее они не сдавались — вернее, не сдавалась главным образом Флоренс, сразу взявшая бразды правления в свои руки. В Кестервике они знали всех, и все знали их — поэтому было решено остаться здесь и не рисковать, пускаясь в сомнительное плаванье по морю жизни в Англии на правах бедных сирот. У Флоренс были и свои причины настаивать на том, чтобы остаться в Кестервике. Она окончательно пришла к мысли о том, что ее сестра Ева должна выйти замуж за мистера Плоудена. Не то чтобы преподобный ей нравился — все инстинкты Флоренс восставали против этого человека. Однако, если Ева не выйдет за него, всегда будет сохраняться опасность того, что со временем она все-таки выйдет за Эрнеста, но Эрнест — в этом Флоренс поклялась сама себе страшной клятвой — не должен достаться Еве. Предотвращение этого брака стало главной целью жизни Флоренс. Ревность и ненависть к сестре стали частью ее натуры; месть превратилась в злую путеводную звезду, которая отныне вела Флоренс по жизненному пути. Может показаться совершенно ужасным, что такая молодая женщина растрачивает лучшие годы своей жизни на подобную цель — но ничего не поделать, именно так все и обстояло. Странная у нее была натура, у Флоренс Чезвик. Дикая, необузданная, равно готовая и к неистовой любви, и к неукротимой ненависти. Маятник в ее душе с невообразимой легкостью мог качнуться от одной крайности к другой. Она считала, что Ева ограбила ее, украла у нее возлюбленного — и платила Еве тем же. Ничто не могло отвлечь ее от исполнения жестоких планов. Что могло быть подлее, чем сознательное, хитроумное разлучение двух людей, любивших друг друга всем сердцем? Флоренс не строила иллюзий, не оправдывала себя — и не колебалась. Она не была лицемерной, и она прекрасно знала, что для всех было бы лучше, если бы Ева вышла за Эрнеста и оба они нашли счастье в своей любви. Флоренс не могла этого допустить. Если Ева и Эрнест встретятся, Флоренс уже не сможет им помешать, ибо даже самая слабая из женщин становится сильной, опираясь на руку возлюбленного. Флоренс понимала это слишком хорошо — и потому поклялась себе, что Эрнест и Ева не должны встретиться, по крайней мере до тех пор, пока между ними непреодолимой преградой не встанет мистер Плоуден. Определившись с целями, жертвами и тактикой, Флоренс приступила к подготовке оружия. Однажды, примерно через месяц после похорон старой мисс Чезвик, мистер Плоуден напросился в гости — якобы для уточнения каких-то бесконечных подробностей графика посещения прихожан. Еву он не видел с того самого знаменательного дня, когда Джереми воплотил свою теорию Большой Встряски в жизнь — главным образом потому, что сама Ева тщательно избегала этих встреч. Вот и теперь, увидев в окно плывущую над живой изгородью широкополую шляпу преподобного, Ева быстро собрала свое шитье и поспешила к себе в спальню. — Куда это ты собралась, Ева? — спросила ее сестра. — Наверх. Он идет сюда. — Он? Кто — он? — Разумеется, мистер Плоуден. — И почему же ты убегаешь наверх при его появлении? — Мне не нравится мистер Плоуден. — Ева, как ты можешь быть такой жестокой? Ты ведь прекрасно знаешь, в каком отчаянном положении мы сейчас находимся, но позволяешь себе уходить, да еще и «не любить» одного из тех немногих людей, которые поддерживают с нами знакомство. Это очень эгоистично с твоей стороны и совершенно необоснованно! В этот момент раздался звонок в дверь — и Ева убежала. Мистер Плоуден вошел в гостиную — и не смог скрыть своего разочарования. — Если вы искали мою сестру, — сказала Флоренс, — то она неважно себя чувствует. — В самом деле? Я опасаюсь за ее здоровье, она так часто неважно себя чувствует… Флоренс улыбнулась, оценив иронию, и пригласила преподобного присесть. Вскоре она двинулась в наступление. — Кстати, мистер Плоуден, давно хочу рассказать вам кое-что, касающееся вас лично. Думаю, мне непременно стоит это сделать. Я слышала, что вас видели разговаривающим с моей сестрой неподалеку от Тайтбургского аббатства. Представьте: говорят, что она от вас буквально сбежала. Потом якобы через стену аббатства перепрыгнул мистер Джереми Джонс — и тоже вступил с вами в беседу. Закончив, он повернулся к вам спиной — так говорят, сама-то я не видела — и вы попытались ударить его тяжеленной палкой, но промахнулись, после чего началась драка, закончившаяся для вас не слишком удачно. — Он совершенно вывел меня из себя! — возбужденно воскликнул мистер Плоуден. — О, так эта история правдива? Мистер Плоуден понял, что совершил роковую ошибку, но идти на попятный было уже поздно. — В некоторой степени, мисс Чезвик. Этот молодой дикарь сказал мне, что я не джентльмен. — Правда? Что ж, это было невежливо. Но как вы, должно быть, рады, что промахнулись — особенно, когда он стоял к вам спиной! Было бы ужасно, если бы священника судили за нападение… или еще за что похуже, не так ли? Мистер Плоуден побледнел и закусил губу. Он начинал чувствовать, что находится во власти этой спокойной молодой женщины, — и это чувство ему не нравилось. Флоренс безмятежно продолжала: — Кроме того, было бы не слишком хорошо, если бы эта история получила огласку в здешних краях. Даже если бы никто и не узнал, что вы собирались ударить его, когда он стоял к вам спиной. Мистер Плоуден болезненно дернулся при этих словах, вскочил и схватил свою шляпу, намереваясь уйти, однако Флоренс жестом пригласила его присесть обратно. — Не уходите. Я хотела сказать, что вы должны быть мне благодарны — ведь я думала о вашем благе. Я посчитала, что для вас огласка была бы слишком болезненной — и потому решила держать рот на замке. Мистер Плоуден тихо застонал. Если это называется — «держать рот на замке», то что же будет, если замок снять? — Кто вам сказал? — резко спросил он. — Джонс уехал. — Да. Кстати, как вы рады, должно быть, что он уехал! Впрочем, он здесь в любом случае ни при чем, вас видел совсем другой человек, незаинтересованное, так сказать, лицо. Неважно, кто именно — я нашла способ заставить его замолчать. Мистер Плоуден вряд ли мог предположить, что в течение всей его неудачной любовной сцены, а также последующего поединка с Джереми, примерно в двадцати ярдах от поля битвы, ненавязчиво маячила фигура одного старого моряка, с большим интересом созерцавшего все происходящее — однако именно так все и было… — Я вам очень благодарен, мисс Чезвик. — Благодарю вас, мистер Плоуден, приятно встретить настоящую благодарность, это слишком редкий цветок в нашем мире — но на самом деле я ее не заслуживаю. Наблюдатель видел не только болезненную сцену между вами и мистером Джонсом — но и сцену, предшествовавшую ей, и, насколько я могла понять, она была не менее, если не более болезненна. Мистер Плоуден покраснел, но ничего не сказал. — Вы сами видите, мистер Плоуден, что я нахожусь в довольно щекотливом положении, ведь речь идет о моей сестре. Она младше меня и привыкла на меня полагаться, так что вы легко поймете мои чувства: я должна исполнять свои обязанности перед ней. Следовательно, я чувствую себя обязанной спросить вас прямо: какой же вывод я должна сделать из рассказа моего информатора? — Это просто, мисс Чезвик: я сделал предложение вашей сестре, а она мне отказала. — Вот как! Не повезло вам в тот день. — Мисс Чезвик, — продолжал преподобный после небольшой паузы, — а если бы я мог найти средство заставить вашу сестру изменить свой вердикт… мог бы я рассчитывать на вашу поддержку? Флоренс подняла на него свои пронзительные глаза и несколько секунд молча смотрела на преподобного. — Это зависит от вас, мистер Плоуден. — Я готов! — продолжал Плоуден нетерпеливо. — Я расскажу вам свой секрет. Я купил эту должность — случайно узнал обстоятельства и заключил сделку. Не думаю, что жизнь Хэлфорда не стоит пяти лет моего… — Почему вы хотите жениться на Еве, мистер Плоуден? — спокойно перебила его Флоренс, игнорируя его признание. — Вы ведь не влюблены в нее? — Влюблен? Нет, мисс Чезвик, не думаю, что мужчине пристало влюбляться, это удел мальчиков — и женщин. — Так почему же вы хотите жениться на Еве? Советую вам быть откровенным, мистер Плоуден. Он недолго колебался: Флоренс была слишком проницательна, откровенность здесь была уместнее всего. — Как вы знаете, ваша сестра удивительно красивая женщина. — И потому могла бы стать прекрасным дополнением к вашей карьере? — Именно так, — отвечал Плоуден. — Кроме того, она изящна, у нее есть воспитание, она — истинная леди. Флоренс внутренне содрогнулась от последней фразы. — И таким образом она могла бы укрепить ваш социальный статус, мистер Плоуден, не так ли? — Да. Кроме того, она происходит из древнего рода. Флоренс усмехнулась и посмотрела на мистера Плоудена с тем выражением, которое было красноречивее любых слов. — То есть обладает тем, чего нет у вас. — Короче говоря, я очень хочу жениться, я восхищаюсь вашей сестрой Евой более чем кем-либо в жизни! — Все это вполне убедительные причины, мистер Плоуден, и все, что вам нужно сделать — это убедить мою сестру в наличии у вас неоценимых достоинств… и завоевать ее расположение. — Ах, мисс Чезвик, в этом-то и дело! Она сказала мне, что ее чувства уже отданы другому, и мне она ничего дать не сможет. Если бы у меня только была возможность обойти моего соперника… Флоренс больше не спускала с него глаз, когда отвечала: — Вы не знали Эрнеста Кершо — иначе не были бы так самонадеянны. — Да чем же я хуже этого Эрнеста?! — воскликнул Плоуден, ибо замечание Флоренс напомнило ему слова Джереми и больно ранило его тщеславие. — Мистер Плоуден, я не хочу показаться грубой, но для меня лично совершенно немыслимо представить женщину, которая бы предпочла Эрнесту Кершо — вас. Вы слишком разные. Если мистер Плоуден хотел прямого ответа — он его получил. Несколько мгновений он сидел молча, а затем сказал: — Раз так — видимо, ничего не поделаешь. — Я этого не говорила. Женщины часто выходят не за тех, кому отдано их сердце. Знаете, как женятся дикари, мистер Плоуден? Они ловят себе жен. Крадут их, завоевывают, увозят силой. Такой вид брака — один из древнейших в мире. — Вот как! — В Англии дела обстоят примерно так же, просто мы не называем вещи своими именами. Вы полагаете, в наши дни на женщин не охотятся? Да очень часто! Будущий муж возглавляет погоню, а любящие родственники гонят дичь криками… — Хотите сказать, что на вашу сестру можно… поохотиться? — Я? Ничего не хочу сказать. Разве что… нелюбимый, но настойчивый жених рядом с объектом часто имеет больше шансов, чем далекий возлюбленный, как бы дорог сердцу он не был. Мистер Плоуден ушел. Флоренс смотрела в окно, как он шагает по тропинке к воротам. — Я рада, что Джереми задал тебе трепку! — негромко пробормотала она. — Бедняжка Ева…Глава 22
МИСТЕР ПЛОУДЕН УХАЖИВАЕТ
Мистер Плоуден был не самым деликатным поклонником в мире. Как он однажды сподобился объяснить Флоренс, в ухаживаниях он не видел никакого смысла, а потому и действовал, согласно своим убеждениям. Степень утонченности его чувств была приблизительно, как у быка или слона, и в отношениях с женщинами он, образно говоря, тоже вел себя, как слон, топчущий лилии, — и к Еве относился соответственно. Он подстерегал ее за каждым углом и без обиняков предлагал выйти за него замуж; он заявлялся в дом без приглашения — и снова настаивал, чтобы она вышла за него. Было совершенно бесполезно повторять ему «Нет, нет, нет» или взывать к его лучшим чувствам или состраданию — у него их просто не было. Он попросту не слушал Еву; вдохновленный моральной поддержкой, полученной от Флоренс, он буквально обрушивался на бедную девушку со своими любовными излияниями. Флоренс было весело наблюдать за этой охотой — и она следила за происходящим с мрачной улыбкой на презрительно сжатых губах. Напрасно белая лань мчалась, напрягая все силы, — большой черный пес не отставал, и стоило ей замедлить бег — норовил вцепиться прямо в горло. Эта идея погони черного пса за белой ланью так сильно овладела извращенным воображением Флоренс, что она и в самом деле набросала подобную картину — она была неплохим художником, хотя и не имела соответствующего образования. Несколькими штрихами она добилась почти идеального сходства кровожадного черного пса с мистером Плоуденом. У белой лани на рисунке были глаза Евы — и агония, запечатленная в них, вышла столь натурально, что даже сама Флоренс не могла больше смотреть на рисунок и разорвала его. Однажды, войдя в комнату, Флоренс нашла сестру в слезах. — Ну, Ева, что на этот раз? — довольно презрительно поинтересовалась Флоренс. — Мистер Плоуден! — всхлипнула Ева. — Опять мистер Плоуден! Дорогая моя, если ты так прекрасна и поощряешь ухаживания мужчин — ты должна думать и о последствиях. — Я никогда не поощряла мистера Плоудена. — Чепуха, Ева, ты не заставишь меня в это поверить. Если бы ты его не поощряла, он бы в тебя не влюбился. Джентльмены не любят, когда их водят за нос. — Мистер Плоуден не джентльмен! — воскликнула Ева. — Что заставляет тебя так думать? — Потому что джентльмен не станет так преследовать женщину. Он не понимает слова «Нет!», сегодня он насильно поцеловал мне руку. Я пыталась вырваться, но тщетно. О, я его ненавижу! — Знаешь, что я тебе скажу, Ева? Мне надоела ты и твои фантазии. Мистер Плоуден — уважаемый человек, он священник, он благополучен и имеет положение в обществе. Он как раз прекрасно подходит на роль мужа. Ах да, Эрнест! Да я устала от этого Эрнеста! Если бы Эрнест хотел жениться на тебе, он бы не стал убийцей и не удрал бы в Южную Африку. Да, ему нравилось флиртовать с тобой, пока он был здесь; но вот он совершил глупость и уехал — все, на этом с Эрнестом покончено. — Но, Флоренс, я люблю Эрнеста! Мне кажется, я люблю его больше с каждым днем, и я ненавижу мистера Плоудена! — Вот и прекрасно. Я не предлагаю тебе любить мистера Плоудена, я предлагаю выйти за него замуж. Какое отношение любовь имеет к браку, хотелось бы мне знать? Если бы люди всегда вступали в брак только с теми, кого они любят, на земле очень скоро наступил бы ужасающий беспорядок. Послушай меня, я не так уж часто навязываю тебе свое мнение и не прошу соблюдать мои интересы, но в этом вопросе у меня тоже есть право голоса. У тебя сейчас есть возможность обеспечить нам обеим нормальную жизнь в нормальном доме. Мистер Плоуден ничем не хуже прочих. Почему нельзя выйти за него замуж — как за любого другого мужчину? Разумеется, если ты решишь пожертвовать своим… нашим благополучием во имя глупой прихоти — я не могу тебе в этом помешать, ты сама себе хозяйка. Я только прошу тебя хорошенько все обдумать — и отказаться от мысли, что ты не можешь быть счастлива с мистером Плоуденом только потому, что тебе кажется, будто ты любишь Эрнеста. Через полгода ты и думать о нем забудешь! — Но я не хочу о нем забывать! — Ну конечно. Снова твой отвратительный эгоизм. Но хочешь ты этого или не хочешь — а так и будет. Через год-два, когда у тебя будут другие интересы и собственные дети… — Флоренс, ты можешь болтать хоть до полуночи, если тебе так нравится, но я говорю раз и навсегда: я не выйду за мистера Плоудена! С этими словами Ева вышла из комнаты, высоко подняв голову. Флоренс тихонько рассмеялась ей вслед. — Выйдешь, еще как выйдешь, Ева. Я накину фату невесты на эту прекрасную головку — не пройдет и полугода, моя дорогая! Флоренс оказалась права. Это был вопрос времени — и хорошо продуманного, хитрого давления. В конце концов, Ева сдалась. Впрочем, нам нет нужды во всех подробностях следить за этой отвратительной историей. Если, совершенно случайно, кого-то из читателей интересуют означенные подробности, мы можем порекомендовать им обратиться к примерам из жизни. Таких случаев вокруг нас случается множество, и в том, что касается жертв подобных историй, можно с прискорбием отметить пугающее однообразие обстоятельств, сопутствующих подобным житейским трагедиям. Так вот и случилось, что в один прекрасный день, в самом начале лета, Флоренс Чезвик, вернувшись с прогулки, обнаружила в маленькой гостиной свою сестру и мистера Плоудена. Ева была очень бледна, в глазах ее плескался страх, руки дрожали, она едва стояла на ногах, опираясь на каминную полку. Мистер Плоуден, массивный, вульгарный и самодовольный, навис над ней, пытаясь взять ее за руку. — Поздравьте меня, мисс Флоренс! — воскликнул он. — Ева обещала стать моей! — Неужели? — холодно усмехнулась Флоренс. — Как вы рады, должно быть, что мистер Джонс далеко отсюда. Это было сказано не слишком любезно, но дело в том, что в мире нашлось бы очень мало людей, кого Флоренс презирала и ненавидела бы больше, чем мистера Плоудена. Даже простое присутствие в комнате этого человека несказанно раздражало ее. Он был инструментом ее мести, он был нужен для ее целей — поэтому она его использовала, однако не могла не желать в глубине души, чтобы этот инструмент был… поприятнее. Мистер Плоуден побледнел от ее издевки, а Ева, как она ни была испугана и измучена, все же улыбнулась и подумала, что ненавистный поклонник наверняка рад и тому, что еще кое-кто «далеко отсюда». Бедная Ева! «Бедная Ева! — возможно, думаешь ты, мой читатель. — Никакая она не бедная на самом деле. Она просто слаба, она заслуживает лишь презрения». Остановись, читатель, не говори так. Вспомни, что обстоятельства были против этой девушки. Вспомни, что из поколения в поколение женщин учили повиноваться и исполнять свой долг — и сейчас эти благонравные истины оборачивались проклятием; вспомни, что она находилась под постоянным и сильным влиянием своей сестры — и что ей просто недоставало сил сопротивляться вульгарному напору своего поклонника. «Да, но все же она проявила слабость!» — говорите вы. Пусть так. Да, она была слабой — слабой, как и тысячи женщин, которым столетиями внушали, что слабость — это их природа. Почему женщины слабы? Потому что их сделали такими мужчины. Потому что законы, созданные мужчинами, и общественное мнение, сформированное мужчинами, из века в век вбивали в женщину убеждение, с которым она, надо признать, охотно согласилась: женщина — это имущество, которым можно владеть и играть, она существует лишь для удовольствия мужчины и удовлетворения его страсти. Мужчины сознательно замедляли умственное развитие женщин и лишали их естественных прав, не признавая равенства между полами. Слабые! Да, женщины стали слабыми, потому что слабость имеет привлекательность в глазах мужчин. Они стали глупыми, потому что их не допускали к образованию, потому что любое проявление способностей не поощрялось и даже осуждалось; они стали легкомысленными, потому что легкомысленность была объявлена их неотъемлемым и едва ли не единственным качеством. Нет на свете мужчины-простака, которому не хотелось бы подчинить себе еще большего простака, чем он сам. Поистине, триумф сильного пола был полон — ибо мужчинам удалось заставить своих жертв добровольно служить им. Воистину, самый действенный инструмент подавления женщины и удержания ее на нынешнем уровне — сама женщина. И все же давайте остановимся на минуту и взглянем хладнокровно и здраво — на мужчину и женщину. Кто из них превосходит другого и в чем? Да, в силе у нас есть преимущество, но в интеллекте — женщина почти равна нам, если мы ведем с ней честную игру. А в чистоте, в нежности, в долготерпении, в верности, во всех христианских добродетелях — кто выше? Мужчина, кто бы ты ни был — подумай о своей матери, о своих сестрах, подумай о той, кто ухаживала за тобой в болезни и стояла рядом с тобой в беде, когда все прочие отвернулись… Подумай, вспомни — и ответь. Бедная Ева! Пожалейте ее — но очистите свою жалость от презрения. В тех обстоятельствах требовалось, чтобы женщина обладала бы необычайным умом и силой характера — у Евы их не было. Природа, щедро одарившая ее роскошными своими дарами, не дала самого главного — умения и силы защитить себя. Ева не умела сопротивляться — это был ее единственный и, к сожалению, фатальный недостаток. В остальном она была чиста, как горный снег, и сердце у нее было золотое. Сама неспособная к обману, она не подозревала, что на него способны другие. Ей даже в голову не приходило, что у Флоренс могут быть свои мотивы для расхваливания мистера Плоудена. Нет, Ева была по-настоящему одержима идеей долга и самопожертвования, что у некоторых женщин становится сродни безумию. Флоренс искусно внушила ей, что Ева должна воспользоваться возможностью, чтобы дать сестре дом и покровительство зятя — и эта мысль полностью захватила девушку. Что же касается того, какой жестокой несправедливостью станет ее брак с мистером Плоуденом для Эрнеста, как ни странно, Ева никогда не думала об этом, не смотрела с точки зрения Эрнеста. В типично женской манере она готова была принести себя в жертву Джаггернауту[415], именуемому «Долг», позволив раздавить, уничтожить весь ее внутренний мир, жизнь ее сердца — но при этом она никогда не думала о другой жизни, так тесно спаянной с ее собственной; той жизни, которой тоже предстояло быть разрушенной. Удивительно, как женщины, много и самозабвенно говоря о своем долге перед другими, так часто забывают о долге перед тем, чью любовь они заслужили и чей образ хранят в своем сердце. Единственное возможное объяснение этой загадки — если забыть о врожденном эгоизме — состоит в том, что в глубине души женщины уверены: мужчина не умеет чувствовать по-настоящему. Женщинам кажется, что он «справится с этим». Вероятнее всего, это происходит потому, что когда женщина решается на насилие над собственными чувствами и соглашается на несчастный и нежеланный брак, пострадавшей стороной она ощущает себя и только себя, в последнюю очередь вспоминая об оставленном возлюбленном. Бедный дурачок! Он, без сомнения, «справится с этим»… К счастью, многие действительно справляются.Глава 23
НАД ВОДОЙ
Мистер Эльстон и Эрнест воплощали в жизнь свои планы, связанные с охотничьей экспедицией. Они отправились в Лиденбург, взяв с собой большой фургон, запряженный волами, и в течение трехдневного похода настреляли столько антилоп гну и белоносых бубалов, сколько обычно можно было бы добыть за месяц. Эта жизнь была совершенно внове для Эрнеста… и очень ему нравилась. Большой тяжелый фургон был запряжен восемью парами «соленых» волов — эта порода не подвержена болезням легких, — и в нем они путешествовали везде, где им заблагорассудится, вернее, везде, где находились следы большого стада антилоп. Мистер Эльстон и его сын Роджер спали в фургоне, Эрнест обычно ставил себе на ночь маленькую палатку — и никогда еще не спал крепче и спокойнее. Свежее очарование этой простой жизни захватило его. Чудесно было останавливаться на ночлег после целого дня охоты или неспешной езды по саванне и наслаждаться совместной трапезой, обычно состоявшей из наваристого мясного жаркого, куда входили одновременно говядина, куропатки, бекасы, рис и овощи — если это божественное блюдо правильно приготовлено, то им не погнушается и король. Затем следовал непременный ритуал раскуривания трубочки — вернее, нескольких трубок подряд — и неспешная беседа о событиях прошедшего дня: об удачных и неудачных выстрелах и случаях на охоте, которые вспоминались в связи с тем или иным обстоятельством. Охотничьи байки неминуемо провоцировали появление хорошо известной квадратной бутылки и оловянных кружек, из которых вы, вероятно, привыкли пить чай; и вот уже слуга-зулус отправлен к ручью за водой — он, разумеется, активно возражает, поскольку совершенно уверен, что в темноте его поджидают злобные духи. Вы предаетесь вечерней неге, курите трубку, ведете неспешный разговор — или просто думаете о чем-то. Наконец восходит великолепная африканская луна, словно сверкающая королева, она садится на свой трон из чернильно-черных облаков и заливает дикий вельд таинственным сиянием, освещая длинные вереницы обитателей вельда, неторопливо бредущих вдоль покатых горных хребтов в поисках пищи… Что ж, «еще одну капельку» — и пора ложиться спать, приняв замечательное решение, которое кажется таким легко выполнимым ночью и совершенно невыносимо на рассвете: встать пораньше. Вы раздеваетесь возле палатки — снимаете все, кроме фланелевой нижней рубахи, в которой будете спать, — поскольку внутри нет места для подобных манипуляций, и складываете одежду и сапоги под прорезиненный макинтош, иначе все отсыреет от росы, и одеваться на рассвете будет очень неприятно. Потом вы встаете на четвереньки и вползаете в свою крошечную спальню, где уютно устраиваетесь среди одеял. Некоторое время вы, быть может, лежите без сна, все еще посасывая трубочку и задумчиво глядя сквозь отдернутый полог на две яркие звезды, сияющие в темно-синем небе, или слушаете шорох высокой травы-тамбуки, которую шевелит ночной ветерок. Но вот холодные далекие звезды становятся ближе, ближе… теплеет их свет, и вот они превращаются в глаза Евы — если у вас есть своя Ева, — а желтые пряди травы-тамбуки темнеют и кажутся Евиными локонами, и ночной ветерок шепчет Евиным голосом, рассказывая вам, что она пришла, прилетела к вам из-за далекого моря, чтобы сказать о том, как она вас любит, и вы почти засыпаете, успокоенный… Что спугнуло ее? Звяканье цепи и шумное дыхание волов, просыпающихся, чтобы встретить рассвет? Солнце еще не встало, но рассвет близок. Смотрите — серенький слабый отсвет начинает играть на рогах волов, а далеко на востоке ночная мгла начинает окрашиваться нежно-розовым оттенком. Прочь сны и мечты: пора вытаскивать сонных и трясущихся кафров с их лежбища под фургоном и получше накормить лошадей, которым сегодня предстоит гнать по вельду быстроногих антилоп. Зычные оклики погонщиков — и вот фургон со скрипом трогается с места, а тут и солнце встает во всей своей силе и славе, и вы откусываете хрустящую хлебную корку, сидя на козлах, и запиваете ее чистейшей водой, и чувствуете во всей полноте, как это чудесно — вставать пораньше! Затем, примерно в половине восьмого, следует привал: время позавтракать и освежиться в каком-нибудь ручье. Потом вы садитесь верхом, вскидываете ружье — и устремляетесь в погоню за большим стадом антилоп гну. И так, мой читатель, день следует за днем — и с каждым из этих дней вы становитесь все здоровее, счастливее и сильнее телом и духом. Никаких писем, газет, кредиторов, женщин и детей! Подумайте только, как это прекрасно — а затем отправляйтесь за фургоном и воловьей упряжкой и немедленно начните вести такую же жизнь!Спустя месяц такой беспечальной жизни мистер Эльстон пришел к выводу, что теперь вполне безопасно будет спуститься в низины близ Делагоа Бей и начать Большую Игру. К их компании присоединился еще один будущий Нимрод — англичанин, прибывший из метрополии в поисках приключений, — и они тронулись в путь. В течение первого месяца все шло очень и очень неплохо. Они убили множество бизонов, антилоп куду и канна, водяных антилоп и даже двух жирафов, но, к большому разочарованию Эрнеста, ни разу не встретили носорога и всего лишь раз столкнулись со львами; Эрнест тогда промахнулся, хотя вокруг их было довольно много. Однако вскоре удача изменила им. Сперва их лошади умерли от ужасного бедствия всей этой части Южной Африки, легочной болезни. За лошадей были заплачены большие деньги, около семидесяти фунтов за каждую, и продавцы уверяли, что это «соленые» животные — то есть те, кто уже переболел и выжил, приобретя устойчивость к этой заразе. Тем не менее, лошади пали одна за другой. Это оказалось только началом бед. На следующий день после смерти последней лошади заболел лихорадкой их новый компаньон, присоединившийся к ним в Лиденбурге. Мистер Джеффрис — так его звали — был сдержанным и хорошо воспитанным английским джентльменом лет тридцати. Как и большинство людей, близко узнавших Эрнеста, он проникся к нему самыми теплыми чувствами, и они быстро стали друзьями. Во время первых приступов лихорадки Эрнест ухаживал за ним, точно за родным братом, и был вознагражден несомненными признаками скорого выздоровления. Однако в один из злополучных дней Эрнест и мистер Эльстон оставили лагерь на Роджера и отправились на поиски антилоп, чтобы пополнить запасы мяса. Довольно долго они бродили по саванне, пока Эрнест не набрел на громадного самца антилопы канна, самозабвенно чесавшегося о колючий куст мимозы. Выстрел Эрнеста был точен, благородное животное упало замертво, и Эрнест с мистером Эльстоном, нагрузив двух кафров языком, печенью и лучшими кусками мяса, поспешили обратно в лагерь. Тем временем разразилась одна из тех неожиданных и яростных гроз, которыми славится Южная Африка. Подул сильный холодный ветер, словно предупреждая о начале катаклизма — и в следующий миг на вельд обрушилась страшная буря. Небо исчертили ослепительные молнии, оглушительный гром эхом катался от холма к холму, дождь лил стеной. Измотанные, перепуганные, мокрые до нитки, они добрались до лагеря, где их ожидало печальное зрелище. Перед палаткой, служившей госпиталем для Джеффриса, находился большой муравейник, и сейчас на этом муравейнике, одетый лишь в нижнюю рубаху, сидел несчастный мистер Джеффрис. Дождь хлестал его по непокрытой голове и исхудавшему лицу, ледяной ветер трепал мокрые волосы. Одну руку он протягивал к небу, глядя, как по ней струится вода; за другую руку его держал Роджер, тщетно пытавшийся отвести его обратно в палатку. Однако Джеффрис был крупным мужчиной, и с тем же успехом маленький мальчик мог пытаться сдвинуть с места буйвола. Мистер Джеффрис бредил. — Ну разве не славно! Наконец-то я хоть немного остыл! — крикнул он своим компаньонам, когда они приблизились. — Да, и скоро остынешь совсем, бедолага! — пробормотал мистер Эльстон. Втроем они затащили его в палатку, но уже через полчаса стало ясно, что надежд не осталось. Джеффрис больше не бредил — лишь повторял на разные лады только одно слово: — Элис! На рассвете следующего дня он умер с этим именем на устах. Эрнест часто вспоминал его и задавался вопросом, кто была эта неведомая Элис. Они выкопали глубокую могилу под старым развесистым терновником и положили в нее мистера Джеффриса, обретшего вечный покой. На могилу они прикатили большие камни, чтобы шакалы не смогли разрыть ее. Затем они оставили Джеффриса навсегда. Печальная это работа — хоронить своего товарища в дикой глуши… Когда они шли к фургону, маленький Роджер горько плакал — мистер Джеффрис всегда был очень добр к нему, а первая смерть, увиденная вблизи, всегда особенно ужасна для юного сердца. Навстречу им попался слуга-зулус по имени Джим, обычно приглядывавший за скотом. Он приветствовал мистера Эльстона в зулусской манере — вскинув правую руку и произнеся «Инкоос!» (белый человек), а затем замер на месте. — Ну, что случилось, парень? — спросил Эльстон. — Ты потерял быков? — Нет, Инкоос, волы безопасно в ярмо. Тут вот как. Я сидеть на тот холм, смотреть, чтобы волы Инкоос не блудить далеко. Интомби (молодая девушка) из крааль под горой прийти ко мне. Она дочь матери Зулу, которая попасть в руки собака Басуто. Она моя половина сестра. — Очень хорошо. Ну и? — Инкоос, я встречать эта интомби раньше. Я видеть ее, когда ходить покупай масло в крааль. — Хорошо. — Инкоос, Интомби принести тяжелая весть, которая камень на твое сердце. Секокени, вождь Бапеди, который живет под Голубые горы, объявить войну бурам. — Я слышу тебя. — Секокени хочет винтовки для свои люди, как у буров. Он слышать о том, что Инкоос охота здесь. Сегодня ночь он отправит Импи убить Инкооси и взять их ружья. — Так сказала Интомби? — Да, Инкоос, это так она говорить. Она сидеть рядом хижина, бить имфи (так кафры называют кукурузу) для пиво, и услышать человек от Секокени приказать ее отец собрать люди и убить нас сегодня. — Я слышу тебя. Когда они придут ночью? — Мало-мало перед рассвет, чтобы видеть, куда гнать фургон. — Хорошо! Мы их опередим. Луна взойдет через час, и мы сможем ехать. Лицо молодого зулуса сделалось совершенно несчастным. — Горе, Инкоос! Нельзя бежать! Шпион сиди, смотри лагерь. Он там, где большие камни, я видеть, когда гнать волов домой. Если мы уйти, он сразу сказать вождь, и нас догнать через час. Мистер Эльстон задумался ненадолго, а затем принял решение с той быстротой, которая характеризует людей, проводящих всю свою жизнь в борьбе с дикарями. — Мазуку! — позвал он зулуса, сидевшего у костра. Эрнест нанял его в качестве личного слуги. Мазуку поднялся и приветствовал белых, вскинув правую руку. Он был не очень высок ростом, однако плечи у него были широкие, а ноги мощные и длинные, поэтому, одетый лишь в набедренную повязку «муча», он производил впечатление гиганта. В свое время он был солдатом в одном из полков Кечвайо, однако проявил некоторую нескромность и нарушил брачные обычаи зулу, после чего был вынужден бежать от соплеменников в Наталь, где и нанялся в слуги, начав говорить на языке, который сам уверенно считал английским. Даже среди абсолютно бесстрашных зулусов у него была репутация храбреца. Оставив его стоять у костра, Эльстон вполголоса изложил Эрнесту свой план, а затем вновь повернулся к зулусу. — Мазуку, Инкоос, твой хозяин, которого черныелюди назвали Мазимба, говорит мне, что ты храбрец. Симпатичное лицо зулуса немедленно расплылось в улыбке устрашающей ширины. — Он говорит, ты сказал ему, что когда ты был воином Кечвайо в полку Унди, ты однажды убил четверых Басуто, когда они все вместе напали на тебя. Мазуку, не ответив ни слова, вскинул правую руку в приветствии, а затем скосил взгляд на шрамы от клинка ассегая у себя на груди. Эльстон продолжал: — Так вот, я сказал твоему хозяину, что не верю тебе. Ты ему соврал, ты сбежал от Кечвайо, потому что тебе не нравилось сражаться и не хотелось, чтобы тебя убили, как королевского быка, как храброго воина. Зулус помрачнел и снова покосился на свои шрамы. — Оушш! — сердито прошипел он. — Ба! Что толку смотреть на эти царапины? Их оставили женские ногти. Ты и сам, как слабая женщина. Молчать! Кто разрешил тебе говорить? Если ты не женщина — докажи это! Там, в скалах, затаился вооруженный Басуто. Он за нами следит. Твой хозяин не может спокойно есть и спать, пока тот человек смотрит. Возьми свой большой ассегай, который ты так любишь всем показывать, и убей его — или умри, как трус! Басуто не должен издать ни звука, помни это. Мазуку посмотрел на Эрнеста, ожидая подтверждения приказа. Зулусы любят получать приказы только от своих вождей — или хозяев. Мистер Эльстон заметил его колебание и поспешно сказал: — Я — рот и язык Инкоос, я говорю его словами. Мазуку снова вскинул руку в салюте и бросился к фургону за своим ассегаем. — Иди тихо, не то разбудишь того человека, и он убежит от такого великого воина! — ехидно добавил Эльстон ему вслед. — Я пойду в большие камни, буду искать мути (лекарство)! — сверкнул ответной улыбкой зулус. Мистер Эльстон повернулся к Эрнесту. — Мы в большой беде, мой мальчик. Будет большой удачей, если нам удастся выбраться невредимыми. Я издевался над этим парнем, чтобы с соглядатаем не вышло промаха. Его надо убить — и теперь Мазуку скорее умрет сам, чем позволит тому удрать. — Может быть, было бы безопаснее послать с ним еще кого-то? — Возможно, но я боюсь, что если шпион увидит двоих, то заподозрит неладное, как бы невинно они не выглядели. У нас нет лошадей, и если шпион сбежит, мы никогда не выберемся отсюда живыми. Глупо надеяться, что Басуто станут различать буров и англичан, кроме того, Секокени уже приказал нас убить, и они не осмелятся ослушаться. О, посмотри — вот идет наш Мазуку с ассегаем, огромным, как лопата! Каменистый холм, где прятался шпион, находился примерно в трехстах ярдах от небольшой лощины, в которой располагался лагерь, и теперь Мазуку крался через довольно открытый, плоский участок, заросший низким кустарником, сжимая в одной руке ассегай, а в другой — две длинные палки. Вскоре его стало совсем не видно, потому что солнце быстро клонилось к закату. Через некоторое время, показавшееся Эрнесту, наблюдавшему за зулусом в полевой бинокль, невыносимо долгим, силуэт Мазуку вновь появился, уже на склоне холма; он четко выделялся на фоне неба. Зулус не отрывал взгляда от земли, словно действительно искал среди камней целебные травы, о которых говорил. Внезапно Эрнест увидел, как Мазуку выпрямился и вскинул ассегай. Прошло секунд двадцать. На дальней стороне склона холма лежал громадный плоский камень — сейчас заходящее солнце находилось точно за ним. Совершенно неожиданно на нем возникла высокая фигура, словно выпрыгнувшая из пустоты, а мгновение спустя Эрнест увидел и Мазуку. Несколько секунд два человека отчаянно сражались на вершине плоского камня, и Эрнест мог видеть отблески последних солнечных лучей на лезвиях ассегаев, которыми зулусы наносили друг другу удары, а затем оба исчезли из виду. — О боги! — дрожа от волнения и возбуждения, воскликнул Эрнест. — Что же там происходит? — Скоро узнаем, — хладнокровно откликнулся мистер Эльстон. — Во всяком случае, жребий, как говорится, брошен — и теперь нам надо поторопиться. Эй, зулу! Сворачивайте палатки, запрягайте волов, да побыстрее, если не хотите, чтобы ассегаи Басуто отправили вас к духу Чаки! Зулусы следили за происходящим с не меньшим вниманием, чем белые, и мистеру Эльстону не было нужды их торопить. Честно говоря, Эрнест еще не видел, чтобы лагерь сворачивали с такой скоростью. Однако еще до того, как была свернута первая палатка, все с облегчением увидели, что Мазуку бежит к ним, радостно распевая боевую зулусскую песню. Впрочем, вид его не особенно располагал к радости — он был весь в крови, своей и чужой. Его собственная кровь текла из раны на левом плече. Приблизившись к Эрнесту и мистеру Эльстону, он вскинул свой окровавленный ассегай и отсалютовал. — Я слышу тебя! — кивнул мистер Эльстон. — Я исполнил приказ Инкооси Мазимба! Два человека прятать в камнях. Один я быстро убить внизу, второй большой человек, он хорошо сражаться за Басуто. Теперь оба мертвый, и я бросить их в яму, чтобы их братья не просто найти их. — Очень хорошо, теперь смой с себя кровь и займись вещами своего хозяина. Стой! Твою рану надо зашить. Как же ты допустил, чтобы Басуто ранил тебя? — Инкоос, он быть очень быстро с ассегай, он сражаться, как большая кошка. На это мистер Эльстон ничего не ответил. Он просто достал иглу и шелковую нить, которые всегда носил при себе, и довольно быстро и умело зашил рану зулуса. Мазуку перенес эту процедуру, даже не дрогнув, а затем отправился к ручью смывать с себя кровь. Короткие сумерки быстро сменились непроглядной темнотой, вернее — почти непроглядной, если не считать взошедшей луны, освещавшей путь беглецам. В оставленном лагере разожгли большой костер, как будто люди все еще находились там; затем мистер Эльстон отдал приказ, и волы, послушные окрикам своих погонщиков, двинулись вперед. Фургон скрипел и раскачивался, постепенно набирая скорость. Процессия выглядела следующим образом: впереди, примерно в паре сотен ярдов, шел один из кафров, зорко глядя по сторонам. Он должен был немедленно сообщить о любых признаках возможной засады. Упряжку волов вел юный зулус Джим, чьей бдительности экспедиция была обязана жизнью, а на козлах, трясясь от страха, сидел готтентот[416] Кейп. Мистер Эльстон и Эрнест сидели возле бортов фургона, сжимая в руках винчестеры и зорко вглядываясь в темноту. Заднюю часть фургона охранял Мазуку, также вооруженный винтовкой. Остальные слуги-зулусы рысцой бежали рядом с фургоном, а юный Роджер мирно спал внутри фургона на раскладной койке. Так они и двигались по равнине, час за часом. Вскоре они вышли к впечатляющего вида холмам, чьи склоны были усыпаны громадными валунами, способными разбить и нечто более прочное, нежели африканский фургон; теперь беглецы следовали по темной, молчаливой долине, выглядевшей особенно мрачно и торжественно в серебряном лунном свете. Каждую секунду они ожидали нападения Импи Секокени, не сводя глаз с темных зарослей кустарника, и упрямо продолжали свой путь по горным склонам. Наконец, уже около полуночи они достигли ущелья, разделяющего горный хребет надвое, и здесь остановились на короткий привал, чтобы дать передышку волам, которые, к счастью, довольно хорошо себя чувствовали и даже не сбили дыхание. Затем они продолжили свой путь и еще до рассвета миновали широкую долину, раскинувшуюся у подножия очередного горного хребта. Здесь они отдыхали чуть дольше, около двух часов, и волы смогли попастись в густой и сочной траве. За ночь было пройдено тридцать миль — не так уж и много, на наш взгляд цивилизованных путешественников, однако на самом деле — очень много для неторопливых, массивных волов, да еще и вынужденных идти по неровной и незнакомой местности. Когда встало солнце, они вновь устремились вперед, поскольку Басуто наверняка обнаружили их отсутствие и теперь преследовали их. За день сделали всего один короткий привал, а затем снова пустились в путь и шли без остановок большую часть следующей ночи — пока несчастные животные совсем не выбились из сил и не начали спотыкаться и падать прямо в упряжке. Наконец, они пересекли границу и оказались на территории Трансвааля. Когда рассвело, мистер Эльстон, вооружившись биноклем, внимательнейшим образом осмотрел долину, оставшуюся позади. Никаких следов Басуто не было видно, лишь большое стадо антилоп безмятежно пересекло оставленную фургоном колею. — Думаю, теперь мы в безопасности, — сказал мистер Эльстон, — и я благодарю за это Бога. Знаешь, что могли бы сделать с нами эти черные дьяволы Басуто, если бы поймали нас? — Что же? — С нас содрали бы кожу заживо, а из сердец и печени приготовили бы «мути» — лекарство и съели бы, чтобы овладеть мужеством белых людей. — О господи! — отвечал Эрнест.
Глава 24
ЭПИЧЕСКАЯ БИТВА
Когда мистер Эльстон и Эрнест оказались в безопасности на территории Трансвааля, они решили временно отказаться от идеи Большой Игры — вернее, Большой Охоты — и довольствоваться сравнительно скромными трофеями в виде антилоп различных пород и размеров. Теперь план их путешествия заключался в том, чтобы неторопливо передвигаться из одной точки страны в другую, останавливаясь там, где обнаружится особенно большое стадо. Таким образом, они провели несколько месяцев в пути, получая громадное удовольствие от путешествия и охоты — а Эрнест к тому же многое узнал о стране и ее обитателях — бурах. Они вели довольно дикую и грубую, но отнюдь не примитивную жизнь. Постоянный контакт с Природой во всем ее многообразии, во всем великолепии различных ее форм для столь впечатлительного юноши, как Эрнест, стал отличным уроком жизни. Разум Эрнеста жадно постигал и впитывал невозмутимое величие окружающего мира во время этого долгого путешествия. И постоянная борьба с сотней трудностей, ежедневно возникающих в пути, и быстрота решений, которые приходилось принимать, чтобы защитить себя, а иногда и спасти жизнь, — все это не могло не оказать влияния на формирование характера молодого человека. Немалую роль сыграло и то небольшое общество, в котором он все это время находился, ибо в мистере Эльстоне он нашел настоящего друга, а его многочисленные таланты и живой ум вызывали в нем искреннее уважение и восхищение. Мистер Эльстон был очень спокойным и рассудительным человеком: он никогда не говорил необдуманных слов, всегда тщательно взвешивая все за и против. Он провел большую часть своей жизни, наблюдая вблизи самые дикие стороны человеческой натуры. Вероятно, ты, мой читатель, можешь подумать, что говоря о «дикой стороне», я имею в виду воинов-зулусов, охотящихся в своем краале, одетых в кароссы — звериные шкуры — и размахивающих своими устрашающими ассегаями — в противовес тебе, спокойно направляющемуся каждый вечер в свой клуб и небрежно помахивающему зонтиком от Бриггса. На самом деле, разница между вами ничтожна — примерно, как между лакированным и обычным деревом. Соскребите лакировку с англичанина — и вы увидите перед собой такого же зулуса. На самом деле, для того, кто берет на себя труд изучать человеческую натуру, очевидна абсурдность претензий «цивилизации»: дерево остается деревом по своей природе, невзирая ни на какую лакировку. Однако вернемся к нашим героям. Результатом многолетних наблюдений мистера Эльстона за человеческой природой стало то, что он стал отличным компаньоном, проницательным человеком и справедливым судьей во всех мужских делах. Чего только он не испытал за эти годы, или чему только не был бы свидетелем, пока торговал, стрелял или служил Правительству в той или иной должности; Эрнест был очень удивлен, обнаружив, насколько мистер Эльстон, проведя всего лишь около четырех месяцев в Англии, досконально разобрался во внутриполитических вопросах и даже в вопросах литературы и изобразительного искусства. Не будет преувеличением утверждать и то, что сам Эрнест лучше всего ознакомился с этими предметами именно с помощью мистера Эльстона — и опыт этот оказался бесценен для всей его последующей жизни. Итак, деля досуг между стрельбой по диким тварям и философскими беседами, они отлично провели время, пока не добрались до столицы Трансвааля — Претории, где решили дать своим волам основательную передышку на месяц или два, прежде чем отправиться в настоящую большую охотничью экспедицию вглубь Центральной Африки. На дорогу, ведущую в Преторию, они выбрались неподалеку от города Гейдельберг, находящегося примерно в шестидесяти милях от столицы, и стали передвигаться по ней короткими переходами, часто делая остановки. Места для привалов они обычно выбирали там, где совсем недавно до них уже останавливался какой-то фургон или караван. Довольно часто они находили еще не остывшие угли, или даже догорающий костер — и это было весьма полезной и приятной находкой, особенно для Эрнеста, который за прошедшие месяцы научился отменно готовить и полюбил это занятие. Одна из самых серьезных проблем путешествующих по Южной Африке — вопрос огня. Как вскипятить чайник, если вы путешествуете по вельду и вам негде добыть топливо для костра? Именно поэтому догорающие костры здесь в особом почете, и Эрнест в последние полчаса перед очередным привалом всегда торопился вперед, надеясь найти горячие угли. Однажды утром — они находились примерно в пятнадцати милях от Претории и рассчитывали добраться до города уже к вечеру — фургон неторопливо катился по саванне к месту очередного привала. Эрнест в сопровождении верного Мазуку, который повсюду следовал за ним, словно черная тень, отправился вперед, чтобы узнать, были ли достаточно внимательны к ним их предшественники. Оказалось — были, ибо костер все еще весело потрескивал на месте чьей-то недавней стоянки. — Ура! — воскликнул Эрнест. — Мазуку, собери хворост и наполни чайник водой. О боги! Здесь нож! Это был складной нож с рукояткой из рога, несколькими лезвиями и штопором. Он лежал возле костра. Эрнест поднял его и долго смотрел — вещь казалась ему до странности знакомой. Потом он перевернул нож, вгляделся в серебряную пластинку с гравировкой — и сильно вздрогнул. — Что случилось, Эрнест? — спросил подошедший мистер Эльстон. — Взгляните на рукоять! — отвечал Эрнест, указывая на инициалы, выгравированные на серебряной пластинке. — Что ж, какой-то парень потерял свой нож — а тебе повезло его найти. — Помните, как я рассказывал о своем друге Джереми? Это его нож, я сам подарил его ему несколько лет назад. Смотрите, вот его инициалы — Дж. Дж. — Чепуха! Просто похожий нож — я сам видел сотни таких. — Я уверен, что это тот самый нож. Джереми где-то здесь, в Африке! Мистер Эльстон пожал плечами. — Невероятно, честно говоря. Эрнест не ответил ему. Он смотрел на нож. — Эрнест, ты давно писал своим в Англию? — Давно. Последнее письмо я написал еще в Секокени — помните, я передал его вместе с Басуто, направлявшимся в Лиденбург, незадолго до смерти Джеффриса. — Скорее всего, тот кафр не добрался до Лиденбурга — он просто не решился бы туда идти, когда разразилась война. Ты должен написать им сейчас. — Я и собирался сделать это, когда мы окажемся в Претории, но у меня почему-то сердце не лежит к письмам. Больше ничего не было сказано, и Эрнест молча положил нож в карман. Вечером того же дня они миновали Пурт, откуда открывается едва ли не самый прекрасный вид на южноафриканские поселения, и на равнине внизу перед ними раскинулась Претория, залитая лучами вечернего солнца. Мистер Эльстон, хорошо знавший город, решил проехать его насквозь и остановиться на дальней окраине, чтобы волы могли пастись. Они миновали здание городской тюрьмы, потом — симпатичный белый особняк, который в то время занимали английский специальный комиссар и сотрудники его аппарата — слухи о его деятельности доходили о них даже во время путешествия; затем выехали на рыночную площадь. Она оказалась буквально переполнена фургонами и повозками буров, которые съехались в город праздновать «нахтмааль» (Причастие), — это была традиция, которую бурское население неукоснительно соблюдало, приезжая в город со всех окрестностей четырежды в год. «Фольксраад», местный Парламент, в это же время проводил специальную сессию, на которой рассматривались предложения, сделанные от лица правительства Империи, так что сравнительно небольшой городок был буквально до краев переполнен народом. Вдоль дороги, по которой они ехали, стояли правительственные здания и различные учреждения, а на площади перед голландской церковью собралась внушительная толпа, которая, судя по возбужденным выкрикам на английском и голландском языках, находилась в крайней степени раздражения и волнения. — Придержи волов! — крикнул Эрнест Джиму и обернулся к мистеру Эльстону. — Там происходит какая-то потеха, пойдемте, взглянем? — Хорошо, мой мальчик. Там, где идет добрая драка — там место всех честных англичан. Они спрыгнули с фургона и принялись пробираться сквозь толпу. Дело было вот в чем. Среди буров, приехавших в город на празднование «нахтмааль», оказался известный великан и силач, некто Ван Зил. Сила этого человека была известна едва ли не всей стране, и людская молва приписывала ему огромное количество разнообразных подвигов. Среди прочего говорили, что он может сдвинуть с места или даже поднять тяжелый африканский фургон со смазанными жиром колесами, нагруженный тремя тысячами фунтов зерна. Он был шести футов и семи дюймов ростом, весил восемнадцать стоунов, и, как говорят, зубы у него росли в два ряда. В тот вечер этот замечательный образчик мужской силы сидел на козлах своего фургона — надо сказать, что и фургон был под стать своему владельцу, вдвое больше обычного, — сжимая крепкими зубами трубку. Примерно в десяти шагах от него стоял молодой англичанин, тоже немаленький, однако рядом с гигантом Ван Зилом выглядевший хрупким подростком. Он задумчиво разглядывал великана и его фургон, гадая, сколько дюймов в обхвате груди этого монстра. Этот молодой англичанин только что прибыл в город вместе с очередным фургоном — и его звали Джереми Джонс. К Ван Зилу подбежал тощий мальчишка-готтентот — вероятно, слуга или раб гиганта. Человек, стоявший рядом с Джереми и знавший голландский, вполголоса перевел, что мальчик рассказывает о заблудившемся и отставшем от стада буйволе. Великан медленно поднялся со своего места, тяжело спрыгнул на землю, схватил мальчишку одной рукой, подтащил к фургону и привязал к колесу сыромятными вожжами. Собеседник Джереми заметил: — Сейчас вы увидите, как буры относятся к неграм. — Не хотите же вы сказать, что это здоровенное чучело собирается избить бедного черного дьяволенка? — спросил Джереми. В этот момент, откинув полог фургона, из него высунулась пухлая маленькая женщина и спросила, в чем дело. Это была супруга великана. Узнав о пропаже буйвола, она буквально впала в священную ярость. — Slaat em! Slaat de swartsel! Бей его! Выпори черную тварь! — заверещала она, а потом нырнула обратно в фургон и снова появилась с широким ремнем из кожи гиппопотама, который и швырнула своему благоверному. — Вырежи ему печень, этому черному дьяволу! — продолжала вопить она. — Только не бей его по голове, а то он не сможет работать. И не бойся пустить ему кровь — у меня достаточно соли, чтобы присыпать его раны! Именно ее визг, а также отчаянный вид маленького готтентота привлекли зевак, потому что в этот час на площади находилось довольно много англичан и буров. — Полегче, фру, полегче, не надрывайся, золотце! Я выпорю его так, что это удовлетворит даже тебя — хотя мы все знаем, что это нелегко, когда речь идет об этих двужильных черномазых тварях. Дружный смех голландцев приветствовал эту отвратительную шутку, и гигант с веселой и чуть ли не добродушной улыбкой — ибо, как и все крупные люди, он был от природы спокоен и нетороплив — вскинул руку, которая не уступала толщиной ноге среднестатистического мужчины, и обрушил свой бич на спину несчастного готтентота. Бедняга пронзительно завопил от боли, и это было совершенно не удивительно, потому что первый же удар разорвал его засаленную рубаху и рассек кожу на спине; кровь хлынула рекой. — Allamachter! Dat is een lecker slaat! Молодец! Отличный удар! — выкрикнула какая-то старуха, и в толпе снова раздался смех. Однако был среди этой толпы тот, кто не смеялся — Джереми Джонс. Его ясные глаза загорелись гневом, и смуглые скулы потемнели от прилившей крови. Он шагнул вперед, встал между гигантом и скорчившимся в пыли готтентотом и громко сказал: — Ты проклятый трус! Бур уставился на него с безмятежной улыбкой, а затем повернулся и спросил, о чем это говорит «английский парень». Кто-то перевел ему сказанное, и бур, по-прежнему незлобиво улыбаясь, заметил, что Джереми, должно быть, «еще безумнее, чем большинство проклятых англичан». Затем он отвернулся, намереваясь продолжить экзекуцию готтентота, однако что это! «Безумный англичанин» снова заступил ему дорогу. Это вывело голландца из себя. — Убирайся, парень! Я — Ван Зил! — эту фразу Джереми перевели стоящие вокруг. — Хорошо, скажите ему, что я — Джонс, возможно, он уже слышал мое имя. — Чего хочет этот ненормальный? — рявкнул гигант. Джереми спокойно объяснил, что бур должен прекратить издеваться над парнишкой. — И что же сделает этот недомерок, если я откажусь? — Постараюсь тебе всыпать как следует, — последовал спокойный ответ. Эти слова были встречены смехом толпы, которая явно симпатизировала гиганту Ван Зилу. Тем временем тот оттолкнул Джереми в сторону и снова поднял свой бич, намереваясь обрушить его на готтентота. Через мгновение Джереми вырвал его из рук голландца и отшвырнул ярдов на пятьдесят. Поняв, что противник настроен серьезно, великан насупился и двинулся на него, собираясь сокрушить Джереми одним ударом. Могучий кулак, больше напоминавший бараний окорок, уже должен был опуститься на голову англичанина. Если бы удар достиг цели, Джереми, вероятнее всего, был бы уже мертв — но мистер Джонс был опытным боксером. Он даже не сдвинулся с места, лишь уклонился — и кулак бура просвистел мимо, врезался в стенку фургона и пробил ее насквозь. В следующий момент великолепные зубы гиганта громко хрустнули — Джереми нанес ему страшный удар правой, вложив в него всю свою силу; любого другого человека подобный удар снес бы с места. Англичане приветствовали этот удар громкими криками, но голландцы принялись вопить в ответ, указывая на дыру в стенке фургона и возмущенно интересуясь, кто этот сумасшедший парень, рискнувший бросить вызов их кумиру. Бур выплюнул выбитые зубы. В этот момент молодой англичанин из толпы схватил Джереми за руку. — Ради бога, дружище, будьте осторожны! Этот человек убьет вас — сильнее его нет никого в Трансваале. Но вами Англия может гордиться! — Пусть попробует! — лаконично отвечал Джереми, снимая куртку и жилет. — Вы не подержите мои вещи, старина? — О, разумеется, подержу. И я отдал бы половину всего, что у меня есть, чтобы посмотреть, как вы с ним расправитесь. Однажды я видел, как он ударом кулака оглушил буйвола. Джереми ухмыльнулся. — Погодите. Скажите-ка этому несчастному трусу, что ему лучше отпустить несчастного мальчишку, — и он указал на дрожащего готтентота. Буру перевели слова Джереми, и он гневно запыхтел: — Ага, конечно! Я тебе его подарю! После этого он коротко и энергично обрисовал свои планы разорвать Джереми на мелкие кусочки в течение следующих двух минут. Затем они сошлись в ближнем бою. Рост гиганта был шесть футов и семь дюймов, рост Джереми — шесть футов и два с половиной дюйма, и англичанин выглядел рядом с буром коротышкой. Однако несколько внимательных наблюдателей, глядя на Джереми, усомнились в победе бура. Пусть юноша весил не более четырнадцати стоунов — но сложен он был практически идеально. Широкая грудь, мускулистые руки, развитые мышцы, короткая мощная шея, могучие ноги и отличная реакция — все это могло бы принадлежать молодому Геркулесу. Кроме того, было очевидно, что, несмотря на свою молодость, Джереми уже достаточно опытный боец. С другой стороны, бур, хотя и был огромен, все же выглядел несколько рыхлым и неповоротливым. Впрочем, зная о его подвигах, англичане переживали за своего соотечественника, считая, что у него нет шансов в этой схватке. Мгновение противники просто стояли и смотрели друг на друга; потом Джереми обманным финтом ушел вбок и нанес сильный удар левой в грудь противника. Однако возмездие не замедлило: гигант перехватил его за правую руку, приподнял над землей и мощным ударом отшвырнул прямо в толпу. Буры радостно завопили, англичане выглядели подавленными. Они предполагали такой исход. Однако Джереми быстро вскочил на ноги. Удар пришелся в грудь, но сильные мышцы смягчили его, и серьезной травмы юноша не получил. Увидев своего спортсмена на ногах, англичане приободрились и стали скандировать его имя: Джереми, в свою очередь, почувствовал, что должен оправдать их доверие — или умереть в этой схватке. Именно в этот момент сквозь толпу протолкались Эрнест и мистер Эльстон. — Святые небеса! — воскликнул Эрнест. — Это же Джереми! Мистер Эльстон с одного взгляда оценил ситуацию. — Не надо, чтобы он тебя сейчас видел — это отвлечет его. Отойдем! Встань позади меня. Ошеломленный Эрнест повиновался беспрекословно. Мистер Эльстон недовольно покачивал головой. Он видел, что шансы Джереми невелики — но не хотел говорить об этом Эрнесту. Тем временем Джереми уже бросился на Ван Зила. Тот, воодушевленный своим успехом, снова нанес ужасающей силы удар — но Джереми уклонился и в ответ нанес целую серию ударов прямо в челюсть гиганта, отчего тот отшатнулся назад, теряя равновесие. Из толпы англичан раздался отчаянный и восторженный вопль. Воистину Давид против Голиафа! Однако голландец быстро пришел в себя и стал гораздо осмотрительнее. Теперь он старался держаться подальше от Джереми, пытаясь достать его своими длинными ручищами. Раунд или два никто из противников не нанес серьезных ударов, но затем юноша, что держал вещи Джереми, подсказал блестящую идею. — Бейте в корпус! Он слишком рыхлый. Джереми последовал совету и выдал несколько мощных ударов, каждый из которых сотрясал тело гиганта и сбивал ему дыхание. В следующем раунде он продолжил ту же тактику, однако пропустил сильный удар справа — впрочем, в следующую секунду расплатился за него сполна, в кровь разбив губы противника. Волнение болельщиков с обеих сторон возросло до предела: к чисто спортивному интересу добавилась и национальная гордость обоих лагерей. Англичане, голландцы и кафры вопили до хрипоты, подбадривая соперников. И все же это был неравный бой. — Я верю, что твой друг не хуже Ван Зила, — хладнокровно заметил мистер Эльстон, хотя огоньки в его глазах выдавали волнение и азарт. — Говорю тебе, он чертовски хорош, этот парень. Однако в этот момент случилось несчастье. Гигант ударил изо всех сил, и Джереми не смог полностью блокировать этот ужасающий удар, хотя и напрягал все силы. Пробив его защиту, Ван Зил ударил его прямо в лоб, и Джереми едва не потерял сознание. Его секундант выбежал из толпы и плеснул ему в лицо холодной воды — через секунду Джереми уже твердо стоял на ногах, однако до конца этого раунда так и не атаковал бура, уйдя в глухую защиту и старательно уклоняясь от ударов приободрившегося Ван Зила. Приободрились и голландцы, решив, что сопротивление англичанина сломлено. Однако Джереми не собирался сдаваться — он наблюдал. В его глазах по-прежнему горел неукротимый бойцовский дух, но он сдерживался, и лишь подрагивание ноздрей и разбитых губ выдавали напряжение, владевшее им. Джереми наблюдал — и видел, что великан находится не в лучшем состоянии. Он сильно потел, и его широченная грудь вздымалась слишком прерывисто — дыхание было явно сбито. Везде, где удары Джереми достигли цели, на его теле наливались багрово-черные кровоподтеки и синяки. Становилось совершенно очевидно, что ему все хуже и хуже — но буры этого не замечали или не хотели замечать. Не могло быть такого, чтобы этот гигант был повержен английским мальчишкой, — гигант, который однажды остановил разъяренного дикого буйвола и держал его за рога в течение пяти минут. Буры орали, свистели и призывали своего героя раздавить нахального юнца. Воодушевленный их поддержкой, Ван Зил кинулся вперед, однако уже не боксируя, а слепо молотя кулаками перед собой. В течение тридцати секунд Джереми довольствовался тем, что просто избегал этих бестолковых ударов, а потом, улучив момент, снова нанес страшный удар в грудь бура. Ван Зил пошатнулся, сделал шаг назад, но Джереми уже не дал ему просто отступить. Увернувшись от огромных кулаков, он со всей силы ударил Ван Зила в челюсть. Бац! Бац! Звук ударов был слышен на пятьдесят ярдов, не менее. И они достигли цели. Гигант снова пошатнулся, взмахнул руками — и упал под рев толпы, словно буйвол, сраженный топором. Однако бой еще не закончился. Через мгновение он поднялся, выплевывая кровь и осколки зубов, и бросился на Джереми, размахивая руками, словно ветряная мельница — своими крыльями. Это было устрашающее зрелище. Джереми снова ударил его в челюсть, но Ван Зил не остановился — и через секунду страшные объятия сомкнулись вокруг Джереми, сдавив его, словно тисками. — Нечестно! Нельзя держать! — орали возмущенные англичане, но бур уже никого не слушал. Напрягая все свои силы, он пытался поднять Джереми, чтобы швырнуть оземь, однако Джереми стоял твердо, словно скала, не двигаясь ни на дюйм. Буры принялись кричать, что это не человек, а демон, что он одержим дьяволом! Голландец рванулся еще раз — и сумел приподнять Джереми на несколько дюймов… — Святой Георгий! — воскликнул мистер Эльстон, растеряв остатки невозмутимости. — Сейчас он швырнет его на землю! Взгляни — парень совсем побелел и еле дышит! Эрнест не отвечал, дрожа, словно лист на ветру. Действительно, положение Джереми было весьма серьезно. Он быстро терял силы и с отчаянием подумал, что проиграет — а истинный англичанин не любит проигрывать, даже если ему не в чем упрекнуть себя во время всей схватки. И вот когда все вокруг поплыло и закружилось, до него донесся голос, который он любил, который так жаждал услышать все эти долгие месяцы; Джереми не знал, наяву ли он слышит его, или ему только кажется… — Вспомни, что говорил «Марш Джо», Джереми! Подними его! Во имя неба — поднимай! Я должен кое-что пояснить, поскольку не рассказывал об этом прежде. Знаменитый борец Восточных графств, известный под именем Марш Джо, обучил Джереми одному трюку, причем настолько хорошо, что уже в семнадцать лет Джереми Джонс смог победить собственного учителя. В тот самый миг Ван Зил переступил с ноги на ногу, готовясь к новому рывку, и чуть ослабил хватку, дав сопернику глотнуть воздуха. Эрнест с облегчением увидел, как Джереми глубоко вздохнул, и его затуманенные глаза вновь вспыхнули ярким огнем. Он понял, что Джереми услышал его — и теперь победит… или умрет на поле боя. И вот тогда произошло неслыханное. Бур, чувствуя себя хозяином положения, не торопился покончить с противником — но внезапно англичанин сделал небольшой шажок… и с быстротой молнии разорвал смертельную хватку. Затем он собрался с силами — боги, откуда он брал их, кто знает! Голос Эрнеста придал ему сил, воодушевил, и Джереми Джонс сделал то, что под силу очень немногим, и память об этом еще долго будет жить в Южной Африке, передаваясь из уст в уста. Гибкие и сильные руки англичанина обвились вокруг мощного корпуса бура, почти утонув в этой горе плоти. Затем Джереми начал медленно раскачиваться — и его пленник раскачивался вместе с ним. — Покончи с ним! Убей его! — орали буры. Однако глаза Ван Зила закатились, лицо почернело от прилившей крови, голова опустилась на грудь… ноги оторвались от земли — он больше не мог пошевелиться. Джереми раскачивался все сильнее, и теперь ноги гиганта безвольно волочились по земле. Еще одно ужасающее усилие, медленный и мощный рывок — о доблестный Джереми Джонс! — и тело гиганта поднялось над замершей в ужасе толпой. Еще мгновение — и бросок. Ван Зил упал на землю. Чтобы унести его, потребовалась помощь шестерых мужчин. Остаток жизни ему предстояло провести неподвижным калекой.Глава 25
ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО ЭРНЕСТА
Над площадью разносились радостные крики англичан и проклятия на голландском, когда Джереми обернулся и посмотрел на тело поверженного врага. Однако Природа брала свое: в полном изнеможении юноша упал в обморок прямо на руки Эрнесту. Восхищенные соотечественники помогли перенести героя в ресторан «Европеец», где их встретил сам хозяин, выпускник Итона. Он сам распорядился отмыть, переодеть и устроить героя со всеми удобствами, а потом со слезами на глазах поклялся, что Джереми Джонс может бесплатно жить в его отеле сколько угодно — даже если решит каждый день пить исключительно шампанское, ибо англичане превыше всего ценят тех, кто готов отдать все силы и саму жизнь за главное английское качество — национальную гордость. Когда герой дня пришел в себя и немного освежился бокалом сухой «Монополии», а затем в радостном изумлении принялся трясти руку Эрнеста, толпа англичан больше не могла сдерживать свой энтузиазм. Они буквально ворвались в ресторан, подхватили Джереми вместе со стулом, на котором он сидел, и пронесли его вокруг площади, громко распевая «Боже, спаси Королеву!» Эта процессия вполне могла спровоцировать беспорядки в городе, если бы не вмешательство адъютантов его превосходительства, Специального комиссара, который настоятельно рекомендовал собравшимся на площади вернуться обратно в ресторан. Просьба была удовлетворена — и начался торжественный обед в честь Джереми, во время которого он выпил слишком много шампанского, в результате чего в первый и в последний раз в своей жизни произнес торжественную речь. Насколько нам известно, выглядела она примерно так: «Дорогие друзья! (аплодисменты) И англичане! (бурные аплодисменты, пауза) Вообще-то… это все чепуха! (аплодисменты и крики «Нет, нет, неправда!») Сразись завтра с голландцем еще кто-нибудь — с этим здоровенным, но слишком толстым и мягким голландцем — наверняка победил бы и он! (бешеные аплодисменты, переходящие в овации) Я рад, что победил, и вы все выглядите довольными; мне кажется, вам не нравился этот голландец. Боюсь, он здорово расшибся. Вот зачем он это все затеял? Садитесь, не стойте. Дорогие друзья, дорогой мой старина Эрнест… я тебя так долго искал! (проникновенный взгляд абсолютно стеклянных глаз на Эрнеста, тот ждет, что Джереми сейчас скажет нечто очень важное) Садись. Все, и я сажусь. (крики: «Нет, нет, продолжайте, старина!») Да я не могу продолжать — я напился ужасно…. ужасно пить хотелось потому что. (крики: «Налейте ему еще шампанского! Открывайте новую бутылку! Тащите сразу ящик!») Вот хорошо бы еще и Долл, и Ева были здесь, правда? (громкие аплодисменты) Жельтенмены… нет, не так… женельтме… да что ж такое… Друзья! (бурные аплодисменты) Не-ет, никакие не жентльмены и не друзья — братья-англичане! (овации) Вот мой тост. Ева и Долл, вы все их знаете и любите, а если нет — так узнаете и полюбите… (неистовый взрыв восхищения, аплодисменты, крики восторга, Джереми пытается вернуться на свой стул, но вместо этого элегантно валится на пол и прямо под столом начинает петь «Старое доброе время»; тем временем все собравшиеся — за исключением Эрнеста и жизнерадостного адъютанта Специального комиссара, вскакивают и начинают с воодушевлением подпевать этой прекрасной старинной песне; жизнерадостный адъютант залезает на стол и руководит хором; приносят еще шампанского; начинается всеобщее братание; все клянутся друг другу в вечной дружбе — особенно Эрнесту и жизнерадостному адъютанту Специального комиссара; последний горячо пожимает протянутые руки и благословляет каждого подошедшего; наконец чувства настолько переполняют всех собравшихся, что они обнимаются и дружно плачут все вместе прямо за столом)».Всё остальное Эрнест помнил смутно. Запомнилось только, что вновь обретённого друга детства зачем-то пришлось погрузить в тачку, которая почему-то норовила застрять в каждой канаве, особенно если в ней была вода. Утром он проснулся — вернее, почувствовал дикую головную боль — в небольшом двухместном номере гостиницы, пристроенной к ресторану. На соседней кровати на подушке маячило опухшее и покрытое синяками лицо Джереми. Некоторое время Эрнест ничего не мог понять. Откуда взялся Джереми? Где они находятся? В голове — и вокруг него — все кружилось, вертелось, расплывалось, складываясь в совершенно фантасмагорические картины. Единственным реальным ощущением была дикая головная боль. Однако постепенно память стала возвращаться. Синяки Джереми напомнили о вчерашней схватке, схватка повлекла за собой воспоминания о торжественном обеде, обед — смутные воспоминания о речи Джереми и что-то, сказанное им о Еве. Но что же это было? Ах, Ева! Возможно, Джереми что-то знал о ней; быть может, он привез от нее письмо, которого Эрнест так долго ждал? О, как стремилось его сердце к Еве. Но как Джереми оказался на соседней кровати? Откуда он вообще взялся в Южной Африке? Все эти мучительные размышления были прерваны приходом Мазуку — он принес кофе, который в Южной Африке принято пить по утрам. Воинственный зулус — довольно забавно выглядевший с кофейными чашками в руках — приветствовал Эрнеста своим обычным «Кооз!», салютовав одной из чашек и едва не выплеснув ее содержимое. — Мазуку! — хрипло сказал Эрнест. — Как мы здесь оказались? Объяснение зулуса звучало примерно так: когда луна уже почти ушла за рогатый дом (голландская церковь с башенками), Мазуку сидел на веранде и думал, что его хозяин, должно быть, очень устал. Поскольку почти все разошлись «с танцев» в «оловянном доме» (ресторане) и были при этом очень веселые из-за «твала» (выпивки), Мазуку пошел в «оловянный дом» искать хозяина — и нашел его мирно спящим под столом рядом со «Львом-который-швырнул-Быка-через-плечо» (Джереми). Они спали так крепко, что дотащить их до фургона Мазуку никак не мог. Мазуку много думал о своем долге перед хозяином в данных обстоятельствах и пришел к выводу, что лучше всего будет положить хозяина и его друга в постель белого человека, поскольку точно знал, что хозяин не любит спать на полу. Мазуку позвал еще одного зулуса, и они нашли комнату с кроватями, только на них уже спали другие белые люди, прямо в одежде. Однако Мазуку и другой зулус поразмыслили и решили, что они должны в первую очередь думать о своем хозяине, а не о других белых людях, и потому осторожно вынесли крепко спавших после «танцев» чужих белых людей и аккуратно сложили их на веранде, на свежем воздухе. Подготовив таким образом место, они сначала перенесли в кровать Эрнеста, а затем, учитывая его несомненное величие, отважились взять и «Льва-который-швырнул-Быка-через-плечо» — и отнести его на соседнюю кровать. Он великий человек, этот Лев, и его искусство бросать больших людей через плечо можно объяснить только колдовством. Он сам (Мазуку) попытался повторить то же самое с одним Басуто, с которым у него вышло небольшое расхождение во взглядах, но результат его не особенно удовлетворил, поскольку Басуто ударил его в живот и заставил отпустить. Эрнест от души посмеялся над этой историей — насколько позволяла больная голова, — и его смех разбудил Джереми, который немедленно обхватил голову руками и стал оглядываться по сторонам. Мазуку пришел в такое возбуждение при виде проснувшегося «Льва-который-швырнул-Быка-через-плечо» и так рьяно его приветствовал, что пролил на Джереми большую часть кофе, после чего был доброжелательно, но решительно изгнан из комнаты, и друзья наконец-то остались одни. Осторожно поднявшись с кроватей, они приблизились друг к другу и по примеру всех англичан обменялись крепким рукопожатием, назвав друг друга «старина», а потом снова разошлись по кроватям и принялись разговаривать. — Итак, старина, откуда же ты здесь взялся? — Видишь ли, я искал тебя. Ты совсем нам не писал, и дома все начали беспокоиться, так что я упаковал свое барахло и отправился в путь. Твой дядюшка открыл мне неограниченный кредит, так что я путешествовал, как принц — у меня даже есть собственный фургон. О тебе разузнал в Марицбурге, ну и понял, что надо двигать в Преторию. И вот я здесь, и ты здесь, и я чертовски рад видеть тебя снова, старик! Проклятье, моя голова! Но ты мне скажи, почему ты не писал? У Долл едва сердце не разорвалось, да и у дяди твоего тоже, хотя он этого не показывал. — Я писал. Я написал из Секокени, но письмо, наверное, не дошло, — виновато сказал Эрнест. — Видишь ли, писать совсем не хотелось. Я был слишком подавлен с тех самых пор, как случился этот проклятый поединок. — Ай, да брось, это был отличный выстрел! — перебил его Джереми. — Я и представить себе не мог, чтобы ты так стрелял. — Отличный выстрел? Да знаешь ли ты, как это ужасно — убить человека таким вот образом? Мне часто снится в кошмарах его лицо и то, как он упал… — Я говорю только о самом выстреле, — невинно заметил Джереми. — Меня не беспокоят всякие нравственные соображения и переживания, а вот что касается выстрела с двадцати шагов в таких трудных обстоятельствах — я считаю, это было отлично проделано. — Послушай, Джереми, тут еще кое-что… Это о Еве… Понимаешь, я написал ей, но она так и не ответила на мое письмо… конечно, если только ты не привез мне ее ответ! — последние слова Эрнест произнес с надеждой. Джереми осторожно покачал головой — она слишком сильно болела для резких движений. — Увы, старик! Могу сказать только, что меня лично отпустило. С тех пор, как она меня отвергла, мне стало все равно. Я не говорю, что она права; просто меня бы это уже не заботило. Она могла бы повести себя иначе. Эрнест тихо застонал и подумал, что голова у него, видимо, болит слишком сильно. — Вот оно как получилось! Мне не хватило духу написать еще, я был слишком горд, чтобы писать ей. Чтобы все ей объяснить! Чтобы отпустить ее! Не собираюсь унижаться ни перед одной женщиной в мире, даже перед ней! — и Эрнест яростно взбил подушку. — Я пока еще не так много знаю на языке зулу, — нравоучительным тоном заметил Джереми, — но уж два слова явыучил: хамба гачле! — Это еще что такое? — сердито буркнул Эрнест. — Это означает нечто вроде «расслабься и не принимай близко к сердцу», или же «посмотри, а потом прыгай», ну, или можно и так — «не спеши делать выводы» или просто — «не спеши». Выбирай любой — неплохие девизы, как мне кажется. — Да, очень — но какое отношение они имеют к Еве? — Самое прямое. Я сказал, что у меня нет от нее письма, но я же не говорил, что… — Что?! — закричал Эрнест. — Хамба гачле! — невозмутимо откликнулся Джереми, не сводя с Эрнеста пытливого взгляда своих темных глаз. — Я не говорил, что она ничего не передала. Эрнест соскочил с кровати, дрожа от волнения. — Что же она сказала?! — Только одно: она велела передать, что она любит тебя всем сердцем. Эрнест, разом ослабев, опустился обратно на кровать и закрыл лицо одеялом, а потом произнес совершенно загробным голосом: — Вот дьявол! Почему ты сразу не сказал? Потом он вскочил и принялся вышагивать по комнате, завернувшись в одеяло на манер плаща; он даже сшиб со стола кувшин с водой, но в смятении не заметил этого. — Хамба гачле! — снова заметил Джереми, поднимая кувшин. — Где можно налить воды? Ну вот, а теперь я расскажу тебе все остальное. И он рассказал Эрнесту все, включая историю о том, как мистер Плоуден получил встряску. В этом месте рассказа Эрнест довольно свирепо усмехнулся. — Жаль, что там не было меня, чтобы врезать этому негодяю! — Не волнуйся, я сделал это за тебя. Отвесил ему отличный удар, — отвечал Джереми, и Эрнест вновь усмехнулся. Через некоторое время Эрнест заявил: — Я не могу исправить все сразу — но я немедленно отправляюсь домой. — Ты не можешь этого сделать, старина. Твой многоуважаемый дядюшка, сэр Хью, немедленно упечет тебя за решетку. — Ах, черт, я совсем забыл о нем! Хорошо, тогда я напишу ей сегодня же. — Вот это уже лучше. Теперь давай одеваться. У меня голова почти прошла. Проклятье, но все тело ломит! Все же это не шутка — сразиться с таким гигантом. Однако Эрнест не ответил ему на это ни слова. Он, с его быстрым и бурным воображением, уже сочинял письмо Еве. За утро он придумал его полностью и записал, и то, что нас с вами может интересовать в этом письме, выглядело так:
«…Таково было, моя дражайшая Ева, состояние моей души и моего разума — в отношении тебя. Я подумал — и да простит мне Господь эти предательские мысли! — что ты, возможно, как и многие женщины, предпочитала любить меня в радости, но не в горе, а когда я попал в беду, решила оставить меня. Если это было так, я чувствовал, что не имею права возражать. Я написал тебе и знал, что письмо благополучно попало в твои руки. Ты не ответила, и потому я мог сделать лишь один вывод. С тех пор я молчал. Честно говоря, я и сейчас не понимаю, почему ты так и не написала мне. Но Джереми принес от тебя весточку, и я должен довольствоваться этим; без сомнения, у тебя есть веские причины так поступать, и я — также без сомнения — вполне удовлетворился бы ими, если бы знал, каковы они. Все дело в том, моя любовь, что я полностью и безоговорочно верю тебе. То, что ты считаешь верным и правильным для себя, так же верно и правильно для меня, что бы ты ни делала. Джереми рассказал мне довольно забавную историю о новом священнике, приехавшем в Кестервик, который, кажется, претендует на твою руку. Что ж, Ева, я достаточно тщеславен, чтобы не опускаться до ревности, хотя я и нахожусь в невыгодной позиции отсутствующего, хуже того — отсутствующего вынужденно и находящегося в стесненных и невыгодных обстоятельствах. Несмотря на это, я не верю, что мой соперник преуспеет. Однако если наступит день, когда ты, положа руку на сердце и глядя мне прямо в глаза, скажешь со всей честностью истинной леди, что ты любишь этого или любого другого человека больше, чем меня — в тот самый день и час я немедленно отпущу тебя. Пока же этот день и час не настал — а мне что-то подсказывает, что это так же невозможно, как то, что горный хребет, на который я смотрю сейчас, когда пишу эти строки, сдвинулся с места и похоронил под собой весь город, — я свободен от ревности, ибо знаю, что ты не можешь быть неверна своей любви. О дорогая моя, дар, что мы с тобой разделили, достался нам не на дни, не на годы — навсегда. Я верю, ничто не сможет разлучить нас, и сама Смерть будет бессильна против этого дара. Я верю, что это чувство будет расти и крепнуть, расцветать каждый раз, как цветы по весне — только будет еще благоуханнее и прекраснее, чем они. Иногда мне кажется, что это чувство бессмертно и существовало всегда, еще до нас, на протяжении бесчисленных веков. Странные мысли приходят в голову человека в здешнем Высоком вельде, пока он едет по нему час за часом, день за днем, и свет солнца сменяет свет луны, дух великой Природы царит повсюду; человек начинает прозревать истину. Когда-нибудь я расскажу тебе об этом все. Впрочем, нельзя сказать, что я когда-либо был здесь в полном одиночестве, потому что, честно говоря, ты всегда со мной с тех самых пор, как мы расстались, — не было ни единого часа днем или ночью, когда бы я не думал о тебе, и мне кажется, что такой час и не настанет, пока одна лишь Смерть не убьет все мои чувства. Даже в отчаянии и тоске любовь моя росла с каждым днем. День за днем становилась все сильнее, окрашивая мир в новые цвета; становилась все более живой и реальной, пусть и отличная от души и тела — но неразрывно связанная с ними, вплетенная в саму мою жизнь. Если какую женщину и любили так сильно, то эта женщина — ты, Ева Чезвик; если жизнь какого мужчины, нынешняя и грядущая, и лежала в ладонях женщины, то этот мужчина — я. Наша любовь — это крошечный бутон, который ты можешь отбросить прочь или уничтожить — а можешь лелеять его, пока он не расцветет и не принесет плоды, прекрасные настолько, что никакое воображение не в силах их описать. Ты — моя судьба, ты часть меня. Моя судьба переплелась с твоей и полностью зависит от тебя. Нет тех высот, которых я не достиг бы рядом с тобой, и нет той бездны, в которой я не утонул бы без тебя. К чему же я все это пишу? Принесешь ли ты жертву мне — человеку, готовому отдать тебе всю свою жизнь — нет, уже сделавшему это? Жертва эта такова: я хочу, чтобы ты приехала сюда и вышла за меня замуж, ибо, как тебе известно, обстоятельства не позволяют мне вернуться в Англию, к тебе. Если ты приедешь, я встречу тебя на Мысе Доброй Надежды, и мы немедленно поженимся. Ах, разумеется, ты приедешь! Что до денег, их у меня достаточно — тех, что присылают из дома, но и здесь я могу заработать их столько, сколько понадобится и даже больше, так что это не станет для нас препятствием. Ответа мне придется ждать долго — целых три месяца — но я надеюсь, что вера, которая помогает, как говорится в Библии, людям двигать горы — а моя вера в тебя столь же велика и сильна, — поможет мне перенести это ожидание и в конце получить желанную награду…»
Избранные места этого возвышенного произведения Эрнест зачитал Джереми и мистеру Эльстону. Оба слушали в торжественной тишине, а потом Джереми почесал в затылке и сказал, что такое письмо поможет «заполучить» любую девушку, хотя лично он не все в нем понял. Мистер Эльстон раскурил свою трубку и некоторое время молчал; про себя он думал, что это прекрасное письмо для такого молодого человека, обнаруживающее незаурядный ум автора. Однако замечание он высказал, и прозвучало оно довольно грубо. — Девочка не поймет и половины написанного, мастер Эрнест, вот что я скажу. Она решит, что ты маленько свихнулся в этих диких краях. Все, что ты написал, может быть, и правда — или неправда, на этот счет у меня нет никакого мнения, но я точно знаю, что писать подобные вещи женщине — все равно, что метать бисер перед свиньями. Тебе стоило бы расспросить ее о шляпках-тряпках, мой мальчик, и сказать, какую одежду брать с собой, а также упомянуть, что здешний воздух очень хорош для цвета лица. Вот тогда она точно приедет. Эрнест пришел в ярость. — Вы зверски циничны, Эльстон, и вы не должны так говорить о мисс Чезвик! Шляпки, ну надо же! — Ладно, ладно, мой мальчик. Время покажет. Ах, мальчишки! Вы строите свои идеалы из слоновой кости, золота и виссона — чтобы в один прекрасный день они на ваших глазах превратились в обыкновенную глину и грязные тряпки. Что поделать, таков путь всех мальчиков этого мира; однако все же прими мой совет, Эрнест: сожги ты это письмо и найди себе хорошенькую Интомби. Еще не поздно это сделать — и уж поверь, в отношении глины, из которой слеплены кафрские девушки, ты никогда не ошибешься. Здесь Эрнест в ярости выбежал из комнаты. — Слишком уж он уверен в ней, надо бы остудить голову, — заметил мистер Эльстон Джереми. — Никогда нельзя до такой степени доверяться женщине. Женщины обожают грязные трюки, а потом говорят, что ничего не могли поделать. Я знаю женщин, потому как — хоть вы в это и не верите — я тоже когда-то был молодым. Ладно, пойдем, найдем его и заберем прогуляться. Эрнеста они нашли сидящим в одиночестве в фургоне, который стоял рядом с фургоном Джереми на выезде из города. Юноша выглядел довольно угрюмым. — Брось, Эрнест! — извиняющимся тоном сказал мистер Эльстон. — Я больше не стану пачкать твой идеал. За последние тридцать лет я столько раз видел, как эти самые идеалы разбивались вдребезги, что просто не мог не предупредить тебя, парень. Впрочем, возможно, девицы в Англии сделаны из более качественного сырья, чем здешние. Эрнест спрыгнул с фургона — и вскоре позабыл о своей обиде. Он вообще редко злился дольше полутора часов. Когда они неторопливо шли по улице, им повстречался молодой англичанин, накануне бывший добровольным секундантом Джереми. Он рассказал, что ходил справляться о состоянии Ван Зила. Оказалось, что в результате броска Джереми у гиганта был сломан позвоночник, и теперь надежды на выздоровление нет. Впрочем, боли он не испытывает. Это известие сильно расстроило Джереми. Да, он хотел победить великана в честном бою — но не имел ни малейшего намерения нанести ему увечье. С обычной своей порывистостью Джереми заявил, что хочет повидать своего бывшего соперника. — Ты вряд ли встретишь там теплый прием, — сказал мистер Эльстон. — Ничего, рискну. Я хочу извиниться перед ним. — Что ж, хорошо, пойдем. Вон там его дом. Ван Зила отнесли в дом его родственника, неподалеку от города. Это было белое здание под тростниковой крышей, построенное лет тридцать пять назад, когда на месте Претории расстилалась равнина, где обитали только квагги и прочие виды антилоп. К дверям вела аллея апельсиновых деревьев, на которых висели золотистые плоды, источавшие сладкий аромат. Сам дом был маленьким, с двустворчатой распашной дверью наподобие тех, что в Южной Африке ставят в конюшнях. Верхняя половина двери была открыта, в нее высунулся довольно грубого вида бур, куривший огромную трубку. — Dagh, Oom! Доброго дня, дядюшка! — поздоровался с ним мистер Эльстон, протягивая буру руку. Тот с некоторым подозрением осмотрел прибывших, а затем по очереди пожал им руки. Ладонь у него была широкая и потная. Покончив с приветствиями, бур распахнул перед ними дверь. Перешагнув порог, Эрнест заметил, что глиняный пол предохраняют от износа вмешанные в глину камни и персиковые косточки. Сразу за дверью располагалась довольно большая комната с выбеленными стенами — это была гостиная. Здесь стояли диван, стол и несколько стульев, застеленных «римпи» — ковриками из звериных шкур. На самом крепком и большом стуле восседала женщина внушительных размеров, мать семейства. Она не встала при их появлении, но без лишних слов протянула им руку, которую мистер Эльстон и оба юноши пожали с должным почтением; мистер Эльстон при этом обращался к женщине «танта» — «тетушка». Затем они обменялись рукопожатиями с шестью или семью девицами и молодыми людьми; мужчины просто сидели за столом, женщины дочищали остатки большого семейного обеда, состоявшего, судя по всему, из огромного блюда с вареной говядиной, от которой остались одни кости. Говядина, несомненно, была свежайшей — о чем явно свидетельствовали отрубленная бычья голова и сырая шкура, лежавшие на полу рядом со столом. Эрнест при виде этой картины изумился и подумал о сверхчеловеческой силе того желудка, который способен был принимать пищу в подобной обстановке. Мистер Эльстон, прекрасно говоривший по-голландски, объяснил цель их визита. Лица мужчин немедленно помрачнели, и они уставились на Джереми с ненавистью и без тени страха. Потом старший из буров сказал, что пойдет и спросит своего двоюродного брата, согласен ли он принять гостей, хотя в его состоянии это вряд ли возможно. Отодвинув занавеску, служившую дверью между комнатами, он прошел прямо в спальню. Вскоре он вернулся и поманил за собой англичан. Они вошли в небольшую, площадью всего около десяти квадратных футов комнату без окон — поскольку буры искренне полагали, что герметичное помещение недоступно для любых болезней. На громадной постели, занимавшей почти всю комнату, лежал поверженный гигант. На его лице виднелись синяки и кровоподтеки, одна из могучих рук была в лубке — но главной и самой серьезной травмой был перелом спины, и здесь Ван Зил уже не мог рассчитывать на выздоровление. Рядом с ним сидела его маленькая жена, которая накануне так кровожадно призывала к избиению готтентота. Она бросила яростный взгляд на Джереми, но ничего не сказала. Гигант при виде своего победителя отвернулся к стене и глухо спросил, что им нужно. Мистер Эльстон переводил. Джереми набрал воздуха в грудь и сказал: — Я пришел сказать, что мне очень жаль, что так все вышло. Я хотел тебя победить, но и в мыслях не держал так сильно покалечить тебя. Я знаю, такие броски очень опасны — и потому я воспользовался им, когда уж не было другого выхода. Если бы я это не сделал — ты бы меня убил. Бур в ответ пробормотал, что очень обидно быть побитым таким коротышкой. Эрнест видел, что гордость этого человека совершенно сломлена. Он считал себя самым сильным человеком среди черных и белых жителей Африки, а какой-то английский парнишка швырнул его через плечо, как игрушку. Джереми выразил надежду, что Ван Зил не держит на него зла, и предложил пожать друг другу руки. Гигант немного помедлил, а затем протянул здоровую руку, которую Джереми с жаром потряс. Ван Зил медленно произнес: — Англичанин! Ты хороший человек и ты будешь еще сильнее. Ты меня превратил в беспомощное дитя, и сердце у меня теперь тоже, как у ребенка. Возможно, однажды кто-то сделает такое и с тобой. До тех пор тебе ни за что не понять, что я чувствую. Они пусть отдадут тебе чертова готтентота. Нет-нет, ты должен его забрать — ты его выиграл в честном бою. Он хороший погонщик, хоть и маленький. Теперь идите. Зрелище было тяжелым, и потому они ничуть не жалели, что пора уходить. Снаружи их уже ждал один из молодых буров, а рядом с ним стоял мальчишка-готтентот, которого Ван Зил велел отдать Джереми. Все сомнения Джереми испарились при виде неуемной радости бедного негритенка, когда тот узнал, что его отдают новому хозяину. Готтентота звали Аасфогель (Стервятник), и он стал для Джереми отличным и верным слугой.
Глава 26
ПУТЬ К СПАСЕНИЮ
Когда мистер Эльстон, Джереми и Эрнест вышли на одну из главных улиц Претории — а дом, который они посещали, находился на окраине, — они застали любопытное зрелище. Посреди улицы стоял, вернее, танцевал на месте зулус, одетый в старый военный мундир, традиционную зулусскую набедренную повязку «муча» и со старым красным камвольным одеялом, обмотанным вокруг руки. Он что-то кричал во весь голос, а его обступили зеваки, временами бурно реагировавшие на его вопли громкими гортанными восклицаниями. — Что это за сумасшедший? — заинтересовался Джереми. Мистер Эльстон прислушался к крикам зулуса, а потом объяснил: — Я хорошо знаю этого парня. Зовут его Гоза. Он самый быстрый бегун в Натале, даже лошадь может обогнать — честно говоря, не всякая лошадь за ним угонится. Он — «восхваляющий». В данный момент он поет хвалу Специальному комиссару. Вот что он говорит: «Слушайте ногу великого слона Сомпсе (это сэр Т. Шепстоун). Услышьте, как дрожит земля под ногами белого т’Чака[417], отца зулусов, величайшего среди белых людей. О, вот идет он! Он уже здесь! Посмотрите, как бледнеют лица Амабуна (буров) при виде его. Он их всех съест, он проглотит их всех, Великий Стервятник, что сидит и ждет, пока не падет буйвол, тот, что всегда выигрывает в битве Великого Сидения. О, он велик, словно лев, и там, куда обращает он свой взор, люди тают, и их сердца обращаются в жир. Где еще есть подобный Сомпсе — человеку, который не боится Смерти, человеку, который смотрит на Смерть — и она бежит от него. На языке его мед, он правит людьми, словно звезда — ночью, он — возлюбленное чадо Великой Белой Матери, Королевы. Он любит своих детей, Амазулу, и укрывает их под своим широким крылом. Он поднял Кечвайо из грязи — и может ввергнуть его обратно в грязь. Падите ниц, низкие люди, лечите себя лекарством, пока его яростный взгляд не сжег вас дотла. О! Тише! Он грядет, отец королей, Чака! О, умолкните! Падите на колени! Он уже здесь — Великий Слон, Великий Лев, Свирепый и Терпеливый, Могучий и Грозный! Взгляните: он соизволил говорить со своими детьми, он учит их мудрости, он несет свет, подобно Солнцу — он и есть Солнце. Он — Сомпсе!» В этот момент из-за угла вышел опрятный, довольно старомодно выглядевший джентльмен, совершенно ничем не напоминающий ни слона, ни льва, ни стервятника: пожилой, среднего роста, с седыми усами, в черном сюртуке и черном галстуке. Он вел за руку маленькую девочку. Когда он приблизился, «восхвалитель» в экстазе вскинул правую руку и салютовал пришедшему, словно королю, криком «Байе!», который немедленно подхватили все собравшиеся. Пожилой джентльмен — а это был не кто иной, как Специальный комиссар Шепстоун — с явным раздражением посмотрел на восторженного глашатая и сердито заговорил с ним на языке зулу: — Успокойся! Почему ты снова раздражаешь меня своими криками? Веди себя тихо, ты, брехливая собака, или я отправлю тебя обратно в Наталь. У меня голова болит от твоих пустых слов. — О Великий Слон! Я буду нем, как мертвец. Байе! О Сомпсе! Я уже молчу! Байе! — Уйди! Убирайся отсюда! Выкрикнув напоследок «Байе!», зулус повернулся и припустил бегом по улице, продолжая выкрикивать хвалебные слова. — Как поживаете, комиссар? — спросил мистер Эльстон, выходя вперед. — Я как раз собирался к вам зайти. — Ах, Эльстон, я очень рад вас видеть. Я слышал, вы уезжали в большую экспедицию? Значит, ушли в отставку и отправились охотиться? Как бы мне хотелось последовать вашему примеру. — Если бы я застал вас здесь, когда мы отправлялись в путь, то непременно пригласил бы присоединиться к нам. Мистер Эльстон представил комиссару Эрнеста и Джереми. Они обменялись рукопожатиями. — Я слышал о вас, — сказал комиссар Джереми. — Однако я вынужден просить вас больше не заниматься свержением титанов — между нами и бурами растет напряженность, она и так уже слишком велика, чтобы позволить ей стать еще больше. Знаете ли вы, что вчерашний вечер едва не спровоцировал начало военных действий? Ну, хорошо, я уверен, вы больше не станете этого делать. Он говорил довольно сурово, и Джереми вспыхнул и потупился. Впрочем, вслед за нотацией комиссар гостеприимно пригласил их отобедать с ним. На следующее утро Эрнест отправил свое письмо Еве. Написал он также дяде и Дороти, по мере возможности объяснив свое долгое молчание. Дороти он впервые доверил свою тайну об отношениях с Евой. На расстоянии, да еще таком огромном, застенчивость, одолевавшая его дома, уже не так мешала ему говорить Дороти о своей любви к другой женщине. Теперь, когда Эрнест провел вдали от Англии уже около года, воспоминания о доме ослабели, словно подернулись дымкой — по сравнению с событиями и изменениями, происходящими в его нынешней жизни. Обилие новых ярких впечатлений вытеснило старые воспоминания — и Дороти, мистер Кардус, Кестервик и его окрестности казались чем-то очень далеким и нереальным. Так часто происходит в долгих путешествиях, когда странник пытается вспомнить былое. Эрнесту казалось, что оставшиеся в Англии больше не знают его, не понимают и не чувствуют; он воображал, что они забыли его, и потому в его глазах они стали чем-то вроде теней мертвецов. Такого человека ждет шок по возвращении. После многих лет, которые он провел, ведя бурную энергичную жизнь, полную ярких чувств, хороших, дурных, серьезных и мелких поступков; жизнь, которая, как он полагал, изменила его навсегда, развив в той или иной форме, — после всего этого, вернувшись, он обнаружит, что старые места, старое его окружение и старые дорогие лица родных ничуть не изменились. Они живут своей спокойной, размеренной английской жизнью, в которой нет потрясений и волнений, нет ярких событий и красочных ощущений — и потому неизменны и незыблемы. Честно говоря, большинство людей вообще мало меняется, если не считать естественных перемен, связанных с возрастом — при переходе от молодости к зрелости и от зрелости к старости, когда меняется не только тело, но и взгляды, воззрения и сам образ мышления. Однако и тогда изменения носят, скорее, поверхностный, а не глубинный характер. Старик или мужчина средних лет — это, если вдуматься, все тот же мальчик. Причина этого, по-видимому, достаточно очевидна: наша личность неизменна, наше духовное «я» не стареет и не меняется во все периоды нашей жизни. Тело, мозг, интеллект еще могут претерпевать изменения в зависимости от обстоятельств и физических кондиций, однако то, что даже под воздействием активно и бурно прожитых лет мы не меняемся в главном и следуем, как многие верят, своей судьбе, говорит о том, что душа наша не меняется. Эрнесту становилось все труднее писать письма в Англию — это было сродни сочинению посланий индейцам, — но все же у него определенно был писательский дар. Прежние связи стремительно рвались. Ева и только Ева — вот что оставалось для него единственной реальностью. Она всегда незримо была рядом с ним, и он не испытывал никаких трудностей, когда писал ей. По правде говоря, их души и судьбы действительно переплелись, и понимали они друг друга не только под давлением обстоятельств и не потому, что между ними был постоянный контакт; даже и не из-за взаимного физического притяжения, естественного, когда молодость тянется к молодости и красота — к красоте. Эрнест был уверен, что это притяжение и понимание было связано с чем-то более глубоким — возможно, они были необходимы даже для его физического рождения, как батарея необходима для создания электрической искры. Будь Ева старше, будь она не такой юной и прекрасной девушкой, эта связь, возможно, не возникла бы. Коротко говоря, между ними возник некий мистический канал духовной связи — но этим дело и ограничивалось. Юность, красота и влечение однажды сделали свое дело, установив эту связь. Великий водораздел — разлука, так сильно влияющий на людей, не оказал в данном случае почти никакого воздействия на этих двоих, ибо им было даровано до поры пользоваться великим преимуществом — настоящей любовью, столь редко встречающейся среди людей. Большинство из нас принимает за любовь страсть, и потому наши чувства несовершенны и не имеют отношения к истинной любви — это иной мир. Да, теперь этот мост мог быть разрушен — он уже послужил своей цели. Возраст, потеря физической привлекательности, разлука, ледяной холод молчания, возможно, сама смерть — столь тонко связанные на духовном уровне души всему этому способны бросить вызов. Ибо для них настоящая жизнь — не здесь, не на земле: это лишь первые шаги слепца на пороге вечности… возможно — шаги преждевременные. Эрнест написал и отправил свои письма, а затем, следуя своей природе, с энтузиазмом окунулся в бурное течение жизни, поставив себе задачу понять и освоить состояние политических дел в стране, где ему выпало жить. Это не стоило бы особого упоминания в нашем повествовании: достаточно сказать, что эту задачу стремились решить и более великие умы. Эрнест делал, что мог — и смог стать достаточно полезным Англии как до, так и после аннексии Трансвааля Короной. Среди прочего он несколько раз участвовал в миссиях совместно с мистером Эльстоном, призванных выяснить истинные настроения среди бурского населения… Кроме того, вместе с Джереми он вступил в Добровольческий корпус для защиты Претории, когда было еще неясно, не приведет ли предполагаемая аннексия к вооруженной атаке буров на город. Это было прекрасное время, захватывающее и полное опасностей. Несколько раз им с Джереми чудом удалось избежать смерти. Однако ничего серьезного с ними так и не случилось, и, наконец, долгожданная аннексия все же произошла — к бурной радости всех англичан и к большому облегчению подавляющего большинства буров. Вместе с прокламацией о присоединении Трансвааля к владениям Ее Величества был выпущен указ, который должен был оказать существенное влияние на судьбу Эрнеста. Это было не что иное, как обещание королевского помилования всем, кто был резидентом Трансвааля в течение шести месяцев, предшествовавших аннексии, а до того являлся британским подданным и нарушителем английских законов, чьи преступления были совершены в определенный период времени. Цель этой амнистии была в том, чтобы иммунитет от судебного преследования получили дезертиры из английской армии и другие преступники, которые искупили свою вину, заняв активную и достойную позицию в политической и общественной жизни Южной Африки. Мистер Эльстон внимательнейшим образом изучил этот документ, когда он был напечатан в местной газете. Поразмыслив немного над прочитанным, он принес газету Эрнесту. — Ты уже читал об амнистии, мой мальчик? — спросил он. — Да, — отвечал Эрнест. — И что мне с того? — Что с того?! О, эта глупая юность! На колени, молодой человек — и возблагодари Господа и те силы, что надоумили лорда Карнарвона аннексировать Трансвааль. Неужели ты не видишь, что эта амнистия спасает твою шею от петли? Поторопимся. Зарегистрируйся у правительственного секретаря, назови свое имя и преступление — и ты навсегда будешь избавлен от любых преследований и всевозможных последствий той небольшой оплошности, в результате которой ты пристрелил собственного кузена на дуэли. — О боже, Эльстон… Вы же не имеете в виду… — Не имею в виду? Разумеется, имею! В указе не упомянуто какое-либо конкретное преступление, по которому могут отказать в помиловании, — и ты прожил на территории Трансвааля более шести месяцев. Эрнест стрелой вылетел из дома.Глава 27
ДОЛГОЖДАННОЕ ПИСЬМО
Эрнест явился в секретариат Правительства и зарегистрировал в реестре свое имя. Вскоре он получил официальное «Ее Королевского Величества помилование и защиту от всех действий, разбирательств и судебных преследований по закону, кем бы они ни велись в прошлом, настоящем или будущем и т. д., официально переданное названному британскому подданному Его превосходительством главой администрации нашей приобретенной территории, называемой Трансвааль». Когда этот драгоценный документ оказался у него в кармане, Эрнест впервые осознал, что чувствует раб, неожиданно получивший свободу. Если бы не этот счастливый случай, последствия фатальной дуэли довлели бы над ним всю жизнь. Вернись он в Англию — ему предстояло бы жить в постоянном страхе перед Законом. Даже здесь, в Африке, он постоянно боялся разоблачения и экстрадиции. Теперь все было в прошлом, и он мог без страха разговаривать с генеральным прокурором и не вздрагивать более при виде полицейского. Первой его мыслью было немедленное возвращение в Англию — однако молчаливая Судьба, управляющая жизнями людскими, направляющая их туда, куда они и не собирались, и заставляющая их израненные и окровавленные ноги следовать каменистыми путями во исполнение Ее тайных планов, вмешалась — и Эрнест понял, что лучше будет отложить возвращение на некоторое время, через несколько недель должен был прийти ответ Евы. Если он уедет сейчас, они могут даже разминуться с Евой посреди океана — потому что в глубине души Эрнест не сомневался, что она приедет по первому его зову. Итак, он ждал почты из Англии. Действительно, со следующим кораблем пришло письмо — но от Дороти. Она написала его в тот же день, как получила его письмо, то есть тогда же, когда его письмо должна была получить и Ева. Это была, скорее, короткая записка — Дороти торопилась отправить весточку, едва успев получить его письмо и желая успеть отправить ответ как можно скорее. У нее было всего двадцать минут, так что все сообщение уместилось в нескольких строчках. Она благодарила Эрнеста за сообщение о себе, писала о том, как все они рады, что он здоров и в безопасности, мягко упрекала, что он долго не писал. Поблагодарила она его и за доверие в отношении Евы Чезвик. По ее словам, она давно догадывалась, что Эрнест и Ева полюбили друг друга, надеялась и молилась, что они будут счастливы, когда придет время. Она никогда не разговаривала о нем с Евой, но теперь сможет сделать это без всякого смущения. Она вскоре пойдет и повидается с Евой, будет умолять ее ответить поскорее — впрочем, она совершенно уверена, что Еву не нужно об этом умолять; Ева очень грустна с тех пор, как Эрнест уехал; ходили всякие разговоры о новом священнике, мистере Плоудене — но Дороти уверена, что Ева дала ему решительный отказ, поскольку Дороти больше ничего об этом не слышала; и так далее — вплоть до слов «почтальон ждет у дверей, когда я запечатаю это письмо». Эрнест вряд ли догадывался, чего стоили бедняжке Дороти эти поздравления и пожелания счастья. Обычный человек — благородное, но все же животное — вряд ли пошел бы на такое; только необыкновенная женщина способна на подобное бескорыстие. Письмо Дороти наполнило Эрнеста уверенностью и надеждой. Он был уверен, что Ева просто не успела отправить ответ в тот же день — со следующей почтой ее письмо непременно придет. Можно легко вообразить, с каким нетерпением и волнением он ждал следующего корабля. В Претории мистер Эльстон, Эрнест и Джереми поселились все вместе и последние пару месяцев жили очень комфортно. У них был симпатичный одноэтажный домик с верандой, окруженный цветущим садом, в котором росли бесчисленные цветущие кустарники, источающие сладкие ароматы, и множество розовых деревьев, которые в благословенном климате Претории цвели так же бурно, как наш чертополох. За цветами рос виноград, весь усыпанный крупными гроздьями ягод; за виноградником росли ивы, чередующиеся с кустами бамбука, — они составляли живую изгородь, отгораживающую дом от дороги. По одну сторону узкой дорожки, ведущей к воротам, была разбита внушительная грядка, на которой наливались соком дыни. Этот сад был предметом особой гордости Эрнеста — он много занимался им и в данный момент был весьма озабочен дынями, на которых падали слишком прямые лучи солнца. Чтобы спасти урожай от зноя, он укрыл дыни самодельными зонтиками из гибких ивовых ветвей и сухой травы. Однажды утром — это было воистину чудесное утро — Эрнест стоял возле своих дынь, курил трубку и руководил Мазуку, расставлявшим зонтики. Это была не самая достойная работа для великого воина зулу, чей ассегай, воткнутый в землю, зловеще поблескивал рядом с мирными лопатами и мотыгами. Тем не менее, «нужда заставит, когда дьявол правит» — и мускулистый темнокожий парень пыхтел, стоя на коленях, стараясь расположить пучки травы наилучшим образом, чтобы удовлетворить придирчивого хозяина. — Мазуку, ты ленивый пес, вот ты кто! — говорил Эрнест. — Если ты немедленно не разложишь траву, то никогда не попадешь на небеса зулу, потому что я проломлю тебе башку! — О Инкоос! — укоризненно бурчал Мазуку, борясь с непослушной травой. — Знаешь, что он там бурчит? — смеясь, спросил мистер Эльстон. — Он говорит, что все англичане безумны, а ты — самый безумный из них. Он полагает, что только безумец забивает себе голову «травой, которая воняет» (цветами) и фруктами, которые — если тебе и удастся их вырастить — наверняка прокляты и заколдованы, иначе бы они спокойно росли без всяких «шляп» (зонтики Эрнеста), и вообще — «от них в животе холодно». В этот самый момент одна из «шляп», которые пытался установить Мазуку, снова упала, после чего терпение зулуса иссякло, и он в весьма энергичных выражениях проклял дыни, подтвердив свое проклятие тем, что разбил одну из них ударом кулака. После этого, не дожидаясь реакции Эрнеста, великий воин сбежал — а разгневанный хозяин бросился за ним. Мистер Эльстон от души смеялся, ожидая возвращения Эрнеста. Вскоре тот вернулся, так и не догнав Мазуку. На самом деле зулус прекрасно знал, что ему ничего не грозит, потому что лишь нечто ужасающее и из ряда вон выходящее могло бы заставить Эрнеста Кершо поднять руку на кафра. Он испытывал к насилию против чернокожих непобедимое отвращение, так же, как и к пренебрежительному слову «ниггер», применяемому в отношении людей, которые, как правило, несмотря на все свои недостатки, могли считаться джентльменами в самом прямом смысле слова. Лицо Эрнеста раскраснелось после бега, и мистер Эльстон, глядя, как молодой человек подходит к нему, подумал о том, что Эрнест становится очень красивым мужчиной. Высокий, с узкой талией и широкими плечами, с выразительными темными глазами, с шелковистыми и вьющимися темными волосами, чувственно изогнутыми губами, а также с ласковой улыбкой, освещавшей это прекрасное и умное лицо, Эрнест был не просто красив, он обладал шармом, обаянием, которое насмерть сражало всех женщин вокруг. Одет он тоже был весьма эффектно — в бриджи для верховой езды, мягкие сапоги со шпорами, белый жилет и льняную куртку. На голове у Эрнеста была широкополая шляпа из тонкого мягкого войлока, заломленная с одной стороны. Короче говоря, в те дни Эрнест был очень привлекательным молодым человеком. Джереми отдыхал в кресле на веранде в компании сына Эльстона, юного Роджера, и с интересом наблюдал за эпическим сражением красных и черных муравьев, не поделивших территорию где-то в каменной кладке дома. Долгое время победителя было невозможно определить — победа склонялась то на одну, то на другую сторону, однако в итоге на помощь черным пришло подкрепление — целый отряд крупных черных муравьев-солдат, по крайней мере, в шесть раз превосходивших размерами соперника. Красные муравьи потерпели сокрушительное поражение, многие из них были взяты в плен. Затем последовало самое удивительное: красные пленники были показательно казнены — черные муравьи-солдаты безжалостно откусывали им головы. Джереми и Роджер не в первый раз наблюдали за этими битвами и потому знали, что красных ждет неминуемая гибель. Они решили спасти заключенных, что и было сделано весьма хитроумным способом: обгоревшей спичкой Джереми выскреб никотин из своей трубки и бросил спичку черным муравьям. Забыв о пленниках, те с яростью набросились на нового неведомого врага и со свирепостью бульдогов вцепились в отравленную спичку. Вскоре яд подействовал — многие упали без чувств, а некоторые поплелись прочь, шатаясь и демонстрируя все признаки страшной головной боли. Джереми смазывал спички никотином, а Роджер раскладывал их на пути гигантских муравьев, когда на улице послышался топот копыт и грохот колес. Мальчик выглянул на улицу и воскликнул: — Ура, мистер Джонс — это почта! В следующий момент по улице в клубах пыли промчалась почтовая карета. Она самым ужасающим образом кренилась на ходу из стороны в сторону, и в окнах мелькали бледные и напряженные лица пассажиров, изо всех сил цепляющихся за сиденья. Шестерка взмыленных серых лошадей лихо пронеслась в сторону почтового отделения. — Эрнест, почта прибыла! — крикнул Джереми. — Должно быть, привезли и письма из Англии. Эрнест кивнул, слегка побледнел и нервно выбил трубку. Почтовая карета везла его судьбу, он знал это. Напряженным шагом он прошел через площадь к почтовому отделению. Письма еще не успели рассортировать, и он был первым посетителем. Вскоре верхом на лошади подъехал один из служащих комиссариата, чтобы забрать правительственную почту. Это был тот самый джентльмен, с которым они так самозабвенно пели «Старое доброе время» в день великой победы Джереми и который в тот вечер был отправлен домой в тачке. — Приветствую, Кершо! Вот и мы, «первые среди равных», так сказать, или даже «первые среди первых», или как оно там говорится? Ну же, Кершо, вы позже меня окончили школу! Я не верю, что вы не знаете… ха-ха-ха! А что вы здесь делаете в такой час? Неужели «влюбленный пастушок ждет с трепетом письма»? Дорогой мой, почему вы так бледны? Вас мучает либо любовь, либо жажда. Вот меня точно — не первое, а второе. «Любовь, я отменяю тебя!» Квис сепарабит, как говорится — кто разделит нас? Я думаю, солнце еще не слишком высоко. Быть может нам, мой дорогой Кершо, произвести некоторые наблюдения? Ха-ха-ха! — О нет, спасибо, я никогда не пью между завтраком и обедом. — Ах, мой мальчик, это очень плохая привычка, вы должны поскорее от нее отказаться, пока не поздно! Откажитесь, мой дорогой Кершо, и всегда держите порох сухим, а язык — смоченным, иначе умрете молодым. Что там говорит нам поэт? — Тот, кто весел и пьян, кто живет, как живет, тот и весел, и рьян, и довольным умрет… — Байрон, я полагаю? Ха-ха-ха! В это время, к большому облегчению Эрнеста, подошли другие посетители, и его веселый приятель обратил свои сладость и свет в другую сторону, забыв об Эрнесте и оставив его наедине с его мыслями. Наконец, штурм почтового отделения завершился, и Эрнест получил письма, адресованные ему, мистеру Эльстону и Джереми. Он отошел в тень и быстро разобрал всю пачку. Почерка Евы ни на одном конверте не было, зато было письмо от Флоренс, ее сестры — Эрнест хорошо знал эти энергичные прямые линии букв. Он поспешно распечатал его. В конверт была вложена записка, написанная тем почерком, который он так ждал увидеть. Эрнест принялся разворачивать ее, и пока он это делал, вспышка ужаса пронизала его с головы до ног. «Почему она написала именно так?» Записка была совсем короткой — и через пару секунд она уже лежала в пыли, а смертельно побледневший Эрнест хватал ртом воздух, беспомощно цепляясь за перила чужой веранды, силясь удержаться на ногах. Спустя несколько мгновений он оправился, поднял листок бумаги и быстрыми шагами направился к дому. На полпути его вновь перехватил веселый балагур, ехавший на своем сонном пони, широко расставив ноги и размахивая мешком с корреспонденцией, адресованной Правительству. — И снова приветствую, мой дорогой друг! — вскричал он, натягивая поводья, на что пони не обратил особого внимания. — Было ли вознаграждено ваше нетерпение? Хлоя склонилась над водами? Если нет, примите мой совет: не думайте о ней. Quant on n’a pas ce qu’on aime, мудрый человек aimes ce qu’il a, что означает — когда у нас нет того, что нам нравится, мудрый человек довольствуется тем, что у него есть. Кершо, вы мне нравитесь, и я открою вам секрет. Пойдемте со мной сегодня в полдень, и я познакомлю вас с двумя очаровательными образцами местной красоты. Как розы, цветут они в диком вельде, расточая свою сладость ветрам пустыни. «Mater pulchra, puella pulcherrima», как говорил Вергилий — прекрасной матери прекраснейшая дочь! Я, согласно своему возрасту, довольствуюсь матерью, ибо ваша цветущая юность достойна красоты девицы. Ха-ха-ха! — с этими словами весельчак привстал на стременах и в полном восторге водрузил мешок с письмами прямо на голову своему пони, в результате чего едва не оказался на земле. — Йо-хо, Буцефал! Йо-хо! Вперед — не то я тебе отрежу бубенцы! Тут он впервые обратил внимание на странную бледность и выражение лица Эрнеста, который молча шел рядом с ним. — Эй! Кершо, что случилось? — спросил он совсем другим тоном. — Вы плохо выглядите. Ничего страшного, я надеюсь? — Ничего страшного, — тихо откликнулся Эрнест. — Просто плохие новости, только и всего. Не о чем беспокоиться. — Дорогой мой, простите меня! Я беспокоил вас глупой болтовней. Простите! Вы, вероятно, хотите побыть в одиночестве. До свидания! Через несколько секунд мистер Эльстон и Джереми, сидевшие на веранде, увидели Эрнеста, быстро идущего по дорожке через сад… Лицо его было искажено от боли, на прикушенной губе виднелась кровь. Он без единого слова прошел мимо них, вошел в дом и захлопнул за собой дверь. Эльстон и Джереми переглянулись. — Что случилось? — коротко спросил Джереми. Мистер Эльстон, по обыкновению, сначала подумал, а потом ответил: — Видимо, с «идеалом» что-то пошло не так. Обычное дело с этими идеалами… — Пойдемте посмотрим? — с беспокойством предложил Джереми. — Нет, дай ему пару минут прийти в себя. У нас будет много времени для бесед. Тем временем Эрнест, придя в свою комнату, сел на кровать и снова перечитал записку, вложенную в письмо Флоренс. Потом он неторопливо и аккуратно сложил ее и опустил в конверт. Затем он развернул второе, еще не прочитанное письмо и так же внимательно его прочитал. После этого он лег лицом вниз, уткнувшись в подушку, и некоторое время лежал и думал. Вскоре он поднялся, пересек комнату и достал из кобуры, висевшей на стене, заряженный револьвер. Вернулся, сел на кровать. Медленно поднял револьвер и приставил его к виску. В этот момент за дверью раздались шаги, и Эрнест молниеносным движением отправил оружие под кровать. Едва он успел это сделать, вошли мистер Эльстон и Джереми. — Пришли письма, Эрнест? — мягко спросил Эльстон. — Письма? О да, простите, я забыл! — Эрнест полез в карман и достал небольшую пачку писем. Мистер Эльстон взял их, не спуская глаз с Эрнеста. Тот избегал его взгляда. — Что случилось, мальчик мой? — так же мягко спросил мистер Эльстон. — Надеюсь, ничего непоправимого? Эрнест безучастно посмотрел на него. — Что с тобой, старина? — спросил и Джереми, садясь рядом с ним и кладя свою руку на руку Эрнеста. Вслед за этим Эрнест впал в приступ отчаяния, не в силах больше сдерживаться. К счастью, длилось это недолго — продлись истерика дольше, пришлось бы что-то предпринимать. Внезапно настроение Эрнеста резко изменилось, он словно окаменел, взгляд его стал тяжелым и горьким. — Ничего,мой дорогой Джереми, ничего. Это просто конец одной маленькой идиллии. Друзья мои, вы, вероятно, помните, что несколько месяцев назад я написал письмо… женщине. Вы оба знаете всю эту историю. Теперь вы узнаете, каков ее конец, и услышите ответ — вернее, два ответа. У этой женщины есть сестра. Они обе написали мне. Письмо сестры длиннее, я прочту его первым. Думаю, первую страницу можно пропустить, там ничего интересного, и я не хочу тратить ваше время. Теперь слушайте.«Между прочим, у меня есть новость, которая вас заинтересует и, я уверена, обрадует, потому что к этому времени вы, должно быть, уже избавились от своей несерьезной привязанности. Ева (это та женщина, которой я писал и с которой, как мне казалось, мы помолвлены) собирается выйти замуж за мистера Плоудена, того самого джентльмена, что заменил нашего священника, мистера Хэлфорда…»
В этом месте Джереми вскочил и разразился проклятиями. Эрнест успокоил его и продолжал:
— «Я сказала, что уверена в вашей радости по этому поводу, потому что брак этот благоприятен во всех отношениях и принесет Еве, в чем я тоже уверена, долгожданное счастье. Мистер Плоуден обеспеченный человек, священник — два этих обстоятельства гарантируют успех их браку. Ева говорит, что с последней почтой получила от вас письмо (то самое, которое я читал вам, господа!) — она просит меня поблагодарить вас за него. Если она найдет время, то напишет вам несколько строк, но, как вы сами должны понимать, сейчас у нее полно хлопот и совсем ни на что нет времени. Свадьба состоится в церкви Кестервика 17 мая (это завтра, джентльмены), и если письмо это не опоздает, то я уверена, мысленно вы будете в этот день с нами. Церемония будет совсем скромной из-за недавней смерти нашей дорогой тетушки. Разумеется, помолвка — по желанию мистера Плоудена, поскольку он очень скромный человек, — держалась в секрете, и вы первый человек, кто об этом узнал. Я надеюсь, вы польщены нашим доверием, сэр. Мы очень заняты выбором платья, а также насущными и важными вопросами — какого цвета должно быть платье, которое Ева наденет после бракосочетания. Ева и я стоим за серое, мистер Плоуден — за оливково-зеленое, и, учитывая все обстоятельства, думаю, мистер Плоуден победит. Сейчас они вместе сидят в гостиной и обсуждают этот вопрос. Вы всегда восхищались Евой (и очень тепло к ней относились, помните, как вы оба переживали, когда вам пришлось уехать? О, непостоянство человеческой натуры!) — видели бы вы ее сейчас. Счастье делает ее еще прекраснее; но я слышу, как меня зовут. Наверняка пришли к какому-то решению. Прощайте же. Я не умею писать письма, но надеюсь, обилие и качество новостей компенсирует нехватку навыков.Всегда ваша, Флоренс Чезвик».
Эрнест перевел дух и добавил: — А вот и второе.
«Дорогой Эрнест. Я получила твое письмо. Флоренс все расскажет подробно. Я выхожу замуж. Думай, что хочешь — я ничего не могу поделать. Поверь, это стоило мне огромных страданий, но я знаю свой долг. Надеюсь, ты скоро забудешь обо мне, Эрнест, и я тоже должна забыть о тебе. Прощай, мой дорогой Эрнест. Прощай и прости! Е.».
— Хм! — пробормотал мистер Эльстон. — Как я и думал — глина, причем препаршивейшая. Эрнест медленно разорвал письмо на мелкие клочки, бросил их на пол и растоптал, будто они были живыми. — Надо было всю душу из этого чертова пастора вытрясти! — прорычал Джереми, потрясенный новостями не меньше, чем его друг. — Проклятье! — в отчаянии воскликнул Эрнест, поворачиваясь к нему. — Почему ты не остался дома присматривать за ней, зачем потащился за мной! Джереми только тихо заворчал в ответ. Мистер Эльстон торопливо раскурил трубку, как он делал всегда, когда был смущен. Эрнест расхаживал по маленькой комнате, на выбеленных стенах которой висели картинки, вырезанные из иллюстрированных журналов, рождественские открытки и фотографии. Над изголовьем кровати висел портрет Евы — Эрнест поместил фотографию в красивую деревянную рамку. Теперь он сорвал ее со стены. — Взгляните! Вот вам истинная леди. Красива, не правда ли? Приятно посмотреть. Кто может подумать, что под этой внешностью скрывается демон? Она велит мне забыть ее и болтает о каком-то долге! Женщины любят милые шутки! Он швырнул фотографию на пол и растоптал ее так же, как до этого письмо. — Говорят, — продолжал он, — что иногда проклятия способны обрести силу. Будьте же свидетелями тому, что я сейчас скажу, и следите за жизнью этой женщины. Я проклинаю ее перед Богом и людьми! Пусть не знает она покоя и счастья, пусть горьки будут ее ночи и безрадостны дни! Пусть она… — Довольно, Эрнест! — сказал мистер Эльстон, пожимая плечами. — Твои слова могут сбыться, и тебе это не понравится, уверяю тебя. Кроме того, это просто трусость — проклинать женщину. Эрнест замер, сжимая все еще воздетые над головой кулаки. Его побелевшие от сильного волнения губы дрожали и кривились, а темные глаза сверкали, точно звезды. — Вы правы, Эльстон! — наконец сказал он, тяжело опустив руки на стол. — Проклятий заслуживает не она. — Кто же? — Этот Плоуден. Боюсь, что испорчу ему медовый месяц. — Что ты хочешь сказать? — Я хочу сказать, что убью его. Или он убьет меня, это неважно. — С какой стати тебе затевать ссору с этим человеком? Разумеется, он действовал в своих интересах. Ты же не можешь ожидать, что он будет блюсти твои, не так ли? — Если бы он обыграл меня честно, я не сказал бы ни слова. Каждый сам за себя в этом прекрасном мире. Но попомните мои слова — пастор и Флоренс втянули Еву в это гнусное дело, и я заставлю его жизнью поплатиться за это. Если не верите мне, спросите Джереми. Он кое-что видел перед отъездом. — Послушай, Кершо! Этот человек — священник, он укроется за своим саном, он не будет с тобой драться. И что ты тогда будешь делать? — Я его пристрелю! — последовал холодный ответ. — Эрнест, ты, верно, с ума сошел — так не пойдет! И ты никуда не поедешь, это дело решенное. Ты не станешь рушить свою жизнь из-за женщины, которая недостойна даже чистить тебе сапоги! — Не стану? Не стану! Эльстон, вы много на себя берете. Кто меня остановит? — Я и остановлю! — жестко ответил мистер Эльстон. — Я твой командир, если ты забыл — твой полк еще не распущен… Если попробуешь уехать — будешь арестован как дезертир. Не будь дураком, парень! Ты уже убил человека и попал в большую беду. Убьешь еще одного — больше не выберешься. Кроме того, разве это принесет тебе удовлетворение? Если хочешь отомстить, наберись терпения. Все будет. Я кое-что смыслю в этой жизни, в конце концов, я тебе в отцы гожусь. И я знаю, что ты считаешь меня циником, потому что я смеялся над твоим «высоким штилем» в отношении женщин. Теперь ты убедился, что я был прав. И циник я или нет — но я верю в Бога и верю в то, что в мире существует высшая справедливость. Мир так устроен, что люди совершают грехи — и искупают их своей жизнью. Если этот брак — такое дьявольское дело, как ты подозреваешь, то он принесет им беду и несчастье без всякого участия с твоей стороны. За тебя отомстит само время. Все приходит к тому, кто умеет ждать. Глаза Эрнеста холодно сверкали, когда он ответил: — Я не могу ждать. Я уже погиб, жизнь моя разрушена, она пуста и не имеет смысла. Я хочу умереть — но прежде я хочу убить его. — Не будь я Эльстон — ты никуда не поедешь! — Не будь я Кершо — поеду! Несколько мгновений двое мужчин мерились яростными взглядами, и трудно сказать, кто из них выглядел более решительным и уверенным. Затем мистер Эльстон молча повернулся и вышел из комнаты. На веранде он задержался, глубоко задумавшись. «Мальчик задет не на шутку. Он не оставит попыток — и погибнет. Как мне остановить его? О, я знаю!» Мистер Эльстон поспешил к дому правительства, громко бормоча себе под нос: — Я слишком люблю этого парнишку, чтобы позволить ему разрушить свою жизнь из-за пустяка!
Глава 28
БЕГСТВО ЭРНЕСТА
Когда Эльстон ушел, Эрнест снова сел на кровать и взволнованно сказал: — Я не позволю Эльстону командовать мною. Он злоупотребляет нашей дружбой! Джереми сел рядом с ним и взял друга за руку. — Дружище, не говори так. Ты же знаешь, он очень хорошо к тебе относится. Ты сейчас сам не свой. Постепенно ты придешь в себя и увидишь все в ином свете. — Конечно сам не свой! А ты как себя чувствовал бы, если бы узнал, что женщина, которой ты отдал свою душу, которая привязала тебя к себе, завтра выходит замуж за другого? — Старик, ты забываешь одну вещь. Я, конечно, не мастак говорить так же гладко, как ты, но я ведь тоже ее любил. Я смог от нее отказаться, отдать ее тебе, тем более что ей было все равно и наплевать на меня… но когда я думаю об этом парне, об этих его холодных серых глазах, об этой мерзкой отметине у него на лбу — ох, Эрнест, у меня сердце разрывается! Они сидели рядом на кровати и глухо стонали хором, что выглядело, по правде говоря, довольно абсурдно. — Вот что я тебе скажу, Джереми! — немного погодя, сказал Эрнест, прекратив стоны и жалобы. — Ты — хороший человек, а я — эгоистичная тварь. Ною, жалуюсь — а ты терпел, ни слова не сказал. Ты достойнее меня, Джер, ты — человек! И мне кажется, ты ее тоже любишь, как и я. Хотя нет, не как я… — Старина, между нашими историями не может быть параллелей. Я никогда не мечтал жениться на ней. А ты хотел — и имел полное на это право. Кроме того, мы слишком разные. Ты в три раза лучше чувствуешь и все понимаешь. Эрнест горько усмехнулся. — Не думаю, что когда-нибудь еще почувствую хоть что-то. Почти все мои запасы страданий израсходованы. О, какой же дурак тот мужчина, что отдает всю свою жизнь и сердце одной женщине! Да нет, мужчина бы этого и не сделал — но что можно было ожидать от двух мальчишек, вроде нас? Вот почему женщины так любят юнцов — их легко приручить, точно щенков, которых уже собрались утопить; они верят, любят, облизывают руки… которые их уничтожат. Должно быть, это забавно — для убийц. Эльстон был прав, прав насчет идеалов! Знаешь, я действительно начинаю видеть все в ином свете. Я верил женщинам, Джереми, я действительно верил им. Я считал, что они лучше нас! — тут он истерически расхохотался — Что ж, за опыт надо платить. Больше я подобной ошибки не совершу. — Брось, брось, Эрнест, не надо так говорить. Ты получил сильный удар, почти смертельный, и встретить его надо так, как встречают смерть — молча. Ты ведь не поедешь разбираться с этим парнем, а? Будет только хуже, поверь мне. Ты не успеешь его убить до свадьбы, и нет ничего хуже, чем быть повешенным, когда сделанное уже все равно не поправить. Честно — здесь ничего не поделать, остается только пережить это и посмеяться над этим. Мы не вернемся в Англию, мы отправимся на Замбези, будем охотиться на слонов, и знаешь — если уж так все повернулось, теперь ты любой удар перенесешь куда легче, вот что. Эрнест ничего не ответил на это сбивчивое утешение, и Джереми оставил его в покое, надеясь, что смог убедить. Однако нынешний Эрнест был совсем другим человеком — по сравнению с тем утренним, беспечным Эрнестом, заботящимся о зонтиках для дынь. Жестокие известия, принесенные почтой — из-за которых он на долгие годы возненавидел письма, — образно говоря, уничтожили его. Он так никогда и не оправился от этого удара, хотя, несомненно, выжил. Убивает нас только по-настоящему страшное горе. Однако свет и красота исчезли из жизни Эрнеста, как исчезла и его трепетная вера в женщин (увы, мы настолько ограничены, что никак не хотим принимать на веру опыт других людей, а свой личный опыт считаем уникальным); с этого дня и в течение многих лет Эрнест испытывал непрекращающуюся душевную боль, которая никогда не затихала — зато часто усиливалась, вызывая такие пароксизмы страданий, что он предпочел бы умереть, чем испытывать их. Однако пока он еще не осознавал всего этого; единственное, что владело им — бешеная, дикая жажда мести, настолько сильная, что он чувствовал настоятельную потребность немедленно ее утолить — иначе его мозг взорвется. Завтра, думал он, наступит последний акт истории этого предательства. Сегодня канун ее свадьбы — и он бессилен предотвратить ее, он слаб, как ребенок. О великий Боже! И даже после всего этого кошмара — он знал, что она его любит. Эрнест, как и большинство добросердечных хороших людей, мог стать воистину опасен, если свершалась вопиющая несправедливость. Мистеру Плоудену было бы несдобровать, столкнись он сейчас с Эрнестом. Говоря по чести, преподобный так и не выходил из головы юноши — до такой степени, что прежде, чем покинуть свою комнату, он написал прошение об отставке из Добровольческого корпуса и собирался отнести его в правительственную приемную. Затем он вспомнил, что почтовая карета покидает Преторию на рассвете следующего дня, и поспешил в контору, где удостоверился, что ни один пассажир пока не забронировал себе место. Однако Эрнест не стал бронировать место и для себя — он был слишком умен, чтобы сделать это. Выйдя из конторы, он отправился в банк, где взял сто пятьдесят фунтов золотом. Затем он вернулся домой. Здесь он обнаружил кафра, одетого в белый правительственный мундир — посыльный ожидал его, чтобы вручить официальное письмо. Его превосходительство подтверждал получение прошения об отставке, однако сожалел, что «при нынешнем неблагоприятном положении дел и в интересах государственной службы» не может удовлетворить его и отказаться от услуг Эрнеста Кершо. Эрнест отпустил посыльного и разорвал письмо на мелкие клочки. Раз правительство не могло отказаться от него — он откажется от правительства! Эрнест собирался уехать в почтовой карете в Почефструм, добраться до Даймонд Филдс, а оттуда до Кейптауна, где можно сесть на пароход, идущий в Англию. Таким образом, через месяц, считая с сегодняшнего дня, он может оказаться дома. В тот вечер он, как обычно, отужинал вместе с мистером Эльстоном, Джереми и Роджером, ничем не выдавая своих намерений. Около одиннадцати он ушел к себе и лег, однако не заснул. Почтовая карета уходила в четыре; в три часа ночи Эрнест очень тихо поднялся, сложил кое-какие вещи в кожаную седельную сумку, а потом осторожно достал из-под кровати револьвер — как вы помните, он бросил его туда, когда друзья невольно предотвратили его попытку самоубийства, — и сунул его в кобуру на ремне. Затем он бесшумно выбрался из окна своей комнаты, тихо прошел по дорожке сада и вышел на дорогу, ведущую в Почефструм. Однако, как бы бесшумен ни был его шаг, в этой темноте скрывался еще кое-кто, умевший ходить куда более бесшумно и незаметно, ибо за ним стояли поколения отважных охотников и смелых воинов, для кого тайна и тишина стали образом жизни задолго до рождения Эрнеста. Это был маленький готтентот, Аасфогель. Аасфогель следовал за Эрнестом, словно тень, держась на расстоянии не более пятидесяти шагов, иногда приближаясь почти вплотную — и все же совершенно невидимый и неслышимый. Он то скользил за кустами, то крался в густой траве, то бежал по дну придорожной канавы, то полз на животе по совершенно открытому пространству, словно двуногая змея… Когда Эрнест вышел из города и зашагал по дороге, ведущей в Почефструм, готтентот остановился и издал тихий гортанный возглас, явственно выражавший удовлетворение. Затем он развернулся и со всех ног припустил обратно в Преторию. Через десять минут он был уже в доме. Перед крыльцом стояли пять лошадей; на трех из них сидели всадники, все — белые, двух других держали под уздцы кафры. На веранде, как обычно, невозмутимо курил свою трубку мистер Эльстон, рядом стоял Джереми, полностью одетый и вооруженный. Готтентот быстро рассказал обо всем и исчез в темноте. Мистер Эльстон повернулся к Джереми, подал ему какую-то бумагу и сказал быстро и решительно: — Вперед! Отправляйтесь за ним! Джереми сбежал с крыльца, вскочил на одну из лошадей — красивое сильное животное соловой масти, с белоснежными хвостом и гривой — и поскакал в ночь. Трое белых последовали за ним. Тем временем Эрнест спокойно шагал по дороге. Однажды он остановился — ему почудился топот копыт примерно в полумиле от него. Однако на дороге никто не появился, и юноша продолжил свой путь. Вскоре утренний туман начал рассеиваться, и над горизонтом поднялось солнце. Теперь Эрнест уже не сомневался, что слышит топот копыт — и вскоре на дороге позади него показалась почтовая карета, запряженная шестеркой серых лошадей. Эрнест остановился и вскинул руку. Возница-кафр, хорошо знавший молодого человека, сразу же натянул поводья и остановил лошадей. — Я отправляюсь с тобой в Почефструм, Аполлон! — сказал Эрнест кафру. — Хорошо, сар. Много места, сар. Никакой пассажир сегодня не ехать, чертовски хороший езда. Эрнест сел в карету, и они тронулись. Теперь он был в безопасности. В Почефструме не было телеграфа, и никто не мог перехватить почтовую карету. Примерно через милю дорога резко забирала вверх, на холм, Аполлон спешился и повел лошадей в поводу. На вершине холма бурно разрослась мимоза, и вот из этих-то зарослей, к вящему удивлению Эрнеста и Аполлона, выехало четверо вооруженных людей. Вел их Джереми Джонс — его могучую фигуру невозможно было спутать ни с кем другим. Сидя верхом на лошади, он напоминал кентавра, а не человека. Всадники молча приблизились к почтовой карете. Джереми жестом приказал Аполлону остановиться и отдать поводья, что тот беспрекословно и исполнил. — Поймали, значит? — усмехнулся Эрнест. — Ты должен вернуться со мной, Эрнест! — тихо произнес Джереми. — У меня приказ на твой арест как дезертира, подписанный губернатором. — А если я откажусь? — Тогда мне придется этот приказ выполнить. Эрнест вытащил револьвер. — Это трюк! — сказал он. — Я не вернусь! — Тогда я тебя задерживаю, — холодно ответил Джереми, спрыгивая с лошади. В глазах Эрнеста замерцал опасный огонек, и он вскинул револьвер. Джереми кивнул. — О да, можешь стрелять, если хочешь. Выстрелишь в меня — тебя задержат мои люди. Эрнест прицелился в него. — Я выстрелю! — Что поделать. Значит, выстрелишь, — пожал плечами Джереми и двинулся вперед. Эрнест бросил револьвер на землю. — Так нечестно, Джереми! Ты знаешь, что я не могу в тебя стрелять. — Разумеется, не можешь, старина. Давай, прекращай все это! Ты задерживаешь почту, в конце-то концов. Я привел тебе лошадь — только она не очень быстрая, так что тебе не удастся от нас сбежать. Эрнест повиновался, чувствуя, что беззащитен перед старым другом. Через полчаса он уже входил в свой дом. Мистер Эльстон ждал его. — Доброе утро, Эрнест! — весело сказал он. — Ну что — ушел пешком, вернулся верхом? Эрнест мрачно посмотрел на него, и его загорелые щеки вспыхнули румянцем. — Вы устроили грязный трюк, Эльстон! — Послушай, мой мальчик — посерьезнев, сказал мистер Эльстон в ответ. — Я медленно схожусь с людьми, но если уж становлюсь кому-то другом, то беру его за руку и держу до самого конца. Я был бы тебе плохим другом, если бы позволил совершить этот безумный побег и исполнить злое дело. Ты дашь мне свое слово, что больше не будешь пытаться удрать, или мне посадить тебя под арест? — Я даю вам слово! — сказал Эрнест, смирившись. — И прошу у вас прощения. Так, впервые в жизни, Эрнест пытался убежать от своих друзей.В то утро Джереми, скучая без Эрнеста, зашел к нему в комнату, чтобы посмотреть, чем тот занят. Ставни были закрыты, чтобы яркие солнечные лучи не тревожили покой Эрнеста… однако когда глаза Джереми привыкли к полумраку, он увидел, что его друг сидит за столом и безумным взором глядит прямо перед собой. — Заходи, старина! — горько усмехнулся он при виде Джереми. — Заходи и помоги мне провести эту счастливую церемонию. Темновато, да? Ничего, любовники любят темноту. Взгляни! — он указал на часы, лежавшие перед ним на столе. — По английскому времени сейчас двадцать минут двенадцатого. Они уже женаты, Джереми, я чувствую это. О небо, мне достаточно просто закрыть глаза — и я словно наяву вижу их! — Перестань, перестань, Эрнест! — сказал Джереми. — Ты сам себя мучаешь — и на себя не похож. Эрнест расхохотался в ответ. — О, я хотел бы не быть собой, очень хотел бы! Говорю тебе, я вижу их всех. Вижу церковь в Кестервике, полную народа. Перед алтарем стоит Ева в белом платье — но лицо ее еще белее, Джереми, а в глазах застыл страх. А вот Флоренс со своей мрачной улыбкой, и твой друг, мистер Плоуден с холодными серыми глазами и крестом на лбу. Вот, теперь все кончено… и я, пожалуй, не стану дожидаться поцелуя новобрачных. — Да прекрати же, Эрнест, очнись! — Джереми тряс друга за плечо. — Ты с ума сойдешь, если будешь до такой степени давать волю своему воображению! — Вставай, вставай, проснись, мой друг… Вообще-то меня тянет в сон. У меня есть немного грога. Хочешь? А я выпью. Эрнест поднялся и подошел к каминной полке, на которой стояли квадратная бутылка голландского грога и пустой стакан. Быстро наполнив стакан, Эрнест залпом выпил его, затем налил второй и снова выпил. После этого он рухнул на кровать и заснул. Это была странная, трагичная и не лишенная пафоса сцена.
— Эрнест! — сказал мистер Эльстон три недели спустя. — Ты достаточно окреп, чтобы отправиться в путешествие? Скажем, полгода, а то и год охоты на слонов. Волы в прекрасном состоянии, через шесть-семь недель мы доберемся до места. Эрнест, лежавший в тростниковом шезлонге, выглядел бледным и похудевшим. Он надолго задумался прежде, чем ответить. — Ладно. Я весь ваш. Только давайте уедем поскорее — я устал от этого города и хочу чем-то отвлечь свои мысли. — Ты окончательно расстался с идеей вернуться в Англию? — Да, совершенно. — А ты что скажешь, Джереми? — Куда отправится Эрнест, туда и я. Тем более что охота на слонов — мечта всей моей жизни! — Отлично! Тогда займемся приготовлениями. Нам может понадобиться еще одна приличная упряжка, к счастью, я знаю одного парня, Райли, который как раз продает прекрасных волов. Я немедленно с ним свяжусь.
Глава 29
МИСТЕР ПЛОУДЕН ПРЕДЪЯВЛЯЕТ СВОИ ПРАВА
Когда мы в последний раз видели Еву Чезвик, она только что согласилась на предложение преподобного Джеймса Плоудена. Однако свадьба должна была состояться не раньше следующей весны, а до нее было еще далеко. Ева смутно надеялась, что может произойти нечто, способное предотвратить это событие в ее жизни, забыв, что в реальной жизни счастливый случай выпадает крайне редко. Редко бывает и так, чтобы Плоудены этого мира отказывались от брака с Евами. Судьба обычно не благоволит и Эрнестам мира сего. Тем не менее нужно заметить, что положение Евы не было совсем уж невыносимым, поскольку они с Плоуденом заключили своего рода сделку, в результате которой традиционные ухаживания жениха за невестой были отменены. Никаких объятий и поцелуев — Ева даже могла не называть жениха по имени. Джеймс! Как же она ненавидела это имя. Таким способом несчастная девушка пыталась избавиться от всех мыслей о страшном дне — так страус прячет голову в песок, предаваясь мечтам о мнимой безопасности. Мистер Плоуден не возражал — он был для этого слишком осторожен. Пока его царственная добыча изволила прятаться в кустах, он был уверен в ней. Она не проснется от своего забытья, пока не настанет день торжества Плоудена, и тогда все закончится. Если же напугать ее сейчас, она могла, чего доброго, сбежать и оставить преподобного в дураках. Поэтому, когда Ева поставила свои смешные маленькие условия, Плоуден на все согласился, сделав лишь одно замечание — как ему казалось, в духе покорного возлюбленного. «Жизнь — это компромисс, Ева! — сказал он. — Я подчиняюсь твоим требованиям». Однако про себя он подумал, что скоро придет время, когда уже ей придется уступать ему, и его холодные глаза заблестели. Ева увидела этот блеск — и сердце ее сжалось от предчувствий. Преподобный Плоуден не слишком страдал от холодности, с которой его принимали. Он знал, что его время придет, и был готов ждать, ибо был разумным человеком. Он не любил Еву. Подобные натуры вообще не способны на чувства, которые, например, испытывали друг к другу Ева и Эрнест. Истинная бессмертная любовь скрывает свой сияющий лик от таких, как мистер Плоуден. Однако хитрость его вполне удалась, и он был этим доволен. Ему удалось добиться от Евы письма, в котором она упоминала о «нашей помолвке» и ссылалась на «наш предстоящий брак» — и он затаился. Время для Евы шло слишком быстро. Она была несчастна — но она не была слишком несчастна. Это еще ждало ее впереди. Пришло и ушло Рождество, наступила весна — и когда расцвели нарциссы и фиалки, пришло письмо от Эрнеста. Ева уже спустилась вниз и занималась приготовлением чая в маленькой столовой коттеджа, когда глашатай Судьбы, почтальон, принес письмо. Она сразу же узнала почерк на конверте, и чайная коробка с грохотом выпала из ее ослабевших рук. Схватив письмо, она торопливо распечатала его и быстро прочитала. О, какая волна любви поднялась в ее сердце, когда она читала эти строки! Прижимая к губам бесчувственную бумагу, Ева вновь и вновь целовала драгоценное письмо. — О, Эрнест! — шептала она. — О, мой дорогой! В этот момент в столовую спустилась Флоренс, строгая и сдержанная, излучая ту спокойную властность, которая присуща некоторым женщинам. Ева спрятала письмо на груди. — Что случилось, Ева? — спокойно спросила Флоренс. — Почему ты так раскраснелась — и что случилось с чаем? — Случилось? — со смехом переспросила она… она не смеялась уже несколько месяцев. — О, ничего особенного. Я получила весточку от Эрнеста, только и всего. — В самом деле? — теперь в голосе и улыбке Флоренс сквозила явная тревога. — И что же пишет наш беглец? — О, много чего. Мне тоже есть что сказать. Я собираюсь выйти за него замуж. — Правда? А как же мистер Плоуден? Ева побледнела. — Мистер Плоуден?! С мистером Плоуденом покончено! — Правда? — вновь сказала Флоренс. — Ну конечно, это очень романтично — но будь добра, подними чай. За кого бы ты ни собралась замуж, давай все же сначала позавтракаем. Прости, я забыла наверху свой платок. Ева подняла чайную коробку и снова занялась чаем. Тем временем Флоренс поспешила в свою комнату и стремительно написала записку мистеру Плоудену, после чего запечатала ее и позвонила в колокольчик. Прибежала служанка. — Найди Джона, пусть он немедленно доставит это мистеру Плоудену. Если его нет дома, пусть найдет его и отдаст прямо в руки! — Хорошо, мисс. Через десять минут мистер Плоуден уже читал записку:«Приходите немедленно. Ева получила письмо от Эрнеста Кершо, заявила, что расторгает помолвку с вами и выходит за него замуж. Будьте готовы бороться — но не упоминайте обо мне ни словом. Вы должны найти способ соблюсти свои интересы. Записку сожгите».
Мистер Плоуден присвистнул и сложил записку. Затем подошел к столу, отпер ящик и достал то самое злополучное письмо от Евы, в котором она соглашалась на помолвку. Схватив шляпу, он торопливо зашагал к коттеджу Чезвиков. Между тем Флоренс спустилась вниз, думая про себя: «Невероятно! Если бы я первой увидела письмо, я бы его сожгла. Но мы все равно выиграем этот бой. У нее не хватит выносливости, чтобы тягаться с этой скотиной». Когда она пришла в столовую, Ева вновь заговорила о письме, но Флоренс быстро прервала ее. — Позволь мне позавтракать в тишине, Ева. Мы поговорим о письме позже. Меня не интересует твой Эрнест, а разговоры о делах за завтраком отбивают аппетит. Ева замолчала; в это утро завтрак не имел для нее никакой привлекательности. Внезапно раздался стук в дверь, и мистер Плоуден с фальшиво-радостной улыбкой вошел в столовую. — Как поживаете, Флоренс? Как поживаете, Ева, дорогая? Видите, как рано я пришел повидать вас. Мне нужно укрепить мой дух, чтобы прилежно исполнять свой повседневный долг. Как говорится, ранний воздыхатель пришел склевать червяка своих привязанностей! — и он громко расхохотался над собственной шуткой. Флоренс передернуло от подобного сравнения, и она подумала, что «червяк его привязанностей» вряд ли обрадован появлением «раннего воздыхателя». Ева не сказала ничего. Она сидела молча, бледная как полотно. — Да что такое случилось с вами обеими? Вы увидели призрак? — Не совсем так, впрочем, Ева получила письмо практически с того света, — отвечала Флоренс с нервным смешком. Ева резко встала. — Я думаю, мистер Плоуден, — сказала она, — что нам лучше сразу поговорить откровенно. Прошу вас меня выслушать. — Разумеется, разве я не всегда к вашим услугам, дорогая? — Я хочу… — начала Ева и запнулась. — Я хочу воззвать к вашему великодушию и благородству джентльмена. Флоренс улыбнулась. Мистер Плоуден наклонил голову и тоже смущенно улыбнулся — весьма неприятной улыбкой. — Вы знаете, что до помолвки с вами у меня… были отношения с другим человеком. — С юношей, совершившим убийство, — сказал мистер Плоуден. — С джентльменом, имевшим несчастье убить человека на дуэли, — уточнила Ева. — Церковь и закон называют это убийством. — Прошу прощения, мистер Плоуден, но мы не говорим сейчас ни о церкви, ни о законе. Мы говорим об отношениях между леди и джентльменами. — Продолжайте. — Что ж… между нами возникло непонимание, в подробности которого я не хочу вдаваться… хотя я говорила вам, что люблю этого человека. Сегодня я получила от него письмо, и оно открыло мне глаза. Теперь я ясно вижу, как несправедливо и неправильно повела себя по отношению к нему, и теперь я знаю, что люблю его еще больше, чем прежде. — Будь проклят этот наглец! — взорвался священник. — Если бы он сейчас был здесь, я бы вправил ему мозги! Ева возмутилась, и ее прекрасные глаза засверкали; сейчас она была похожа на разгневанную королеву. — Если бы он был здесь, мистер Плоуден, вы бы не осмелились даже взглянуть ему в глаза. Люди, подобные вам, могут лишь пользоваться отсутствием соперника. Священник стиснул зубы. Он чувствовал, как ярость закипает в нем, но не осмеливался ответить этой женщине, хотя и был смелым человеком. Он боялся, что она выйдет из подчинения, и потому только пробормотал вполголоса: — Вы заплатите за это, миледи! — В этих обстоятельствах, — продолжала Ева, — я обращаюсь к вам как к джентльмену и прошу освободить меня от помолвки, на которую, как вам хорошо известно, меня толкнули лишь обстоятельства, а не собственное желание. Больше мне сказать нечего. Мистер Плоуден поднялся и подошел к Еве вплотную, так, что его лицо было всего в нескольких дюймах от ее пылающих глаз. — Ева, — тихо сказал он, — я не потерплю подобных шуток. Вы обещали выйти за меня замуж, и я заставлю вас сдержать обещание. Вы сами добивались моей любви, любви честного человека! Флоренс снова улыбнулась, а Ева сделала слабую попытку возразить. Плоуден не дал ей этого сделать. — Да, теперь вы пытаетесь это отрицать, потому что это в ваших интересах, но вы добивались меня, вы это знаете, и ваша сестра тоже это знает. Флоренс склонила голову в знак согласия. — Теперь вы хотите удовлетворить свою преступную страсть к этому убийце — и решили меня бросить, поправ самые святые мои чувства и лишив меня законного выигрыша. Нет, Ева, я не разорву помолвку. — Разумеется, мистер Плоуден! — слабым голосом сказала Ева. Она была нежной натурой, и жестокость мужчины подавляла ее. — Но вы же не заставите меня силой вступить в брак, который мне отвратителен, и я говорила вам об этом? Я взываю к вашему великодушию — освободите меня! Вы не сможете заставить меня выйти за вас, я говорю, что не люблю вас, и сердце мое отдано другому человеку. Мистер Плоуден видел, что его жестокость приносит свои плоды, и усилил нажим. Он возвысил голос почти до крика. — О нет! Я не стану подчиняться дурацкому безрассудству. Любовь! Это придет. У меня еще будет шанс. Нет, я заявляю вам открыто, что не отпущу вас, и если вы попытаетесь избежать исполнения своих обязательств передо мной, я пойду еще дальше. Я объявлю вас изменницей и мошенницей, я ославлю вас по всей стране, я подам иск о нарушении обещания вступить в брак — возможно, вы не знали, что мужчина может это сделать так же, как и женщина, — и покрою ваше имя позором! Взгляните — у меня есть ваше письменное обещание выйти за меня! — и он выхватил из кармана письмо. Ева обернулась к сестре. — Флоренс! Неужели ты не скажешь ни слова в мою защиту? У меня нет сил! — Я бы рада, дорогая, — ласково отвечала Флоренс, — но что я могу сказать? Все, что говорит мистер Плоуден, совершенно справедливо и верно. Ты помолвлена с ним и обязана выйти за него замуж, как честная женщина. О Ева, не навлекай на нас беду и позор своим упрямством! Наше имя, твое и мое, все же кое-что значит. Я уверена, что мистер Плоуден забудет об этой размолвке, если ты больше никогда об этом не вспомнишь. — О да, мисс Флоренс. Я не мстителен. Я просто хочу получить то, что мне причитается по праву. Ева переводила отчаянный взгляд с одного на другую. Потом головка ее начала склоняться все ниже, под прекрасными глазами залегли черные тени. Наконец она сдалась. — Вы очень жестоки, — медленно произнесла она. — Пусть будет так, как вы хотите. Я буду молить Господа, чтобы он дал мне умереть прежде, чем это случится, вот и все. С этими словами она закрыла лицо руками и выбежала из комнаты, оставив двух заговорщиков наедине. — Ну что ж! Вот мы и решили этот вопрос, — сказал мистер Плоуден, потирая руки. — Нет ничего лучше, чем строгость в отношениях с женщиной. Леди должны знать, что и у джентльменов есть права. Флоренс повернулась к нему, и презрение горело в ее глазах. — У джентльменов? Мистер Плоуден, зачем вы так часто употребляете это слово? Разумеется, после того фарса, что вы только что разыграли, вы не смеете почитать себя джентльменом. Послушайте! Мне было на руку, чтобы вы женились на Еве, и вы на ней женитесь — но я никогда не опущусь до лицемерия перед таким, как вы. Вы называете себя джентльменом — и принуждаете невинную девушку согласиться на ненавистный ей брак. Вы сокрушаете ее дух своей подлостью и отвратительной жестокостью. Джентльмен, как же! Вы сатир! Омерзительный дьявол! — Я просто отстаиваю свои права! — в ярости прошипел Плоуден. — И что бы я ни сделал — вы сделали куда больше! — Не пытайтесь огрызаться на меня, мистер Плоуден, это не сработает. Я не из той породы, что ваша несчастная жертва. Смените тон — или убирайтесь из этого дома и никогда больше не приходите сюда. Квадратная челюсть мистера Плоудена постыдно дрогнула: он ужасно боялся Флоренс Чезвик. — Так-то лучше. Теперь слушайте. Я не хочу, чтобы вы совершили какую-либо ошибку. В этом деле я с вами заодно, хотя иметь с вами хоть какие-то отношения — это само по себе осквернение, — Флоренс даже брезгливо вытерла тонкие пальцы носовым платком. — У меня свой интерес, и не такой вульгарный, как ваш. Моя месть будет почти божественной — или дьявольской, если угодно, — когда все будет кончено. Возможно, это безумие, возможно — судьба. Как бы там ни было, месть питает мою душу и мое тело, и я удовлетворю ее, даже если придется использовать такой гнусный инструмент, как вы. Я хочу, чтобы вы ясно это понимали. Кроме того, я хочу, чтобы вы знали, что вы — презренный тип. Теперь я все сказала, и мне остается только пожелать вам доброго утра. Мистер Плоуден покинул дом Чезвиков белым от ярости, ругаясь такими словами, которые ни в коем случае не должен употреблять священник. — Если бы она не была так хороша собой! Будь я проклят, если не бросил бы эту затею! Излишне говорить, что ничего подобного он так и не сделал. Он только старался держаться подальше от Флоренс.
Глава 30
ДЕВА-МУЧЕНИЦА
Дороти в своем коротком письме Эрнесту, которое, как вы помните, он получил еще до тех писем, что одним ударом разбили все его надежды и обратили его жизнь в прах, обещала пойти к Еве и просить за Эрнеста; однако то одно, то другое — дела отвлекали ее, и визит постоянно откладывался. Дважды она уже собиралась идти — и оба раза что-то помешало ей сделать это. Дело было еще и в том, что само по себе дело было неприятно для нее, и она не очень-то спешила выполнить обещание. Она ведь тоже любила Эрнеста, и как бы глубоко Дороти ее ни таила, как бы ни запирала в подземельях своей души — любовь все так же была в ее сердце, живая и бессмертная. Ее можно было заглушить, ее можно было запретить самой себе — но ее нельзя было убить. Тень любви восставала из пепла и заполняла чертоги сердца Дороти, протягивала к ней руки и плакала, рассказывая о своих страданиях. Любовь шептала о том, как горько завидует она яркой и счастливой жизни, свободе… и той, что узурпировала ее место. Трудно было игнорировать эти мольбы и жалобы, трудно было признать, что надежды не осталось, и что любовь эта навсегда останется в заточении, скованная цепями до тех пор, пока само Время не разъест их. Еще труднее оказалось добровольно согласиться на эти страдания. Тем не менее, к Еве надо было пойти — обещание, данное Эрнесту, следовало выполнить, каким бы болезненным оно не было для Дороти Джонс. Два или три раза она встречала Еву в окрестностях, но не имела возможности поговорить с ней. Либо вместе с Евой была Флоренс, либо сама Дороти куда-то спешила. На самом деле после сцены, описанной в прошлой главе, за Евой был установлен жесточайший надзор. Дома за ней, словно кошка за мышью, следила Флоренс. Во время прогулок в отдалении постоянно маячил мистер Плоуден — либо, в его отсутствие, тот самый пожилой моряк, любитель посмотреть на море, торгующий голландским сыром. Преподобный Плоуден опасался, что Ева захочет сбежать, и тогда он лишится своего приза; Флоренс боялась, что Ева доверится Дороти или, что еще хуже, мистеру Кардусу и при их поддержке найдет в себе мужество настоять на своем и лишить Флоренс плодов ее мести. Поэтому оба наблюдали за каждым шагом Евы. Наконец Дороти решила больше не тянуть и отправиться к Еве с визитом. Она ничего не знала о мошенничестве Плоудена; однако ее удивляло, что никто ничего не спрашивает об Эрнесте. Дороти знала, что он написал Еве — вряд ли письмо не дошло. Почему же Ева ни словом не обмолвилась о нем? Разумеется, она и подумать не могла, что из саутгемптонского дока уже вышло судно, несущее письма об окончательном разрыве, которые вскоре было суждено прочитать несчастному Эрнесту… Размышляя обо всем этом, Дороти в один прекрасный весенний день обнаружила, что стучит в двери коттеджа Чезвиков. Ева была дома, и Дороти сразу же ее заметила. Она сидела на низенькой скамеечке — той самой, на которой так любил представлять ее Эрнест, целующей своего неугомонного скай-терьера — и смотрела вдаль, на сад и море. Открытая книга лежала у нее на коленях. Она выглядела похудевшей и была очень бледна, как показалось Дороти. Увидев гостью, Ева встала и поцеловала ее. — Я так рада вас видеть! Мне очень одиноко. — Одиноко? — изумилась прямолинейная Дороти. — Да я тщетно пыталась встретиться с вами в течение двух недель, но мне это так и не удалось. Ева слегка покраснела и ответила: — Можно чувствовать себя одиноким и среди толпы. С минуту или две они говорили о погоде, причем так оживленно и заинтересованно, что обеим женский инстинкт подсказал одновременно: собеседница что-то скрывает. В конце концов, Ева первая разбила лед недоверия. — Дороти, вы знаете что-нибудь об Эрнесте? — нервно спросила она. — Да, я получила от него письмо с последней почтой. — О! — Ева невольно стиснула руки. — Что же он пишет? — Ничего особенного. Но предыдущей почтой он тоже прислал письмо и рассказывал о себе довольно много. Между прочим, он сказал, что написал вам. Вы получили письмо? Ева залилась краской до корней волос. — Да! — прошептала она. Дороти встала и пересела на скамеечку возле Евы, гадая, почему у той такие встревоженные глаза. Как она может тревожиться, если получила такое письмо от Эрнеста? — Что вы ответили ему, дорогая? Ева закрыла лицо руками. — Не спрашивайте меня, Дороти! Это слишком тяжело. — Что вы имеете в виду? Эрнест сказал, вы помолвлены… — Да… и нет. Теперь я помолвлена с мистером Плоуденом. Дороти испуганно ахнула. — Помолвлены с этим человеком, будучи помолвленной с Эрнестом?! Вы шутите, должно быть? — О Дороти, я не шучу. Хотелось бы мне, чтобы это оказалось злой шуткой. Но я помолвлена — и выхожу замуж за этого человека менее чем через месяц. О, пожалейте меня — я так несчастна! — Вы хотите сказать, — сказала Дороти, вставая, — что помолвлены с мистером Плоуденом, хотя любите Эрнеста? — Да, да, о да! И я ничего не могу… В этот момент дверь открылась, и в комнату вошла Флоренс в сопровождении мистера Плоудена. Ее острый взгляд сразу заметил, что что-то не так, а быстрый ум подсказал, в чем именно дело. В своей обычной напористой манере она решила взять быка за рога. Что бы здесь ни произошло, имея такого союзника, как Дороти, Ева могла вырваться из расставленных сетей. Флоренс дружески поздоровалась с Дороти за руку. — Вижу по вашему лицу, что вы уже знаете добрые вести. Мистер Плоуден настолько скромен и застенчив, что не хотел объявлять заранее, но теперь он должен принять ваши поздравления. Мистер Плоуден понял намек и протянул Дороти руку. — Да, мисс Джонс, я уверен, что вы поздравляете меня — и я это заслужил, ибо я самый счастливый… Тут он замолчал. Момент был неловким до крайности. Рука преподобного висела в воздухе перед Дороти, но маленькая леди не выказывала ни малейшего намерения пожать ее. Напротив — она выпрямилась в полный рост — пусть и не слишком большой — и устремила строгий взгляд своих голубых глаз на священника, а потом медленно спрятала руку за спину. — Я не подаю руки людям, способным на такие трюки, — тихо сказала она. Рука мистера Плоудена упала, и он сделал шаг назад. Он не ожидал такой храбрости в этой малышке. Однако Флоренс пришла ему на помощь. — Дороти, дорогая, мы не вполне понимаем… — Полагаю, что вы прекрасновсе понимаете, Флоренс, и если не хотите говорить вы — скажу я. Ева была помолвлена и собиралась выйти замуж за Эрнеста Кершо. Ева здесь и сейчас по собственной воле сказала, что любит Эрнеста, но что ее принуждают выйти за другого — вот этот человек! — И она указала маленьким пальчиком на мистера Плоудена, сделавшего еще шаг назад. — Это так, Ева? Ева отвернулась. Она по-прежнему сидела на своем низеньком стульчике, закрыв руками лицо. — Честно говоря, Дороти, я не понимаю, какое право вы имеете вмешиваться! — сказала Флоренс. — У меня есть право на справедливость, Флоренс, — право друга, выступающего в защиту отсутствующего. Тебе самой-то не стыдно участвовать в этом постыдном заговоре против человека, которого здесь нет? А вы, мистер Плоуден? Могу ли я воззвать к вашим благородным чувствам и просить освободить от обязательств эту несчастную девушку, которую вы загнали в угол? — Я в своем праве! — сухо ответил Плоуден. — Стыд и позор! И вы еще называете себя служителем Божьим? А ты, Флоренс! О, теперь-то я вижу твое черное сердце и злые помыслы — они горят в твоих глазах! На мгновение Флоренс смутилась и отвела взгляд. — Ева, а вы? Как вы могли стать участником такой постыдной интриги? Вы, хорошая добрая девушка, променяли Эрнеста на такого человека! — И она презрительно кивнула в сторону мистера Плоудена. — Дороти, это мой долг… Вы просто не понимаете… — Да нет, Ева, понимаю — и очень хорошо понимаю! Тебе лучше было бы утопиться — но не соглашаться на такое. Я женщина, как и ты, пусть и некрасивая, но у меня есть сердце и совесть, так что я все понимаю слишком хорошо! — Если вы утопитесь, то убьете свою бессмертную душу! Ведь это страшный грех! — воскликнул мистер Плоуден, решив вспомнить о своем сане. Он был очень встревожен. Ему требовался живой товар. — О да, мистер Плоуден! — продолжала бушевать Дороти. — Вы совершенно правы — это был бы грех, и все же не столь страшный, как брак с вами. Бог дал нам, женщинам, жизнь — но Он вложил в нас и душу, и душа эта знает, что лучше умереть, чем терпеть такое унижение. О Ева, скажи, что ты не пойдешь на это постыдное дело! Нет, не нашептывай ей ничего, Флоренс! — Дороти, Дороти! — воскликнула Ева, поднимаясь и заламывая руки. — Все это бесполезно! Не разрывай мне сердце своими жестокими речами. Я должна выйти за него. Я в руках людей, которые не знают, что такое милосердие. — Спасибо! — сказала Флоренс. Мистер Плоуден помрачнел и нахмурился. — Что ж, кончено! — сказала Дороти и направилась к двери. Не дойдя до нее, она остановилась и обернулась. — Еще одно слово — и я больше не побеспокою вас. Скажите, чего вы все ждете от этого проклятого брака? Ответа не последовало. Дороти вышла. Однако на этом она не остановилась. Из коттеджа она направилась прямиком к мистеру Кардусу в контору. — О Реджинальд, у меня ужасные новости! Позвольте мне немного поплакать — и я все вам расскажу. И она рассказала ему всю историю от начала до конца. Для мистера Кардуса все это явилось совершеннейшей новостью, и он слушал рассказ Дороти с изумлением и некоторым негодованием против Эрнеста. Он-то желал, чтобы молодой человек полюбил Дороти, а Эрнест вместо этого влюбился в Еву. О эта непокорная юность! — Что ж, — сказал он, когда Дороти закончила рассказывать. — Чего же ты хочешь от меня? Мне кажется, ты сегодня имела дело с бессердечной интриганкой, мерзавцем-священником и прелестной дурой. Можно справиться с интриганкой и дурой — но никакая сила на земле не исправит мерзавца. По крайней мере, по моему опыту. Кроме того, я полагаю, это дело следует оставить и забыть. Мне было бы очень жаль, если бы Эрнест связал свою жизнь с такой бестолковой женщиной, как эта Ева Чезвик. Она привлекательна, это правда — но это и все, что можно о ней сказать, насколько я знаю. Перестань терзать себя, моя дорогая; он с этим справится. Когда все уляжется с этой дуэлью и Эрнест сможет вернуться домой, я уверен, что если он будет достаточно мудр, то поймет, где ему искать утешения. Дороти опустила голову и густо покраснела. — Но это не вопрос утешения, Реджинальд. Речь идет о счастье Эрнеста. — Не беспокойся об этом, Дороти. Счастье людское не так легко разрушить. Через год он забудет о ней. — Мне кажется, мужчины всегда так говорят, Реджинальд, — сказала Дороти, подперев подбородок кулачком и устремив свой серьезный взгляд на старого джентльмена. — Каждый из вас считает, что только ему принадлежит монополия на чувства, а все остальное слишком мелко и ничтожно, не глубже кастрюльки для молока. И все же лишь вчера вечером вы говорили со мной о моей матери. Вы рассказывали мне — помните? — какой бессмысленной стала для вас жизнь, когда она покинула вас, и ни один успех больше вас не радовал. Вы сказали, что надеетесь — конец ваш не за горами, что вы достаточно страдали и достаточно ждали; что, хотя вы не видели ее лица уже двадцать пять лет, вы все равно любите ее столь же страстно, как и в тот день, когда она впервые согласилась стать вашей женой. Мистер Кардус поднялся, подошел к стеклянной двери и стал смотреть на цветущие орхидеи. Дороти тоже встала, подошла и положила ручку ему на плечо. — Реджинальд, подумайте! У Эрнеста украли будущую жену почти при таких же обстоятельствах, при каких у вас украли вашу. Если это не предотвратить, он будет страдать всю жизнь так же, как страдали вы. Подумайте, как вы могли бы жить, если бы кто-нибудь предотвратил вашу катастрофу, и я уверена, тогда вы сделаете все, чтобы предотвратить катастрофу, грозящую Эрнесту. — В таком случае ты не родилась бы на свет, девочка, — ответил мистер Кардус тихо. — Ах, это! — с легким вздохом отвечала Дороти. — Ну что ж, я уверена, что обошлась бы и без этого. Да, обошлась бы. Мистер Кардус был умудренным опытом человеком и умел видеть больше, чем другие. — Девочка! — сказал он, нахмурив свои белоснежные брови и поворачиваясь к девушке. — Ты же любишь его. Я всегда это подозревал — теперь я в этом уверен. Дороти вздрогнула. — Да, люблю! И что с того? — И все же просишь моего вмешательства, чтобы обеспечить Эрнесту брак с другой женщиной, бесполезным, бессмысленным созданием, которое само не знает, чего хочет. Этого не может быть. Ты о нем не думаешь! — Не думаю о нем? — Дороти устремила взгляд своих прекрасных голубых глаз к небесам. — Я люблю его всем сердцем, всей душой, я люблю его сильно и крепко, я всегда любила его и всегда буду любить, и люблю я его так, что исполню свой долг перед ним, чего бы это мне ни стоило, Реджинальд. А мой долг — сделать все, чтобы предотвратить этот подлый брак. Лучше пусть болит мое сердце, чем сердце Эрнеста. Я умоляю вас помочь мне. — Дороти, моим самым сокровенным желанием всегда был ваш брак с Эрнестом. Я и ему сказал об этом незадолго до той злосчастной дуэли. Я люблю вас обоих. Всем, что осталось еще живого в моем сердце, люблю — и волнуюсь за вас, за тебя. До Джереми мне никогда не было дела. Боюсь, я иногда относился к мальчику слишком жестоко. Он слишком напоминает своего отца. Знаешь, дорогая, я иногда думаю, что я в этом смысле не совсем здоров. Но ты попросила меня о помощи, ты упомянула свою дорогую мать — да покоится она с миром! — и я сделаю для тебя все, что смогу. Эта девушка, Ева — совершеннолетняя, и я напишу ей, предложу свой дом в качестве убежища. Здесь она может не бояться преследований. — Вы так добры, Реджинальд! Я благодарю вас! — Я отправлю письмо с вечерней почтой, а теперь беги: я вижу, что мой друг де Талор идет сюда, — тут белые брови сдвинулись самым неблагоприятным для де Талора образом. — Это старое дело подходит к концу… — О Реджинальд! — воскликнула Дороти, по-детски грозя Кардусу пальчиком. — Разве вы так и не отказались от своих планов? Это очень нехорошо. — Не волнуйся, Дороти, скоро с ними будет покончено — когда я разберусь с де Талором. Еще год или два — хорошая охота длится долго, сама знаешь, — и дело будет сделано, а затем я снова стану добрым христианином.Письмо было написано тем же вечером. В нем мистер Кардус предлагал Еве Чезвик дом и защиту. Вскоре пришел ответ. Ева благодарила мистера Кардуса за доброту и выражала сожаление по поводу того, что обстоятельства и чувство долга не позволяют ей принять это великодушное предложение. После этого Дороти почувствовала, что сделала все, что было в ее силах, и предоставила событиям идти своим чередом.
* * *
Примерно в это же время Флоренс нарисовала еще одну картину. На ней была изображена Ева в образе Андромеды: в тусклом свете ненастного рассвета она безнадежно смотрела на прозрачную гладь моря, а где-то в его глубинах темнела странная и мрачная тень, направляющаяся к прикованной девушке. У тени была человеческая голова и холодные серые глаза мистера Плоудена… Итак, день за днем Судьба, восседающая на своем космическом троне, посылала сполох за сполохом в непроглядную тьму; время шло, как ему и положено идти, пока не настанет неизбежный конец всего сущего. Ева не жила — существовала и страдала, вот и все, что можно о ней сказать. Она почти ничего не ела, не пила, мало спала. Но все же она жила: она не была достаточно храброй, чтобы умереть, а цепи сковывали ее слишком крепко, чтобы она могла разорвать их и бежать. Бедная Андромеда девятнадцатого столетия! Ни один Персей не придет, чтобы спасти тебя… Солнце следовало своим обычным путем, цветы расцветали и умирали, рождались дети, а те, кому вышел срок, отправлялись в вечный покой — однако ни один божественный Персей так и не прилетел на крылатых сандалиях с золотого востока. Солнце снова встало над миром. Дракон поднял голову над тихими водами, и Андромеде пришел конец. Она погибала из-за собственной глупости и слабости. Вот она, смотрите! Свадебные колокола издевательски звенели, их отзвуки замерли в полуденном воздухе, а дева-мученица в последний раз осталась одна в своей маленькой комнате, где когда-то проходила ее счастливая и свободная юность. Все было кончено. Вокруг источали болезненный аромат цветы, предательством благоухало белое свадебное платье. Все было кончено. О, пусть бы и жизнь была кончена — лишь бы еще хоть раз могли слиться в поцелуе их губы… а там можно и умереть. Дверь распахнулась — и Флоренс встала рядом с ней, бледная, торжествующая, взволнованная. — Должна поздравить тебя, моя дорогая Ева! Ты превосходно смотрелась на церемонии, только вот бледна была, словно статуя. — Флоренс, зачем ты издеваешься надо мной? — Я издеваюсь?! Я пришла пожелать тебе счастья в качестве супруги мистера Плоудена. Надеюсь, ты действительно будешь счастлива. — Счастлива? Я никогда не буду счастлива. Я его ненавижу! — Ты его ненавидишь — но ты вышла за него замуж. Должно быть, это какая-то ошибка. — Нет здесь ошибки. О Эрнест, дорогой мой… Флоренс улыбнулась. — Если твой дорогой — Эрнест, почему же ты не вышла за него? — Как я могла за него выйти, если ты меня вынудила выйти за Плоудена? — Вынудила? Свободную совершеннолетнюю женщину нельзя вынудить, Ева, дорогая. Ты вышла за мистера Плоудена по доброй воле. Возможно, ты могла бы выйти за Эрнеста Кершо — во многих отношениях это была бы куда более подходящая партия, чем мистер Плоуден, — но ты сделала свой выбор. — Флоренс, что ты имеешь в виду? Ты же всегда говорила, что это невозможно. Это… какая-то жестокая шутка… заговор? — Невозможно! Ха! Нет ничего невозможного для того, у кого есть хоть немного мужества. Да-да, Ева! — и Флоренс с яростью посмотрела на сестру. — Это был именно заговор, ты должна об этом знать, бедная слабая дура! Я любила Эрнеста Кершо, а ты украла его у меня, хотя и обещала оставить его в покое — вот я и отомстила тебе. Я презираю тебя, знаешь ли! Ты — презренное создание, и все же он выбрал тебя, а не меня. Что ж, он получил свою награду. Ты бросила его в беде, ты предала и свою любовь, и его. Ты пала очень низко, Ева, а теперь упадешь еще ниже. Я хорошо тебя знаю. Ты будешь опускаться все ниже, пока не перестанешь даже осознавать всю степень своего падения и унижения. Как ты полагаешь, что теперь думает о тебе Эрнест? Но мистер Плоуден зовет тебя. Пойдем, тебе пора ехать. Ева в ужасе выслушала Флоренс, а потом сползла по стене на пол, отчаянно рыдая.Глава 31
ГОРОД ОТДОХНОВЕНИЯ СТАРОГО ГАНСА
Мистер Эльстон, Эрнест и Джереми отлично поохотились на слонов, убив девятнадцать взрослых самцов. Именно во время этой экспедиции произошел случай, который еще теснее связал Эльстона и Эрнеста. Юный Роберт, повсюду следовавший за мистером Эльстоном, был объектом самой нежной заботы со стороны его отца. Эльстон верил в мальчика, как мало во что в этом мире — ибо в глубине души мистер Эльстон был циником-меланхоликом — и в определенной степени мальчик вполне оправдывал его надежды. Он был легок на подъем, умен, мужествен — вы найдете добрую дюжину таких мальчиков в любой английской школе; впрочем, его знание жизни и людей было не в пример богаче, чем у его английских сверстников, как это обычно и бывает с детьми колонистов. В двенадцать лет Роджер Эльстон знал и умел гораздо больше, чем дети его возраста. Насчет образования у мистера Эльстона были довольно странные идеи. «Лучшее образование для мальчишки, — говорил он, — находиться рядом с взрослыми джентльменами. Если вы пошлете его в школу, он не научится ничему, кроме озорства; если вы позволите ему жить среди мужчин — он научится быть мужчиной». Однако независимо от того, чему Роджер успел научиться у взрослых мужчин, о слонах он знал все еще не очень много — и ему предстояло приобрести важный опыт в этом вопросе. Однажды — они тогда только-только прибыли в те места, где обитали слоны, — экспедиция напала на свежий след самца-одиночки. Хотя слон и крупное животное, выслеживать его довольно трудно, потому что он почти никогда не устает, — это и выяснила, довольно быстро, группа наших охотников. Они преследовали бодрого слона несколько часов, однако никак не могли настичь его, хотя свежие кучи помета говорили, что животное опережает их не более чем на милю. Наконец, солнце стало клониться к закату, охотники устали и решили сделать привал, разбив лагерь. Немного отдохнув, Эрнест и Роджер пошли побродить вокруг лагеря и попробовать подстрелить на ужин немного дичи. У Роджера был винчестер, у Эрнеста — тяжелая двустволка. Не успели они покинуть лагерь, как из вельда примчался запыхавшийся готтентот Джереми, Аасфогель, сообщивший, что он видел слона — огромного самца с белым пятном на хоботе. Слон, по словам готтентота, пасся в зарослях мимозы в четверти мили от лагеря. Мистер Эльстон и Джереми мигом вскочили на ноги, усталости как не бывало. Они подхватили свои тяжелые ружья и последовали за Аасфогелем. Тем временем Эрнест и Роджер неторопливо шли как раз вдоль тех самых зарослей мимозы. На их глазах в кусты нырнула крупная цесарка. — Отлично! — воскликнул Эрнест. — Жареная цесарка — первоклассное блюдо. Роджер, полезай в кусты и гони на меня всю стаю, а я встану здесь и представлю, что это фазаны. Мальчик так и сделал. Однако для того, чтобы поближе подобраться к стае, не спугнув птиц раньше времени — а цесарки чертовски хороши в беге, — он сделал небольшой крюк, осторожно зайдя в самые густые заросли. Здесь его внимание привлекло странное поведение одной мимозы, весьма ветвистой и крепкой на вид. Ее развесистая крона энергично тряслась и шевелилась — а потом взмыла в воздух, и изумленный Роджер увидел ее корни. Такое представление в духе «Алисы в Стране Чудес» не могло не привлечь юный пытливый ум. Роджер скользнул в заросли, намереваясь разглядеть странную мимозу вблизи. Вот что он увидел! На маленькой поляне примерно в десяти шагах от него стоял, хлопая ушами, огромный слон с длинными белыми бивнями. Он был размером с дом, морщинистый и на вид холодный, как огурец. Глядя на эту бестию, никто бы не подумал, что она недавно пробежала двадцать миль под палящим африканским солнцем. Сейчас слон подкреплял силы, с легкостью выдергивая деревья мимозы, словно это была редиска, и поедая сладкие волокнистые корни. При виде слона Роджера охватил охотничий азарт. Ему захотелось самому убить этого огромного зверя, раз в сто превосходящего его размерами и с легкостью выдергивавшего из земли большие деревья. Роджер был смелым мальчиком, однако в своем спортивном рвении он совершенно забыл, что винчестер — не то оружие, с которым можно выходить на слона. Не тратя времени на раздумья, он вскинул свою маленькую винтовку, прицелился в голову гиганта и выстрелил. Он попал, это было совершенно очевидно, ибо в следующий миг воздух прорезал самый потрясающий рев ярости, который мальчику доводилось слышать. Для Роджера это было слишком, он повернулся и бросился наутек. Вероятно, слона было не так легко убить. К счастью для Роджера, слон не сразу увидел крошечного врага, и потому мальчик выиграл несколько секунд. Однако вскоре животное разглядело его в кустах и кинулось за ним, задрав хвост и пронзительно трубя. Услышав выстрел и рев, Эрнест, который стоял на открытом пространстве в ожидании цесарок, бросился к кустам, в которых несколько минут назад скрылся Роджер, и буквально столкнулся с мальчиком. В двадцати шагах позади Роджера сквозь кусты ломился разъяренный слон. Тогда Эрнест совершил воистину смелый поступок. — В кусты, Роджер! — закричал он. Мальчик быстро нырнул в кустарник; в этот же момент из зарослей показался слон. Эрнест стоял прямо перед ним — но Эрнест не был его обидчиком, и слон повернулся в поисках мальчишки. Тем временем Эрнест вскинул винтовку и выстрелил прямо в голову слону, довольно сильно ранив его, но не убив. Честно говоря, это было почти верное самоубийство, но Эрнест в ту минуту думал только о спасении Роджера. Слон снова заревел, оставил в покое мальчика и направился к Эрнесту; тот снова выстрелил в тщетной надежде ослепить животное. Роджер к тому времени был уже в сорока ярдах от них. Увидев, что Эрнест вот-вот будет растоптан, он в отчаянии поднял свой винчестер и тоже выстрелил. Вероятно, какой-то добросердечный ангел направил эту маленькую пулю, потому что она попала в колено слону и повредила сухожилие, отчего громадное животное споткнулось и рухнуло на землю. Эрнест едва успел отскочить, когда слон упал прямо перед ним; на самом деле его зацепило концом бивня, но в горячке Эрнест этого даже не заметил, хотя потом ушиб долго болел. Однако через мгновение слон уже снова поднялся и помчался вперед еще быстрее; таковы уж слоны. Люди зачастую даже не представляют, какую скорость способны развивать эти животные, придя в ярость, и насколько они настойчивы и мстительны. Не будь у него ранена нога и не разделяй их с Эрнестом двадцать ярдов, молодой человек был бы растоптан в кровавую кашу в течение десяти секунд. Тем временем в ста пятидесяти ярдах от них появились мистер Эльстон и Джереми, спешившие на помощь; бивни слона со свистом прочертили воздух в шести дюймах от Эрнеста, едва не разорвав ему бриджи. Дальше в дело вступила винтовка Джереми, которую он, к счастью, держал наготове. — Стреляй в плечо, ближе к уху! — крикнул мистер Эльстон, подзывая кафра, который нес его винтовку. Вероятность того, что Джереми сможет остановить слона — они находились в шестидесяти ярдах от животного — была ничтожно мала. Секундная пауза — и страшные бивни скользнули по одежде Эрнеста, к счастью, не зацепив его, однако это прикосновение заставило его содрогнуться… Бум! Бах! Раздался громкий выстрел — и слон упал на землю мертвым. Джереми не знал промаха: тяжелая пуля вошла точно в гигантское сердце, отдача винтовки ударила Джереми в плечо, заставив пошатнуться. Джереми Джонс был из тех мужчин, которые не только редко промахиваются, но еще и оказываются в нужное время в нужном месте. Обессиленный Эрнест опустился на землю, мистер Эльстон и Джереми бросились к нему. — Ты едва не погиб! — воскликнул мистер Эльстон. Эрнест лишь слабо кивнул, говорить он не мог. — О Господи! Где Роджер?! — не видя сына и страшно бледнея, выдохнул Эльстон. Однако в этот момент юный джентльмен показался из кустов; при виде мертвого слона он с восторженными воплями бросился к нему и стал показывать, куда попали его пули. Тем временем мистер Эльстон с замиранием сердца выслушал сбивчивый рассказ Эрнеста. — Ты, юный негодяй! — сказал он, поворачиваясь к сыну. — Не трогай бивень! Ты хоть понимаешь, что если бы не мистер Кершо, который пошел на верную гибель, чтобы спасти тебя от твоей же глупости, ты был бы уже мертв, как этот слон, и вдобавок сплющен в лепешку! На колени, сэр, и возблагодарите Провидение и мистера Кершо за то, что ваше бестолковое юное тело не получило никаких увечий! Роджер без всяких возражений рухнул на колени перед Эрнестом. — Ничего, Роджер! — улыбнулся Эрнест, уже отдышавшись. — Зато твой выстрел в колено бестии был великолепен. Ты бы не смог добиться лучшего результата, даже гоняясь за слонами неделю напролет. На этом все успокоились, однако чуть позже мистер Эльстон подошел к Эрнесту и со слезами на глазах благодарил его за спасение сына. Это был их первый убитый слон — и самый крупный. В холке его рост составил десять футов одиннадцать дюймов, а бивни, когда их обработали и высушили, весили около шестидесяти фунтов каждый. Они оставались в краю слонов почти четыре месяца, но с приближением сезона лихорадки покинули ее — впрочем, с огромным количеством самых разнообразных трофеев. Это была крайне успешная охота — слоновая кость, которую они добыли, с избытком покрыла все расходы на экспедицию, принеся им немалую прибыль. На обратном пути в Преторию Эрнест неожиданно свел знакомство с весьма любопытным персонажем. Когда они достигли границ Трансвааля, Эрнест купил у бура лошадь, чтобы по дороге охотиться на антилоп, которые во множестве паслись по всему Высокому вельду. Без лошадей нечего было и думать угнаться за этими быстроногими созданиями, а там, откуда они возвращались, купить лошадей было негде и не у кого. Однажды днем охотники неторопливо ехали по равнине, когда две крупные антилопы пересекли им путь буквально в двухстах ярдах от передней пары волов. Погонщик остановил упряжку, чтобы дать возможность Эрнесту, сидевшему на крыше фургона, как следует прицелиться. Эрнест выстрелил во вторую антилопу. Он хорошо целился, но не учел того, что антилопа бежит, а не стоит, и в результате пуля попала не в бок животному, а в бедро, и антилопа, даже охромев, продолжила свой бег. — Проклятье! — расстроился Эрнест, увидев, что он наделал. — Я не могу оставить несчастное животное мучиться. Давайте лошадь — я поскачу за ним и прикончу его. Лошадь, шедшая за фургоном, была уже под седлом, и Эрнест сказал друзьям, чтобы они не останавливались ради него — он догонит их через милю или две. Затем, вскочив на лошадь, он отправился за раненой антилопой, которую было все еще хорошо видно: она стояла на трех ногах на вершине небольшого каменистого гребня, четко выделяясь на фоне неба, примерно в тысяче ярдов от фургона. Однако если какая антилопа не имела никакого желания быть милосердно приконченной — так это именно эта. Скорость, с которой африканские антилопы — если они не слишком крупные — могут бежать даже на трех ногах, совершенно поразительна, и Эрнесту пришлось проехать несколько миль по равнине, прежде чем он смог хоть немного приблизиться к бодро галопирующему животному. Однако у него была хорошая лошадь, и вскоре он сократил расстояние до пятидесяти ярдов, а потом они уже неслись по равнине почти бок о бок, и задачей Эрнеста было лишь хорошо прицелиться и выстрелить. Эта скачка продолжалась еще пару миль. Каждый раз, когда Эрнест почти настигал антилопу, та уворачивалась, петляя между норами муравьедов и разбросанными по равнине валунами. Наконец они приблизились к почти пересохшему озеру шириной примерно в полмили, заполненному водоплавающими птицами всех видов и пород, которые с громкими криками взмыли в воздух при их появлении. Здесь Эрнест, наконец, смог поравняться со своей жертвой и вскинул винтовку правой рукой, стараясь прицелиться поточнее. Всякий, кто делал это на полном скаку, знает, как это тяжело; пока Эрнест пытался поудобнее перехватить винтовку, антилопа неожиданно заложила небольшой крюк и смело бросилась на своего преследователя. Не будь лошадь Эрнеста привычна к таким вещам, не миновать бы ему страшного удара острыми изогнутыми рогами; однако Эрнест был уже достаточно опытным охотником и умел правильно оценить ситуацию. Поворачивать было некогда — слишком велика была скорость, — но Эрнесту все же удалось уклониться, в результате чего антилопа ударила лбом, не успев использовать рога и вспороть лошади брюхо. Эрнест не терял времени и выстрелил в упор, убив антилопу на месте. Затем он спешился, разделал тушу и отсек лучшие куски мяса своим охотничьим ножом. Убрав мясо в седельную сумку, он снова сел на лошадь, изрядно вымотанную погоней, и отправился на поиски фургонов. Однако найти фургоны в Высоком вельде, если вы не потрудились запомнить ориентиры, почти так же трудно, как найти дорогу в океане, не имея компаса. Для путешественников здесь нет ни деревьев, ни холмов — ничего, кроме пустынной равнины, поросшей густой травой и напоминающей окаменевшее море. Эрнест проехал три или четыре мили, думая, что возвращается по своему следу, и, наконец, к большой своей радости, выехал на тропу. На ней виднелись следы, но ему показалось, что они выглядят не совсем свежими. Тем не менее, за отсутствием лучшего, он поехал по этой тропе и ехал приблизительно пять миль. Здесь он окончательно убедился, что фургонов в окрестностях нет и в помине. Он ошибся с направлением — и нужно было возвращаться. Итак, Эрнест развернул усталую лошадь и отправился обратно к тому месту, где он выехал на эту тропу. Фургоны могли и отстать — в таком случае они поджидали его где-то сзади. Он ехал милю, две, три — никаких фургонов. Слева от дороги было небольшое возвышение, Эрнест направил к нему лошадь и вскоре смог осмотреть местность. О радость! Вдалеке, на расстоянии пяти или шести миль виднелась полотняная крыша фургона. Эрнест подстегнул лошадь и поскакал через равнину. Один раз лошадь увязла в трясине небольшого болота — ему пришлось спешиться и вытягивать ее за поводья. Наконец белое пятно приблизилось… и оказалось, что это большой белый камень, лежащий на россыпи обычных серых валунов. К этому времени Эрнест окончательно заблудился. К тому же, словно в издевку, испортилась погода — налетел сильный ветер, хлынул дождь, и Эрнест моментально промок до нитки. Дождь закончился быстро, но ветер не унимался. Он был холодным и пронизывающим, особенно по сравнению с жарой, к которой Эрнест привык за месяцы их странствий. Он уже бесцельно ехал вперед, но вдруг его лошадь оступилась, попав ногой в яму, полную воды, и упала, выбросив его из седла. Эрнест ушиб голову и плечо и на несколько минут потерял сознание, однако вскоре пришел в себя — и они с уставшей до предела лошадью вновь двинулись вперед. К счастью, обошлось без переломов — иначе он наверняка погиб бы в этом безлюдном месте. Солнце почти закатилось. Эрнест страдал от голода, поскольку за весь день успел съесть только сухой бисквит. У него не было с собой даже табака. Когда солнце скрылось за горизонтом, он ехал по узкой тропинке, которая, вероятно, когда-то была дорогой. Он не останавливался, пока совсем не стемнело; тогда Эрнест спешился, расседлал лошадь и улегся прямо на голую землю — недавний степной пожар сжег всю траву. Седло он положил под голову, а поводья намотал на руку, чтобы лошадь не ушла от него в поисках пищи. Ветер по-прежнему был холодным и пронизывающим. Завыли гиены. Эрнест отрезал полоску сырого мяса и стал жевать, но его замутило, и он поспешно выплюнул этот неаппетитный ужин. Дрожь сотрясала его тело; постепенно юноша погрузился в лихорадочное забытье, от которого мог и не очнуться. Он не знал, как долго он лежал — казалось, всего несколько минут, но на самом деле прошло не меньше часа. Потом он резко пришел в себя, почувствовав, что кто-то настойчиво трясет его за плечо. — Что… что такое? — вяло спросил он у темноты. — Што такойт? Ach Himmel, о небеса! Именно это я и хочу узнайт. Што ты здесь делайт? Ты скоро умирайт! Темнота говорила с отчетливым немецким акцентом, а Эрнест хорошо знал этот язык. — Я заблудился, — сказал он по-немецки. — Не смог отыскать свои фургоны. — Ах! Ты говорийт на язык Фатерлянд? — все еще по-английски допытывался его собеседник. — Я хочу обняйт тебя! И он немедленно это сделал. Эрнест вздохнул. Довольно странно, когда посреди пустыни в полной темноте вас обнимает незнакомый немец, а вы при этом едва живы. — Ты голодайт? Эрнест признал, что голоден. — И жаждайт? Эрнест согласился и с этим. — И у тебя нет курийт? — Нет, ничего нет. — Гут. Мой маленький фрау Вильгельмина найдет все это для тебя. «Какого дьявола делает этот немец со своей женой посреди вельда!» — подумал Эрнест. К этому времени на небе высыпали звезды, и стало немного светлее. — Вставайт, пойдем, ты будешь увидайт мой маленький фрау. О лошад! Мы его привязайт к моя жена. Она есть такой красивый, только ноги немного трясут. О да, ты ее полюбийт. — Клянусь, так и будет! — воскликнул Эрнест, а затем, вспомнив, на что обрекла его женщина, с горьким смешком добавил: — Веди меня, Макдуф! — Макдуфер? Почему Макдуфер? Мое имя не есть Макдуфер, мое имя есть Ганс, весь большой Южный Африк знайт меня очень карашо, и весь Южный Африк любийт моя жена! — В самом деле? — спросил потрясенный Эрнест. Как бы плохо он себя ни чувствовал, странный ночной гость и вся ситуация заинтересовали его. По крайней мере, леди, которую любила вся Южная Африка и к которой следовало привязать лошадь Эрнеста, просто не могла быть неинтересной! Поднявшись на ноги, Эрнест зашагал вместе со своим новым другом в ночь. Теперь он мог разглядеть его: это был крепкий высокий толстяк с совершенно седыми волосами, по-видимому, лет шестидесяти. Вскоре они пришли в лагерь немца, где Эрнест увидел нечто, больше всего напоминающее катафалк, находившийся в ведении церкви Кестервика, — только у него было два колеса вместо четырех и никаких рессор. — Вот мой красивый маленький жена! — сообщил немец. — Скоро я показайт тебе, как ужасно трясут ее ноги. О, ужасно! — А… леди — внутри? — ошеломленно спросил Эрнест. Ему на секунду подумалось, что его новый друг возит в повозке мертвое тело… — Внутри? О, не есть внутри! Весь снаружи! Она повсюду! — с этими словами немец подошел к катафалку, нежно прижался к нему щекой и с глубочайшей ласковостью проворковал: — Ах, майн либер, ах, Вильгельмина, ты уставайт, мой дорогой? И как твой бедный нога? Тут он ухватил катафалк за расшатанное колесо и потряс его. Не будь Эрнест так вымотан и голоден, он бы не удержался от смеха — однако сил у него было немного, а, кроме того, он боялся обидеть немца. Поэтому он просто сочувственно пробормотал «О да, бедная нога!», а затем осторожно намекнул на ужин. — Конечно! Посмотрим, что нам давайт Вильгельмина! — С этими словами немец кинулся к задней части повозки, которая, в полном соответствии родству с катафалком, открывалась при помощи двухстворчатой дверцы. Сначала немец вытащил из повозки два одеяла, одно из которых сразу отдал Эрнесту, чтобы тот в него завернулся. Затем он достал внушительный кусок билтонга — вяленого мяса — и несколько галет, а также бутылку персикового бренди. Они вдвоем воздали должное этим яствам, и хотя еда не была особенно аппетитной, Эрнесту казалось, что ничего вкуснее он в своей жизни не ел. Ужин длился недолго, а потом Ганс достал превосходный бурский табачок — и за трубкой Эрнест рассказал ему, как он заблудился. Ганс спросил его, по какой дороге они ехали. — По Рустенбургской. — Тогда, мой друг, ты не более чем в тысяче шагов от нее. Мы с Вильгельминой ехали по ней целый день, а потом Вильгельмина решила свернуть. Я подчинился, что же делать — и вот я здесь, и понятно — почему. Она просто знала, что ты лежишь здесь и умираешь от холода и голода — вот и свернула, чтобы спасти тебе жизнь. Ах, что за прекрасная женщина! Эрнест испытал огромное облегчение, узнав, что дорога совсем рядом. Теперь ему не составит труда догнать фургоны. Вероятно, он инстинктивно ехал в правильном направлении. Теперь, когда тревога улеглась, он был готов удовлетворить свое любопытство относительно своего нового друга и спасителя. Вскоре Эрнест понял, что перед ним добродушный и безвредный сумасшедший, чье единственное увлечение заключалось в том, чтобы бродить по Южной Африке, везя за собой свою тележку. У него не было дома, не было постоянного лагеря. В начале года он мог находиться на берегах Замбези, а в конце — возле Кейптауна или где-то еще. Туземцы считали его юродивым, то есть — любимцем духов и относились к нему с неизменным уважением, жил он тем, что ему подавали, или тем, что он смог добыть, охотясь по дороге. Этот образ жизни он вел уже много лет, и хотя пережил много разных приключений — никто и никогда ему серьезно не навредил. — Понимаете, мой друг, — говорил этот добрый простак, отвечая на вопросы Эрнеста, — я оставил мою жену там, в Скаттердорпе, в старой колонии. Дома там стоят далеко друг от друга, а посередине — церковь. Там живет хороший народ, но они очень быстро умирают — даже устали хоронить друг друга. И вот они приходят ко мне и говорят: Ганс, ты же хороший плотник, ты должен сделать нам красивую черную тележку, чтобы в ней нас отвозили на кладбище. И вот я работаю, работаю, работаю, делаю эту тележку, пока не становлюсь совсем — как это у вас говорят? — глюпый! И вот однажды ночью моя тележка готова, и тут мне снится, что мы с ней отправились в путешествие по большой, широкой дороге, через Высокий вельд. И я знаю, что она моя жена, и что мы должны всегда путешествовать вместе, пока не доберемся до Города Отдохновения. И вот вдали, очень-очень далеко, на вершине высокой горы Дракенсберг, я вижу высокое раскидистое дерево. Корни его растут в облаках, а само оно покрыто чудесным белым снегом, который сверкает на солнце, точно алмазы в Кимберли. И я точно знаю, что под ним находятся ворота в настоящий Город Отдохновения, Рустенбург, и мы с моей женой должны продолжать наш путь, покуда не найдем его. — Откуда вы приехали в Африку? — Из Утрехта, с востока, где каждое утро красное солнце встает над Зулулендом, Землей Кровопролития. О, там будет литься много крови, я знаю. Вильгельмина сказала мне об этом, когда мы туда пришли, только я не помню, когда это случится. Но вы устали, мой друг! Хорошо! Вы будете спать с Вильгельминой, а я лягу под ней. Нет-нет, не отказывайтесь, иначе она — как это вы говорите? — обидится! Эрнест забрался в тележку и сразу же заснул: ему снилось, что его похоронили заживо. Посреди ночи тележка сильно дернулась — это лошадь Эрнеста, привязанная к Вильгельмине, отвязалась и толкнула тележку. Таким образом, Эрнест воскрес и был очень этому рад. На рассвете он встал, тепло попрощался с новым другом и вскоре выехал на дорогу, а еще немного погодя присоединился к своим друзьям.Глава 32
ЭРНЕСТ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА СЛУЖБУ
Молодой человек пылкого и стремительного ума, делающего его очаровательным и неотразимым, в отличие от меланхоличного, трезвого, осторожного и расчетливого (что, разумеется, куда полезнее) молодого человека, которого весьма уважают и считают «утешением» родственники и завидным женихом — все остальные, имеет два неоспоримых преимущества, которые защищают его от цепных псов, преследующих всех пылких и искренних людей. Эти преимущества — религия и вера в женщину. В первом он не сомневается вообще никогда, второе — если дело касается класса, к которому он принадлежит, — является для него самым лучшим, и, возможно, в его жизни есть всего лишь одна звезда, что сияет только для него и в его глазах прекраснее всех остальных. Но однажды — например, если он младший сын — самая прекрасная и лучшая из звезд бросает его и выходит замуж за старшего брата, или за богатого паралитика, обладателя невыносимого характера, владеющего монополией на хлопкопрядильни, — и тогда в этом блистательном, стремительном, остром уме, в этой пылкой натуре происходят разительные перемены. Не будучи уравновешенной натурой, он немедленно впадает в иную крайность и всем своим израненным сердцем верит, что таковы все женщины, что все они предательницы, готовые выйти за старшего брата или богатого паралитика… Возможно, он прав — или нет. Для выяснения истины требуется время и опыт, а их нет — и потому молодые женщины, намеревающиеся связать свою судьбу с таким молодым человеком, утрачивают свой шанс. Верно это или неверно — для страдальца исход этой истории один: его вера в женщин поколеблена, если не уничтожена вовсе. На этом проблема не исчерпывается, потому что к вопросу отношений между полами примешивается религия, и две этих вещи таинственным образом переплетаются в душе молодого человека. Молодой человек из более благородного класса в любви, как правило, почти религиозен. Любовь приподнимает его над земными неурядицами и на сияющих крыльях несет к свету, в самый рай… Когда человек разуверился — происходит почти то же самое, но с обратным знаком. Если религиозная вера выхолащивается, человек становится недоверчив к «сладчайшим и лучшим»; он превращается в циника и больше не верит в добро. Атеизм и женоненавистничество разделяет всего лишь шаг, вернее, атеизм — и неверие в человечество в целом и в женщин в частности. Потеряв веру в женщину, человек утрачивает и веру в бога… Разумеется, выход из этой ловушки существует. Если страдающий разум принадлежит натуре возвышенной и благородной, то со временем он сможет постичь, что этот мир не совершенен, что засушливые места в нем чередуются с редкими оазисами счастья, но в целом он полон горестей и тревог. И поняв это, возвышенный и благородный человек поймет, что вина отчасти лежит и на нем — ибо нельзя доверять безоговорочно, верить безоглядно, создавать себе идолов из тех, кто немногим отличается от него самого, а то и намного хуже и ниже, чем он сам. Наконец, он может прийти к выводу, что даже если «сладчайшие и лучшие» — это химера, то в мире все-таки есть женщины, которых можно назвать просто «милыми и хорошими». Если же снова вернуться к обратной стороне нашей картины мироздания — может случиться так, что молодой джентльмен постепенно придет к мысли, что Провидение и вера — не одно и то же. Провидение в большей мере относится к религии, а религию мы либо приобретаем по наследству, либо нам ее навязывают. Вера, истинная вера — это то, за что нужно сражаться, и для многих просвещенных умов это означает — пробиться на свет из сумрака неверия. Истинно верующий — это тот, кто попирает неверие, а не тот, кто бежит от него. Когда мы оставили позади беспечальную пору детства, когда мы отдали дань Аполлиону, поняли его сущность, дали ему отпор и разгромили его в битве — тогда и только тогда мы можем с чистым сердцем сказать: «Господи, я верую!» — и нам уже не будет нужды добавлять безрадостное: «Помоги мне отринуть мое неверие». Такова, в самых общих чертах, человеческая натура. Эти принципы не могут быть безоговорочно истинны — вероятно, абсолютной истины вообще не существует, насколько мы в силах ее понять. Однако эти принципы в то или иной степени применимы к большинству людей. Удивительно, но к Эрнесту Кершо они относились в первую очередь. Предательство Евы Чезвик разрушило его веру в Женщину, а вскоре и Религия лежала в пыли рядом с ней. Его жизнь в течение нескольких лет после того печального события была ярким тому доказательством. Эрнест пошел «дорогами Зла», отринув все лучшее, что в нем было. Он играл на скачках, заводил короткие романы и без сожаления обрывал их. Иногда — как ни совестно это упоминать — он много пил, не потому, что любил вино, а чтобы забыться. Короче говоря, Эрнест предал свою душу всем мыслимым порокам и удовольствиям, какие только смог обнаружить — а обнаружилось их немало. Он много путешествовал по всей Южной Африке и стал довольно известной личностью — все о нем слышали, все его любили. То он жил в Кимберли, то в Кинг Уильямс Таун, то в Дурбане. В каждом из этих городов он держал скаковых лошадей; в каждом из этих городов было не одно женское личико, при виде его заливавшееся счастливым румянцем. Однако лицо самого Эрнеста от этого светлее не становилось. Напротив, взгляд его теперь всегда был грустен — и это странно смотрелось на таком молодом и красивом лице. Он не мог ничего забыть. Несколько дней, недель, даже месяцев он мог душить в себе воспоминания — но потом они возвращались с новой силой. Ева, Белая Королева, всегда присутствовала в его снах, и даже если, бодрствуя, он проклинал память о ней, ночь выводила его на чистую воду, и слова, которые он бормотал в беспокойном сне, были словами истинной и вечной любви. Он больше не молился, он больше не почитал женщин — но счастливее он не стал, даже освободив душу от этого бремени. Он презирал себя. Иногда он пробовал оценить свое состояние — и замечал, что больше не прогрессирует, но отступает назад… Он стал грубее, тонкость чувств его притупилась — он больше не был тем Эрнестом, который написал то вдохновенное письмо своей невесте накануне беды. Он медленно, но уверенно шел ко дну. Он знал это — но не пытался спасти себя. Зачем? У него больше не было цели в жизни. Однако временами его охватывала страшная усталость от жизни, и он погружался в глубокую депрессию. Мы сказали, что он перестал молиться — это не совсем верно. Один или два раза он молился неистово — прося дать ему умереть. Он сделал даже больше: он стал искать смерти — и, как это обычно и бывает в таких случаях, смерть упорно избегала его. О том, чтобы покончить с собой, он не думал — эта мысль все же смущала его, иначе он, без сомнений, сделал бы это. В эти темные дни он ненавидел жизнь, а когда депрессия отступала — ненавидел радости и переживания, которые могли бы его жизнь украсить. Тем не менее рассудок его был ясен, и временами он сам ужасался происходящему с ним. В те годы Эрнест, казалось, находился под каким-то заклятием. В Трансваале обнаружилась чистокровная лошадь, уже убившая двух человек, — онкупил ее и объездил, и она покорилась ему. В Секокени вспыхнул мятеж, и Добровольческому корпусу было приказано штурмовать главную твердыню восставших. Эрнест вместе с Джереми выехал из Претории, чтобы «поучаствовать в веселье», добрался до мятежного форта за день до атаки и присоединился к штурмовому отряду. На рассвете следующего дня отряд яростно обрушился на форт и взял его, понеся огромные потери. Шляпу Джереми сбила пуля, другая ранила его в руку — Эрнест, как обычно, вышел из боя без единой царапины, хотя прямо рядом с ним убило человека. Потом он настоял, чтобы отправиться в Делагоа Бей в самый разгар лихорадки; от Джереми он избавился, убедив его отправиться в Новую Шотландию, чтобы осмотреть купленный ими участок земли. Сам Эрнест выехал в Делагоа Бей с двенадцатью носильщиками-кафрами и верным Мазуку. Шестью неделями позже вернулись он, Мазуку и трое кафров — остальные умерли от лихорадки. В другой раз Эльстон, Джереми и Эрнест отправились с миссией к одному враждебному вождю кафров, чья крепость в самом сердце гор была почти неприступна. «Индаба» (переговоры) заняли целый день, их нарочно затянули, чтобы кафры устроили засаду в узком горном ущелье и перебили всех людей «белого вождя». Когда трое смельчаков покинули крепость, луна уже поднялась высоко и во всем своем великолепии заливала загадочным светом перевал, к которому они подъезжали, заставляя сверкать обычные валуны и деревья. Печальная красота этого пейзажа глубоко тронула сердце Эрнеста, и, увидев тропинку, отходящую от главной тропы и ведущую наверх, он буквально настоял, чтобы они поднялись по ней — с горы открывался еще более чудесный вид. Мистер Эльстон ворчал что-то о «глупостях», но подчинился. Между тем в полумиле от них убийцы нервно поигрывали своими ассегаями и недоумевали, почему они не слышат шагов лошадей белых людей. Тем временем «белые люди» поднялись на хребет и прошли по нему, обойдя засаду справа в трех четвертях миль. Любовь Эрнеста к лунному свету спасла всех троих от неминуемой и, скорее всего, мучительной смерти. Вскоре после того случая Эрнест и Джереми сидели на веранде дома в Претории — того самого, из которого они уехали охотиться на слонов и который теперь был их собственностью. Эрнест только что вернулся из своего сада, где поливал огуречную рассаду — она была очень хилой, но он пытался спасти ее. Садом он занимался всегда, даже если останавливался в доме всего на месяц. Джереми, как обычно, наблюдал за битвой красных и черных муравьев, которые после стольких лет сражений все еще никак не могли уладить свои споры. — Будь проклят этот огурец! Не хочет расти! — сердито сказал Эрнест. — Знаешь, что я скажу, Джереми? Мне надоело это место. Я голосую за отъезд. — Ради всего святого, Эрнест! — фыркнул Джереми и зевнул. — Давай хоть немного передохнем. Надоело трястись в этих фургонах. — Я имею в виду — давай уедем из Южной Африки? — О! — Джереми выпрямился в шезлонге. — Что это ты придумал? И куда же ты собрался, в Англию? — В Англию? Нет уж, хватит с меня Англии. Я думаю о Южной Америке. Но ты, возможно, хочешь вернуться домой? Было бы нечестно силой таскать тебя по всему миру. — Уверяю тебя, мне это по душе. Я не хочу возвращаться в контору мистера Кардуса. Ради бога, даже не предлагай мне это — я в ужасе от одной мысли. — Да, но тебе придется что-то делать со своей жизнью. Мне-то все равно, я теперь несчастный демон-беспризорник, которому такая жизнь по душе, но ты вовсе не обязан следовать за мной, у тебя свой путь. — Погоди, душа моя! — скупо усмехнулся Джереми. — Я собираюсь прочитать тебе отчет о наших финансовых делах, который я составил вчера вечером. Учитывая, что мы ничего толком не делали все это время, только развлекались, а все наши инвестиции производили из дохода, который обеспечил твой уважаемый дядя, наверняка думающий, что мы все растратили, все не так уж плохо. Джереми достал листок бумаги и зачитал следующее: — Земельная недвижимость в Натале и Трансваале, оценочная стоимость 2500 фунтов стерлингов. Этот дом — 940 фунтов. Фургоны — скажем, 300 фунтов. Скачки… тут я оставил пробел. — Запиши 800 фунтов, — подумав, сказал Эрнест. — Да, и ты же знаешь, я выиграл 500 фунтов — леди Мэри взяла первый приз на скачках в Кейптауне, на прошлой неделе. Джереми кивнул и продолжал: — Скачки и выигрыши — 1300 фунтов. Разное — наличные деньги и всякое такое — 180 фунтов. Итого — 5220 фунтов. Из этого мы фактически вложили около двух с половиной тысяч, остальное — выиграли или накопили. Теперь я спрашиваю тебя, где бы еще нам такое удалось, а? Так что не рассказывай мне о том, что я зря трачу время. — Браво, Джереми! В конце концов, мой дядя оказался прав — ты прирожденный законник, с цифрами ты великолепен. Поздравляю, ты прекрасный управляющий. — Моя система проста, — скромно отвечал Джереми. — Всякий раз, когда у нас появляются деньги, я что-нибудь покупаю, чтобы ты не мог все сразу растратить. Когда у меня набирается достаточно — фургонов, быков, лошадей, чего угодно, — я начинаю продавать их и покупаю немного земли. Эта система не подводит. Нужно просто заниматься этим постоянно — и в конце концов мы разбогатеем. — Действительно, все просто. Ну, пять тысяч фунтов пройдут долгий путь, прежде чем превратятся в ферму в Южной Америке — или куда мы там отправимся, — и я не думаю, что нам стоит продолжать брать деньги у дяди. Несправедливо истощать его ресурсы. Старый Эльстон поедет с нами, я полагаю, и вложит еще пять тысяч. Он недавно сказал мне, что начал уставать от Южной Африки, буров и кафров, что стареет — и не прочь начать что-нибудь новое в другом месте. Я напишу ему сегодня вечером. В какой гостинице он останавливается в Марицбурге? В «Рояль»? Ну вот, а отправимся, я думаю, весной. — Правильно, душа моя. — Но я еще раз повторяю, Джереми — подумай дважды прежде, чем отправиться со мной. Такой выдающийся молодой человек, как ты, старина, не должен тратить свою молодость на пустыни Мексики, ну, или любого другого места. Тебе стоило бы поехать домой и насладиться вниманием красивых женщин — они оценят по достоинству такого большого парня, — а потом выгодно жениться, завести большую семью, стать всеми уважаемым мистером Джонсом… Джер, со мной-то все понятно, я — нечто вроде блуждающей кометы, но я совершенно не вижу причин, по которым ты должен играть роль… эээ… хвоста этой кометы. — Жениться? Нет, вы подумайте — жениться! Нет уж, спасибо, мой мальчик. Как гласит библейская мудрость — если мудрый человек открывает глаза и видит некоторые вещи — он уже больше не станет закрывать глаз. Другими словами, он смотрит — и учится на чужих ошибках. Ева… Эрнест болезненно дернулся при звуке этого имени. — Прошу прощения, — быстро сказал Джереми, заметив это. — Я не хочу затрагивать болезненные темы, но я должен прояснить кое-что насчет себя. Ты же знаешь, меня здорово тряхануло из-за этой леди — но я вовремя остановился. Говорить красиво я не умею, воображения маловато — вот и не стал все это продолжать. Каковы же последствия? Я с этим справился; хорошо сплю по ночам, у меня прекрасный аппетит, и о Е… этой леди не вспоминаю два раза в неделю. С тобой все иначе. Ты тоже влюбился, но твое воображение немедленно помчалось вскачь, рисуя картины безудержной радости, мечтая об истинной любви и полном единении душ — все это было бы прекрасно, если бы женщина тоже в этом поучаствовала, но она не смогла, не стала делить с тобой чувства, и все закончилось пустой болтовней и трагедией. Результаты — налицо. Плохой сон, плохой аппетит, неуемное желание охотиться на буйволов в сезон лихорадки или быть подстреленным какими-нибудь Басуто из засады. Коротко говоря — общая усталость и отвращение к жизни — да-да, не спорь, я же наблюдал за тобой — а это самое нездоровое и неправильное настроение. Дальше — больше: скачки, нежелание даже близко подходить к церкви, стаканчик-два-три шерри на ночь и, что самое тревожное, неумеренное тяготение к дамскому обществу. Будучи разумным существом, я все это заметил и сделал собственные выводы, которые заключаются в следующем: хочешь попасть в ад — доверься женщине. Мораль, которую я для себя вывел и которую постараюсь неукоснительно исполнять — никогда не разговаривай с женщиной, если можно этого избежать, а если уж никак невозможно увернуться — отвечай коротко, «да-да» или «нет-нет», причем «нет-нет» лучше говорить почаще. Вот тогда у тебя будет неплохой шанс сохранить сон и аппетит, а также достичь чего-то в этом мире. Жениться! Ну конечно! Никогда больше не говори мне о женитьбе! — И Джереми энергично передернул могучими плечами, изображая ужас. В продолжение его монолога Эрнест громко хохотал. Джереми хмыкнул, поднялся и выпрямился во весь рост рядом с Эрнестом — так что шесть футов роста последнего стали выглядеть как-то невзрачно. — И вот что я скажу тебе, старик! Никогда больше не говори, чтобы я оставил тебя, если не хочешь меня разозлить, потому что мне эти разговоры не душе. Мы не расставались с двенадцати лет, и что касается меня лично, я намерен и дальше делить свою жизнь с твоей, до конца последней главы — ну, или до тех пор, пока надобность во мне не отпадет начисто. Можешь отправляться в Мексику, на Северный полюс или в Акапулько — да куда угодно, но я пойду вместе с тобой, и хватит об этом говорить! — Спасибо, старый друг! — просто ответил Эрнест. В этот момент их разговор был прерван приходом посыльного-кафра, который принес телеграмму, адресованную Эрнесту. Он вскрыл конверт и прочитал ее, а затем воскликнул: — Ого! Здесь кое-что получше Мексики. Послушай-ка!«Питер Эльстон, Марицбург — Эрнесту Кершо, Претория. Верховный комиссар объявил войну против Кечвайо. Местная кавалерия срочно призывается на службу в Зулуленд. Получил предложение сформировать небольшой корпус около семидесяти человек. Предложение принял. Согласен ли ты быть заместителем командира? Получишь королевский патент. Если да, то начинай набирать рекрутов. Условия — десять шиллингов в день, полное довольствие. Приезжаю в Преторию с первой почтовой каретой, спроси Джонса, согласен ли он на чин старшего сержанта».
— Ура! — вскричал Эрнест, дочитав. — Наконец-то настоящее дело и настоящая служба! Уверен, ты согласишься. — Конечно, — спокойно сказал Джереми. — Только не радуйся раньше времени; если не ошибаюсь, дело-то намечается серьезное.
Глава 33
ГАНС ПРОРОЧИТ БЕДУ
Эрнест и Джереми не теряли времени даром. Они предположили, что набор рекрутов вскоре начнется повсюду — и во все подразделения, так что позаботились о том, чтобы побыстрее набрать в свой корпус лучших. Образцовый рекрут в их глазах выглядел так: англичанин, родившийся в колонии. У этих людей было больше чувства собственного достоинства, независимости характера и находчивости, нежели у приезжих, которые метались между морскими портами и алмазными копями, кроме того, все они были практически готовыми солдатами. Ездили верхом они так же хорошо, как ходили, великолепно стреляли и с раннего детства были приучены путешествовать почти без багажа, быстро передвигаясь на огромные расстояния. Эрнест находил задание не слишком сложным. Мистера Эльстона хорошо знали в Африке; еще будучи молодым человеком, он принимал участие в многочисленных войнах с Басуто, и о тех временах до сих пор рассказывали истории, будоражившие воображение… Его знали как достаточно осторожного человека, не склонного к опрометчивым решениям, не самоуверенного, но обладающего решительным умом и, кроме того, очень много знающего о войне с зулусами и их тактике. Это во многом облегчило Эрнесту набор рекрутов, поскольку первое, что интересует волонтера-колониста — это личность его офицера. Он не станет доверять свою жизнь людям, на которых не может положиться. Он бесстрашно относится к смерти и готов исполнить свой долг — но не собирается отдавать свою жизнь ни за что. Действительно, во многих южноафриканских добровольческих корпусах фундаментальным принципом является выборность командира. Выбирают их всем миром — но уволить со службы его могут уже только власти. Эрнеста тоже хорошо знали в Трансваале и доверяли ему. Мистер Эльстон не мог бы выбрать лучшего лейтенанта. Эрнест был умен, порывист, умел быстро собираться в непростых ситуациях — однако не только эти качества привлекали в нем людей, чье дальнейшее существование, возможно, зависело от его мужества и сообразительности. На самом деле трудно определить это качество словами — но есть люди, которые по природе своей являются прирожденными лидерами, и доверие к ним подчиненные испытывают подсознательно. У Эрнеста был этот великий дар. На первый взгляд, он был обычным молодым человеком, довольно небрежным, ничем особенно не выделяющимся среди сверстников, и стороннему наблюдателю зачастую могло показаться, что мысли его витают где-то далеко; однако старые вояки видели в его темных задумчивых глазах нечто, говорившее им о том, что этот молодой человек, почти мальчик, можно сказать, не подведет в минуту опасности, проявит храбрость или разум там, где потребуется. Назначение Джереми Джонса старшим сержантом также приветствовали — и пост старшего сержанта в войсках заслуженно считался очень важным. Кроме того, люди не забыли о его победе над гигантом-буром — да и сержант с таким могучим телосложением просто обречен был стать гордостью любого подразделения. Все эти обстоятельства делали набор рекрутов легкой задачей, и когда через четыре дня Эльстон вышел из почтовой кареты, уставший после долгой дороги из Наталя, Эрнест и Джереми встретили его сообщением, что телеграмма была получена в срок, рекрутирование начато, и тридцать пять человек уже представили свои кандидатуры на рассмотрение. — Честное слово, молодые люди! — сказал очень довольный Эльстон. — О таких лейтенантах можно только мечтать! Следующие две недели были наполнены хлопотами. Организация добровольческого корпуса — не шутка, что может засвидетельствовать каждый, кто принимал в ней участие. Нужно было получить форму, вооружить всех рекрутов и выполнить еще добрую сотню мелких и крупных задач. Некоторая задержка была связана с лошадями, которых должно было предоставить правительство, но, в конце концов, разрешился и этот вопрос — лошадей пригнали много, все они были хороши, но немного диковаты. В один из таких суматошных дней Эрнест сидел в одной из комнат их дома, которую он отвел под рабочий кабинет и некое подобие офиса, и занимался текущими делами: оформлял зачисление очередного рекрута, договаривался с торговцем насчет партии фланелевых рубашек, расписывал порядок поставок фуража и заполнял бесконечные формы, которые, по требованию правительства, должны были быть переданы в военное ведомство, и решал еще добрую сотню мелких вопросов. Внезапно вошел его ординарец и сообщил, что его хотят видеть двое новобранцев. — Зачем еще? — простонал Эрнест, умиравший от усталости. — У них жалоба, сэр! — Ну, впусти их. Дверь вскоре снова открылась, пропустив в кабинет прелюбопытную парочку. Один из вошедших был крупным мужчиной сурового вида — раньше он служил интендантом на борту одного из кораблей ее величества в Кейптауне, однако как-то раз напился, превысил свои полномочия и предпочел дезертировать, чтобы избежать заслуженного наказания. Второй — суетливый мелкий человечек, лицом напоминавший хорька. Он торговал с зулусами, но тоже много пил и едва не погубил себя окончательно; в корпусе, тем не менее, он считался чрезвычайно ценным приобретением, поскольку досконально знал страну и ту местность, куда им предстояло отправиться. Оба вошедших отдали честь и замерли у порога. — Ну, ребята, в чем дело? — спросил Эрнест, не отрываясь от проклятых форм. — Ни в чем, насколько я знаю, — сообщил маленький человечек. Эрнест вскинул на них сердитый взгляд. — Так, Адам, тогда ты говори, в чем дело! У меня нет времени на ерунду. Суровый Адам подтянул брюки и начал: — Понимаете, сэр, я его сюда за шкирку притащил. — Это правда! — подтвердил человечек, потирая загривок. — Это, стало быть, потому что мы с ним вроде как приятели, сэр, но маленько разошлись во взглядах. Понимаете, сэр, была его очередь готовить для парней, а он вместо этого пришел ко мне и говорит — Адам, ты цветущий прародитель расы всех дураков! Это он меня, значит, сравнил с деревом, что ли? А потом говорит — почему ты не идешь чистить картошку, вместо того, чтобы валяться на койке! — Немного не так, сэр! — суетливо вмешался маленький человечек. — У нашего друга память значительно уступает… кхм… размерам. Я сказал так: дорогой Адам, поскольку я вижу, что тебе совершенно нечем заняться, кроме как сидеть и играть на губной гармошке, не будешь ли ты так добр, чтобы пойти и помочь мне удалить внешние покровы с этого картофеля? Эрнест начал закипать, но сдержал себя и сурово сказал: — Не болтай чепухи, Адам; говори, на что жалуешься — и проваливай. — Ну дык, сэр! — отвечал моряк-великан, почесывая голову. — Ежели сказать прямо, так жалуюсь я на то, что этот человек больно этот… как его… импернально сакрастический, вот! Сэр. — Проваливайте оба! — рявкнул Эрнест. — И не приставайте ко мне с такой ерундой, иначе я вас обоих отправлю под арест и вычту из жалования. Он указал им на дверь, а сам заметил в окне, что по улице галопом пронесся верхом на взмыленной лошади бур. Направлялся он к дому правительства. — Интересно, что там случилось! — пробормотал Эрнест. Через полчаса за окном проскакал еще один всадник, тоже галопом — и тоже к дому правительства. Еще через полчаса пришел, вернее, почти прибежал мистер Эльстон. — Эрнест, послушай, тут такое дело! Уже три разведчика принесли известие о том, что Кечвайо отправил Импи (армию) в тыл Секокени, чтобы сжечь Преторию и вернуться в Зулуленд через Высокий вельд. Они говорят, что Импи теперь отдыхает в Солтпан Буш — это примерно в двадцати милях отсюда — и что город они атакуют ночью или на рассвете. Эти трое, кстати сказать, никак между собой не связаны, но в один голос заявляют, что виделись с вождями Импи, и те велели им передать голландцам, чтобы они не вмешивались, поскольку Зулу сражаются с белой королевой, и буры не пострадают. — Звучит невероятно, — с сомнением сказал Эрнест. — Вы верите им? — Не знаю. Это вполне возможно, и доказательства довольно явные. Да, это возможно. Я знаю, что зулусы способны совершать и более стремительные и длинные броски, чем этот. Губернатор приказал мне галопом скакать в указанное место и сообщить, если я увижу присутствие Импи. — Я еду с вами! — Нет, ты останешься здесь. Я беру с собой Роджера и двух запасных лошадей. Если объявят об атаке, а я все еще не вернусь… или если что-то случится — ты выполнишь свой долг. — Есть, сэр. — Простимся, мне надо ехать. А ты собери людей, чтобы все были наготове. С этими словами мистер Эльстон отбыл на разведку. Десять минут спустя прибыл офицер из штаба — он привез приказ командирам соединения Эльстона собрать своих людей и привести корпус в полную боевую готовность. «Вот красавцы! — подумал Эрнест. — А ведь часть лошадей еще даже не объезжена». В это время приехал Джереми. Он отдал честь и сообщил, что люди построены. — Передай шорникам, пусть всем выдадут седла. Лошади должны быть готовы как можно скорее. Скажи Мазуку, чтобы он приготовил Дьявола (это был любимый вороной жеребец Эрнеста), и веди людей к государственным конюшням. Я буду следом. Джереми снова козырнул — и отбыл без лишних слов. Вероятно, это был самый исполнительный и преданный старший сержант в мире. Двадцать минут спустя длинная колонна людей, вооруженных винтовками, двинулась в сторону правительственных зданий, которые находились примерно в миле от дома Эрнеста и Джереми. На головах солдаты несли седла, так что издали напоминали гигантские грибы. Эрнест — верхом на громадном вороном жеребце, в военной форме, с револьвером на поясе — уже находился среди них. — Итак, бойцы! — громко объявил он, когда люди выстроились в шеренгу перед конюшнями. — Входим быстро, но без давки. Каждый выбирает себе лошадь, надевает узду, выводит и седлает ее. Бегом! Шеренга рассыпалась, и солдаты кинулись в конюшни; каждый хотел заполучить лошадь получше. Через мгновение из конюшен донеслись звуки ударов, крики и яростное ржание — этот шум невозможно было описать. «Хорошенькая там, должно быть, драка! — подумал Эрнест. — С этими дикими бестиями не так-то легко совладать». Его подозрения подтвердились. Лошадей выводили — но они яростно упирались, мотали головами и взбрыкивали. — Седлай! — скомандовал Эрнест. Это было сделано с большим трудом. — В седло! Шестьдесят человек по этой команде забрались верхом на строптивых лошадей, хотя и не без опасений. Через несколько секунд по крайней мере двадцать из них оказались на земле; один или двое запутались в стременах; некоторые пытались утихомирить разбушевавшихся лошадей, а те, кому удалось усидеть в седле, теперь беспорядочно носились по площади. Никогда еще Претория не видела подобных сцен. Однако вскоре относительный порядок был все же восстановлен. Несколько человек пострадали, двое — довольно серьезно. Их отправили в госпиталь, а Эрнест принялся распределять всадников по подразделениям, чтобы побыстрее выехать к месту встречи с Эльстоном. Именно в это время, словно чтобы добавить неразберихи, пошел дождь, все вымокли, и замешательство усилилось. Наконец, все построились и пошли маршем в город, который к тому времени уже был охвачен паникой. Все магазины закрылись, все работы остановились; женщины стояли на верандах домов, обнимали детей, плакали или готовились к отправке в лагерь за городом. Люди прятали все ценное; мужчины спешили на рыночную площадь, где представители правительства раздавали оружие и амуницию всем, кто был способен выступить на защиту города. Перепуганные кафры и Басуто метались по улицам, рассказывая ужасы о зверствах зулусов, или покидали город, чтобы укрыться среди холмов. Все эти сцены выглядели потрясающе, но потом опустилась тьма, и все потонуло во мраке. Эрнест привел свой корпус к казармам, которые им отвело правительство, и приказал поставить лошадей в стойла, не расседлывая их. Вскоре ему передали приказ держать оружие наготове и выслать четыре патруля, которые должны были до полуночи осмотреть все подходы к городу; на рассвете корпусу было предписано выйти на рекогносцировку в соседнюю провинцию. Эрнест выполнил все приказы, насколько это было возможно. Он отправил патрули, но ночь была такой темной, что они не возвращались до утра. Утром их собрали уже по дороге — а в одном случае просто вытянули из канавы с жидкой грязью, где они ухитрились увязнуть ночью. Около одиннадцати часов вечера Эрнест сидел в маленькой комнатке здания казарм и совещался с Джереми: они решали дела, связанные с корпусом, и задавались вопросом, нашел ли Эльстон Импи, или донесения оказались просто слухами. Внезапно с улицы донесся оклик часового: — Стой! Кто идет? Раздался выстрел, громкий треск, а потом отчаянные вопли: — Вильгельмина! Жена моя! Ах, этот жестокий человек убивайт моя Вильгельмина! — Боже мой, это же тот безумный немец! Джереми, беги к часовым и скажи им, что все в порядке, иначе они подумают, что зулусы уже в городе. Скажи, пусть его приведут сюда — и остановят эти вопли. Вскоре старинный приятель Эрнеста с Высокого вельда, выглядевший сейчас, в свете лампы, довольно дико и жалко с его длинной белой бородой и мокрыми волосами, с которых капала вода, был довольно бесцеремонно препровожден в комнату Эрнеста. — Ах, вот и ты, мой дорогой друг! Прошло уже два или три год, как мы видайт друг друга. Я искайт тебя везде, и мне сказали, ты есть здесь, и я пойти быстро, сквозь нахт и дождь, и когда я уже не знайт, какой свет я нахожусь, этот жестокий человек поднимайт ружье и стреляйт майне кляйне Вильгельмина! И он проделайт большой дырка в ее живот! О, что мне делайт, мой дорогой? — И этот великовозрастный ребенок горько расплакался. — Ты тоже плакайт, друг мой, ты знайт Вильгельмина и любийт, ты спайт с ней однажды ночь. У-у-у! — Ради всего святого, прекратите нести эту чушь! Сейчас не время и не место для глупостей. Эрнест говорил так жестко и резко, что бедный сумасшедший мгновенно утих и только робко всхлипывал. — Так гораздо лучше. Так зачем вы меня искали? Лицо немца мгновенно переменилось. Выражение идиотической печали исчезло, в глазах засветился разум. Он бросил быстрый взгляд на Джереми, стоявшего в углу комнаты. — Вы можете говорить при этом джентльмене, Ганс, — спокойно сказал Эрнест. — Сэр, я собираюсь сказать вам довольно странную вещь. Теперь он и говорил по-другому, совсем тихо и сдержанно, производя впечатление совершенно здорового человека. — Сэр, я слышал, что вы собираетесь отправиться в Зулуленд, чтобы сражаться с кровожадными зулусами. Когда я об этом услышал, я был далеко, но понял, что должен двигаться так быстро, как только сможет Вильгельмина, и сказать вам, чтобы вы не ходили. — Что вы имеете в виду? — Как я могу сказать, что я имею в виду? Я просто знаю, что многие из тех, кто сегодня спит в этом доме, отправятся в Зулуленд — но вернутся немногие. — Хочешь сказать, меня убьют? — Я не знаю. Есть вещи плохие, как смерть — но это не смерть. — Ганс прикрыл глаза рукой и продолжал: — Я не вижу тебя среди мертвых, мальчик, но не ходи туда. Я молюсь, чтобы ты туда не пошел. — Мой добрый Ганс, зачем же было идти ко мне с этой глупой сказкой? Даже если бы это была правда, даже если бы я знал, что меня убьют двадцать раз — я должен идти, я не могу нарушить свой долг. — Это речи храброго человека, — с грустью откликнулся Ганс уже по-немецки. — Я тоже выполнил свой долг и передал тебе то, что сказала Вильгельмина. Теперь иди, и когда черные люди бросятся на тебя, как волна накатывает на скалу, пусть Бог Отдохновения протянет тебе руку и спасет тебя от смерти. Эрнест смотрел на бледное лицо старика: на нем застыло странное восторженное выражение, а глаза были устремлены вверх. Эрнест тихо заговорил по-немецки: — Возможно, мой старый друг, я, как и ты, найду свой Град Отдохновения — и не печалься, если меня проводит туда удар ассегая. — Я знаю, — откликнулся Ганс. — Но бесполезно стремиться к покою до тех пор, пока его не дарует нам Бог. Ты искал смерти и проходил рядом с ней не раз, но так и не нашел ее. Если будет на то воля Божья — она и сейчас минует тебя. Я знаю, что ты тоже ищешь покоя, брат мой, но мог ли я подумать, что ты станешь искать его там, — и он махнул рукой в сторону Зулуленда. — Мне не надо было приходить и предупреждать тебя, ибо покой — это благословение, и счастлив тот, кто заслужил его. Но нет, теперь я уверен, что ты не умрешь. Зло — чем бы оно ни было — придет к тебе с небес. — Да будет так! — откликнулся Эрнест. — Странный ты человек. Я думал, ты просто безобидный безумец, но сейчас ты говоришь, как пророк. Старик улыбнулся. — Ты прав, я и то и другое. Чаще всего я безумен, я знаю это. Но иногда мое безумие обретает черты вдохновения, туман над моим разумом рассеивается, и я вижу то, чего не видит никто, слышу голоса, к которым вы все глухи… Теперь как раз такой момент, но скоро безумие снова овладеет мной. Однако прежде, чем туман вернется, я поговорю с тобой. Запомни — не знаю, зачем, — что я полюбил тебя всем сердцем, едва увидев твои глаза там, в вельде. Теперь я должен идти, и мы больше не встретимся, потому что я уже приближаюсь к заснеженному дереву, что растет у ворот Города Отдохновения. Теперь я могу видеть в сердце твоем — и вижу в нем горечь и печаль, вижу прекрасное лицо, запечатленное в нем. Ах, и она тоже несчастлива; и она тоже должна найти покой. Но времени мало, туман опускается — а я должен рассказать тебе, что у меня на уме. Даже если у тебя беда, большая беда — будь стойким, терпи, потому что беда — это ключ к небесам. Будь добрым, будь праведным, вернись к Богу, от которого ты отказался, борись с искушениями. О, теперь я ясно вижу! Тебе и всем, кого ты любишь, уготованы радость и мир! Внезапно Ганс замолчал, оживление на его лице померкло, и оно снова приобрело прежнее придурковатое и дикое выражение. — Ах, жестокий человек, делайт дыру в живот моя Вильгельмина! Эрнест подался вперед, напряженно вслушиваясь в бормотание старика. Убедившись, что просветление миновало, он выпрямился и сказал: — Прошу тебя, Ганс, соберись хоть на миг. Я хочу задать всего один вопрос. Я когда-нибудь… — Как я остановийт кровь из моя дорогая жена? Кто закройт этот страшный дыра? Эрнест не сводил с Ганса глаз. Притворялся он — или действительно был безумен? Эрнест так никогда и не узнал ответа на этот вопрос. Он дал Гансу соверен. — Это деньги для доктора, который спасет Вильгельмину, Ганс. Хочешь поспать здесь? Я дам тебе одеяло. Старик без стеснения принял деньги и поблагодарил Эрнеста, однако от одеяла отказался и сказал, что должен уходить. — Куда же ты пойдешь? — спросил Джереми, с большим любопытством наблюдавший за стариком, но не понявший той части беседы, что велась на немецком. Ганс с подозрением посмотрел на него. — В Рустенбург! — Правда? Да ведь дорога разбита, а идти очень далеко. — Да. Дорога длинна и тяжела. Прощай! — с этими словами Ганс быстро вышел из комнаты. — Что ж, он забавный старый болтун, с этими его сказками и Вильгельминой, — заметил Джереми. — Только подумайте — ночью, в дождь отправиться пешком в Рустенбург! Это же в ста милях отсюда! Эрнест только улыбнулся в ответ. Он знал, что Ганс не имел в виду земной город Рустенбург. Некоторое время спустя Эрнест узнал, что Ганс все-таки добрался до своего Города Отдохновения, куда так стремился. Вильгельмина застряла в сугробе на перевале Дракенсберг. Ганс не смог вытащить свою Вильгельмину — и тогда просто заполз под нее и уснул. Пошел снег и покрыл их своим саваном…Глава 34
МИСТЕР ЭЛЬСТОН РАЗМЫШЛЯЕТ
Атака зулусов на Преторию в конечном итоге, как оказалось, существовала только в головах двух безумных кафров, которые переоделись и выдали себя за зулусских вождей, действительно командовавших небольшими армиями, а потом поехали по селениям голландцев, рассказывая об огромной армии Импи, затаившейся в буше, и призывая буров отойти в сторону, пока они будут резать англичан. Слухи породили панику, которая быстро разнеслась и по городам. Весь следующий месяц корпус Эльстона был очень занят. Маневры и тренировки проходили ежедневно, с утра и до вечера. Муштра, муштра, муштра — с вечера до полудня и с полудня до глубокой ночи… Однако результаты не заставили себя ждать. Через три недели после феерического получения в свое распоряжение диких и необъезженных лошадей кавалерийский полк Эльстона стал едва ли не лучшим в Южной Африке; мистер Эльстон и Эрнест были приятно поражены тем мастерством, с которым недавние новобранцы теперь выполняли любые кавалерийские маневры. Они планировали выйти маршем из Претории десятого января и присоединиться к колонне полковника Глинна, вместе с которой ехал командующий, уже восемнадцатого — как полагал мистер Эльстон, именно тогда и должен был начаться поход на Зулуленд. Восьмого января граждане Претории устроили торжественный банкет в честь полка, поскольку большинство в полку были уроженцами и жителями этого города; кроме того, колонисты никогда не упускают возможности продемонстрировать свое расположение и любовь друг к другу. Разумеется, во время банкета мистер — вернее, капитан — Эльстон напился, как и все остальные. Однако он был человеком немногословным и ненавидел пространные речи, а потому ограничился несколькими короткими фразами, выразив признательность всем собравшимся, и сел на место. Затем кто-то предложил тост за офицеров и командиров, и тогда Эрнест произнес прекрасную речь. Он быстро коснулся политической обстановки, которая привела к войне с зулусами, однако не стал рассуждать о том, правильно или неправильно поступают власти — тем более что в глубине души испытывал серьезные сомнения по этому поводу; в нескольких тщательно подобранных фразах он смог выразить, что успешное завершение этой войны является жизненно важным интересом колонии. В заключение он сказал следующее: — Джентльмены! Мне хорошо известно, что именно чрезвычайная срочность, с которой следует решить эти проблемы, стала для многих здесь — и для моих товарищей, в частности, — причиной того, что они пошли на военную службу. Глядя на сидящих за этими столами солдат и офицеров, которых я много лет знал в совсем иной жизни фермерами, владельцами магазинов, клерками, невозможно не осознать, что лишь крайняя необходимость могла вырвать их из мирной жизни и свести всех вместе под военными знаменами. Разумеется, не десять шиллингов в день и не простое желание подраться привели их сюда (крики «Нет! Нет!») — ибо многие из них вполне обеспечены и без этого, а многие видели достаточно сражений и прекрасно знают, какая тяжелая работа достается на войне на долю добровольческих корпусов. Так что же свело их всех вместе? Я отвечу на этот вопрос. Это чувство патриотизма, которое является неотъемлемой частью английского духа (одобрительные возгласы) и которое передавалось из поколения в поколение, становясь корнем величия Англии. И пока британская честь и кровь остаются незапятнанными — патриотизм всегда, и в нерожденных еще поколениях будет главной движущей силой величия Англии, распространившись на все ее владения, из которых, я надеюсь, этот континент отнюдь не последний (громкие возгласы одобрения). Именно это, джентльмены, и есть та крепкая связь, что объединяет нас всех вместе — исполнение своего долга перед лицом угрозы, патриотизм и готовность сражаться до победы. И что касается патриотизма и долга — я уверен, что в конце этой кампании, каким бы он ни был, ни один армейский офицер, газетчик, или даже злодей зулус не сможет сказать, что корпус Эльстона хоть раз уклонился от своих обязанностей или поднял мятеж (аплодисменты). Я также уверен, что ни один из наших героев никогда не оставит товарища в беде. Мои братья по оружию! — Тут сильный ясный голос Эрнеста возвысился и разнесся по всему большому залу. — Храбрецы, которых призвала Англия и кто не замедлил откликнуться на этот призыв! Я повторяю — какими бы ужасными ни были невзгоды и трудности этой войны, как бы ни была близка и сама смерть, я знаю, что обращаюсь сейчас к храбрецам, которые не побоятся умереть, ибо иногда смерть означает долг, а жизнь — бесчестье. Я знаю и верю, что вы встанете плечом к плечу и как герои пройдете свой путь до конца — до самого порога Вальгаллы, ступить на который не должно бояться ни одно храброе английское сердце! Под приветственные крики и аплодисменты Эрнест сел на свое место. Благородные и страстные слова, пришедшие прямо из его верного пылкого сердца, не могли не воодушевить всех собравшихся. Через две недели, когда смертельное кольцо сожмется вокруг корпуса Эльстона на кровавом поле Изандлваны, эти слова вспомнятся — и придадут сил обреченным на гибель, но не сдающимся солдатам. — Браво, мой юный викинг! — сказал Эльстон Эрнесту, пока приветственные крики все гремели под сводами банкетного зала. — Тебя обуял старый добрый дух берсерка? Мистер Эльстон знал, что семья матери Эрнеста, как и многие семьи Восточной Англии, своим происхождением была обязана древнему племени данов. Для Эрнеста это была великая и славная ночь. Два дня спустя корпус Эльстона — шестьдесят четыре всадника — вышел из Претории под звуки военного марша, который играл идущий впереди оркестр. Увы! Никому из них не было суждено вернуться назад… Оркестр и провожавшие остановились на окраине города, прокричали троекратное «ура» и отправились по домам. На холме Эрнест повернулся в седле и пристально посмотрел на раскинувшийся на равнине красивый город с его белоснежными домиками и изгородями, увитыми розами, — гадая, увидит ли он Преторию еще когда-нибудь. Он еще не знал, что видит город в последний раз. Дальше корпус двинулся размеренной спокойной рысью, разделившись на два отряда. Эрнест подъехал к Эльстону, рядом с которым ехал юный Роджер. Ему уже исполнилось четырнадцать, и он выступал в качестве адъютанта собственного отца. Мальчик был в приподнятом настроении и с нетерпением ожидал начала кампании. Вскоре Эльстон отправил сына с каким-то поручением в конец колонны. Эрнест проводил его взглядом, и неожиданная мысль больно уколола его сердце. — Эльстон, вы думаете, это разумно — взять мальчика с собой? Его старый друг выпрямился в седле, но голос его звучал, как и всегда, невозмутимо. — Почему бы и нет, мой дорогой? — Но ведь вы же знаете, это очень рискованно. — А почему мальчик не должен рисковать наравне со всеми остальными? Послушай, Эрнест… ты помнишь, как мы впервые встретились в Гернси? Я тогда собирался увидеть то место, где училась моя жена. Знаешь ли ты, как она умерла? — Я лишь знаю, что ее смерть была насильственной. — Я расскажу тебе, хоть мне и тяжело об этом говорить. Она умерла от удара зулусского ассегая, через неделю после рождения мальчика. Ему она спасла жизнь, спрятав его в куче соломы. Не спрашивай меня о подробностях, я не могу об этом вспоминать. Возможно, теперь ты лучше поймешь, почему я командую корпусом, идущим на войну с зулусами. Возможно также, что поймешь ты и то, почему со мной мой сын. Мы идем мстить за жену и мать — или погибнуть на поле боя. Я долго ждал этой возможности — теперь она у меня есть. Эрнест не сказал в ответ ни слова и вскоре вернулся к своему подразделению.Двадцатого января корпус Эльстона, спустившись от Претории, встал лагерем у брода Роркс Дрифт на берегу Баффало Ривер, недалеко от группы зданий, которые было решено использовать под госпиталь — и которым суждено было войти в историю. Здесь их догнал приказ присоединиться к колонне под командованием самого лорда Челмсфорда, которая разбила лагерь в девяти милях от реки, в месте под названием Изандлвана, или «Место Маленькой Руки». На следующий день, 21 января, корпус двинулся на соединение с войсками, следуя по тракту мимо горы Инглазати, и к полудню прибыл в большой военный лагерь, где уже находились две с половиной тысячи человек всех видов подразделений под общим командованием полковника Глинна. Лагерь протяженностью около восьмисот ярдов расположился на широкой плоской равнине у подножия обрывистого холма причудливого вида — такие холмы не редкость в Южной Африке. Это и было поле Изандлвана. — Ого! — непривычно горячо воскликнул Эльстон, когда они выехали на гребень холма, откуда открывался вид на лагерь. — Они не окапывались. Проклятье, они даже не окружили лагерь повозками. С этими словами он выразительно присвистнул. — Что вы имеете в виду? — спросил Эрнест. Мистер Эльстон так редко выказывал удивление или раздражение, что теперь Эрнесту было совершенно ясно — происходит что-то плохое. — Я имею в виду, Эрнест, что лагерь совершенно незащищен от нападения и разрушения, а люди от неминуемой гибели — если зулусы вздумают напасть ночью. Как их сдержать в темноте, когда даже не видно, куда ты стреляешь? Ни одного препятствия на их пути. Здешние офицеры наверняка недавно прибыли — и понятия не имеют, что такое атака зулусов, это очевидно. Надеюсь, в ближайшем будущем у них не будет возможности это узнать. Взгляни туда! — и мистер Эльстон указал на ближайшую к ним повозку. На ней, среди прочих вещей, лежали биты и мячи для крикета. — Они думают, что выехали на пикник. И какой был смысл посылать порознь четыре довольно немногочисленные колонны, растянувшиеся по всему Зулуленду, рискуя быть смятыми врагом, который умеет передвигаться стремительно, делая по пятьдесят миль в день, и в любой момент может просто проскользнуть мимо них и превратить Наталь в бесплодную пустыню? Ладно, бесполезно теперь причитать. Надеюсь, что я ошибаюсь. Возвращайся к своим людям, Эрнест, — войдем в лагерь организованно. Рысью — марш! Прибыв в лагерь, мистер Эльстон представился командованию и узнал, что два больших вооруженных отряда под командованием майора Дартнелла ушли на разведку к горе Инглазати, где, как предполагалось, зулусы сосредоточили крупные силы. Эльстону было приказано пока дать отдых лошадям, чтобы завтра утром он со своим корпусом смог присоединиться к кавалерии майора Дартнелла. В ту ночь, стоя возле палатки и куря трубки перед сном, мистер Эльстон и Эрнест разговорились. Ночь была великолепна, звезды ярко сияли на небе, и молодой человек не сводил с них глаз. — Засмотрелся на звезды? — спросил мистер Эльстон. — Я размышлял о наших будущих жилищах, — усмехнулся Эрнест. — Ты веришь в это? Бессмертие души и все такое? — Да, я верю в то, что мы проживаем множество жизней — может быть, некоторые из них и там, на звездах. А вы — нет? — Не знаю, но мне это кажется довольно… самонадеянным. Почему ты рассчитываешь, что место среди сияющих звезд уготовано именно тебе — а не им? — и мистер Эльстон ловко прихлопнул сразу дюжину летучих муравьев, ползающих по рукаву мундира. — Только представь, насколько ничтожна разница между этими муравьями и нами в глазах той Силы, что может создать и тех, и других? Взгляни — у них тоже есть дома, правительство, колонии, армия и чернорабочие. Они порабощают и захватывают территории, копят богатство, ведут войны и живут в мире. В чем же разница между нами? Мы больше размером, ходим на двух ногах, больше любим страдать и верим, что у нас есть душа. Неужели этого достаточно для уверенности, что для нас зарезервирован рай — или все эти сияющие миры — после нашего исчезновения? Возможно, мы уже достигли предела своего развития. Для них еще возможен путь вперед, а нас ждет просто смерть. Кто знает. Так не лучше ли просто летать и пользоваться настоящим, ибо будущее все равно туманно и не определено. — Вы начисто игнорируете религию. — Религию? А какую именно? Их же так много. Наш христианский Создатель, Будда, Мохаммед, Брахма — и у каждого миллионы поклонников и последователей. Каждое божество обещаетразное, каждое требует поклонения, каждое внушает одинаково сильную веру, поскольку именно слепая вера способна объяснить все на свете. Каждый удовлетворяет свои духовные устремления. Могут ли все эти религии быть истинными? Каждая считает все другие ложными и недостойными; каждая стремится обратить именно в свою веру — и терпит неудачи. Мало о чем можно сказать то же самое. — Однако в основе всего лежит дух… — Возможно, возможно. Во всех религиях очень много благородного и возвышенного — но много и ужасного. К реальным страхам и беспокойству за свое физическое существование религия предлагает добавить еще более темный ужас существования духовного, которое к тому же еще и бесконечно. Истинный христианин почувствует себя обделенным, если лишить его ада и его персонального дьявола. Что до меня, то я в это все не верю. Если ад существует — то только здесь, на земле. Этот мир и есть место искупления всех грехов мира, а единственный настоящий дьявол — дьявол злых страстей человеческих. — Можно быть религиозным и добрым человеком, не веря в ад, — сказал Эрнест. — Надеюсь на это, иначе мои шансы невелики. Кроме того, я не отрицаю существование высших сил. Я лишь не согласен с тем, что им приписывают жестокость. Возможно зло и кровопролития накапливаются, этот мир начинает агонизировать, и всевышний преследует какую-то высшую цель… Из тел миллионов живых существ Природа, неустанно трудясь и преследуя свои цели, создала камни — однако этот процесс вряд ли приятен самим живым существам, чьими скромными усилиями происходили эти грандиозные преобразования. Они жили, умирали миллиардами, для того, чтобы через десять тысяч лет получился камень. Возможно, это же произойдет и с нами. Наши слезы, наша кровь, наша агония — все обратится в камень, о чем мы сейчас и не догадываемся; но все это не может быть потрачено впустую, ибо ничто не тратится впустую в этом мире, и камни, в которые мы превратимся, послужат какой-то будущей цели Господа. Но вот в то, что мы мучаемся и страдаем здесь, чтобы потом бесконечно мучиться и страдать там, — тут он указал на звезды, — в это я никогда не поверю. Взгляни, как из лощины поднимается туман: так растет и волна страданий этого мира — приношение богам. Туман рассеется, обратится дождем и принесет благословение земле — но фимиам страданий человеческих будет куриться бесконечно долго, пока земля это вытерпит — или пока он не обернется росой милосердия и прощения. И все же христиане, заявляющие, что Бог есть любовь, утверждают, что для большинства их соплеменников этот процесс должен продолжаться тысячи лет. — Они говорят, что это зависит от того, какую жизнь человек проживет. — Видишь ли, Эрнест, человек не может сделать более того, что в его силах. Когда я достиг возраста благоразумия, каковым я полагаю двадцать восемь лет — ты еще до него не добрался, мой мальчик, ты еще дитя, — я дал себе три обещания: всегда пытаться и исполнять свой долг, никогда не поворачиваться спиной к человеку или другу в беде и, насколько это возможно, не желать жены соседа своего. Все эти обещания я так или иначе нарушал помаленьку, их дух или букву, но в основном все же старался их придерживаться и потому сегодня могу, положа руку на сердце, смело сказать «Я сделал все, что мог!» И потому я иду своим путем, не сворачивая ни вправо, ни влево. Когда моя Судьба встретит меня, я поприветствую ее, ничего не опасаясь, ибо я знаю, что худшее уже позади, и она может даровать мне лишь вечный покой. Я ни на что не надеюсь, ибо мой опыт не таков, чтобы надеяться на счастье, а тщеславие не настолько сильно, чтобы я поверил в желание высших сил вмешаться и спасти столь ничтожное существо от общей для всех живущих судьбы. Спокойной ночи, друг мой!
Глава 35
ИЗАНДЛВАНА
Наступила полночь, и лагерь погрузился в сон. К небу поднималось спокойное дыхание полутора тысяч человек — к небу, куда суждено было отправиться и их душам не позднее следующей ночи… Сейчас они спокойно спали крепким сном здоровых сильных мужчин, и разум их отдыхал среди самых фантастических сновидений и грез. Во сне белый человек видел свою родную деревню, взволнованно качающиеся на ветру вязы, старинную церквушку серого камня, на протяжении многих веков благословлявшую на вечный сон его расу… Кафр видел во сне солнечные равнины Наталя, где солнце танцует на изящных рогах антилоп, где зеленеют сады и смеются женщины и детишки… Некоторым снились великие свершения, захватывающие приключения и сражения, увенчанные триумфом, которого нам никогда не достичь в реальной жизни. Кому-то снились любимые лица тех, кто давно покинул этот мир; кто-то грезил о далеком доме; до кого-то доносилось слабое эхо звонкого детского смеха… Колыхалось пламя светильников от дыхания тех, кому вскоре суждено было испустить последний вздох. Ночной ветерок неспешно несся через поле Изандлваны, шевеля густую зеленую траву, которой вскоре предстояло покраснеть от крови. Он долетел до отрогов Инглазати и замер напротив Упиндо, освежив своим дыханием черные, словно сама ночь, лица воинов, которые отдыхали, облокотившись на свои копья, уже заточенные для скорой резни. И как только он налетел — и растаял в ночном воздухе, воины встрепенулись, эти храбрые солдаты Кечвайо, «рожденные быть убитыми», как говорят зулусы. Они крепче сжали смертоносные ассегаи, чутко вслушиваясь в ночь — но все было тихо, смерть была еще далеко, смерть придет только завтра — а сейчас можно спать… Где-то после часа ночи 22 января Эрнест был разбужен топотом копыт и перекличкой часовых. «Донесение от майора Дартнелла!» — откликнулся невидимый всадник, и его пропустили. Еще через полчаса сыграли побудку, и сонный лагерь наполнился гулом, точно просыпающийся перед рассветом гигантский улей. Вскоре стало известно, что командующий и полковник Глинн собираются выступить на помощь Дартнеллу, который прислал донесение о большом скоплении противника, во главе шести взводов второго батальона 24-го полка, взяв четыре орудия и кавалерию в качестве поддержки. На рассвете они снялись с места. В восемь часов поступило донесение от пикета, расположившегося примерно в миле к северу от лагеря: большая армия зулусов идет с северо-востока. В девять часов противник показался на гребне холмов, но почти сразу исчез. В десять полковник Дернфорд привел от Роркс Дрифт батарею и двести пятьдесят туземных солдат, чтобы принять командование лагерем от полковника Пуллейна. Он нашел минутку, чтобы переговорить с Эльстоном, которого хорошо знал, и Эрнест смог его рассмотреть. Это был видный крупный мужчина с солдатской выправкой, длинными красивыми усами, вооруженный — но с выражением глубочайшей тревоги на лице. В десять тридцать отряд полковника Дернфорда, разделившись надвое, вместе с батареей ушел на несколько миль вперед, чтобы следить за передвижениями противника, а солдатам 24-го полка было приказано занять позицию на холме примерно в миле от лагеря. Тем временем армия противника — по слухам, состоявшая из отряда Унди, полков Нокенке, Умкиту, Нкобамакоси и Имбонамби, всего около двадцати тысяч человек — встала лагерем в двух милях от Изандлвана, явно не собираясь идти сегодня в атаку. Они еще не получили благословение колдунов на битву — а расположение луны было неблагоприятным… Однако, к несчастью, кавалеристы Басуто полковника Дернфорда, продвигаясь вперед, буквально наткнулись на людей Умкиту; началась стрельба, Умкиту вступили в бой, тесня кавалерию Дернфорда, а затем и ту часть 24-го полка, что была размещена на холме к северу от лагеря. После жесточайшего сопротивления силы англичан были уничтожены. Теперь в бой вступили и Нокенке, Имбонамби и Нкобамакоси — они двинулись вперед, окружая лагерь с флангов, а потом атаковав прямо в лоб. Некоторое время отряд Унди, составлявший костяк лагеря, держал оборону, но затем отступил, перегруппировавшись вправо, и направился к северу от горы Изандлвана, чтобы занять там новую позицию и развернуть фронт. Между тем оставшиеся в лагере подразделения 24-го полка были выдвинуты вперед, и некоторое время им удавалось сдерживать противника: две пушки под командованием майора Смита довольно успешно обстреливали Нокенке, которые составляли левый фланг ударного отряда зулусов. Можно было видеть, как ядра оставляют страшные прорехи в плотных шеренгах зулусов, которые медленно и в полной тишине шли вперед. Эти прорехи молниеносно смыкались над павшими — и движение не останавливалось. В этот момент пришло донесение о продвижении полка Унди к правому флангу зулусов для подавления левого фланга англичан; корпусу Эльстона было приказано выдвигаться из лагеря и, если возможно, отбросить Унди. Выполняя приказ, они поспешили присоединиться к 24-му полку на холме к северу от лагеря, уже отчаянно сражавшемуся с Умкиту, а также попытались поддержать Басуто полковника Дернфорда, которых на северной стороне Изандлваны медленно, но верно теснил противник. Как только они поднялись на холм, то увидели примерно в полумиле около трех тысяч Унди, которые довольно стройными рядами неслись вперед. — О небо, они же хотят обогнуть гору и захватить дорогу! В галоп! — закричал Эльстон. Отряд поскакал вниз по склону к проходу в горном хребте, чтобы перерезать дорогу Унди; пробившись туда, они убили двоих или троих зулусов из головного отряда — те на бегу перестроились, вытянувшись в цепочку, и собирались стремительно добраться до лагеря и уничтожить его. После этого корпус Эльстона больше не мог видеть основного сражения, но мы можем кратко рассказать о том, что происходило вокруг лагеря. Несмотря на тяжелые потери, зулусы медленно, но верно двигались вперед. Их целью было позволить штурмовым отрядам взять лагерь англичан в клещи. Между тем те, кто командовал лагерем, слишком поздно осознали серьезность положения и начали срочно перемещать оставшиеся в нем подразделения. Слишком поздно! Противник уже увидел, что клещи сомкнулись. Кроме того, зулусы знали, что Унди находятся совсем недалеко от дороги — единственного возможного пути отступления. Зловещее молчание было нарушено — и над равниной понесся леденящий душу боевой клич зулусов, находящихся уже на расстоянии шестьсот или восемьсот ярдов от лагеря. До этого потери англичан были небольшими, потому что стреляли зулусы плохо. Сами же они несли громадные потери, особенно в последние полчаса. Теперь все поменялось. Сначала соединения из Наталя увидели, что их заперли, прорвав правый фланг и обойдя сзади. Зулусы хлынули в лагерь так стремительно, что солдаты даже не успели примкнуть штыки. В следующую минуту их начали рубить ассегаями, и в лагере начался разгром. Бежать было некуда. Отряды Унди (они все-таки прорвались и атаковали Роркс Дрифт) уже захватили дорогу, и теперь единственным путем отступления оставался крутой спуск в овраг к югу от дороги. Разрозненные отряды англичан бросились туда, но по пятам за ними следовали кровожадные зулусы, убивая каждого, до кого смогли дотянуться. Лагерь был пуст. Через пару часов командир кавалерийского полка Лонсдейл, посланный командующим Челмсфордом, чтобы выяснить, почему началась беспорядочная стрельба, даже не заметил ничего подозрительного. Палатки стояли, фургоны и повозки были на месте, даже, кажется, солдаты сидели возле них и бродили по лагерю. Ему не пришло в голову, что это зулусы надели английские мундиры, а сами солдаты уже никогда больше не поднимутся в атаку… Он быстро поскакал к штабной палатке, из которой, к его удивлению и ужасу, внезапно показался огромный, совершенно голый зулус, весь покрытый кровью и с окровавленным ассегаем в руке. Полковник Лонсдейл увидел достаточно — и поспешил вернуться к генералу, чтобы сообщить ему о том, что лагерь захвачен. Увы! Только Провидению, воле Божьей и милосердию Кечвайо — а не нашей мудрости — мы обязаны были тому, что Наталь в итоге не превратился в пепелище, и мужчины, женщины и дети, его населявшие, не пали под ударами ассегаев.Глава 36
КОНЕЦ КОРПУСА ЭЛЬСТОНА
Отряд Эльстона достиг вершины хребта, мимо которого бежали Унди, и остановился в трехстах пятидесяти ярдах от противника. Здесь солдатам было приказано спешиться и занять позиции. Они выстроились цепочкой, в нескольких шагах позади каждой четверки один человек держал наготове лошадей. Затем они открыли огонь, и в следующую секунду воздух заполнился ужасными звуками — пули били по щитам и телам зулусов. Эрнесту, сидящему на своем Дьяволе — поскольку офицеры не спешивались, — был хорошо виден ужасающий эффект этой стрельбы. Стреляли не неопытные английские мальчики, не умеющие отличить один конец винтовки от другого — а опытные, зачастую первоклассные стрелки. Линия Унди дрогнула, воины вскидывали руки и валились наземь как подкошенные, многие были серьезно ранены. Однако Унди не останавливались. Они упрямо и неотвратимо продолжали свой размеренный бег. Потом они вернутся и подберут своих раненых… или добьют их, если раны слишком тяжелы… Постепенно стрельба стала более прерывистой и менее смертоносной, и Эрнест увидел, что некоторые из его солдат упали. Эльстон подскакал к Эрнесту и крикнул: — Эрнест, я собираюсь их атаковать! Смотри, скоро они пересекут долину и достигнут склонов горы, а там мы не сможем их преследовать! — Не слишком ли это рискованно? — спросил Эрнест, встревоженный мыслью о том, что маленький конный отряд будет преследовать лавину этих черных монстров, катящуюся по равнине. — Рискованно? О да, но у меня приказ — оттянуть силы врага, а лошади у нас свежие. Однако, парень, — тут он наклонился к Эрнесту и понизил голос, — честно говоря, неважно, погибнем мы во время атаки или во время панического бегства. Я уверен, что лагерь уже захвачен; надежды не осталось. Прощай, Эрнест. Если я погибну — командуй корпусом, пока это будет возможно, и убей столько черных дьяволов, сколько сможешь. Если выживешь — попробуй выбраться. Армия должна подойти. Храни тебя Бог, мальчик мой. Теперь командуй горнисту играть «прекратить огонь», и пусть люди садятся в седло. — Есть, сэр! Это были последние слова Эльстона, которые Эрнест слышал от него, и впоследствии он часто вспоминал — с восхищением и уважением, — что даже в такую минуту Эльстон больше думал о безопасности своего друга, чем о своей собственной. Что касается их судьбы, Эрнест уже подозревал страшную правду, но к счастью, эти подозрения пока еще не затронули остальных. Мазуку, который, как всегда, находился рядом с ним, сидя верхом на выносливом африканском пони, уже сообщил, что по его, Мазуку, мнению, они все уже, считай, отлично взрезаны (имелся в виду обычай Зулу вспарывать живот мертвому врагу), однако в утешение добавил, что человек может умереть всего один раз — и «сделать это хорошо». Как ни странно, Эрнест не боялся; действительно, он никогда не чувствовал себя более спокойным в своей жизни, чем в этот предсмертный час. Ожидание битвы будоражило нервы и заставляло глаза гореть. «На что это будет похоже?» — гадал Эрнест. Впрочем, через минуту все лишние мысли испарились из его головы, поскольку он встал во главе своей маленькой армии, готовый исполнить любой приказ. Эльстон в сопровождении юного Роджера быстро проскакал галопом вдоль шеренги, убедился, что все в порядке, а затем приказал обнажить короткие палаши — перед отъездом из Претории он настоял, чтобы все без исключения вооружились ими. Между тем Унди вышли на широкую равнину, шириной около четырехсот ярдов, расположенную у подножия горы — это место отлично подходило для кавалерийского маневра. — Отряд Эльстона! Слушайте! Враг прямо перед вами. Дайте-ка мне взглянуть, как вы разобьете их. В атаку! — В атаку! — повторил Эрнест. — В атаку! — взревел старший сержант Джонс, размахивая палашом. Они двинулись по склону медленно, все ускоряя шаг, а оказавшись на равнине, перешли в галоп. Эрнест чувствовал возбуждение своего вороного жеребца, ощущал, как слаженно двигаются его мощные мускулы. Он слышал гул удивления, исходящий от черной плотной массы людей, которые обернулись, чтобы отразить эту неожиданную атаку. Он оглянулся — и увидел перед собой решительные лица тех, кто шел за ним в бой… Кровь его закипела от дикого, еще неведомого ему возбуждения — Эрнеста охватила злая веселая радость, эйфория боя. Темп атаки все нарастал, и теперь он различал лица зулусов, их ослепительно белые зубы и белки глаз… — Бей! Они врезались в море зулусов и принялись рубить направо и налево, давить, сбивать с ног, топтать, колоть и снова рубить. В воздухе пели песнь смерти ассегаи, над равниной разносились дикие крики зулусов — и рычание белых людей, сражающихся так, как никогда в жизни. Словно во сне, Эрнест видел картины этого боя. Вот огромный зулус хватает под уздцы лошадь Эльстона. В ту же секунду Роджер, сражающийся рядом с отцом, вскидывает палаш и пронзает им грудь гиганта. Тот падает — но в следующую секунду на мальчика нападают другие. Зарубленный ассегаем, он падает под копыта своего коня. Эльстон разворачивается в седле и стреляет прямо в лицо тому, кто только что убил его сына. Падает один зулус, второй, но тут подбегает третий и с воплем пронзает Эльстона копьем с такой силой, что широкий наконечник на ладонь выходит из спины. Эльстон падает на тело сына и умирает. В следующий миг голова убийцы Эльстона раскалывается надвое, словно спелая дыня, — это Джереми, подскакав сзади, разваливает зулуса пополам одним ударом. Все это время они неуклонно двигаются вперед, оставляя за собой широкую, красную от крови борозду, заполненную мертвецами и умирающими. Они сделали это — они прошли через Импи насквозь, однако из шестидесяти четырех человек потеряли убитыми двадцать — и своего капитана. Когда они вырвались из сечи, Эрнест увидел, что с его клинка капает кровь, и рукоятка палаша тоже окрашена красным — но он не мог вспомнить, что он кого-то убивал. Эльстон был мертв, и теперь корпусом командовал Эрнест. Атаковать они больше не могли, поскольку многие лошади и несколько человек были ранены. Поэтому он повел их в тыл Импи, а те оставили отряд человек в триста, чтобы разобраться с оставшимися белыми, и продолжили свой путь. В этом бою они потеряли многих — но это не мешало им искренне восхищаться храбростью белых людей, ничуть не уступающей их собственной. Оставленный отряд зулусов бегом преодолел равнину, взобрался на гору, с которого корпус Эльстона начинал атаку — а это было единственное место, куда мог бы отступить отряд Эрнеста, — и, укрывшись за камнями, открыл неточный, но яростный огонь по белым. Эрнест бросил людей вперед, потерял еще двоих людей и несколько лошадей, но все же смог добраться до вершины хребта. Каков же был его ужас, когда сверху он увидел около тысячи зулусов, видимо, находившихся в резерве и теперь заполнивших проход в скалах, ведущий на равнину! Пробиться через них было невозможно — слишком много раненых, слишком много пеших — да и передвигаться быстро оставшиеся лошади уже не могли. Их положение было отчаянным, и, оглянувшись на своих людей, Эрнест понял, что и они тоже это понимают. Решение он принял быстро. В нескольких шагах от того места, где остановился израненный корпус, находилась небольшая возвышенность, нечто вроде кургана. Эрнест направил Дьявола туда, спешился и приказал спешиться остальным. Так высока была дисциплина в отряде и так велик авторитет Эрнеста, что ему подчинились беспрекословно; никто не делал попыток убежать. Они выполняли его приказы, прекрасно понимая свое отчаянное положение. Вскоре они построились кругом на самой вершине кургана. — Что ж, солдаты Корпуса Эльстона! — громко сказал Эрнест. — Мы сделали все, что смогли, давайте же подороже продадим свои жизни. Люди разразились приветственными криками — но в следующую минуту зулусы, подкравшиеся под прикрытием камней, с яростными воплями напали на них. Через пять минут, несмотря на шквальный огонь, погибли еще шестеро из маленького отряда. Четверо были застрелены, двоих зарубили ассегаями по крайней мере около десятка зулусов, попытавшихся безрассудно прорваться сквозь кольцо белых. Они и сами погибли во время этого рывка, но не раньше, чем зарубили двоих из отряда Эльстона. Оставшиеся — их было немногим более тридцати человек — сделали еще несколько шагов к вершине, сузив свой круг и не переставая стрелять в нападавших. Зулусы, благодаря точной стрельбе опытных охотников, потерявшие уже более пятидесяти человек, были обозлены тем, что несут такие потери от рук столь малочисленного противника, и решили разом покончить с белыми одной отчаянной атакой. Эрнест высмотрел их предводителя — здоровенного, почти полностью обнаженного парня с маленьким круглым щитом. На шее у него висело ожерелье из львиных клыков. Великан расхаживал среди зулусов, не обращая внимания на стрельбу, подбадривая своих подчиненных. Эрнест вскинул винтовку, которую только что забрал из рук мертвого солдата — сам он до сих пор еще даже не стрелял, — тщательно прицелился и выстрелил прямо в широкую грудь зулусского вождя, находившегося от них примерно в восьмидесяти ярдах. Выстрел был превосходен: черный парень подпрыгнул и рухнул замертво. Впрочем, его место тут же занял другой — и решающая атака началась. Однако зулусам надо было преодолеть подъем, почти лишенный естественных укрытий, а сверху их поливали безжалостным огнем белые люди. Когда они были в двадцати ярдах, их дважды заставляли отступить — но они возвращались. Теперь они были уже в двенадцати ярдах. Огонь не смолкал. На мгновение зулусы дрогнули — а затем бросились вверх по склону. — Сомкнуться! — закричал Эрнест. — Палаши и револьверы к бою! Его голос был хорошо слышен даже сквозь грохот стрельбы. Солдаты побросали бесполезные теперь винтовки — и воздух наполнился характерным треском револьверных выстрелов. Кольцо зулусов сомкнулось вокруг обреченного отряда, раздался громкий вопль «Булала умлунго!» (Убивайте белых людей!) Трещали выстрелы, сыпались искры от столкновения клинков палашей и ассегаев — маленький и все уменьшающийся отряд продолжал сражаться из последних сил. Никогда еще не сражались люди так яростно — в безнадежном бою. Они бились — и падали, один за другим, зарубленные и заколотые, но не нашлось бы ни одного мертвого тела со смертельной раной на спине… Наконец оставшиеся зулусы отступили; они полагали, что все кончено. Однако трое мужчин все еще стояли спина к спине на самой вершине кургана — и шестеро зулусов медлили, боясь к ним приблизиться. Вождь зулусов рассмеялся при виде этой картины и быстро отдал короткий приказ. Оставшиеся зулусы стремительно перестроились, быстро прикончили всех раненых и поспешили вслед за основным отрядом, давно ушедшим вперед. Они оставили шестерых — чтобы те прикончили троих. Триста человек должны были уничтожить то, что осталось от корпуса Эльстона — уходила с холма едва ли сотня. В бою с превосходящими силами противника белые люди выставили врагу отличный счет. Трое оставшихся в живых, стоя на вершине кургана — так уж распорядилась судьба, — были Эрнест, Джереми и тот моряк, что жаловался на своего «саргустичного» товарища. Товарищ этот, как оказалось, только что погиб рядом с ним. У них кончились патроны. Палаш Эрнеста остался в теле зулуса. Джереми был вооружен палашом, а моряк держал в руках карабин. Внезапно один из зулусов молниеносно поднырнул под карабин и вонзил нож в грудь моряка. Оглянувшись, Эрнест увидел, как посерело его лицо. Честный парень умирал, как и жил — страшно ругаясь. — Ах ты, черная образина! Держи и будь проклят! Приклад карабина опустился на голову зулуса — и череп с треском разлетелся на куски. Оба упали мертвыми. Остались пять зулусов — против Эрнеста и Джереми. Но постойте! Внезапно гора трупов зашевелилась, и из-под нее поднялся новый враг. Нет, это не враг! Это Мазуку, которого уже посчитали мертвым, — однако, судя по всему, он более чем жив! Напав на зулусов сзади, он мгновенно убил одного из них. Осталось четверо. Затем Мазуку схватился еще с одним и после долгой борьбы убил и его. Однако трое зулусов все еще стояли против двоих белых. Два белых мужчины стояли спина к спине, сверкая глазами и тяжело дыша, но не подпускали к себе врагов. С ног до головы покрытые кровью, отчаявшиеся, ожидавшие смерти, они являли собой впечатляющее зрелище. Двое зулусов бросились на гиганта Джереми, один — на Эрнеста. Эрнест был безоружен, но схватился за древко ассегая и притянул к себе противника. Сплетясь в смертельном объятии, они упали и покатились вниз по холму; каждый старался вырвать ассегай из рук противника. Зулус держал оружие крепко, но Эрнесту все же удалось вытянуть рукоять у него из рук дюймов на восемь. Неимоверным усилием он рванул еще раз — и полоснул зулуса лезвием по горлу. Тот испустил дух. Эрнест силился встать, чтобы увидеть окончание драмы; прийти на помощь Джереми он уже не успевал. Мазуку все еще стоял над трупом своего врага. А что же Джереми? Одного из зулусов он ударил своим палашом. Удар пришелся на край щита, обтянутого воловьей шкурой, и лезвие застряло в трещине. Зулус резко вывернул щит — и Джереми остался без оружия, беззащитным. Теперь он мог надеяться только на свою неимоверную силу — против стали. Он был обречен… Но нет! Из последних сил рванувшись вперед, Джереми схватил за горло сначала одного, а затем и второго зулуса и могучим движением развел руки в стороны. Затем с хриплым воплем, напрягая все мышцы, он столкнул зулусов головами — так сильно, что они лишились сознания. Подоспевший Мазуку хладнокровно прикончил обоих. Так закончилась эта битва. Эрнест и Джереми повалились на покрытую кровью траву, задыхаясь и хватая ртами воздух. Зарево над лагерем уже погасло, и теперь, после всех воплей, стонов умирающих и звона оружия, тишина опустилась на вельд, глубокая и всеобъемлющая. Так они и лежали — два белых человека в окружении мертвых зулусов, и солнце мирно светило на живых и на мертвых. Со смутным недоумением Эрнест заметил на многих мертвых лицах улыбки. Зулусы в смерти — радовались, ибо они прошли Воротами Слоновой Кости и достигли Улыбающейся Земли. Как же тихо было здесь теперь! Крошечная черно-белая птичка, перелетая от муравейника к муравейнику, уселась на лоб молодого паренька, единственного сына своей матери. Возле него лежали два убитых зулуса. Птичка знала, почему он так неподвижен — и не боялась. Эрнесту нравился этот парнишка, он хорошо знал его мать — и теперь пытался представить, что она почувствует, узнав о судьбе сына… Однако в этот момент тишину нарушил голос Мазуку. Зулус стоял и смотрел на тело одного из тех, кого он убил, а затем начал произносить торжественную речь по-зулусски. — Ах, брат мой, сын моего отца, с которым вместе я играл в детстве! Я всегда говорил тебе, что ты совершенно не умеешь обращаться с ассегаем — но никогда не думал, что у меня будет возможность доказать это тебе. Что ж, теперь горю не помочь, долг есть долг — и семейные узы должны уступить долгу. Спи спокойно, брат мой, мне было больно убивать тебя. Очень! Эрнест с трудом поднялся на ноги — и внезапно расхохотался истерическим смехом, давая выход накопившимся чувствам, над этим наивным морализаторством зулуса. В это время поднялся и Джереми, подошел к Эрнесту. Вид его был страшен: руки, лицо, одежда были красны от крови; кровь текла из ран на его лице и руке. — Пойдем, Эрнест. Надо убираться отсюда! — сказал он глухо. — Да, пожалуй, — откликнулся тот. На равнине у подножия холма мирно паслись несколько лошадей. Среди них был и вороной жеребец Эрнеста, Дьявол, получивший в бою небольшую рану. Друзья медленно шли к лошадям, останавливаясь и подбирая оружие, валявшееся на земле. Эрнест вытащил ассегай из раны человека, которого он убил, сражаясь за свою жизнь. «На память!» — сказал он мрачно. Лошадей поймали без труда и выбрали для Джереми и Мазуку двух самых лучших; Эрнест сел на верного Дьявола. Потом они поехали на вершину горного хребта, за которым перед началом схватки Эрнест видел подкрепление зулусов. Здесь Мазуку спешился и ползком прокрался на самый верх, а потом, к их огромному облегчению, сообщил: — Все зулу ушли, долина пуста! Трое всадников миновали перевал, на который всего полтора часа назад поднимались в компании еще шестидесяти человек — теперь все эти люди были мертвы. — Все погибли, кроме нас. Это не может быть случайностью, — тихо сказал Джереми. — Это Судьба! — коротко откликнулся Эрнест. С вершины холма они увидели лагерь, теперь выглядевший тихим и спокойным — белые палатки так и стояли на месте, а Юнион Джек трепетал на ветру. — Наверное, там тоже все мертвы, — сказал Эрнест, — В каком направлении двинемся? Вот теперь присутствие Мазуку и его знание родной страны сослужили им неоценимую услугу. Он вырос в краале неподалеку отсюда — и в буквальном смысле знал каждый дюйм этой земли. Обойдя лагерь по широкой дуге, он повел маленький отряд на левый край поля битвы и после двухчасовой скачки по этим диким землям вывел их к броду через реку Баффало, который хорошо знал. Выше по течению его пытались перейти немногие выжившие в резне — и утонувшие при попытке сделать это. За все время пути они не видели ни одного зулуса, потому что все зулусское войско ушло в другом направлении, а потому им не пришлось в ужасе спасаться бегством. В конце концов они перебрались через реку и оказались в сравнительной безопасности на территории Наталя. После долгих споров они решили отправиться в небольшой форт в Хелпмакааре и уже проехали милю или около того, когда чуткое ухо зулуса уловило справа далекий звук перестрелки. Это были враги — отряды Унди атаковали Роркс Дрифт. Оставив лошадей на попечении Мазуку, Эрнест и Джереми взобрались на коппи — небольшой, отдельно стоящий холм. Это была, скорее, небольшая гора из бурого железняка, на вершине которой лежала огромная плоская плита почти чистой железной руды. На нее они и вскарабкались, чтобы осмотреть течение реки, однако ничего толком не увидели. Роркс Дрифт был закрыт от них холмами. Все это время как раз в районе Хелпмакаара на небе собиралась огромная грозовая туча. Теперь, как это обычно бывает перед закатом в Южной Африке, туча стремительно двинулась против ветра прямо на них, обрамленная бледной радугой. Напротив тучи солнце уже садилось за горизонт, и его золотые лучи, пронизывая голубое небо, падали на черную массу облаков, отражаясь от них яркими сполохами. По земле бежали широкие полосы тени, из брюха тучи вырывались молнии — так сражались над Зулулендом небесные копья и щиты. На гору Изандлвана падал один широкий и яркий луч света, словно венчая ее на закате этого страшного дня царицей смерти, однако само поле битвы уже утонуло во мраке. Это была потрясающая сцена. Наверху небо, затянутое пламенеющими облаками и играющее всеми оттенками, какие только можно увидеть в раю. Позади — обрамленная радугой черная туча, словно эбеновое дерево в оправе из золота и драгоценных камней. Впереди — широкая равнина, поросшая густой травой, волнующаяся, словно серо-зеленое море, — и Баффало, скользящая через нее серебряной змеей, а за нею — горы, тронутые последним поцелуем солнца, и их погруженные во мрак склоны… Да, это была великолепная сцена. Природа, будучи в прекрасном настроении, демонстрировала все свои краски и оттенки, щедро рассыпая их по земле и небу и смело смешивая их до тех пор, пока они не тонули во мраке приближающейся ночи. Жизнь в сияющем экстазе вспыхивала напоследок — чтобы потом мирно уснуть в объятиях своей вечной и верной любовницы — Смерти… Эрнест смотрел и не мог отвести восхищенного взгляда. Красота проникла в его сердце, и оно откликнулось на составленные ею аккорды земли и небес. Она словно приподняла его над миром, подарив неописуемые эмоции. Взгляд Эрнеста блуждал по бескрайнему небу, ища там присутствие Бога; затем он упал на Изандлвану, туда, где в самых глубоких тенях спали вечным сном его товарищи. Их мертвые глаза тоже были устремлены к небу — но видеть его великолепие они больше не могли. Дух Эрнеста ослаб, ослабло и тело, вспомнившее все тяготы и удары, — и Эрнест погрузился в глубокую скорбь. — О Джереми! — всхлипнул он. — Они все мертвы, кроме нас с тобой, и я чувствую себя трусом, который живет только для того, чтобы оплакивать их смерть. Когда все было кончено… я должен был позволить этому зулусу убить меня, но я был трусом — я боролся за свою жизнь. Если бы я на мгновение удержал свою руку — я бы ушел вместе с Эльстоном и остальными, Джереми! — Брось, брось, старина! Ты сделал все, что мог, ты сражался вместе с корпусом до последнего. Никто не мог бы сделать больше. — Да, Джереми, но я должен был умереть вместе с ними, это был мой долг! Мне не дорога моя жизнь — а им была дорога. Я постоянно притягиваю несчастья. Я застрелил своего кузена, я потерял Еву, а теперь все мои товарищи убиты, и лишь я, их командир, избежал смерти. И возможно, это еще не все беды, что мне суждено пережить Что дальше — спрашиваю я себя. Что дальше? Отчаяние Эрнеста было столь велико, что Джереми, поняв состояние друга и не желая позволить ему впасть в истерику, крепко обнял его и прижал к себе. — Послушай меня, старик! Бесполезно забивать себе голову подобными мыслями. Мы всего лишь перышки, летящие по ветру, — должны лететь туда, куда он нас несет. Иногда это добрый и ласковый ветер, иногда жестокий и злой. Сейчас все плохо, но мы должны сделать все, что в наших силах, и дождаться, пока он не подует в правильную сторону. Слушай, мы здесь стоим уже больше пяти минут, лошади отдохнули. Надо торопиться, если мы хотим добраться до Хелпмакаара до темноты, и я надеюсь, что мы попадем туда раньше зулусов. Проклятье! Идет буря — идем же! С этими словами Джереми спрыгнул с каменной плиты и начал спускаться с коппи. Эрнест слушал его, закрыв лицо руками, но теперь выпрямился и молча последовал за другом. Он уже подошел к краю плиты, когда порыв ледяного ветра ударил ему в лицо, охлаждая пылающий лоб, и Эрнест повернулся, чтобы бросить последний взгляд на величественную картину. То был последний земной пейзаж, который он видел. Ибо в этот самый миг из черного брюха тучи вырвался ослепительный язык белого огня — молния ударила прямо в плиту, состоящую большей частью из железа, и расколола ее, уйдя в землю к самому основанию холма. Одновременно раздался оглушительный удар грома. Джереми, бывший уже внизу, пошатнулся и на некоторое время оглох, а когда пришел в себя и обернулся — Эрнеста не было там, где они только что стояли. Не видя друга, вне себя от ужаса, Джереми со всех ног кинулся обратно на холм, отчаянно выкрикивая имя Эрнеста. Ответа не было. Он нашел Эрнеста лежащим на земле, бледного и бездыханного…Часть III
Глава 37
БЕРЕГА ДОБРОЙ СТАРОЙ АНГЛИИ
Стоял апрельский вечер; корабль плыл вдоль южного побережья Англии. Солнце только что прорвалось через черную грозовую тучу, чтобы бросить последний взгляд на этот мир прежде, чем он отойдет ко сну. — Повезло! — сказал маленький человечек, повисший на леерах, протянутых вдоль борта «Конвей Касл». — Теперь, мистер Джонс, взгляните: может быть, вы разглядите их при солнечном свете. Мистер Джонс серьезно и неторопливо оглядывал горизонт в бинокль. — Да, — сказал он наконец. — Я вижу их вполне отчетливо. — Видите что? — спросил другой пассажир, подходя. — Берега доброй старой Англии! — весело откликнулся маленький человечек. — Всего-то? — пожал плечами спрашивавший. — Да ну их к черту, эти самые берега. — Интересное замечание для человека, который едет домой жениться! — рассмеялся маленький человечек, повернувшись к мистеру Джонсу. Однако мистер Джонс молча опустил бинокль и неторопливо покинул палубу. Вскоре он уже входил в каюту, причем дверь открыл без стука. — Англия на подходе, старина! — сказал мистер Джонс кому-то, кто спиной к нему полулежал в шезлонге и задумчиво курил. Человек этот сделал такое движение, будто хотел подняться, но передумал и поднес руку к черной повязке, закрывавшей его глаза. — Я совсем забыл, — с усмешкой промолвил он. — Англии будет много, очень много… прежде чем я смогу ее увидеть. Кстати, Джереми, я хочу тебя кое о чем спросить. Эти доктора такие лгуны…. — тут он снял повязку. — Взгляни, пожалуйста, на меня и скажи честно: я изуродован? Они вытекли, или перекошены, или с бельмом — или что-нибудь в этом роде? И Эрнест Кершо поднял на друга свои темные глаза, которые почти не изменились, если не считать того болезненно-тревожного выражения, которое в них застыло — выражения, свойственного почти всем слепым. Джереми внимательно оглядел лицо друга, заглянув сперва в один глаз, потом в другой. — Ну же! — нетерпеливо сказал Эрнест. — Я чувствую твой взгляд! — Хамба гачле, старик! — невозмутимо отозвался Джереми. — Я занимаюсь ди… ди-аг-нос-ти-ро-ва-ни-ем! Вот и все. По всей видимости, твои оптические приборы выглядят не хуже моих. Девушки будут на них заглядываться — и ты сам услышишь, что они скажут. — О, хорошо! За это стоит быть благодарным. Тут кто-то постучал в дверь каюты. Джереми открыл дверь и впустил стюарда. — Вы посылали за мной, сэр Эрнест. Что вам угодно? — О да, помню. Не будете ли вы так добры, чтобы найти моего слугу? Он мне нужен. — Слушаюсь, сэр Эрнест. Эрнест нетерпеливо взмахнул рукой, но стюард уже ушел. — Он мне надоел со своим постоянным «сэр Эрнест»! — Что, ты до сих пор не привык к своему титулу? — Не привык и не хотел бы иметь возможность привыкнуть — но приходится. Это все из-за тебя, Джереми. Если бы ты не проговорился тому смешному маленькому доктору, а он не бросился бы искать информацию в «Меркурии Наталя» — это никогда не выплыло бы наружу. В Англии я бы мог отказаться от титула, но теперь все вокруг знают, что я баронет, сэр Эрнест — и останусь сэром Эрнестом до конца дней своих. — Ну, большинству людей это не кажется таким уж несчастьем, старина. — Разумеется, это же не они застрелили настоящего наследника. Кстати, что пишет адвокат? Поскольку мы уже недалеко от дома, неплохо было бы ему ответить. Ты найдешь письмо в моей шкатулке. Прочти его, адвокат хороший парень. Джереми открыл шкатулку, изрядно помятую и исцарапанную за годы странствий, и стал искать письмо. В шкатулке лежала целая коллекция редчайших артефактов, среди которых — кружевной платок, когда-то принадлежавший Еве Чезвик; длинная прядь каштановых волос, перевязанная голубой лентой; такая же, но золотистая прядь — явно не из Евиных локонов; целый гербарий из засушенных цветов — нежные дары, бог знает, чьи, ибо засушенные цветы довольно трудно отличить друг от друга; множество писем и других реликвий. Наконец Джереми нашел нужный документ, подписанный аккуратным почерком опытного клерка, осторожно отодвинул пряди волос и прочую ерунду, развернул письмо и начал читать.— «Сент-Этельред Корт, Полтри, 22 января 1879 года. Сэр…»
— Взгляни! — перебил его Эрнест. — В этот день мы сражались на поле Изандлвана — а эти чинуши писали мне письмо о том, что я баронет. Кровавая рука судьбы, не иначе…
— «Сэр! (снова начал Джереми) Исполняя свой долг, сообщаем вам о том, что 16 января сего года скончался наш уважаемый клиент, сэр Хью Кершо, баронет, из Аркдейл Холл, Девоншир. После его смерти вы наследуете титул как единственный сын единственного брата сэра Хью, Эрнеста Кершо, эсквайра. Нам не требуется входить во все несчастные обстоятельства получения этого наследства. В данный момент у нас есть заверенная копия Высочайшего помилования Ее величества, дарованного вам, согласно Трансваальскому Акту об амнистии от 1877 года, присланная сэром Реджинальдом Кардусом, эсквайром, Дум Несс, Саффолк, и которую у нас нет ни права, ни желания оспаривать. Нам совершенно очевидно, что после получения Высочайшего помилования вы полностью освобождаетесь от ответственности за нарушение закона, которое вы совершили несколько лет назад, — и наш долг сообщить вам об этом официально. Ваш титул также официально подтвержден оригинальным патентом. Как и следовало ожидать в сложившихся обстоятельствах, покойный сэр Хью не испытывал к вам никаких добрых чувств. Мы не преувеличим, если скажем, что новость о вашем помиловании ускорила его кончину. Когда младший Хью Кершо, павший позднее от вашей руки, достиг совершеннолетия, семейная недвижимость была разделена, и к нему перешли особняк Аркдейл Холл, многочисленные и весьма ценные семейные реликвии, а также олений парк, занимающий площадь в 185 акров. Теперь они переходят к вам, и мы рады будем получить от вас дальнейшие указания, если вы окажете нам честь своим доверием. Также, согласно воле последнего баронета, часть поместий и земель переходит дальнему родственнику его покойной жены, Джеймсу Смиту, эсквайру, Кемпердоун Роуд, 52, Верхний Клепхэм. Полагаем, что представили вам все факты, связанные с вашим вступлением в наследство и, в ожидании ваших указаний, остаемся с неизменным почтением — ваши покорные слуги, поверенные Пейсли и Пейсли».Дата, подпись.
— Ну, хватит об этом, — таков был ответ Эрнеста. — Интересно, на кой мне сдался Аркдейл Холл, неисчислимые семейные реликвии и олений парк в 185 акров? Я их продам, если смогу. Отличное у меня положение: баронет с доходом в полпенни и шестипенсовик в год. Отлично, просто отлично! — Хамба гачле! — все так же невозмутимо откликнулся Джереми. — У нас будет достаточно времени все хорошенько обдумать и рассмотреть. А теперь, раз мы занялись чтением вслух, могу зачитать тебе избранные места из моей переписки с командующим вооруженными силами Ее величества в Натале и Зулуленде. — Давай. Огонь! — устало улыбнулся Эрнест. — Первое письмо — Ньюкасл, Наталь, 27 января, от твоего покорного слуги — командованию.
«Сэр! Имею честь доложить по приказу лейтенанта и адъютанта Корпуса Эльстона Кершо, который после удара молнии не способен пока сделать это сам, что 22 января Корпус Эльстона, получив приказ разведать нафлангах пути передвижения отрядов Унди, отправился на выполнение боевой задачи. Прибыв на горный хребет, уже захваченный Унди, отряд по приказу капитана Эльстона спешился и открыл огонь по противнику с трехсот ярдов, что произвело значительный эффект. Однако эти действия не могли остановить Унди, численность которых составляла от трех до четырех тысяч человек, поэтому капитан Эльстон отдал приказ атаковать врага с тыла. Это было выполнено с известным успехом. Зулусы потеряли несколько десятков человек, потери корпуса, прорывавшегося сквозь гущу врага, составили двадцать человек, в числе погибших — капитан Эльстон и его сын, Роджер Эльстон, служивший адъютантом отца. Несколько лошадей были ранены вместе со своими всадниками, что исключило быстрое отступление корпуса. Лейтенант Кершо, приняв командование над отрядом, пытался вывести его в безопасное место, однако потерпел неудачу из-за большого количества раненых и оставшихся пешими солдат. Корпус был окружен отрядом зулусов численностью около трехсот человек, которые перекрыли отход через перевал в долину, что являлось единственным путем возможного спасения. В сложившихся обстоятельствах лейтенант Кершо решил принять бой и вместе с остатками отряда оказал яростное сопротивление противнику, заняв выгодную позицию на высоте. Бой закончился почти полным истреблением Корпуса Эльстона и гибелью нападавших зулусов. Имена выживших — лейтенант Эрнест Кершо, старший сержант Джереми Джонс и рядовой Мазуку (единственный туземец в отряде). Они смогли спастись, поскольку противник был либо полностью истреблен, либо находился в другом месте, следуя за отрядами Унди. К сожалению, во время отступления лейтенант Кершо получил удар молнией и ослеп. Он оценивает урон, нанесенный Корпусом Эльстона врагу, в 400–450 человек. Перед лицом беспримерной доблести, которую проявили его боевые товарищи, лейтенант Кершо считает своим долгом сохранить и увековечить имена всех солдат корпуса. Каждый из них сражался с беспримерной храбростью, все они пали на поле боя. Лейтенант Кершо просит командование установить и отметить имена всех погибших, поскольку не может полагаться лишь на свою память, а все документы Корпуса Эльстона были уничтожены либо пропали. Подтверждаю, что все маневры, предпринятые лейтенантом Кершо в этих сложных условиях, были оправданы, и надеюсь, что они будут оценены командованием. По поручению и от имени лейтенанта Кершо — старший сержант Джереми Джонс, подпись».
А теперь — ответ, пришел из Марицбурга, 2 февраля.
«Сэр! 1. Прошу передать лейтенанту Кершо и всем выжившим членам отряда, известного под именем Корпус Эльстона, что командование высоко ценит храбрость и героизм, проявленные Корпусом перед лицом превосходящих сил противника во время боестолкновения на Изандлване 22 января сего года. 2. Командование с глубоким сожалением узнало о несчастье, постигшем лейтенанта Кершо, и выражает ему признательность за умелое командование Корпусом, а также сообщает, что его имя будет вписано в реестр для представления Ее величеству, с тем, чтобы она имела возможность по достоинству оценить его услуги[418]. 3. Мне поручено предложить вам место в любом из действующих добровольческих корпусов во время текущей кампании. Остаюсь с неизменным уважением и т. д. — Начальник штаба такой-то, подпись».
Затем пришел черед короткого письма старшего сержанта Джонса, в котором он выражал благодарность командованию за высокое мнение о его заслугах, однако с сожалением был вынужден отклонить предложение о поступлении на военную службу в любом другом добровольческом корпусе. Далее следовало частное письмо от офицера штаба, предлагавшего старшему сержанту Джонсу всяческое содействие в поступлении на действительную военную службу в армии. Заканчивалась переписка ответом старшего сержанта Джонса, в котором он снова выражал благодарность — но отклонял и это предложение. Здесь Эрнест вскинул голову и подался вперед. Смысла в этих движениях не было — он больше не мог видеть лицо своего друга, однако тело неохотно расставалось со старыми привычками. — Почему ты отказался от предложений, Джереми? Джереми неловко поднялся, отошел к иллюминатору и некоторое время молчал. — По принципиальным соображениям! — наконец сказал он. — Чепуха, я же знаю, что тебе хотелось служить в армии! Ты разве не помнишь? Когда мы направлялись в лагерь на Изандлване, ты сказал, что если корпус добьется успехов, мы должны попробовать поступить в действующую армию. — Да, помню. — Так в чем же дело? — В том, что я сказал «мы». — Я не совсем тебя понимаю, Джер. — Мой дорогой Эрнест, ты ведь теперь вряд ли сможешь пройти комиссию для службы. Эрнест усмехнулся. — Какое это имеет отношение к делу? — Самое прямое. Я не собираюсь оставлять тебя одного в твоем несчастье и идти прохлаждаться в армию. Я не смог бы этого сделать, я был бы несчастен, сделай я это. Нет, старик, мы вместе прошли через многое — и, клянусь Богом, будем и дальше поддерживать друг друга. До самой последней главы нашей жизни! Эрнеста и раньше всегда трогали благородные порывы, но теперь, когда нервы его были расшатаны, а сердце смягчилось от пережитых несчастий, его темные незрячие глаза заблестели от слез. Он протянул руку, нашарил плечо Джереми, притянул его к себе и крепко обнял. — Пусть меня постигли беды, Джереми, но, по крайней мере, одним меня точно благословили Небеса, и похвастаться подобным благословением могут немногие. Это — истинный друг. Если бы ты погиб вместе с остальными в Изандлване, мое сердце разорвалось бы от горя. Я думаю, что наша любовь друг к другу куда крепче любви к женщине. Впрочем, это неважно. Был ли сам Абессалом благороднее тебя, Джереми, а ведь в нем не было ни единого порока, от ног до самого венца на голове? Твои волосы вряд ли стоят «двести шекелей во имя царя земного», но я предпочту тебя Абессалому со всеми его волосами и всем остальным! Это была старая привычка Эрнеста — болтать разную легкомысленную чушь, когда сердце его по-настоящему чем-то тронуто, и Джереми прекрасно о ней знал — и потому молчал. Снова раздался стук в дверь — на этот раз пришел Мазуку, причем Мазуку преображенный. Вместо традиционного белоснежного одеяния на нем была фланелевая рубашка с огромным торчащим воротником, серый костюм (который был ему мал) и сапоги, слишком большие для его маленьких и стройных ног; у Мазуку, как и у большинства зулусов хороших кровей, были весьма изящные руки и ноги. Чтобы добавить еще больше причудливости его внешности, на голове Мазуку, все еще украшенной по зулусской моде косичками с вплетенными в них костяными трубочками, красовался крошечный и весьма залихватского вида котелок, а в руке великий воин зулу нес свою любимую и самую большую из его коллекции дубинку. Открыв дверь каюты, он замер на пороге, приветствуя Эрнеста и Джереми в своей обычной манере — вскинув руку, — а затем вошел и, тоже по привычке, уселся на корточки, ожидая приказов хозяина и совершенно забыв, что теперь на нем совсем иной, нежели в Африке, наряд… Результаты этого оказались катастрофическими. Узкие брюки с громким треском лопнули по всему шву, испугав зулуса: Мазуку взлетел в воздух, потом испуганно осмотрел себя… и немедленно успокоился, сообщив, что «так гораздо просторнее». Джереми расхохотался и быстро пересказал Эрнесту, что случилось. — Откуда у тебя эти вещи, Мазуку? — спросил Эрнест. Мазуку объяснил, что купил все это великолепие за три фунта и десять шиллингов у пассажира второго класса, так как погода становится все холоднее. — Не носи это больше. Я куплю тебе хорошую одежду, как только мы прибудем в Англию. А если тебе холодно — завернись в плащ. — Кооз! Хорошо! — Как там Дьявол? — Эрнест забрал верного жеребца, на котором спасался с поля Изандлваны, в Англию. Мазуку отвечал, что конь в порядке, но немного игрив. Один человек решил подразнить его кусочком хлеба. Конь дождался, пока человек пойдет мимо, схватил его зубами за шиворот, приподнял и долго тряс. — Хорошо! Дай ему на ночь отрубей. — Кооз! — Значит, тебе становится холодновато? Не жалеешь, что отправился с нами? Я ведь предупреждал тебя, что такое может произойти. — У ка, Инкоос! (о нет, господин!) — с жаром отвечал зулус на своем родном мелодичном языке. — Когда мы в первый раз поднялись на корабль, который дымится, и поплыли по черной воде, из которой приходят белые люди, мои кишки скрутились и расплавились внутри меня. Я пережил сотню смертей — и вот тогда я жалел, да! О! — сказал я себе тогда. — О, почему мой отец Мазимба не убил меня, вместо того, чтобы привести меня на эту огромную движущуюся реку? Конечно, если я выживу, то стану теперь белым человеком, потому что сердце мое белеет от страха, и все мои внутренности все равно уже вылились в великую реку. Да, я говорил так, и еще многое другое говорил, что даже не могу вспомнить, но это были темные и страшные слова. Но тут, отец мой Мазимба, мои кишки перестали таять, и вместо них выросли новые, потому что я почувствовал голод. Я был рад и съел много говядины, а затем спросил свое сердце — что оно теперь думает о путешествии по великой черной воде. И сердце ответило мне так: Мазуку, сын Инголуву из племени Маквилисини народа Амазулу, — ты поступил правильно! Велик тот вождь, которому ты служишь, велик Мазимба на своем охотничьем пути, велик он в битве, ибо все Унди не смогли убить его и его брата — Льва (Джереми), и его слугу — Шакала (Мазуку), который спрятался в яме, а потом укусил до смерти всех, кто в нее свалился! О а — Мазимба велик, и сердце его полно доблести, ибо все видели, как он бился с Унди. Ум его полон знаниями и мыслями белого человека — и потому он придумал поставить своих людей в кольцо, которое выплескивало огонь так быстро, что все его храбрые всадники оказались похоронены под трупами Унди. Он велик! Он настолько велик, что небо почуяло в нем тагати — колдуна, и, испугавшись, решило поразить его своими молниями — но и тогда не смогло убить Мазимбу! Теперь же отец мой Мазимба блуждает и блуждает во мраке, не видя солнца и звезд, не видя света костра, блеска копья, или того огня, что горит в глазах храбрецов, когда они собираются на битву, или любви, что мерцает в глазах женщин. Как же быть? Не понадобится ли отцу моему Мазимбе верный пес, что поведет его сквозь тьму? И неужели Мазуку, сын Инголуву, окажется неверным псом и оттолкнет руку, что кормила его, предав человека, что храбрее самого Мазуку? Нет, никогда этому не бывать, господин мой и отец мой! Клянусь головой Чаки — куда пойдешь ты, туда пойду и я, и где ты построишь свой крааль — там будет и моя хижина! Кооз! Баба! После этой пылкой речи Мазуку отсалютовал хозяину и удалился, чтобы зашить порванные брюки. Его нынешний облик совершенно не сочетался ни с мелодичным звучным голосом, ни с поэтичным содержанием его речи. Инстинктивно, от природы зулус обладал теми качествами, которые в каком-то смысле делали его джентльменом высшей пробы, и уж во всяком случае, ставили его на голову выше тех белых христиан, которые относились к «ниггерам» как к презренным и низшим существам. Есть то, чему стоит поучиться и у зулусов — среди этих качеств мы, прежде всего, отметим спокойное мужество, с которым они смеются над смертью, и абсолютную преданность тем, кто получил право руководить ими, либо сам обладает достоинствами, способными завоевать их уважение. Этих «дикарей» отличает также честность и потрясающая правдивость. — Он хороший парень, наш Мазуку, — тихо сказал Эрнест, когда Мазуку ушел, — но я боюсь, как бы с ним не случилось одно из двух: либо он затоскует по дому и станет невыносим, либо он, так сказать, вольется в лоно цивилизации, сопьется и деградирует. Мне бы следовало оставить его в Натале.
Глава 38
ЗЛАЯ СУДЬБА ЭРНЕСТА
После знаменательной речи Мазуку миновала ночь — и около девяти часов утра молодая леди бегом взлетела по ступеням лучшего отеля Плимута и ворвалась в один из номеров, словно живой и очень привлекательный снаряд, чем немало удивила лысого пожилого джентльмена, мирно завтракавшего за столом. — Скажи на милость, Дороти, ты внезапно сошла с ума? — О Реджинальд — «Конвей Касл» уже почти в гавани, а я была в конторе и добилась разрешения отправиться туда на катере, так что собирайтесь, скорее! — Когда отходит катер? — Без четверти десять. — Значит, у нас есть еще три четверти часа в запасе. — О, пожалуйста, Реджинальд, поторопитесь — он может уйти раньше! Мистер Кардус улыбнулся, поднялся из-за стола и надел шляпу и пальто — «только чтобы сделать одолжение Дороти». На самом деле взволнован он был ничуть не меньше: на его бледных обычно щеках горел лихорадочный румянец, а руки слегка дрожали. Через четверть часа они уже прогуливались по набережной возле здания таможни, ожидая катер. — После всех этих лет — и слепой! — тихо говорил мистер Кардус. — Вы думаете, он сильно изуродован, Реджинальд? — Не знаю, дорогая, твой брат ничего об этом не писал. — Не могу в это поверить. Так странно думать, что он и Джереми избежали участи тех людей… Господь милосерден! Мистер Кардус заметил с улыбкой: — Циники — или те шесть десятков человек — вряд ли разделили бы это утверждение. Однако Дороти думала лишь о том, что Бог был добр лично к ней. Сегодня она была одета в розовое — и выглядела прелестной, словно «нежный розовый цветок, что растет в пшеничном поле». Дороти не стала красавицей в полном смысле этого слова, но она была по-настоящему очаровательна. Ее милое личико было свежим и всегда немного озабоченным (а судя по нескольким упрямым морщинкам, она так до конца и не разрешила все вопросы, волновавшие ее с детства), ее голубые глаза были большими и сияющими, фигурка обрела с годами милую округлость форм, но прежде всего она буквально излучала свет добра, сиявший вокруг нее, словно ореол. Все это и делало ее очаровательной. И какая разница, что рот был великоват, а носик несколько вздернут? Такие милые маленькие леди вполне могут обойтись без греческого носа или идеального рисунка губ. По крайней мере, их очарование останется с ними, даже когда пройдет молодость, а я позволю себе напомнить моему молодому прекрасному читателю, что наиболее пыльная и длинная часть дороги жизни тянется гораздо дальше верстового столба с отметкой «30»… Особенно привлекательной делали Дороти ее располагающие манеры, простота и чувство собственного достоинства. Она была идеальной маленькой леди. — Все на борт! Прошу вас, леди и джентльмены! — голос служащего нарушил тишину. — Проходим вот сюда! Мистер Кардус и Дороти направились к большому серому катеру с голубым вымпелом на мачте. Поездка была короткой, но Дороти и мистеру Кардусу она показалась бесконечной. Большой корабль все приближался, и в конце концов стало казаться, что сейчас он проглотит маленький катер. — Швартуйся! Осторожнее на борту! Теперь живее! Поторапливайтесь, лентяи! Давайте трап! Все было проделано очень быстро, и уже через несколько мгновений они стояли на палубе большого корабля среди толпы пассажиров и растерянно озирались в поисках Эрнеста и Джереми. Однако тех не было видно. — Надеюсь, они где-то здесь! — дрожащим голоском произнесла Дороти. Мистер Кардус снял шляпу и вытер вспотевшую лысину. Он тоже на это надеялся. В следующий момент Дороти испуганно отшатнулась, потому что прямо перед ними возник совершенно черный человек в белом бурнусе, накинутом поверх пальто, державший в одной руке громадное копье, а в другой — увесистый саквояж. Он энергично протолкался через толпу и яростно — иначе не скажешь — поприветствовал Дороти и мистера Кардуса. — Кооз! — воскликнул он, потрясая копьем прямо перед носом мистера Кардуса. — Инкосикаас! (Госпожа!) — и он повторил манипуляции с копьем уже перед Дороти. — Этот путь, мастер, сюда, мисси. Господин без глаз посылать меня к вам. Этот путь, за мной! Лев сейчас приведет господина. Ошеломленные, они последовали за ним, а Мазуку — ибо это был, разумеется, он, — сдавшись перед трудностями чужого языка, ворчал на зулусском (хотя мог бы ворчать и на санскрите, его все равно никто не понимал): — Прочь, низкие люди! Дайте дорогу старику с блестящей головой, на бровях которого живет мудрость, и прекрасной юной деве, нежному розовому бутону, что идет за мной! В этот момент Дороти увидела высокого широкоплечего мужчину, который осторожно выводил из каюты за руку… Тут Дороти забыла обо всем на свете и кинулась вперед. — О Эрнест! Эрнест! Щеки слепца вспыхнули, едва он услышал ее крик. Он оттолкнул руку Джереми и протянул обе руки навстречу этому голосу. Этих объятий легко было избежать — не все хотят целоваться со слепым — но Дороти и не подумала их избегать. Напротив, она с разбегу уткнулась Эрнесту в грудь, и его руки инстинктивно сомкнулись вокруг нее, пока он все еще говорил: «Дороти, где ты…» — Здесь, Эрнест, здесь! Я здесь! В следующий момент он приподнял ее и поцеловал горящее личико, а она вернула ему поцелуй. Затем она так же бросилась на шею к Джереми — вернее, он сам ее подхватил, приподнял на два или три фута и поцеловал. Подоспевший мистер Кардус взволнованно тряс им руки, сжимая руку Эрнеста особенно крепко, а стоявший рядом Мазуку по зулусскому обычаю исполнил небольшую приветственную песню о том, как великие вожди вернулись к своему краалю после долгого пути, на котором они… и так далее, и как Мудрость, принявшая облик старика с сияющей головой, без всякого сомнения — мужа многих жен и отца многих детей… и так далее, и Красота, принявшая облик маленькой и прекрасной… и так далее — встретили их… и так далее — после чего все едва не разрыдались от счастья и поспешили отправиться на квартердек. Сбивчиво разговаривая обо всем сразу и хором, они принялись собирать вещи Эрнеста и Джереми, и, разумеется, перепутали все мешки и чемоданы. В итоге их просто свалили в кучу, а Мазуку уселся на ее вершине с ассегаем в руке — словно торжественное предупреждение ворам (ох, несладко пришлось бы вору, рискнувшему просто приблизиться к этой горе вещей). Тут стюарды привели Дьявола. Вы не поверите! Дороти бестрепетно и нежно погладила бархатные ноздри громадного черного жеребца — и он понял, как она добра; Дьявол немедленно отказался (на время) от своей излюбленной привычки кусать всех, кроме хозяина, и лишь тихонько заржал, требуя сахара. Потом Эрнест положил руку коню на загривок — поскольку Дьявол никому, кроме него и Мазуку, не позволял таких вольностей, — и пошел вдоль его бока, пока не нащупал шрам, оставленный ассегаем Инди, и не показал им. Глаза Дороти наполнились слезами благодарности, когда она подумала, через что прошли этот конь и его всадник, чтобы выжить; подумала она и о печальных останках тех, кто некогда скакал бок о бок с Эрнестом — и ей страстно захотелось снова его поцеловать, но сейчас это было бы уже неприлично… Поэтому она только крепче сжала его руку, чувствуя, как испаряется печаль прожитых в одиночестве лет, уступая место радости и предвкушению счастья. Вскоре они все спустились на берег, отправились в отель и наконец-то сели все вместе в уютной гостиной, которую выбирала и украшала Дороти — здесь повсюду стояли вазы с фиалками, поскольку она помнила, что Эрнест их очень любил. После недолгой беседы мистер Кардус и Джереми отправились обратно на таможню, за вещами — где и обнаружили Мазуку, сдерживавшего полдюжины великолепных таможенных чиновников ударами своей боевой дубинки. Таможенники имели наглость пожелать осмотреть вещи господина — и теперь Мазуку осыпал их эпитетами, которых они, к счастью, не понимали. Тем временем в гостинице Эрнест сказал Дороти: — Долл, сегодня прекрасный день, не так ли? Возьмешь меня на прогулку, дорогая? Мне бы очень хотелось пройтись. — Ну конечно, Эрнест! — И тебя не смутит общество слепого? Ведь тебе придется держать меня за руку. — Эрнест, ну как ты можешь! «Захочет ли она дать ему руку — слыхали?!» — думала Дороти, поспешно убежавшая за шляпкой. Да она бы до конца дней его держала за руку! Где-то в глубине сердца она почти благословляла его слепоту — потому что она их сближала. Без Дороти этот высокий сильный мужчина будет беспомощен — а она всегда будет рядом, чтобы помогать ему. Он не сможет читать, писать письма, переходить из комнаты в комнату… разумеется, скоро она так тесно будет с ним связана, что станет незаменимой. А потом… потом, возможно… Тут ее сердце забилось с такой силой, что перехватило дыхание и ноги ослабели. Дороти была вынуждена прислониться к стене и немного передохнуть. Ибо душа ее изнемогала от любви к этому слепцу, которого она потеряла столько лет назад — а теперь вновь обрела. Дороти страстно поклялась самой себе, что больше никогда не потеряет Эрнеста. Да и с чего ей теперь его терять? Когда он был помолвлен с Евой, Дороти сделала все, что могла, для них обоих и горячо переживала драму Эрнеста. Однако Ева… Ева пошла своим путем, и теперь ее не было рядом — какое бы место она ни занимала в сердце Эрнеста. Дороти не была наивной: недооценивать то, как глубоко отпечатался образ Евы в сердце у Эрнеста, не стоило. Забыть ее полностью он не сможет… но Дороти была готова смириться с этим. — Нельзя же получить сразу всё! — сказала мудрая маленькая женщина своему отражению в зеркале и решительно завязала ленты шляпки. Дороти Джонс была практичной женщиной и признавала истинность высказывания о том, что половина хлеба лучше, чем отсутствие оного, особенно — если кто-то умирает от голода; она твердо вознамерилась извлечь из их нынешнего положения все лучшее. Раз уж ничего нельзя было изменить — пусть Ева остается в душе Эрнеста, в глубине его сердца — а Дороти согласна обеспечивать его земные потребности. — В конце концов, вести за руку — это реально и осязаемо, а духовная связь никому еще не обеспечила комфорт! — строго сказала Дороти своему отражению. Как ни странно, все эти аргументы, казавшиеся такими разумными Дороти Джонс, не были чужды и нежному сердцу… мистера Плоудена, когда он решил жениться на Еве Чезвик, разорвав ее духовную связь с Эрнестом. Однако, разумеется, учитывая все обстоятельства — разница между Дороти и мистером Плоуденом была огромна. Мистер Плоуден вообще не признавал никаких духовных связей, он в них попросту не верил. С Евой он заключил своего рода контракт — как заключил бы его на покупку породистого животного. Получив причитающееся ему количество плоти и крови, мистер Плоуден был совершенно удовлетворен. О душе — тем более о чужой душе, ненавидящей и проклинающей его, он не думал и в расчет ее не брал. Он взял женщину — с какой стати ему заботиться о ее душе? Вообще-то душа, дух, добро и благородство, божественная природа любви и т. д. были основными темами проповедей, однако они не относились в его глазах к повседневной жизни. Кроме того, если бы мистера Плоудена спросили — то он бы ответил совершенно честно, что, по его мнению, женщины всем перечисленным вообще не обладают. Есть сотни образованных мужчин, думающих так же, как мистер Плоуден, и есть тысячи образованных дам, которые подтверждают это мнение всем своим образом жизни — пустым, бесцельным, никчемным. Что бы ни происходило, они оценивают это своей маленькой убогой меркой; сплетни дюжины знакомых — а это они и считают Обществом — формируют их взгляд на жизнь и интересы общества, а также поведение в браке. Поистине самым главным фактором принижения роли женщин являются сами женщины. Но какая разница, впрочем? Как бы там ни было — и они выходят замуж и создают семьи. И жизнь идет своим чередом. Дороти, в отличие от мистера Плоудена, верила в духовную сторону жизни и знала, какую важную роль она играет в человеческих делах, как доминирует в душах возвышенных и развитых. Точно так же она верила в существование планет и цветущие розы в цветнике — но поскольку она не могла увидеть красоту звезд вблизи, или заметить, как распускаются розовые бутоны, — она удовлетворялась звездным светом и ароматом распустившихся роз. Если же кто-то излишне увлечен звездами или с ума сходит по розам… что ж, это лучше, чем ничего. Итак, взяв Эрнеста за руку, она с нежностью и осторожностью повела его по шумным улицам, а потом и по тихим уголкам. Люди оборачивались, чтобы взглянуть на симпатичного высокого молодого человека, который явно был слеп, и некоторые думали при этом, что были бы не против слегка ослепнуть, если взамен их будет сопровождать такая милая и очаровательная девушка. Вскоре Эрнест и Дороти добрались до Садов. — Теперь расскажи мне о себе, Эрнест. Чем ты занимался все эти годы — помимо того, что раздавался в плечах, становился красивее и приобретал эту суровую линию рта? — О, много чем, Куколка. Стрелял, охотился, играл в дурака. — Пф! Я так и думала, по крайней мере, догадывалась. Но я не об этом. Что творилось у тебя в душе? О чем ты думал? — Разумеется, о тебе, Куколка. — Эрнест, если ты будешь со мной так говорить, я уйду и брошу тебя здесь одного — добирайся до дома сам! Я прекрасно знаю, о ком ты думал каждый день и каждую ночь — и это была не я! Признайся, это… — Давай не будем говорить о ней, Долл. Знаешь, если слишком часто поминать дьявола — он однажды появится; думаю, в этом случае много времени ему не потребуется! — горько рассмеялся молодой человек. — Мне было очень жаль тебя, Эрнест, дорогой, и я сделала все, что смогла… но ничего не могла поделать с ней. Должно быть, она была не в себе — либо этот человек (так Дороти всегда называла Плоудена) и Флоренс имели над ней какую-то власть. А быть может, она никогда по-настоящему и не любила тебя. Знаешь, есть женщины, которые кажутся очень милыми и любезными, но на самом деле они не умеют любить никого, кроме самих себя. В любом случае — она вышла замуж, у нее семья, у нее дети. Я видела объявления в газете. Ах, Эрнест, когда я думаю о том, как ты страдал из-за нее, мне становится ни капельки ее не жалко, я даже начинаю ее ненавидеть. Боюсь, что все эти годы ты был очень несчастен. — Иногда — да, но иногда мне удавалось утешиться. Хотя, к чему обманывать — я всегда был несчастен, особенно — когда пытался утешиться. Но ты не должна ее ненавидеть, бедную девочку! Возможно, и она пережила нелегкие годы; только вы, женщины, к несчастью, не можете чувствовать так, как мы… — Не знаю, не знаю! — ввернула Дороти. — Хорошо, уточню: я имею в виду — большинство женщин. Кроме того, это не только ее вина; люди немногим могут помочь самим себе в этом мире. Ей было предназначено стать моей несчастливой звездой, моей злой судьбой — вот и все, она просто выполнила свое предназначение. Всю жизнь она будет приносить мне лишь беды, до тех пор, пока Судьбе это не надоест. Но, Долли, дорогая, всему на свете приходит конец, и сама Природа, щедрая на примеры, учит нас, что на смену печали всегда приходит радость. Из ночной тьмы рождается день, на смену льду и снегу расцветают цветы. Ничто в этом мире не происходит зря, так всегда говорил старый Эльстон, и не стоит думать, что горе и страдания были впустую, что их семена никогда не взойдут и не расцветут иными цветами. Сейчас может казаться, что они неосязаемы, но, в конце-то концов, разница между осязаемым и неосязаемым — всего лишь вопрос материи. Мы знаем, что неосязаемые вещи вполне реальны, и, возможно, в будущем мы обнаружим, что именно они-то и были истинно бессмертны. Я думаю так. — Я тоже так думаю. — Понимаешь, Куколка, когда осознаешь это — плыть по морю жизни становится намного проще. Признав, что все на свете имеет свой конец, даже самые хорошие и прочные вещи, ты перестаешь терзаться из-за нынешних и прошлых печалей. Однако маленькому мальчику трудно научиться любить кнут… а мы все до конца наших дней остаемся детьми, Долл. — Да. — И вот, видишь ли, почему-то я был избран именно для кнута. Кажется довольно несправедливым, что женщине, подобной этой, позволено превратить все вино жизни мужчины в уксус — но так часто случается. Если бы она теперь умерла, мне было бы горько — но я смог бы это перенести и просто ожидал бы своего часа в надежде присоединиться к ней в ином мире. Если она разлюбила меня и полюбила другого — я тоже мог бы это пережить, ибо моя гордость пришла бы мне на помощь, а кроме того, я знаю, что для таких женщин закон сердца — единственный закон. Неважно, к чему ее принудили. Утонченная женщина разлюбила вас, но принуждена жить с вами — такая женщина вам ни к чему, а сама себя она будет считать обесчещенной. Кроме того, я не прошу сочувствия в этом вопросе. Мне никогда не были симпатичны мужчины, которые поднимают шум по причине того, что они утратили любовь и привязанность своих жен или возлюбленных. Нужно было крепче держать! Если любой пришлый способен отбить у меня женщину — что ж, пусть. Значит, он сумел доказать, что он лучше, чем я, а что до леди — мне не нужна женщина, которая меня больше не любит. Впрочем, я думаю, что с Евой было немного не так. — О, конечно нет! По крайней мере, она говорила, что несчастна. — Я так и думал. Что ж, ты должна понимать, что все это очень тяжело. Ты знаешь, что я очень любил ее. Мне больно думать об этой женщине — о той, чьей любви я добился и которая самим небом и природой была предназначена мне в жены… но вот она принуждена вступить в брак с другим, как бы хорош он ни был — а я надеюсь, ради спасения ее души, что он хорош! На самом деле, все это наполняет меня чувствами, которые я даже не могу описать. — Бедный Эрнест! — О нет, не жалей меня. У всех свои неприятности — у меня вот такие. — О! Эрнест… Тебе не повезло, ты потерял зрение, но, возможно, Критчетт или Купер смогут чем-то помочь. — Даже все Критчетты и Куперы этого мира бессильны перед этим, моя дорогая. Но ты должна помнить, что я всего лишь потерял зрение — а многие погибли. Лучше потерять зрение, чем жизнь. Кроме того, у слепоты есть свои преимущества: она дарит больше времени на раздумья, и это успокаивает. Ты даже не представляешь, каково это, Долл. Вечная тьма, окружающая тебя стеной; одна длинная бесконечная ночь — даже если лицо согревают солнечные лучи. А по ночам — голоса и шорохи, словно прикосновения и зов бесплотных духов. Физическое тело беспомощно и отдано на милость этого мира, но тело духовное находится лишь в руках Всевышнего. Знакомые вещи приводят в недоумение, ты начинаешь гадать — а как они теперь выглядят? Как выглядят лица тех, кого ты знал? Это сродни внезапным воспоминаниям или снам о тех, кто давно уже умер, или о местах, которые ты не видел долгие годы… Обо всем этом, моя дорогая Долл, можно размышлять бесконечно. Когда в следующий раз ты проснешься в пять или шесть часов утра — попытайся быстро вспомнить, что только что занимало твой разум во сне. А после этого представь, что такое состояние продолжается все время, когда ты бодрствуешь. Вот тогда ты получишь некоторое представление о глубине, ширине и высоте полной слепоты. Слова Эрнеста поразили Дороти до глубины души, она не знала, что ответить, и потому лишь сильнее сжала его руку, чтобы выразить свое сочувствие и симпатию. Он понял ее — слепые очень чутки к таким вещам. — Знаешь, Долл, вернуться к тебе, к твоей нежности и доброте это все равно, что обрести покой в мирной гавани после жестокой бури, — в это время солнце выглянуло из-за облака и залило светом лицо Эрнеста. — Да, это так. Словно вырваться на солнечный свет, проскакав многие мили сквозь дождь и туман. Ты приносишь душе мир, моя дорогая. Я ни разу не чувствовал себя так хорошо и спокойно за все эти годы, как сегодня, когда сижу здесь и держу тебя за руку. — Я очень рада, Эрнест, — просто ответила она, и они пошли дальше в тишине. В этот момент маленькая девочка, катившая по дорожке обруч, остановилась и с любопытством посмотрела на их пару. Она была очень красива, с большими темными глазами, однако Дороти заметила странную отметину у нее на лбу. Потом она увидела, как девочка подбежала к высокой изящной даме, гулявшей неподалеку. Позади дамы, на некотором расстоянии, шла нянька с младенцем на руках. Время от времени дама останавливалась, чтобы полюбоваться цветниками, где уже распустились весенние цветы — гиацинты и тюльпаны. — Мама, мама! — раздался звонкий голосок девочки. — Там такой красивый слепой дядя! Он не старый и не уродливый, он не просит милостыню! Почему же он слепой, раз у него нет собаки-поводыря и он не просит денежек? Эта маленькая леди, вероятно, полагала, что слепота является следствием наличия поводыря и желания просить гроши на пропитание. Иногда, кстати, это так и есть… Высокая дама слегка повернулась к девочке и тихо сказала: — Тссс, моя дорогая! Теперь они были совсем близко друг к другу, поскольку дама с семейством шла навстречу — и Дороти почувствовала, как у нее перехватило дыхание, поскольку перед ней была Ева Плоуден, в этом не было никаких сомнений! Она стала бледнее, она стала элегантнее — но это, без сомнения, была она. Никто, видевший ее хоть однажды, не мог ошибиться. Разумеется, не могла и Дороти. — В чем дело, Долл? — спросил Эрнест, задумавшийся о чем-то своем. — Ни в чем. Я споткнулась. Они были совсем близко. Ева тоже увидела их, увидела лицо человека, которого уже не думала встретить когда-либо. Ее глаза широко распахнулись, в немом крике начали приоткрываться нежные губы, она смотрела и смотрела не отрывая глаз — и постепенно понимала смысл увиденного. Они почти поравнялись. Теперь в ее глазах, таких спокойных и равнодушных секунду назад, вспыхнул огонь — дикое пламя любви, страсти, ревности такой силы, какую редко увидишь на лице женщины. «Эрнест! Эрнест здесь, слепой — и его ведет Дороти, и он выглядит таким счастливым рядом с ней! Как посмела Дороти прикоснуться к ее любви! Как посмел он быть счастливым рядом с другой!» — вот какие мысли стремительно мелькали в голове Евы. Она сделала шаг к ним, словно собираясь заговорить, — но в этот момент взгляд слепых глаз Эрнеста упал на ее лицо. Это смутило Еву. Эрнест смотрел на нее — и не видел. Боже… Дороти увидела это движение и, ведомая инстинктом, встала между ними, словно защищая Эрнеста. На секунду их с Евой взгляды скрестились. Обе тяжело дышали. Две женщины стояли лицом к лицу, а беспокойный, напряженный взгляд слепца блуждал по лицам обеих. Эрнест чувствовал, что что-то происходит — но не понимал, что именно… Это была трагическая, почти ужасная сцена. Страсти, наполнявшие ее, были слишком сильны для слов — так ни одна кисть не может передать на холсте вспышку молнии. — Эй, Долл, почему мы остановились? — нетерпеливо спросил Эрнест. Его голос разрушил чары. Ева отдернула руку, которую уже протянула к Эрнесту, и прижала пальцы к губам, словно запечатывая их. Затем глубокое отчаяние отразилось на ее вспыхнувшем лице, голова медленно опустилась, и Ева торопливо прошла мимо. За ней последовала нянька с ребенком, и Дороти мимоходом заметила, что и у младенца на лобике была та же странная отметина. Вся эта сцена длилась не более сорока секунд. — Долл! — голос Эрнеста стал напряженным и задрожал. — Кто сейчас прошел мимо нас? — Дама. — Я знаю, что дама! Кто… кто это был? — Я не знаю, какая-то дама с детьми. Это была ложь, но Дороти не могла сказать ему правду — инстинкт предупреждал ее не делать этого. — Так странно… Долл, это ужасно странно, но я почувствовал себя так, словно рядом со мной была… Ева. Пойдем домой! Облака снова затянули небо, и домой они возвращались в сумраке. Казалось, вместе с солнцем ушла куда-то и вся их разговорчивость. Им нечего было сказать друг другу.Глава 39
ВЗГЛЯД В НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ
Еву Плоуден вряд ли можно было назвать счастливой женщиной. Чувствительная натура, насильно выданная замуж и любящая другого, вряд ли может когда-нибудь стать счастливой — если только не счастливое стечение обстоятельств или если она не обладает до крайности черствым сердцем. Однако есть разные степени несчастья. Судьба Евы убила бы Дороти и подтолкнула бы Флоренс к самоубийству или безумию. Однако Ева была не такой, как они, она была не настолько сильна, чтобы дойти до таких крайностей. Да, она была несчастна — вот и все, что можно сказать. Поначалу она была в отчаянии, но когда первый всплеск этого отчаяния, подобного шторму, обрушивающемуся на берег в дождливый декабрьский день, миновал — она, будучи разумной женщиной, более или менее примирилась со своим положением. Ее дни теперь чаще всего были пасмурными — но иногда проглядывало и солнышко; пусть ее жизнь нельзя было назвать радостной — но она оказалась вполне сносной. И все же она, как и прежде, любила Эрнеста всем сердцем; память о нем была для нее драгоценна, и сожаления, иногда охватывавшие ее, были чрезвычайно горьки. В целом можно сказать, что она прекрасно справилась с ситуацией — лучше, чем мог подумать кто-либо, бывший свидетелем ее агонии несколько лет назад, когда Флоренс сразу после свадьбы рассказала ей всю правду. Говорят, что сабинянки оказали римлянам яростное сопротивление — но вскоре представили самые убедительные доказательства примирения с судьбой. В чем-то Ева была похожа на них. На самом деле контраст между состоянием Евы и состоянием Эрнеста в результате всей этой истории был бы достоин отдельного изучения. Каждый из них любил другого — но насколько же по-разному они это переживали! Для Евы любовь к Эрнесту стала горьким и постыдным воспоминанием; для Эрнеста — разрушением всей нормальной жизни. Это был контраст трагический, поразительный — ибо между ними пролегла широкая пропасть. Страсть одного оказалась убогой и жалкой по сравнению с всепоглощающей страстью другого. Впрочем, оба чувства были искренними, различаясь лишь степенью и глубиной. Привязанность Евы оказалась совсем слабой по сравнению с любовью Эрнеста — но это объяснялось отчасти и тем, что почва, на которой она произрастала, была куда скуднее. Ева отдала лишь то, что могла дать. Что касается мистера Плоудена, он не мог не прийти к выводу, что его матримониальные планы увенчались, в целом, полным успехом. Он искренне любил свою жену — насколько умел — и гордился ею. Временами она была холодна и капризна, временами — саркастична, однако, в общем и целом. Ева стала ему хорошей и услужливой супругой, одновременно подняв его сразу на несколько ступенек социальной лестницы. Люди видели, что, хотя мистер Плоуден и не джентльмен, ему удалось жениться на истинной леди, к тому же очень красивой; мало-помалу он был принят в обществе — пусть даже во многом его терпели ради его очаровательной жены. Однако ведь это и было главной целью мистера Плоудена, так что у него были все основания быть довольным сделкой; кроме того, он попросту гордился тем, что является законным и единственным владельцем такого прекрасного создания. Ева часто вспоминала о своем прежнем возлюбленном, хотя долгие годы почти ничего о нем не знала, довольствуясь лишь смутными слухами. Как часто бывает, именно утром того дня, когда ее маленькая дочь встретила в садах «красивого слепого», Ева как раз вспоминала об Эрнесте с тихой и грустной нежностью. Когда же произошло чудо, и они встретились — а иначе, чем чудом, такую встречу назвать было нельзя, — Ева взглянула ему в лицо… и ее подавленная, едва тлеющая страсть вспыхнула ярким пламенем. Ева почувствовала, что любит Эрнеста всем сердцем, как и прежде. В тот же самый миг она поняла, насколько ужасную, огромную, непростительную ошибку она совершила — и какой прекрасной могла бы быть ее жизнь, если бы все пошло иначе. Однако, вспомнив свое положение, она низко склонила голову и прошла мимо — ибо понимала, что и время ее тоже прошло. Впрочем, теперь она твердо знала две вещи, несмотря на лихорадочную путаницу в мыслях; они обрели форму и были неоспоримы: во-первых, она страшно завидовала и ревновала к Дороти, во-вторых, твердо вознамерилась увидеться с Эрнестом еще раз. Теперь она жалела, что была слишком взволнована, чтобы заговорить с ним, — но они увидятся, потому что она должна, должна еще раз посмотреть на любимое лицо и услышать его голос, пусть даже это желание и наполняет ее душу тревогой. После нечаянной встречи в садах Ева вернулась домой прямо к обеду. Муж ее в настоящее время был местоблюстителем ректора одного из приходов Плимута. Подобным образом их семья переезжала с места на место в течение многих лет, ожидая, когда же освободится место в Кестервике. Ева даже полюбила такую жизнь — она ее некоторым образом отвлекала от ненужных мыслей. Она услышала, как хлопнула дверь — пришел ее муж и привел кого-то с собой. Ева приготовила дежурную милую улыбку для встречи мужа, очень ее украсившую. Через несколько секунд мистер Плоуден был уже в комнате, а вместе с ним — молоденький субалтерн с внешностью херувима. Мистер Плоуден мало изменился с того момента, как мы видели его в последний раз, разве что волосы его были теперь обильно тронуты сединой, а лицо стало еще шире. Однако серые глаза были все так же холодны, словно лед, и излучал мистер Плоуден то же, что и всегда: мощь, ум и грубость. — Позволь мне представить тебе моего друга, лейтенанта Джаспера, дорогая! — провозгласил он своим зычным голосом, который Ева так не любила. — Мы встретились у капитана Джонстона, и поскольку в казармы на ланч он мог и не успеть, я взял его с собой, предложив преломить с нами вместе, так сказать, хлеб. Херувим Джаспер замер, вставил монокль в глаз и сквозь него оглядывал Еву с чувством, близким к экстазу. Как и большинство красивых женщин, она привыкла к такой реакции, это лишь слегка забавляло ее. Мистер Плоуден тоже привык — и считал это комплиментом в свой адрес. — Я очень рада! — негромко произнесла Ева, протягивая лейтенанту руку. Херувим пришел в себя, уронил монокль, судорожно ухватил протянутую руку, словно щука — мелкую рыбешку, и с энтузиазмом потряс ее. Ева снова улыбнулась. — Ну что же — к столу? — нежным голосом спросила она, и вся компания отправилась в столовую; Ева, словно лебедь, плыла впереди. Во время обеда разговор был, скорее, монологом: мистер Плоуден, как обычно, разглагольствовал с пылом опытного проповедника, херувим во все глаза смотрел на бледноготемноглазого ангела в облике миссис Плоуден, а Ева, полностью занятая своими мыслями, ограничилась большим количеством любезных улыбок в обе стороны и несколькими ничего не значащими замечаниями. Когда, к большому ее облегчению, обед уже близился к концу, прибыл посыльный, чтобы срочно вызвать мистера Плоудена на крестины умирающего младенца. Мистер Плоуден немедленно встал из-за стола — он был очень аккуратен в выполнении своих обязанностей, — извинился перед гостем и ушел, оставив Еву продолжать беседу с гостем. — Вы уже давно в Плимуте, мистер Джаспер? Монокль спазматически дернулся. — Плимут? Какой Плимут… ах, Плимут! О нет, я высадился на берег только сегодня утром. — Вы приплыли на пароходе? И откуда же? Я не знала, что сегодня пришло еще какое-то судно, кроме «Конвей Касл». — А я на нем и прибыл, прямо с войны, так сказать, с зулусами, знаете ли. Мне дали отпуск по болезни. Лихорадка! Херувим неожиданно стал очень интересен Еве, поскольку она догадывалась, что и Эрнест прибыл из Африки. — О, в самом деле? Надеюсь, путешествие было приятным. Это всегда во многом зависит от попутчиков, не так ли? — О да! На борту у нас было полно народу, в основном раненые офицеры. Но и среди гражданских были тоже очень достойные люди — один гигант по имени Джонс и слепой баронет, сэр Эрнест Кершо. Грудь Евы судорожно вздымалась, но голос был спокоен. — Да? Я когда-то знала одного Эрнеста Кершо, думаю, это он. Он был высокого роста, с темными глазами. — Да, это он. Титул он получил недавно, месяц или два назад. Довольно меланхоличный парень, так мне показалось, но ведь он же ослеп. Зато этот Джонс — замечательный парень, может запросто поднять сразу двух взрослых мужчин так же легко, как вы поднимаете щеночков. Я сам видел, как он это делает. Я их обоих знал там, в Африке. — О! И где же вы познакомились? — Это довольно любопытная история. Полагаю, вы что-то слышали о катастрофе в том месте… с ужасным непроизносимым названием? Так вот, я тогда служил в одной дыре под названием Хелпмакаар. Прискакал к нам парень из Роркс Дрифт и рассказал, что случилось — ну и предупредил, что зулусы идут прямо на нас. Мы все, разумеется, принялись за работу — укреплять форт, и как только более-менее все обустроили, кто-то закричал — идут, мол, вон они! Я побежал на стену, но увидел не зулусов, а огромного человека, который нес на руках мертвеца, а за ним шел кафр, ведя в поводу трех лошадей. Это я так подумал, что тот парень мертв — на самом деле в него ударила молния. Разумеется, мы их впустили. Вы не представляете, какими они были — в крови с головы до ног! — Ах, боже мой! Но откуда же они пришли? — Они были единственными оставшимися в живых волонтерами из Корпуса Эльстона. Поубивали всех зулусов, которые на них напали, а весь остальной корпус погиб. Потом они отправились на поиски форта, и в того парня во время грозы ударила молния. Там часто бывают сильные грозы, знаете ли. Ева задавала все новые вопросы и затаив дыхание слушала историю о чудесном спасении Эрнеста и Джереми, поскольку его детали были хорошо известны мистеру Джасперу. На огненные взгляды, которые молодой человек метал на нее сквозь монокль, она вовсе не обращала внимания. Наконец он с большой неохотой поднялся, чтобы уйти. — Мне надо идти, миссис Плоуден — я хотел еще навестить сэра Эрнеста в гостинице. Он мне одолжил свой пистолет, «дерринджер», я тренировался по бутылкам и не успел вернуть. Ева устремила на молодого человека взгляд своих прекрасных глаз, включив обаяние на полную мощность. Она видела, какое впечатление произвела на него — и собиралась этим воспользоваться. Женщины не обладают щепетильностью в достижении своих целей. — Мне жаль, что вы уходите, но я надеюсь — вы придете к нам еще раз и расскажете о войне и сражениях. — Вы очень добры! — пролепетал херувим. — Я буду счастлив… Он не счел нужным добавить, что самому ему так и не посчастливилось попасть под обстрел. Да и к чему? — Кстати, если вы собираетесь увидеть сэра Эрнеста — не могли бы вы передать ему личное сообщение от меня? У меня есть причины не желать, чтобы его услышал еще кто-то. — О, разумеется! Конечно! Ничто не доставит мне большего удовольствия… — Вы очень добры, — еще один проникновенный взгляд. — Передайте ему, чтобы он взял экипаж и приехал ко мне. Я весь день буду дома. Ревность пронзила сердце херувима, однако он успокаивал себя мыслью, что такая красивая женщина не может влюбиться в «слепого парня». — О, разумеется, я постараюсь. — Спасибо! — И она протянула ему руку. Он взял ее и, опьяненный этими прекрасными глазами, отважился нежно пожать тонкие пальцы. Ева рассеянно подумала, что это, конечно, нахальство — но не возмутилась. Что ей до пожатия руки, когда речь идет о встрече с Эрнестом?Глава 40
ПОСЛЕ СТОЛЬКИХ ДНЕЙ
После ухода лейтенанта Джаспера прошло не больше часа, когда Ева услышала, как к дому подъехал экипаж. Затем недолгая тишина — и шаги двоих человек, поднимающихся по ступеням; один из них споткнулся. Затем раздался звонок. — Дома ли миссис Плоуден? — раздался спокойный звонкий голос, звуки которого заставили кровь Евы быстрее бежать по жилам, а сердце — забиться с бешеной силой. — Да, сэр. — О! Тогда кучер подождет здесь, с вашего позволения. Теперь, милая девушка, я вынужден попросить вас дать мне руку, поскольку я не в том состоянии, чтобы самостоятельно найти дорогу в чужом доме. Еще одна пауза — а затем дверь гостиной отворилась, и на пороге показалась горничная, ведущая за руку Эрнеста, на которого то и дело с боязливым удивлением поглядывала. — Добрый день, — сказала Ева негромко, подходя и беря его за другую руку. — Все в порядке, Джейн, ты можешь идти. Он молчал, пока дверь не закрылась — только смотрел на Еву этим странным и тревожным взглядом слепых глаз. Так они встретились после долгих лет разлуки. Она подвела его к дивану и помогла сесть. — Не отпускайте мою руку! — быстро попросил Эрнест. — Я все еще не привык разговаривать с людьми в полной темноте. Ева села рядом с ним на диван, немного испуганная, но все же — счастливая. Некоторое время они молчали, не находя подходящей темы для разговора, но тишина не была неловкой и, казалось, устраивала обоих. Ева никогда не думала, что ей доведется еще сидеть с ним вот так, держась за руки… Она смотрела на него, не таясь — не было нужды скрывать свою любовь, ведь он не мог видеть ее глаза. Наконец, Ева нарушила молчание. — Вы были удивлены, получив от меня сообщение? — мягко спросила она. — Да, это все равно что получить сообщение из могилы. Я не думал, что мы когда-нибудь встретимся. Я думал, вы навсегда исчезли из моей жизни. — Так вы меня забыли? — Зачем вы это говорите? Ева, вы же прекрасно знаете, что я не могу вас забыть. Я бы хотел этого — но не могу. Я имел в виду, что вы ушли из моей реальной, земной жизни — разум мой и сердце вы не покинете никогда. Она опустила голову и промолчала, хотя сердце ее наполнилось радостью при этих словах. Значит, она все еще не потеряла его… — Послушайте, Ева! — заговорил Эрнест, собравшись с силами. Голос его звучал почти сурово — и с какой-то затаенной силой, которая напугала ее. — Почему вы сделали то, что сделали, вам лучше знать… — Это уже сделано. Давайте не будем об этом говорить, — перебила она его. — Вина не на мне одной. — Я не собираюсь говорить об этом. Но кое-что я сказать должен, потому что времени мало — и потому, что вы должны, я полагаю, знать правду. Прежде всего я хочу сказать, что прощаю вас за все, что вы сделали. — О Эрнест! — Этот вопрос, — продолжал он, не обращая на нее внимания, — вы решите сами, с собственной совестью и Богом. Но я хочу рассказать, что именно вы сделали. Вы разрушили мою жизнь, вы сделали меня несчастным, вы отобрали у меня то, что я никогда больше не смогу никому дать. Вы отравили горечью мой разум и ввергли меня в пучину таких грехов, о которых я раньше и помыслить не мог. Я любил вас — и вы дали мне несомненные доказательства и своей любви тоже. Вы позволили мне любить себя. Когда же настал час испытаний — вы предали меня и оставили. Вы морально уничтожили меня, Ева, и то, что я считал величайшим и священным благословением своей жизни, превратилось в ее проклятие. Ева закрыла лицо руками и сидела, не произнося ни звука. Эрнест горько усмехнулся. — Вы не отвечаете мне. Возможно, вам трудно ответить на то, что я сказал, или вы думаете, что я позволяю себе лишнее. — Ты очень жесток! — пробормотала она. — Не слишком ли ты торопишься назвать меня жестоким? Если бы я хотел быть жесток, я бы сказал, что не люблю тебя больше, что теперь я презираю тебя. Уверяю — тебя куда сильнее ранило бы известие о том, что я стряхнул с себя эти цепи. Но это было бы неправдой, Ева. Я люблю тебя, как любил всегда и как всегда буду любить. Мне не на что надеяться, я ни о чем не прошу, в этой пьесе моя роль уже отыграна — мне было суждено лишь отдавать, но не получать. Я презираю себя за это — но так уж получилось. Ева положила руку ему на плечо. — Пощади меня, Эрнест! — Осталось недолго, потерпи. Еще я должен сказать вот что: я верю, что все отданное было отдано не напрасно. Я верю, что любовь земная умирает вместе с бренным телом — но моя любовь к тебе была чем-то большим, иначе как бы она могла остаться неизменной столько лет, без всякой надежды, несмотря на бесчестие? Это любовь духа — и подобно духу, она будет жить вечно. Когда окончится ненавистное мне ныне существование, я соберу плоды с древа этой любви в ином мире — вот во что я верю. — Почему ты в это веришь, Эрнест? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. — Почему верю? Не могу сказать, возможно, это всего лишь фантазии разума, смущенного горем. В беде мы тянемся к свету — словно трава в темноте. Сломанный цветок пахнет слаще — так и человеческая природа всего сильнее стремится к жизни, когда Бог налагает на нас свою тяжкую длань. Печаль направляет наш взор к небесам. Нет, Ева, я не знаю, почему я в это верю — ведь ты лишила меня и веры тоже, — но все-таки я верю, и меня это утешает. Кстати, как ты узнала, что я здесь? — Я наткнулась на вас с Дороти утром, в Садах. Эрнест поднял голову. — А я почувствовал, что это была ты. Я спросил Дороти, кто прошел мимо, но она сказала, что не знает. — Она знала, но я подала ей знак, чтобы она молчала. — А! — Эрнест, пообещай мне кое-что! — с внезапной страстью произнесла Ева. — Что именно? — Ничего. Я передумала. Ничего, забудь. Она собиралась взять с него обещание, что он не женится на Дороти, однако светлая сторона ее натуры восстала против этого. Затем они немного поговорили о жизни Эрнеста в Африке — и разговор увял сам собой. — Что ж, — сказал Эрнест после затянувшейся паузы, — прощай, Ева. — Этот мир очень жесток! — прошептала она. — Да, жесток — но не более, чем все остальные. — Увидеть тебя было счастьем, Эрнест. Он пожал плечами. — Разве? Что до меня, то я не уверен — счастьем или болью. Мне нужно прожить пару лет в тишине и темноте, чтобы хорошенько обдумать это. Не будете ли вы столь любезны, миссис Плоуден, позвонить и попросить горничную отвести меня вниз? Почти теряя сознание, она повиновалась. Затем, пересилив себя, встала, подошла к Эрнесту и взяла его за руки, глядя ему прямо в лицо. Ему повезло, что он не мог видеть ее в эту минуту. — О Эрнест, ты слеп! — прошептала она, едва ли осознавая, что говорит. Он рассмеялся — коротко и зло. — Да, Ева, теперь я слепой — а ты была такой всегда. — Эрнест! Эрнест! Как я смогу жить, не видя тебя! Я люблю тебя! — И она упала ему на грудь. Он поцеловал ее — и целовал снова и снова, а она отвечала ему. Он не знал, откуда у него нашлись силы, чтобы отстранить ее от себя. Возможно, потому, что он услышал шаги служанки. В следующий миг горничная вошла и увела его. Когда Эрнест ушел, Ева бросилась на диван, рыдая так, что сердце едва не разорвалось у нее в груди. Когда Дороти увидела, как пришедший с визитом молоденький офицер что-то таинственно шепчет Эрнесту на ухо, а тот сначала бледнеет, потом краснеет — ей стало очень любопытно. Однако когда Эрнест сразу после этого таинственного сообщения попросил ее поскорее вызвать экипаж, она сразу же подумала о Еве. Она, никто, кроме нее, конечно же! Экипаж подъехал быстро, и Эрнест тут же ушел, не сказав ни слова, оставив Дороти на попечение юного херувима, который долго таращился на нее сквозь монокль, про себя сравнивая с Евой, — и пришел к выводу, что и Дороти тоже очень мила. Не стоит забывать, что молодой человек только что вернулся из Южной Африки — и был готов влюбиться хоть в первую встречную торговку яблоками. Нет ничего удивительного, что он подпал под очарование величественной красоты Евы и милое обаяние Дороти. Последней понадобилось немало времени и труда, чтобы избавиться от херувима с моноклем. При других обстоятельствах она была бы рада его компании, поскольку любила мужское общество и не испытывала никакого смущения… да и херувим, не считая его возмутительной молодости, был хорошим парнем, если бы не монокль и не восхищенный взгляд, делавший его похожим на овцу. Однако сейчас Дороти было совершенно не до него, и потому она была страшно рада, когда он наконец ушел, чтобы на досуге подумать и сравнить достоинства двух красавиц. Дороти, будучи особой рассудительной и практичной, ясно понимала, что для Эрнеста находиться в одном городе с Евой — все равно что чиркать спичками в пороховом погребе. Единственное, на что она надеялась, — что сейчас, по крайней мере, Эрнест не успеет натворить чего-нибудь ужасного. — О, как же глупы эти мужчины! — сердито сказала Дороти сама себе. — Красивое личико, пара ясных глаз — и они уже считают, что весь остальной мир ничего не стоит. Ба! Если бы Эрнесту устроила подобное обычная женщина, разве стал бы он искать теперь встречи с ней? Нет! Но этой достаточно вымолвить пару нежных словечек — и он уже у ее ног, могу поклясться! Мне стыдно за них обоих! Бормоча все это, Дороти надевала перед зеркалом шляпку, что всегда способствовало у нее мыслительному процессу, особенно — когда предстояло принять серьезное решение. Эрнест дал согласие на встречу с известным окулистом. Дороти уже связалась с доктором при помощи телеграмм и теперь отослала последнюю, в которой спрашивала, удобно ли назначить встречу на завтрашний день. Затем она решила немного прогуляться, чтобы все обдумать. Вернувшись через час, она обнаружила в гостиной номера Эрнеста, выглядевшего чрезвычайно подавленным и потрясенным. — Ты виделся с Евой? — спросила она. — Да, — коротко ответил он. В этот момент раздался стук в дверь — слуга принес телеграмму. Окулист сообщал, что будет рад видеть сэра Эрнеста Кершо на следующий день, в четыре часа пополудни. — Я договорилась с доктором, Эрнест, он ждет нас завтра в четыре часа. — Завтра! — Да. Чем скорее, тем лучше. Он вздохнул. — Лучше — вряд ли, но я, разумеется, пойду. Таким образом, на следующее утро они отправились на поезд — и в назначенное время Эрнест оказался в умелых руках знаменитого врача-окулиста. Однако, к сожалению, выводы его были неутешительны. — Увы, я ничем не смогу помочь вам, сэр Эрнест! — сказал он после долгого и тщательного осмотра. — Глаза ваши останутся такими, какие они сейчас, но зрение к вам не вернется. Эрнест воспринял приговор стоически. — Я так и думал, — сказал он, однако Дороти прижала платок к глазам и тихо заплакала. На следующее утро Эрнест вместе с Джереми отправился с визитом к господам Пейсли и Пейсли и попросил их присматривать и впредь за имением Аркдейл Холл, а также отправить на хранение многочисленные семейные реликвии и ценности, потому что, к глубокому сожалению, сам он увидеть их не сможет. После этого они все вместе вернулись в Дум Несс, и Эрнест всю ночь пролежал без сна в своей комнате — той самой, где он провел свое детство и юность, казавшиеся ему теперь такими далекими и туманными. Он слушал ветер, шумевший за стенами старого дома, и с болью в сердце думал о Еве. Он был рад, что смог проститься с ней — но гадал, найдет ли достаточно сил, чтобы держаться от нее подальше. Ева же, его потерянная любовь, тоже лежала без сна, слушая рокот моря и ветра, — и думала об Эрнесте. Сон не шел к красавице — забытье не суждено таким, как она. Ей и подобным ей на долю достаются лишь тщетные сожаления о потерянной любви и тоска; терновый венец венчает чело, омраченное скорбью. И все же, Ева, подними пылающую голову, обрати свой взгляд к небесам! Взгляни: над штормом, над тучами, высоко в небе горит звезда. Она сияет и для тебя — ее называют Надеждой, но с грешной земли ее не увидать. Имей терпение, своенравное сердце, — мир исполнен страдания. Ты страдаешь, но до тебя так же страдали миллионы людей — разве они не покоятся ныне в мире? Так же будут страдать и другие,Глава 41
СНОВА ДОМА
Она оказалась очень мирной, эта жизнь в Кестервике, после жестоких испытаний и волнующих переживаний последних лет. День проходил, на смену ему шел другой, и ничто не нарушало покой Эрнеста и тьму, в которой он пребывал, — только нежный голосок Дороти, да аромат цветов, доносившийся с болот, когда ветер дул в сторону океана, а еще острый, сильный запах моря. Эрнесту иногда казалось, что все с ним случившееся — всего лишь сон, более или менее ужасный, а все происходящее сейчас — сон, более или менее прекрасный, но однажды он проснется — и окажется, что он снова прежний мальчик Эрнест… Английские деревушки мало меняются. Время от времени здесь умирают люди, и довольно часто — рождаются, но в целом время ползет здесь неторопливо и незаметно, и хотя население такой деревушки полностью меняется в среднем за шестьдесят лет — особых изменений так никто и не замечает. В подобных местах очень мало того, что могло бы служить знаком изменений. Одна и та же церковная башня служит ориентиром сегодня так же, как и несколько веков назад; такие же облака проносятся по неизменному синему небу. Старые дома стоят на берегах старых ручьев, люди и повозки передвигаются по старым дорогам, и в старинных переулках все так же играют дети. Если бы вам удалось каким-то чудом перенести одного из наших саксонских предков в такую деревушку или старинный городок — для него не составило бы никакого труда обжиться здесь. Меняются люди — но земля остается неизменной. Однако в Кестервике все же произошли некоторые изменения. Кое-где море урвало себе еще один кусок суши, особенно к северу от Дум Несс — и приблизилось к дому. Где-то срубили дерево, где-то построили новенький коттедж, а какая-то семья решила переехать. Скажем, мисс Флоренс Чезвик внезапно покинула свой дом, где жила в одиночестве после свадьбы Евы, не видясь ни с сестрой, ни с ее мужем, и уехала за границу, как говорили — в Рим, учиться живописи. Кестервик пробудил в ней небывалые творческие силы, и она постепенно становилась настоящим художником, обладающим мощным, хотя и пугающим воображением. Большое полотно ее авторства было выставлено в прошлом году в Королевской Академии и произвело настоящую сенсацию — пусть даже в этой работе имелись огрехи, и написана картина была чересчур мрачными красками. В результате полотно было продано за весьма приличную сумму. На той картине была изображена некая вымышленная земля, узкий мыс, выдающийся далеко в бушующее море. Небо над морем было почти черным, не считая того отрезка, где яростные и какие-то… свирепые лучи заходящего солнца освещали кипящие волны, бьющие о скалы, окружавшие невысокий мыс. На краю скалы стояла женщина, высокая и прекрасная. Ветер рвал белые одежды женщины, позволяя оценить совершенство ее форм. Темные волосы в беспорядке вились по ветру. Женщина наклонилась вперед, указывая правой рукой на воду, и такой ужас, такая смертная агония отражались на прекрасном и бледном лице, что люди впечатлительные потом признавались, что этот трагический образ преследовал их несколько недель после посещения выставки. Внизу, там, где лучи солнца освещали вздымающиеся волны, виднелось обнаженное тело. Это был молодой человек, медленно погружающийся в пучину. Его глаза и рот были широко раскрыты, а взгляд прикован к лицу прекрасной женщины на скале. Наконец, высоко в грозовых облаках виднелась еще одна фигура, женская — закрывавшая лицо руками. В каталоге картина называлась «Потерянная любовь», однако пересуды насчет того, что могла означать эта аллегория, не прекращались. Дороти прослышала о картине и отправилась в Лондон, чтобы взглянуть на нее собственными глазами. Больше всего ее поразил контраст этого полотна с окружающими его работами — бесконечными мирными пейзажами, на которых вовсю трудились жнецы, резвились с кудрявыми ягнятами маленькие девочки, а многочисленные обнаженные дамы задумчиво склонялись над многочисленными фонтанами, как бы размышляя в духе Шекспира — мыться или не мыться? Однако вскоре она забыла о них: ужас мрачной картины захватил ее и очаровал, как и многих других. Затем она осознала, что лица на картине были ей хорошо знакомы, и внезапно поняла, что тонущий юноша — это Эрнест, а женщина на скале — Ева. Дороти внимательно вглядывалась в их лица. Да, сомнений не было. Флоренс весьма искусно изменила цвет волос и некоторые черты лиц — однако и мертвого юношу, и его роковую возлюбленную можно было узнать безошибочно. Картина заставила Дороти буквально заболеть от страха — она сама не знала, почему, и девушка поспешила уйти из Берлингтон Хаус, продолжая с ужасом думать о мрачном разуме, породившем всю эту историю. Они с Флоренс не общались с тех пор, как Ева вышла замуж. Флоренс сначала уединенно жила в своем коттедже и никуда не выходила; если они случайно встречались, то обе старались пройти стороной. Тем не менее, для Дороти было большим облегчением узнать, что теперь она не скоро увидит это хищное смуглое лицо с пронзительными карими глазами. Дум Несс, судя по всему, вообще не изменился — за исключением того, что мистер Кардус построил еще одну оранжерею для орхидей, поскольку с возрастом его увлечение грозило перейти в манию. Не изменилась и обстановка в старой гостиной, и на крюке в углу по-прежнему висел сделанный Джереми ковчежец с головой ведьмы. Люди, жившие в доме, изменились столь же мало, как и сам дом. Джереми сообщил Эрнесту, что Долл стала «пухлой» — таким образом он попытался как можно изящнее охарактеризовать ее похорошевшую и оформившуюся фигурку, что Грайс (старая экономка) все такая же тощая, словно ободранная ласка, и взгляд у нее острый, словно лезвие ножа. Эрнест из вредности пересказал обеим дамам эти характеристики, чем привел обеих же в ярость. Затем Эрнест сбежал, оставив Джереми сражаться с разозленными фуриями. Старый Аттерли тоже почти не изменился, если не считать того, что в последнее время у него все чаще случались просветления в рассудке. Однако он никак не мог понять, что Эрнест ослеп, потому что глаза молодого человека выглядели, как и раньше. Аттерли сохранил некоторые смутные воспоминания о нем и даже принес ему свою трость с отметинами, чтобы продемонстрировать отрадный факт: его служба «дьяволу» (мистеру Кардусу) истекает через несколько месяцев. Говорил он плохо и все писал на грифельной табличке, так что Дороти пришлось зачитать написанное Эрнесту — иначе это был бы бесплодный разговор немого со слепым. — Что же вы сделаете после того, как закончится ваша служба? — спросил Эрнест. — Вам же будет скучно без работы. И кто же позаботится о заблудших душах, хотел бы я знать? Старик тотчас же энергично принялся писать на своей табличке: «Я отправлюсь на охоту верхом на большой черной лошади, которую ты привез с собой, уж она-то меня выдержит!» — Я вам не советую и пытаться! — рассмеялся Эрнест. — Ему не нравятся лихие наездники. Однако старик страшно разгорячился при мысли об охоте: он шагал по комнате, гремя шпорами и размахивая охотничьим стеком, который сжимал здоровой рукой. — Твой дед все так же боится дяди, Долл? — Да, думаю — да. Знаешь, Эрнест, мне, честно говоря, не нравится, как он на него иногда посматривает. Эрнест рассмеялся. — Ну, думаю, старина Аттерли вполне безопасен. — Надеюсь, что так, — отвечала Дороти. Когда они только-только вернулись в Дум Несс, Джереми немедленно преисполнился опасений по поводу своей судьбы: его преследовала мысль, что мистер Кардус захочет вновь упечь его в свою контору, как и несколько лет назад. Однако через неделю его страхам суждено было разрешиться самым приятным образом. После завтрака мистер Кардус пригласил его к себе в кабинет. — Что ж, Джереми, — сказал он, окидывая быстрым взглядом черных глаз гигантскую фигуру молодого человека, ибо за эти годы Джереми еще больше раздался в плечах и заметно подрос, став гораздо крупнее даже своего дяди, — чем ты собираешься заняться? Для адвоката ты стал несколько… великоват, клиенты будут тебя бояться. — Не знаю, как насчет «слишком большой» — но знаю, что не могу позволить себе потратить несколько лет своей жизни впустую. — Совершенно согласен. Так что же ты предполагаешь делать? — Понятия не имею. — Может быть, ты перекуешь, так сказать, мечи на орала и станешь фермером? — Думаю, это мне вполне подойдет. У меня есть небольшой капитал, мы с Эрнестом неплохо распорядились деньгами. — Нет, я не советовал бы покупать ферму таким образом, сейчас нелегкие времена. Однако мне самому нужен практичный и опытный человек, чтобы управлять землей. Жалование — 150 фунтов. Что скажешь? — Вы очень добры, но я сомневаюсь, что справлюсь с этим. Я ведь не очень-то много знаю о подобных вещах. — О, ты быстро научишься. Бейлиф Стамп введет тебя в курс дела, я полагаю. Что ж, значит решено. Таким образом, наш друг Джереми открыл новую страницу своей жизни — и она его вполне устраивала. Менее чем за год он вполне освоился в новой должности и с головой погрузился в сельское хозяйство. Когда бы вы ни встретили его, карманы его куртки были полны овса или моркови, и все, что росло на земле под его чутким руководством, всегда было отменного качества.Глава 42
КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО
Как все произошло? Давайте попробуем это выяснить… Дороти и Эрнест проводили все дни напролет вместе. Расставались они только тогда, когда появлялся Мазуку — чтобы проводить своего господина в постель. К завтраку Мазуку приводил Эрнеста и сдавал с рук на руки Дороти, на весь день. Нельзя сказать, чтобы нашему зулусу это нравилось — вернее, ему это не нравилось вовсе. Он считал, что это его дело — ухаживать за господином, его, а не Розового Бутона, которая, как он вскоре выяснил, не была связана с господином ни родством, ни узами брака. Именно на этой почве постепенно разрасталось противостояние Розового Бутона и Мазуку. Мазуку вывел господина на утреннюю прогулку. Дороти увидела это и поспешила за ними: она ревниво оберегала то, что считала своим священным правом, и потому взяла Эрнеста за руку, решительно отстранив Мазуку. Тут терпение великого воина закончилось, и он разразился долгой обвинительной тирадой. — О Розовый Бутон, сладчайший и крошечный! — воззвал возмущенный Мазуку к Дороти на зулусском, из чего следует, что она не поняла ни одного слова. — Почему ты приходишь и забираешь у меня руку моего отца и господина? Разве слепой Мазимба — не мой отец, разве я — не верный его пес, что должен вести его сквозь мрак? Почему ты отбираешь у собаки ее кость? — Что говорит этот человек? — спросила Дороти. — Ему не нравится, что ты пришла меня сопровождать, он говорит, что он — мой пес, а ты отбираешь у пса его кость. Хорошенькая кость, кстати! — Так скажи ему, что здесь тебя сопровождаю я, а не он. Чего ему надо? Разве он и так не проводит с тобой все время? Разве не он спит под твоей дверью? Куда уж больше! Эрнест перевел ее ответ Мазуку. — У! — воскликнул зулус с явным недовольством. — Он верный парень, Куколка, и много лет со мной рядом. Ты не должна его обижать. Однако Дороти, как и все любящие женщины, настаивала на соблюдении исключительно своих прав. — Скажи ему, что он может идти впереди! — упрямо заявила она, а упрямства ей иногда было не занимать. — Кроме того, я ему не доверяю, когда он тебя водит. Я почти уверена, что вчера вечером он был навеселе. Эрнест перевел только первую часть ее ответа, умолчав о второй, поскольку Мазуку клялся, что не понимает английского языка Дороти. Зулус согласился на компромисс, и на некоторое время конфликт был исчерпан. Иногда Дороти и Эрнест вместе выезжали верхом — несмотря на слепоту, Эрнест не хотел от этого отказываться. Зрелище было великолепным: Эрнест ехал верхом на громадном вороном жеребце по кличке Дьявол, который в его руках всегда был кроток, словно овечка, однако со всеми остальными вполне оправдывал свое имя; Дороти ехала рядом верхом на соловом пони, которого подарил ей мистер Кардус. Правой рукой она крепко сжимала узду Дьявола. Таким образом они объездили всю округу, а иногда, когда им попадался особенно ровный участок, даже позволяли себе пустить лошадей в галоп. Позади них обычно ехал Мазуку — верхом на упитанном низеньком пони, держа ноги в зулусской манере, под прямым углом к бокам животного. Странное это было трио. Так, неделю за неделей жила Дороти рядом с Эрнестом. Читала ему, писала для него письма, гуляла с ним и ездила верхом — постепенно все глубже погружаясь в его жизнь и не желая ничего другого. Наконец, настал один солнечный августовский день, когда они вдвоем сидели в тени развалин Тайтбургского аббатства. Это было их излюбленное место отдыха — серые камни защищали и от яркого солнца, и от резкого ветра с моря. Кроме того, это место было богато на воспоминания о прошлом… да и просто здесь было приятно посидеть в тишине. До них доносился умиротворяющий шум моря, солнце прогрело землю и камни. Дороти задумчиво смотрела в полуразрушенный дверной проем — там золотые солнечные блики танцевали на изумрудных волнах. Она только что читала Эрнесту; теперь книга лежала у нее на коленях, а сама Дороти являла собой чудесный портрет задумчивой Женственности. Эрнест тоже поддался сонному очарованию этого тихого места и о чем-то глубоко задумался. Вскоре Дороти очнулась и шутливо толкнула Эрнеста в бок. — Ну, Эрнест? О чем ты задумался? Ты выглядишь ужасно унылым — как самая наиунылейшая вещь в мире, что бы это ни было. Как ты думаешь, какая вещь самая унылая в мире? — Не знаю! — протянул он, тоже приходя в себя. — Хотя нет, знаю: американский роман. — Хорошее определение. Тогда ты выглядишь унылым, как американский роман. — Это очень нехорошо, дорогая Куколка! Нельзя так говорить. Я думал кое о чем… важном. Она скорчила рожицу, которую он, конечно, не мог видеть, и быстро ответила: — Ну, ты все время о чем-то думаешь. Чаще всего о Еве, если только не спишь, а когда спишь — видишь ее во сне. Эрнест покраснел. — Да. Это правда. Она занимает большую часть моих мыслей. Это мое несчастье, Долл, не вина. Понимаешь, я ничего не умею делать наполовину. Дороти закусила губу. — Она должна быть польщена, я полагаю. Немногие женщины могут похвастаться, что внушили такие чувства мужчине. Думаю, это все потому, что она так с тобой поступила. Собаки любят руку, что наказывает. У тебя удивительный характер, Эрнест. Немногие могут отдавать так много тому, кто ничего не отдает взамен. — Тем лучше для них. Если бы у меня был сын, думаю, я научил бы его любить всех женщин и использовать их любовь для достижения удовольствия — но не влюбляться всерьез. — Это одно из проявлений твоей горькой философии, за которую мы тоже должны благодарить Еву. Ты часто ей предаешься. Позволь, однако, заметить, что в мире полно добрых и хороших женщин. Да-да, честных, верных, готовых отдать свое сердце и вверить свою судьбу тому, кого они любят, не жестоких и не желающих стать королевами Англии. Но вы, мужчины, не желаете их искать. Вы не думаете ни о чем, кроме внешней красоты, и не заботитесь о том, чтобы получше узнать души простых девушек, что подобно ромашкам в поле, окружают вас. Ну да, у них же нет огромных выразительных глаз или великолепной фигуры! Вы проходите мимо, и не будь они добродетельны и скромны — вы бы растоптали их, торопясь сорвать царственную розу. Зато потом вы плачетесь каждому встречному — и этим же ромашкам, — что эта роза исколола вам все пальцы. Эрнест рассмеялся, а Дороти уже не могла остановиться. — Да, этот мир несправедлив. Если женщина красива — мир уже у ее ног, потому что мужчины — презренные существа, заботящиеся только о собственных чувствах. С другой стороны, если девушка проста и всего лишь симпатична… если обладает совершенно обычной внешностью — другими словами, не уродлива, — вы обращаете на нее примерно столько же внимания, сколько на стул, на котором сидите. А ведь у нее, как ни странно, тоже есть чувства, она способна на любовь и страсть, ее воображение ничуть не беднее вашего, просто все это скрывается за неприметной внешностью! Да она, вероятнее всего, гораздо лучше ваших красавиц! Природа не наделяет одного человека сразу всеми достоинствами. Наделив женщину совершенной красотой, она лишает ее либо сердца, либо мозгов, либо того и другого. Но вы, мужчины, этого не видите — потому что смотрите лишь на прекрасное лицо. И вот — со временем все невеликие возможности мисс Простушки исчерпаны, она превращается в разочарованную старую деву, а леди Совершенство между тем продолжает строить свою карьеру взбалмошной эгоистки. Но придет и ее срок, красота увянет — это лишь вопрос времени. Мы все обратимся в прах, знаешь ли, и в старости, перед смертью между нами нет большой разницы. Эрнест слушал Дороти очень внимательно и с нарастающим изумлением. Он и представить не мог, что ее могут занимать подобные размышления. — Я помню, одна девушка как-то сказала, что большинство женщин предпочитают стать старыми девами, — медленно сказал он. — Она сказала глупость — никто этого не хочет. Это было бы неестественно, особенно если они о ком-то заботятся и кого-то любят. Только подумай, на этих островах живет, по меньшей мере, миллион молодых женщин, и каждый день рождаются новые! Страшно подумать, что было бы, захоти они все стать старыми девами! Это была бы революция, вот что! И если бы они все были вдобавок красивы — у них бы все получилось! Эрнест расхохотался еще громче. — Знаешь, какое лекарство мог бы предложить Мазуку? — Нет. — Полигамию. Многоженство. Среди зулусских женщин нет старых дев, и все они очень счастливы. Дороти покачала головой. — Здесь это не сработает, слишком дорого. — Знаешь, Долл, ты так говорила об этих молодых женщинах… Видишь ли, ты еще молода для старой девы. Неужели ты хочешь ею стать? — Да! — ее ответ прозвучал резко. — Значит, тебе никто… эээ… не нравится? Дороти бурно покраснела. — А тебе какое дело, хотела бы я знать?! — Никакого, Долл. А ты не рассердишься, если я кое-что тебе скажу? — Говори, что хочешь. — Ну да, но будешь ли ты слушать? — Если ты будешь говорить, мне придется слушать, я же не могу оглохнуть. — Хорошо-хорошо… Долл… только не сердись, дорогая! — Ох, Эрнест, ты меня утомил! Говори уже — и покончим с этим. — Ладно. На этот раз, Долл, я буду говорить прямо. Вот что. В последнее время я был настолько самонадеян, что мне показалось, будто ты… ну… не совсем равнодушна ко мне. Долл, я ведь слеп, как летучая мышь. Я хочу спросить тебя прямо — это правда или нет? Ответь честно, Долл, потому что я не могу посмотреть тебе в глаза, чтобы увидеть там ответ. Дороти сильно побледнела при этих словах и с невыразимой нежностью посмотрела на Эрнеста. Вот и пришел этот миг… — Почему ты меня об этом спрашиваешь, Эрнест? Нравишься ты мне или нет — совершенно неважно, потому что я тебе не нравлюсь. — Ты не права, Долл, но я скажу, почему я об этом спрашиваю. Это не просто любопытство, поверь. Ты ведь знаешь всю историю моей жизни, Куколка, по крайней мере — большую ее часть. Ты знаешь, как я любил Еву и как отдал ей все, что только может отдать глупый юнец слабой женщине, — отдал так много, что мне больше никогда не вернуть утраченного. Она меня иссушила. Я ее потерял — разумеется, в этом мире, но, возможно, и во всех иных мирах, если они существуют, хотя я не думаю, что люди там живут как-то иначе. Леопард не может избавиться от своих пятен, ты же знаешь! Счастье всей моей жизни было разрушено без права на возрождение, и этот факт нужно просто принять, так же как факт моей слепоты, например. Физически и морально я искалечен и конечно же не могу в таких обстоятельствах просить женщину выйти за меня на основании каких-то моих достоинств — их нет. Но если ты, дорогая моя Долл, как мне иногда и казалось, так страстно заботишься о столь бесполезном человеке, то дело приобретает несколько другой оттенок. — Я тебя не понимаю. Что ты имеешь в виду? — тихо спросила Дороти. — Я хочу спросить тебя, возьмешь ли ты меня в мужья? — Ты не любишь меня, Эрнест. Я буду тебя раздражать. Он нащупал ее руку и взял обеими своими. Дороти не сопротивлялась. — Дорогая моя! Я никогда не смогу подарить тебе такую же любовь и страсть, какую отдал Еве, потому что, спасибо Господу, человеческое сердце способно на такое сильное чувство лишь однажды в жизни — но я могу подарить и подарю тебе самую нежную и верную любовь, какую только способен дать муж жене. Ты мне очень дорога, Долл, хотя и совсем иначе, чем Ева. Я всегда любил тебя как сестру и думаю, что буду тебе хорошим мужем. Но прежде, чем ты ответишь мне, я хочу, чтобы ты в точности понимала все насчет Евы. Женюсь я или нет — боюсь, что никогда полностью не смогу выбросить ее из головы. Когда-то я уже думал, что меня излечит любовь — плотская любовь — к другим женщинам, знаешь — клин клином вышибают и все такое… Но это было ошибкой. Меня хватало на два-три месяца, а потом прежние мысли одолевали меня с новой силой. Кроме того, скажу совсем честно — я не уверен, что сам хочу избавиться от них. Тоска по этой женщине стала частью меня самого. Я уже говорил, она — моя злая судьба, мне не избавиться от нее. Теперь, дорогая Долл, ты понимаешь, почему я спросил о твоих чувствах ко мне, прежде чем попросить выйти за меня? Я скорее обуза, чем нормальный человек, но если ты решишься… это будет твое решение. Дороти немного помолчала, а потом ответила: — Предположим, что все было бы не так — просто предположим, Эрнест. Предположим, что ты любил свою Еву всю жизнь, но она не отвечала тебе тем же, она любила тебя как брата, а сердце свое отдала другому мужчине. Предположим, что он был, к примеру, женат на ком-то другом или еще каким-то образом разлучен с ней. Предположим, что однажды тот мужчина умер, и в один прекрасный день Ева пришла бы к тебе и сказала: Эрнест, дорогой, я не могу любить тебя так, как любила того, кто ушел и к кому я надеюсь однажды присоединиться на небесах, но если ты этого хочешь, и если это сделает тебя счастливее — я готова стать тебе верной и нежной женой. Что бы ты ответил ей, Эрнест? — Что ответил? Полагаю — согласился бы, взял ее в жены и был бы всю жизнь ей благодарен. Да, думаю — так. — Ну, так и я, Эрнест, согласна стать твоей женой, потому что как ты любил Еву — так я всю жизнь любила тебя. Я любила тебя, когда была маленькой девочкой, я любила тебя, став женщиной, я любила тебя все сильнее и сильнее, даже когда мы были в этой долгой и безнадежной разлуке. Когда ты вернулся… ах, это было для меня так же, как если бы ты сейчас вновь увидел свет! Эрнест, любимый мой, ты — вся моя жизнь, и я согласна, дорогой мой. Я буду твоей женой. Эрнест протянул руки, нашел Дороти и притянул к себе, а потом нежно поцеловал в губы. — Долл, я не заслуживаю тебя и твоей любви, и мне очень стыдно, что я не могу отдать тебе взамен весь мир. — Эрнест, ты отдашь мне то, что сможешь. Я собираюсь добиться, чтобы ты полюбил меня. Возможно, однажды ты и отдашь мне — весь мир. Эрнест некоторое время колебался, а потом сказал: — Долл, ты уверена, что не против… ну, того, что я сказал о себе и Еве? — Мой дорогой, я принимаю Еву как факт и постараюсь с ней смириться, как и следует поступать, когда собираешься выйти за мужчину с комплексом Генриха VIII. — Долл, я не зря назвал ее своей злой судьбой. Понимаешь, я боюсь ее; она подавляет мою волю и все разумные доводы. Теперь, Долл, я схожу с ума от мысли, что она — нет, не то, чтобы она обязательно это сделала, но может! — снова появиться в моей жизни, а потом ей что-то взбредет в голову, и она снова одурачит меня. Она ведь может преуспеть, Долл! — Эрнест, пообещай мне кое-что. Дай слово чести. — Да, дорогая. — Обещай, что никогда не станешь скрывать от меня то, что происходит между Евой и тобой — если что-то будет происходить. Обещай, что в этом вопросе ты всегда будешь полагаться на меня не как на жену, а как на лучшего друга. — Почему ты меня об этом просишь? — Потому что тогда, я полагаю, я смогу уберечь вас обоих от беды. Сами вы за собой присматривать не в состоянии, особенно ты. — Обещаю. И вот еще что, Долл. Несмотря на все то, что я сейчас говорил, где-то глубоко внутри меня живет убеждение, что моя судьба и судьба этой женщины каким-тообразом переплелись. Возможно, это глупо — но мне кажется, что сейчас мы переживаем всего лишь один из этапов нашего существования, что мы уже прошли такие этапы в прошлом — и что впереди нас ждут иные, быть может, высшие ступени… Вопрос в том, хочешь ли ты связать свою жизнь с жизнью человека, который придерживается такой странной веры? — Эрнест, я полагаю, твоя вера истинна — по крайней мере, для тебя самого. Верим же мы, что будем пожинать плоды того, что посеяли, в то, что каждому дается по вере его, и в то, что ни одно деяние не остается без последствий. Эта вера не возникает из ничего, и я не сомневаюсь, что на небесах найдется место каждому верующему. Но ведь и я тоже верю — искренне и от всего сердца, — что Господь уготовил всем любящим душам в иной жизни соединиться с теми, кого они любили и желали. Возможно, каждый обретет то, во что верит всей душой. Видишь, Эрнест, твои убеждения вовсе не мешают моим — я не боюсь потерять тебя в ином мире. А теперь, любовь моя, возьми меня за руку и позволь отвести тебя домой. Возьми мою руку, как взял мое сердце, и никогда не отпускай, до самого моего смертного часа. Так, рука об руку, Эрнест и Дороти отправились домой сквозь свет и тени приближающихся сумерек.Глава 43
ПРОЩАНИЕ С МАЗУКУ
Дороти и Эрнест вернулись в Дум Несс как раз вовремя, чтобы переодеться к обеду, поскольку с тех пор, как Эрнест и Джереми снова поселились дома, Дороти, чье слово в Дум Несс было законом, настояла на поздних обедах. Трапеза прошла как обычно. Дороти сидела между Эрнестом и своим дедушкой, без устали помогая обоим, так как им было бы затруднительно справиться самостоятельно без ее нежной и деликатной помощи. Однако когда с обедом было покончено, со стола сняли скатерть, а Грайс поставила на стол вино и удалилась, произошло нечто необычное. Эрнест попросил Дороти наполнить его бокал портвейном. Она выполнила просьбу, и тогда он сказал: — Дядя и Джереми, я хочу попросить вас поднять свои бокалы. Мистер Кардус бросил на него острый взгляд и спросил: — В чем дело, Эрнест, мой мальчик? Дороти немедленно зарделась, догадываясь, о чем пойдет речь, и не зная, сердиться ей или радоваться. — Я прошу выпить за здоровье моей будущей жены — Дороти Джонс. На мгновение в гостиной воцарилась тишина, которую нарушил мистер Кардус. — Много лет назад, Эрнест, мой дорогой племянник, я говорил тебе, как сильно я мечтаю об этом — но многое случившееся сорвало мои планы. Я не ожидал, что этому суждено свершиться. Теперь, благодарение Богу, настали хорошие времена, и я пью за ваше здоровье от всего сердца. Я счастлив, я очень счастлив. Дети мои, я знаю, что я странный человек, и вся моя жизнь была посвящена лишь одной страсти, одному делу, которое сейчас подходит к своему финалу, — но и в этой странной жизни я нашел время, чтобы научиться любить вас обоих. Дороти, дочь моя, я пью за твое здоровье! Пусть все счастье, в котором было отказано твоей матери, достанется тебе — будь счастлива и за себя, и за нее! Эрнест, ты прошел через тяжелые испытания, и почти чудом можно считать то, что ты дождался этого дня. В Дороти ты обретешь награду за все пережитое, ибо она — хорошая женщина. Возможно, я не успею увидеть, как будет расцветать ваше счастье и как родятся ваши дети — во всяком случае, не думаю, что доживу, — но пусть с вами навечно пребудет мое благословение. Благослови вас Бог, дети мои! Мир вам, Дороти и Эрнест! — Аминь! — громогласно подытожил Джереми, почему-то представив, что он находится в церкви. Потом он вскочил и от избытка чувств так сильно стиснул и потряс руку Эрнеста, что тот не удержался от крика; Дороти он подхватил на руки и закружил по комнате, а потом горячо расцеловал, сбив цветок орхидеи, которым она украсила свою прическу. Затем все снова уселись и принялись за портвейн — разумеется, мужчины, — чувствуя, как души их переполняет радость. Единственным человеком, которого новости совсем не обрадовали, был Мазуку. — У! — проворчал он, когда Джереми сообщил ему, что произошло. — Значит, Розовый Бутон станет Розой, и я больше не смогу отводить отца моего Мазимбу в постель. У! С того дня Мазуку сделался необыкновенно задумчив и рассеян, явно размышляя о чем-то важном. На следующее утро мистер Кардус послал за Эрнестом, прося его явиться в кабинет. Дороти провожала его. — Ах, вот и вы! — воскликнул мистер Кардус. — Да, это мы, — отвечала Дороти. — Что случилось? Мне уйти? — Нет-нет, останься. То, что я скажу, касается вас обоих. Эрнест, взгляни на орхидеи, они так прекрасны… Ах ты! Я забыл, что ты не можешь их видеть. Прости меня! — Ничего страшного, дядя. Я чувствую их аромат. — И Эрнест с удовольствием шагнул в дверь оранжереи. В конце ее стоял небольшой столик и несколько железных стульев — здесь мистер Кардус иногда курил. Они расселись вокруг столика, и мистер Кардус вытер платком свою лысину. — Итак, молодые люди, вы собираетесь пожениться. Могу я спросить, на какие средства вы рассчитываете жить? — Ба! — воскликнул Эрнест со смехом. — Я даже не думал об этом. У меня не очень много средств, если не считать титула, особняка с бесчисленными и крайне ценными семейными реликвиями и ста восьмидесяти пяти акров оленьего парка. — Ну, не думаю, что они у тебя действительно есть, но, к счастью для вас обоих, я не такой уж плохой опекун и хочу кое-что сделать для вас. Как вы думаете, что было бы лучше всего? Давай, Дороти, моя маленькая домоправительница, расскажи, какой ты видишь свою будущую жизнь — надеюсь, вы не хотите сбежать отсюда и оставить меня в старости одного? Дороти по детской своей привычке нахмурилась и принялась что-то высчитывать на пальцах. Вскоре она ответила: — Триста фунтов в год — для тихой умеренной жизни, на двоих. — Что? — ахнул мистер Кардус. — А когда пойдут детишки? Дороти вспыхнула в ответ на столь прямолинейное замечание, а Эрнест вздрогнул, несколько испуганный образом сыплющихся на него бесчисленных «детишек» — как, впрочем, почти каждый мужчина на его месте. — Лучше пятьсот фунтов! — поспешно сказал он. — О, так вот что вы думаете? — усмехнулся мистер Кардус. — Что ж, теперь скажу я. Я собираюсь положить вам две тысячи в год плюс оплата ведения домашнего хозяйства. — Мой дорогой дядя, но это гораздо больше, чем мы хотели! — Чепуха! Деньги есть — надо их тратить, и почему бы не потратить их на вас, вместо того, чтобы складывать их в банк или инвестировать? Могу вам сказать — их предостаточно. Все, чего я касался, обращалось в золото, мне кажется, такое частенько бывает с несчастливыми людьми. Деньги! У меня их гораздо больше, чем я могу потратить, и на земле полно идиотов, считающих, что счастье — это много денег. Он немного помолчал и продолжал: — Я дам вам и больше, но сейчас вы еще сравнительно молоды, и я не хочу разбаловать вас. Мир полон неожиданностей, и никто не может сказать, как дело повернется лет через десять. Я желаю тебе, Эрнест, соблюдать умеренность и научиться копить — пусть хоть немного. У вас впереди вся жизнь, и что бы вы ни выбрали — отсутствие денег не должно стать для вас препятствием. Послушайте, дети: я хочу сказать, что когда я умру, вы унаследуете практически все мое состояние; я разделил его поровну между вами, указав, что в случае смерти одного из вас оставшийся получает его долю. Это завещание я написал несколько лет назад и не вижу причин изменять его сегодня. — Простите, дядя, — сказал Эрнест, — но что насчет Джереми? Мистер Кардус слегка изменился в лице. Он так и не смог до конца избавиться от неприязни к Джереми, хотя врожденное чувство справедливости и шептало ему, что он неправ. — Я не забыл о нем, Эрнест! — сказал он тоном, ясно говорившим о том, что разговор окончен. Эрнест и Дороти горячо поблагодарили старика, но он уже не слушал их, поэтому они ушли, оставив его наедине с деловыми письмами. В коридоре Дороти задержалась и осторожно заглянула через стекло в комнатку, где обычно работал ее дед. Старик сидел и быстро писал что-то; его седые волосы падали ему на лицо. Потом он, казалось, придумал что-то, вскинул голову и расплылся в широкой, хотя и кривой улыбке, осветившей его бледное лицо. Поднявшись со стула, он подошел к шкафу и достал из-за него длинную трость с насечками. Снова усевшись на стул, он принялся пересчитывать эти насечки, зачем взял перочинный нож и вырезал еще одну. Затем положил трость перед собой и забормотал что-то невнятное — он был не совсем немым, — сгибая и разгибая свою здоровую руку, необыкновенно мощную для такого старика. Дороти поспешила войти в кабинет. — Дедушка, что ты делаешь? — резко спросила она. Старик перепугался, челюсть его отвисла. Затем глаза потускнели, взгляд стал апатичным, он взял табличку и написал на ней: «Вырезаю зарубки». Дороти задала еще несколько вопросов, но он больше не отвечал. По дороге в дом Дороти сказала Эрнесту: — Мне совсем не нравится то, что в последнее время творится с дедом. Он все время бормочет и сжимает руку, словно душит кого-то невидимого. Ты же знаешь, он считает, что все эти годы служил дьяволу и что срок скоро истекает — а ведь Реджинальд всегда был так добр к нему, хоть и не имел на то причины. Если бы не Реджинальд, дед отправился бы в сумасшедший дом — но Реджинальд связан с тем, что он разорился, и потому дед именно его считает дьяволом. Он забывает, как служил у Реджинальда; в безумии человек помнит лишь свои обиды и боль и совершенно забывает о том, какое зло причинил сам. Мне все это ужасно не нравится! — Мне кажется, его стоило бы держать под замком. — О Реджинальд никогда на это не согласится. Пойдем, дорогой.Прошло около месяца с того дня, как мистер Кардус рассказал о своих намерениях насчет денег для молодой пары — и вот в маленькой церкви Кестервика состоялась тихая свадьба. Церемония была очень скромной: кроме Эрнеста и Дороти присутствовали мистер Кардус, Джереми и несколько бездельников, которые просто заглянули в открытые двери церкви, чтобы узнать, что происходит. На самом деле бракосочетание держали в тайне — из-за своей слепоты Эрнест не хотел, чтобы зеваки глазели на него. Кроме того, он терпеть не мог обычай, согласно которому женщина сообщает направо и налево, что нашла мужчину, который женится на ней, а ее родня празднует ее отъезд с показными слезами и искренней радостью. Однако среди немногих, присутствовавших в церкви, был еще один человек. Высокая женщина, чье лицо было скрыто густой вуалью, сидела в самом дальнем углу, очень тихо, словно обратившись в каменное изваяние. Когда жених и невеста встали перед алтарем, она подняла вуаль и пристально посмотрела на счастливую пару. Губы ее задрожали, черты прекрасного лица омрачила тень. Она долго смотрела на жениха, а затем пробормотала чуть слышно: — Стоило ли приходить? По крайней мере, я его видела… Затем эта леди поднялась и, словно черная тень, выскользнула из церкви, унося с собой тяжкое бремя собственного греха. А что же Эрнест? Он стоял перед священником и отвечал ему своим ясным чистым голосом — но даже в этот момент перед его внутренним взором возникло видение маленькой комнатки в далекой Претории и то, как в этой комнатке он ясно представлял себе эту самую церковь и стоящих перед алтарем жениха и невесту… Видение возникло — и исчезло, как уходят все видения, как уйдем и мы, ведь и мы тоже только видения в этой жизни, просто более растянутые во времени… Оно ушло, кануло в пучины прошлого, которое вечно поджидает с распахнутой ненасытной пастью, чтоб поглотить навсегда наши радости и беды, наши взлеты и грехи — и ждать, когда наше завтра превратится в наше вчера. Все закончилось, он теперь был женат, и Дороти, его жена, стояла рядом с ним, улыбаясь и розовея от счастья, чего он, конечно, не мог видеть; дрожащий голос мистера Хэлфорда поздравлял его, рокотал, отдаваясь гулким эхом, бас Джереми, звучал пронзительный, всегда чуть насмешливый голос его дяди… Эрнест обнял свою жену и поцеловал ее, а она отвела его в ризницу, через которую за последние шесть столетий прошли тысячи новобрачных, и Эрнест вписал свое имя в старинную приходскую книгу — Дороти помогала ему, но он все равно волновался, прямо ли держит перо. Потом они вышли из церкви, сели в коляску и отправились домой. Эрнест и Дороти не уехали на медовый месяц, они остались в своем старом доме и стали потихоньку привыкать к новой жизни и новым отношениям. На взгляд постороннего, эти отношения не слишком-то изменились — разве что они еще больше времени стали проводить вместе, но для Дороти разница была огромна. Целый мир открылся ей; все, что раньше было лишь надеждой, желанием, мечтой — стало явью, и это сделало ее прекрасной. Дороти выглядела счастливой женщиной — и была ею. И только зулуса Мазуку такое положение дел, похоже, совсем не радовало. Однажды — дня через три после свадьбы — Эрнест и Дороти гуляли вместе за домом, когда их нагнал вернувшийся с одной из дальних ферм Джереми и принялся с жаром рассказывать о каких-то сельскохозяйственных новшествах — к тому времени он уже довольно неплохо разбирался в этом вопросе. Через некоторое время все трое поняли, что им мешает какой-то странный звук — будто чьи-то босые пятки ритмично топают по земле. — Это похоже на зулусский танец! — быстро сказал Эрнест. Да, это был наш зулус, Мазуку — но совершенно преобразившийся. Он пожелал забрать с собой в Англию свое военное облачение, которое он носил, пока был солдатом Кечвайо в Натале, и теперь он был облачен в него. Он стоял перед ними — поразительная, хотя и немного пугающая фигура. Голову его украшало единственное перо серой цапли, очень длинное и красивое, развевавшееся в воздухе и достигавшее не менее двух футов; на нем было некое подобие килта из белых бычьих хвостов, а правое плечо и правое колено украшали белоснежные браслеты из козьей шерсти. Кроме этого никакой другой одежды на Мазуку не было. В левой руке он сжимал молочно-белый боевой зулусский щит, обтянутый бычьей кожей, а в правой — свой верный ассегай. Подобно статуе эбенового дерева, Мазуку стоял перед ними безмолвно и неподвижно, и Дороти изумленно смотрела на его широкую грудь, покрытую страшными шрамами от ударов ассегая, и могучие руки. Внезапно Мазуку вскинул оружие и громко воскликнул: — Кооз! Баба! — Говори! — коротко приказал Эрнест. — Я говорю, отец мой, Мазимба! Я пришел увидеть отца моего, как мужчина приходит к мужчине, я пришел с копьем и мечом — но не с войной. Вместе с отцом моим я пришел из земли солнца в землю холода, где солнце бледно, и потому белы лица, которые оно освещает. Разве не так, отец мой? — Я слушаю тебя, Мазуку. — С моим отцом я пришел сюда. Не мы ли с моим отцом стояли бок о бок много дней? Не я ли зарезал двоих людей Басуто в земле Секокени, вождей Бапеди по приказу моего отца? Не я ли спас отца моего от клыков льва однажды ночью? Не я ли стоял с отцом моим на Месте Маленькой Руки, в долине Изандлвана, когда она была красна от крови? Снилось мне это — или все так и было, отец мой? — Я слышу тебя. Все так и было. — И потом, когда небеса почуяли мощь отца моего и поразили его огнем, разве не сказал я — о, отец мой, теперь ты слеп и не можешь больше сражаться и жить жизнью мужчины, но раз ты слеп, то я пойду туда же, куда пойдешь и ты, и буду твоим верным псом? Разве не сказал я это, о Мазимба, отец мой? — Ты так сказал. — И мы поплыли по черной воде, ты, Мазимба, я и великий Лев, подобного которому никогда не рождала женщина от мужчины, и пришли сюда, и жили много лун жизнью женщин, не сражаясь, только пили и ели, и забыли об охоте, и не знали радостей, достойных мужчин. Разве не так, Мазимба, отец мой? — Ты говоришь истину, Мазуку, все это так. — Да, мы плыли на дымящемся корабле и приплыли в страну чудес, которая исполнена деревьев и домов, и в ней человеку трудно дышать и нельзя поднять руку, чтобы не наткнуться на каменную стену. И вот пришел навстречу нам старик с чудесной блестящей головой, и пришла девушка, Розовый Бутон, маленькая, но очень красивая, и они приветствовали моего отца и великого Льва, и посадили их в повозки, запряженные лошадьми, и отвезли их сюда, в это место, где им придется вечно смотреть на печаль большого моря. И тогда Розовый Бутон сказал: что делает здесь этот черный пес? Разве может пес водить Мазимбу за руку? Уходи, черный пес, иди впереди или сзади, это я буду держать Мазимбу за руку. И тогда отец мой погрузился в негу и лень, стал толстым, стал богат волами, повозками и зерном, и сказал себе: я возьму Розовый Бутон в жены. И раскрылись лепестки Розового Бутона, и сомкнулись вокруг отца моего, и стал Бутон — Розой, и теперь благоухает она для отца моего днем и ночью, а черный пес остается и воет за дверью. И так случилось тогда, отец мой, что Мазуку, твой буйвол и твой пес, спросил у своего сердца, и оно сказало ему: здесь больше нет места для тебя. Мазимба, отец твой и господин, больше не нуждается в тебе. Ты воин, но в этой стране женщин ты тоже станешь женщиной. Так иди к отцу своему, встань перед ним и скажи: о, отец мой, много лет назад я вложил свою руку в твои руки и стал для тебя вернейшим, но теперь я хочу забрать свою руку и вернуться в землю солнца, откуда мы пришли, потому что здесь я не нужен, здесь я не могу дышать. Я все сказал, отец мой и господин мой! Эрнест заговорил на зулусском, и голос его зазвучал мягко и звонко, так как он прекрасно знал этот певучий язык. — Мазуку, умданда га Инголуву, умфана га Амазулу, сын Инголуву, дитя народа Зулу! Ты был хорошим человеком, и я полюбил тебя, но теперь ты уйдешь. Ты прав, теперь моя жизнь — это жизнь женщины; никогда больше не услышу я звука выстрелов или звона стали, никогда не пойду на войну, так что ты должен идти, Мазуку. Это правильно и хорошо. Только вспоминай иногда своего слепого Мазимбу, вспоминай Эльстона, мудрого капитана, что спит ныне вечным сном, вспоминай и великого Льва, что бросил через плечо Буйвола. Иди — и будь счастлив. Пусть будет у тебя много жен и детей, пусть бесчисленны будут твои стада! Великий Лев отведет тебя к морю и даст тебе денег, чтобы ты смог добраться до земли солнца, а там купить себе волов, землю и фургоны, чтобы ты не голодал и мог заплатить выкуп за жен. Мазуку, прощай — и счастливого пути! — Одно слово, Мазимба, отец мой — и я больше не потревожу твой слух никогда. Когда придет твое время отправиться на небеса белого человека, и твои глаза вернутся к тебе, и ты снова станешь воином, готовым сражаться, — обернись и крикни погромче: Мазуку! Сын Инголуву из племени Маквилисини, где ты, пес мой? Приди и служи мне! И если я еще буду жив, то услышу твой голос, закричу в ответ и умру, чтобы поскорее прийти к тебе. Ну а если я буду уже мертв, то просто приду к тебе на твой зов. О Мазимба, сделай это для меня, отец мой и господин, ибо я любил тебя, как дитя любит грудь, что питает его молоком, и хочу снова посмотреть на твое лицо, о, отец мой и господин на веки вечные. — Если это будет в моих силах, я сделаю это, Мазуку. Великан-зулус вскинул копье и в первый и последний раз в жизни отдал Эрнесту королевский салют — на что, кстати, не имел никакого права. — Байе! Байе! Потом он повернулся и бросился бежать. Больше они с Эрнестом до отъезда Мазуку не виделись. Как сказал зулус, «смертная боль закончена». Когда звук шагов Мазуку затих вдали, Эрнест отвернулся и вздохнул. — Разорвалась последняя связь с Южной Африкой, Джереми. Это хорошо, что он ушел — он слишком пристрастился к бутылке и женщинам, как и все они здесь. Но все же мне грустно, очень грустно, и иногда я думаю, что лучше бы, как говорил Мазуку, нам было уйти вместе с Эльстоном и остальными. Все было бы уже кончено… — Ну спасибо! — фыркнул Джереми. — Знаешь ли, в общем и целом меня вполне устраивает мое нынешнее положение!
Глава 44
МИСТЕР КАРДУС ЗАВЕРШАЕТ СВОЮ МЕСТЬ
Мистер де Талор был обязан своим богатством не собственному таланту, а удачно обнаруженному секрету производства смазки, используемой на железных дорогах, принадлежавшему его отцу. Талор-старший был железнодорожником, пока его открытие не сделало его богачом. Тем не менее, он оказался человеком умным и проницательным, а потому, разбогатев, сделал все, чтобы превратить своего сына — тогда пятнадцатилетнего мальчика — в джентльмена. Однако было уже поздно: даже детские привычки нелегко преодолевать, и тут уж никакая земная власть или образование не могут достичь желаемого результата. Когда его сыну было двадцать, старый Джек Талор умер, а его сын к тому времени преуспел в унаследованном железнодорожном бизнесе, охватившем основные железнодорожные рынки мира. Надо отдать ему должное — сын унаследовал проницательность своего отца и действительно очень старался. Для начала он добавил «де» к своему имени. Затем он купил поместье Чезвик Несс и тем самым влился в сословие джентльменов. Вскоре после этого он совершил серьезную ошибку, влюбившись в первую красавицу тех мест — Мэри Аттерли. Однако Мэри Аттерли не обращала на него никакого внимания — она была помолвлена с мистером Кардусом. Напрасно де Талор прибегал к различным ухищрениям, напрасно пытался подкупить ее отца, чтобы оказать давление на Мэри, — «лихой наездник Аттерли» в те годы был еще в полной силе и всячески сопротивлялся его ухищрениям. Потом де Талор, в припадке ярости, женился на другой девушке, которая была согласна мириться со всеми его недостатками ради богатства и положения в местном обществе, где он считался финансовым магнатом. Вскоре после этого почти одновременно произошли три события. «Лихой наездник Аттерли» столкнулся с серьезными финансовыми трудностями из-за своей чрезмерной страсти к охотничьим собакам и лошадям. Мистер Кардус был послан за границу по делам, а друг мистера де Талора, некто мистер Джонс, остановившийся в его доме, завел роман с Мэри Аттерли. В этом обстоятельстве де Талор углядел возможность отомстить своему сопернику, мистеру Кардусу. Он принялся убеждать Джонса, что путь к сердцу его дамы лежит через кошелек ее отца, и зашел так далеко, что даже выделил необходимые средства для подкупа старого Аттерли — ибо мистер Джонс на тот момент необходимыми средствами не обладал. Заговор удался. Сомнения Аттерли были преодолены так же легко, как сомнения людей без принципов, попавших в сходное положение; на нежную Мэри было оказано давление самого возмутительного рода, в результате чего мистер Кардус, вернувшись из-за границы, обнаружил, что его возлюбленная невеста замужем за другим человеком — вскоре он и стал отцом Джереми и Дороти. Этот неожиданный и жестокий удар едва не свел мистера Кардуса с ума, когда же он пришел в себя, месть стала единственной целью его жизни, превратившись в своего рода манию. Направив на это весь свой недюжинный интеллект и энергию, Реджинальд Кардус быстро выяснил отвратительную роль, сыгранную в этом сюжете мистером де Талором, и поклялся посвятить всю жизнь мести и только мести. Годами он преследовал своего врага, придумывая все новые планы для достижения своих целей; если проваливался один план, он без промедления переходил к следующему. Однако сокрушить мистера де Талора было не так-то легко, особенно в связи с тем, что мстителю приходилось действовать тайно, не позволяя своему врагу заподозрить хоть на минуту, что перед ним отнюдь не друг и не союзник. Как он в конечном итоге достиг своей цели, читатель вскоре узнает. Эрнест и Дороти были женаты уже около трех недель, и Дороти только-только начала привыкать к тому, что теперь ее называют леди Кершо. Однажды утром у дверей дома остановилась коляска, и из нее стремительно выбрался мистер де Талор. — Боже ты мой, как в последнее время изменился де Талор! — сказала Дороти, выглядывая в окно. — Как же? — поинтересовался Эрнест. — Стал меньше походить на мясника? — Нет. Но теперь он выглядит, как изрядно потрепанный мясник, собирающийся объявить о своем банкротстве. — Мясники никогда не становятся банкротами, — хмыкнул Эрнест, и в этот момент мистер де Талор показался в дверях. Дороти была права: он сильно переменился. Толстые щеки стали дряблыми и обвисли, де Талор весь словно сдулся, растеряв заодно и часть своей наглости. Он выглядел исхудавшим едва ли не вдвое. — Как поживаете, леди Кершо? Я видел, что к Кардусу кто-то зашел, так что решил воспользоваться случаем и выразить свое почтение новобрачным. Клянусь Богом, сэр Эрнест, вы сильно возмужали с тех пор, как я видел вас в последний раз. О, тогда мы с вами были добрыми друзьями. Помните, как вы приходили в Несс поохотиться (один или два раза он позволил мальчикам поохотиться на кроликов)? Благослови вас Господь, я слыхал, что с тех пор вы стали знатным стрелком и укладывали ниггеров направо и налево, а? Он замолчал, чтобы перевести дыхание, а Эрнест произнес в ответ несколько дежурных фраз: он не любил этого человека, и его лесть была ему так же неприятна, как и его наглость и грубость. Мистер де Талор ткнул пальцем в угол, где на стене по-прежнему висел ковчежец с головой ведьмы: — Надо же, вижу, вы так и не избавились от этой жуткой штуки, которую однажды показывал мне ваш братец, леди Дороти. Я-то подумал, что это часы — ну и перепугался до смерти. А теперь вот думаю — удача меня оставила с тех самых пор, как я на нее взглянул. В этот момент вошла экономка Грайс и сообщила, что мистер Кардус готов принять мистера де Талора в своем кабинете. Дороти показалось, что при этих словах де Талор сильно побледнел; во всяком случае, он был так взволнован, что поспешил уйти, даже не попрощавшись.Войдя в кабинет, де Талор обнаружил адвоката расхаживающим от стены к стене. — Как поживаете, Кардус? — непринужденно поинтересовался он. — Хорошо, благодарю вас. Надеюсь, что и вы в добром здравии, — прозвучал довольно холодный ответ. Де Талор подошел к стеклянной двери и посмотрел на пышно цветущие орхидеи. — Симпатичные цветочки, очень даже. Орхидеи, да? Должно быть, стоили вам кучу денег. — Нет, они обошлись мне дешево. Большинство из них я вырастил сам. — Тогда вы счастливчик, Кардус. Счета за орхидеи, которые приносит мне слуга, — это что-то ужасающее. — Вы приехали поговорить об орхидеях, мистер де Талор? — Нет, Кардус, нет. Сначала дело, потом — развлечения, не так ли? — О да! — прокаркал мистер Кардус в ответ. — Сначала дело. Потом развлечения. Мистер де Талор беспокойно переступил с ноги на ногу. — Кардус, я о том залоге… Надеюсь, вы дадите мне еще немного времени? — Напротив, мистер де Талор, напротив. Срок истек уже восемь месяцев назад, и я дал своим лондонским агентам распоряжения об аресте имущества, поскольку такими делами лично не занимаюсь. Де Талор смертельно побледнел. — Арест?! Святой Боже, Кардус, это невозможно! Такой старинный друг, как вы… — Прошу прощения, но это не просто возможно — это уже делается. Бизнес есть бизнес, даже когда речь идет о старых друзьях. — Но если вы наложите арест — что делать мне?! — Это, я полагаю, ваше личное дело. Гость мистера Кардуса с выпученными глазами глотал воздух, очень напоминая неудачливую рыбу, случайно выпрыгнувшую на берег. Мистер Кардус был неумолим. — Обратимся снова к фактам. В течение последних нескольких лет я неоднократно давал вам ссуды на обеспечение земельных владений в Чезвик Несс и окрестностях, общая сумма составляет — давайте сверимся с документом — «сто семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать восемь фунтов десять шиллингов четыре пенса, считая же пеню за просроченные выплаты — сто семьдесят девять тысяч пятьдесят два фунта восемь шиллингов». Все так? — Да… я полагаю, все верно. — Тут не нужно полагать — документы все подтверждают. — Итак, Кардус? — Мистер де Талор, поскольку вы не можете заплатить, я поручил своим лондонским агентам начать продавать ваши земли с тем, чтобы обратить выручку в недвижимость, это сейчас самое выгодное вложение. — О Кардус, не уничтожай меня! Я уже старик, а ты втягиваешь меня в подобные спекуляции. — Мистер де Талор, я тоже уже не молод. Даже если не годами — сердцем я истинный Мафусаил. — Я ничего не понимаю, Кардус. Мистер Кардус уселся в кресло спиной к окну, так что свет падал только на растерянное лицо де Талора. — Мне доставит огромное удовольствие разъяснить вам все, мистер де Талор. Но чтобы сделать это, мне придется начать издалека. Десять… нет, пожалуй, двенадцать лет назад — вы должны это помнить — некая фирма «Растрик и Кодли» взяла патент на новый вид железнодорожной смазки и обосновалась в Манчестере, неподалеку от знаменитой фабрики де Талора, основанной вашим отцом. — Да, будь они прокляты! — прорычал де Талор. — Проклинайте на здоровье. Но ведь что они сделали? Они приступили к работе и начали продавать смазку, по всем техническим параметрам превосходящую смазку де Талора, на восемнадцать процентов дешевле. Впрочем, Торговый дом де Талора имел связи на рынках, контракты с ведущими английскими и континентальными фирмами — так что некоторое время казалось, что новой фирмочке не выжить. Они бы и не выжили — не будь у них значительного первоначального капитала. — Ах да, да! И откуда они только его взяли! Загадка! — воскликнул де Талор. — Совершенно верно, это загадка, отгадку я скажу чуть позже. Вернемся в Манчестер. Через некоторое время покупатели начали находить, что смазка «Растрик и Кодли» действительно лучше и дешевле. По мере того как контракты исполнялись, никто не спешил их возобновлять — с домом де Талора. Фирмы предпочли «Растрик и Кодли». Ну, вы и сами это наверняка помните. Де Талор только застонал в знак согласия, и адвокат продолжал: — Со временем подобное положение дел принесло свои результаты: дом де Талор был практически разрушен, основная часть контрактов перешла в руки новой фирмы. — Ах, как бы мне хотелось знать, кто они такие — эти низкие воришки! — Вы действительно хотите это знать? Пожалуйста. Фирма «Растрик и Кодли» принадлежала Реджинальду Кардусу, адвокату из Дум Несс. Мистер де Талор вскочил со стула и безумным взглядом уставился на адвоката, а затем бессильно опустился обратно. — Вы плохо выглядите, де Талор. Хотите вина? Де Талор только покачал головой. Мистер Кардус кивнул и продолжил: — Очень хорошо. Несомненно, вам интересно было бы узнать, каким образом я, адвокат, никак не связанный с Манчестером, получил монополию на смазочные материалы — кстати, это и сейчас приносит отличный доход. Я удовлетворю ваше любопытство. Меня всегда интересовали изобретения. Я их поддерживал и скупал — как правило, тайно и под чужим именем. Иногда они приносили мне деньги, иногда я деньги терял — в целом я больше приобрел, нежели утратил. Но независимо от того, прибыльным или убыточным оказывалось изобретение — сами изобретатели никогда не знали, кто именно их поддерживает. В один прекрасный день мне попался патент на вот эту самую железнодорожную смазку. Я вложил в него пятьдесят тысяч, потом еще пятьдесят тысяч, потом ваша фирма стала перекрывать мне кислород — и я вложил еще пятьдесят тысяч. Если бы я проиграл — я был бы разорен, я вложил почти все свое состояние в сомнительный проект. Но Фортуна любит храбрецов, мистер де Талор, — и я преуспел. Разорилась ваша фирма. Я же заплатил все свои долги, все подсчитал — теперь, после выплаты по всем обязательствам, «Рострик и Кодли» стоит на рынке что-то около двухсот тысяч фунтов. Если вы захотите войти в этот бизнес, господа Растрик и Кодли, я уверен, будут счастливы иметь с вами дело. Для меня эта фирма уже сослужила службу, теперь она в свободной продаже. Де Талор смотрел на мистера Кардуса с изумлением, но был слишком потрясен, чтобы говорить. Кардус продолжал: — Пожалуй, довольно о железнодорожной смазке. Неудача вашей фирмы, вернее, приостановка ее деятельности из-за падения продаж, еще не разорила вас, вы оставались богатым человеком — правда, теперь это была всего лишь половина прежнего богатства. Это, как вы помните, приводило вас в ярость. Вы ненавидели терять деньги, вы бы предпочли выпустить себе кровь из жил, нежели отдать пару соверенов из кошелька. Когда вы вспоминали о своей драгоценной смазке, которая истаяла в огне свободной конкуренции, ваши глаза наполнялись слезами ярости. Именно тогда вы пришли ко мне за советом. — Да! И вы посоветовали мне сыграть на бирже! — Не совсем так, мистер де Талор. Я сказал — и хорошо помню те свои слова, — что вы способный человек и хорошо разбираетесь в деньгах, так почему бы в эти смутные времена не воспользоваться шансом и не попытаться вернуть все, что вы потеряли? Перспектива вернуть все искушала вас, мистер де Талор, и вы подхватили мою идею. Вы попросили меня подыскать вам надежную фирму, и вскоре я представил вас господам Кэмпси и Эшу, лучшим маклерам в Сити. — Жулики!!! — Жулики? Мне жаль, что вы так думаете, поскольку их бизнес меня заинтересовал. — Боже мой… что же было дальше? — простонал де Талор. — Несмотря на все усилия господ Кэмпси и Эша, выступавших от вашего имени в соответствии с письменными поручениями, которые вы им время от времени присылали — и которые можете перечитать, если хотите, — дела ваши шли не блестяще. Год за годом вы обнаруживали, что теряете больше, чем приобретаете. Наконец, в один не прекрасный день, года три назад, вы решили рискнуть, пренебрегли советами господ Кэмпси и Эша… и проиграли все. Именно тогда я начал одалживать вам деньги. Первый кредит составил пятьдесят тысяч, потом снова начались потери — и новые кредиты, так мы с вами и достигли нынешнего положения дел. — Кардус! Вы же не собираетесь меня разорить полностью? Что я буду делать без денег? Подумайте о моих дочерях — как они будут жить, не имея привычных удобств? Дайте мне время! Почему вы так жестоки ко мне? Мистер Кардус вскочил и быстро зашагал по кабинету. Когда де Талор умолк, он подошел к большой шкатулке, стоявшей на столе, отпер ее и из кипы бумаг достал пожелтевший листок бумаги с печатью. Это был исполненный счет на десять тысяч фунтов, подписанный Джонасом де Талором, эсквайром. Кардус поднес счет к глазам де Талора. Тот замер от ужаса, губы и руки у него затряслись. — Это, я полагаю, ваша подпись, де Талор? — очень тихо спросил мистер Кардус. — Где… где вы это взяли?! Мистер Кардус привычно смотрел своими черными глазами куда-то мимо де Талора. Никогда эти глаза не смотрели ни на что и ни на кого прямо — и все видели все… — Я взял это среди бумаг твоего дружка Джонса. Ты, мерзавец! — неожиданно взорвался мистер Кардус. — Возможно, теперь ты сообразишь, почему я охотился за тобой в течение тридцати лет, почему делал шаг за шагом, терпя неудачи, почему не останавливался — ради Мэри Аттерли! Это ты, скотина, пребывая в ярости от ее отказа, свел ее с Джонсом. Это ты дал ему денег, чтобы он попросту купил ее у старого Аттерли. Доказательство — перед тобой. Кстати, Джонсу не было нужды отдавать тебе эти десять тысяч — по закону это были брачные услуги брокера, а они не подлежат возмещению. Это ты виновник того, что вся моя жизнь пошла под откос, ты тот, из-за кого я едва не лишился рассудка, это ты толкнул Мэри, мою обрученную невесту, в объятия этого парня, из-за чего, святые небеса, она вскоре и умерла! Мистер Кардус умолк, пытаясь отдышаться и справиться с приступом ярости и волнением; густые белые брови сошлись над пылающими черными глазами — и он впервые в упор взглянул на съежившееся перед ним жалкое раздавленное существо. — Кардус! Это же было так давно! Неужели ты не можешь простить и оставить прошлое — в прошлом? — Простить? За себя я мог бы простить — но за нее, опозоренную, а потом и убитую вами, я не прощу никогда! Где твои сообщники и собутыльники, де Талор? Джонс умер, я его уничтожил. Аттерли живет в моем доме; я пощадил его, потому что он дал Мэри жизнь, но нечестивые деньги не принесли ему ничего хорошего. Есть силы и посильнее моих — они отомстили ему за его преступление, лишив рассудка, а я спас его от сумасшедшего дома. Со мной живут и дети Джонса, ибо их вскормила грудь Мэри. Но неужели ты думаешь, что я пощажу тебя, ты, грубая высокомерная тварь? Тебя, кто был создателем этого подлого заговора? Нет, даже если бы это стоило мне жизни, я бы не отказался от моей мести! В этот момент Кардус поднял голову и увидел через стеклянную дверь всклокоченную голову и дикие глаза «беспечного наездника Аттерли». На лице старика застыло очень странное выражение. Заметив, что мистер Кардус смотрит на него, безумец исчез. Мистер Кардус вновь посмотрел на де Талора. — Убирайся! И чтобы я больше никогда тебя не видел! — Но у меня нет денег, куда я пойду? — взвыл де Талор. — Куда угодно, мистер де Талор, это свободная страна. Если бы я распоряжался вашими передвижениями, то, несомненно, отправил бы вас к дьяволу. Де Талор, пошатываясь, поднялся со стула. — Хорошо, Кардус, я уйду. Я уйду. Ты своего добился. Ты чертовски жестоко поступил со мной, но, возможно, однажды тебе это аукнется. Я рад, что ты не получил Мэри — должно быть, тебе было приятно видеть, как она выходит замуж за Джонса… Через мгновение его уже не было в кабинете. Мистер Кардус сел в свое кресло; из головы у него не шло странное выражение, которое он заметил в глазах старого Аттерли. Так закончилась месть мистера Реджинальда Кардуса, которой он посвятил всю свою жизнь.
Глава 45
ПОСЛЕДНЯЯ СКАЧКА БЕЗУМНОГО АТТЕРЛИ
Прошел месяц после злополучного визита де Талора к мистеру Кардусу. Весь этот месяц мистер Кардус был очень занят с утра до вечера. Он всегда был занятым человеком, лично вел обширную переписку, следил за всеми деловыми операциями — но в последнее время нагрузка, казалось, удвоилась. Одновременно с этим общественность Кестервика пережила серьезное, но довольно приятное потрясение — семья де Талора внезапно съехала, а его дом и земли были выставлены на продажу, каковая вскоре и состоялась: все скупила лондонская адвокатская контора, действовавшая от лица неизвестного клиента. Де Талор просто исчез, никто не знал, где он — но не слишком-то и интересовался; впрочем, не считая его слуг, которым не выплатили жалование, и торговцев, у которых остались неоплаченные счета на довольно крупные суммы. Последние искали его довольно энергично, но безрезультатно: де Талор и вся его семья просто сгинули бесследно, известно стало лишь то, что де Талор полностью обанкротился. Больше в Кестервике о нем ничего не слышали — но, честно говоря, были рады его исчезновению. Однако однажды в субботу делам мистера Кардуса, похоже, пришел конец. Он написал несколько писем, запечатал их и сложил в мешок с почтой. Затем полюбовался своими орхидеями, бормоча себе под нос: — Что ж, теперь вся моя жизнь — это орхидеи. Работе конец. Построю новую оранжерею для тропических сортов и потрачу двести фунтов на ее обустройство. Могу себе позволить! Это происходило около пяти часов вечера. Через полчаса, расставшись с орхидеями, он пошел прогуляться к Тайтбургскому аббатству, где встретил Эрнеста и его жену — они сидели на своем любимом месте. — Вот и вы, мои дорогие! — сказал мистер Кардус. — Как ваши дела? — Все хорошо, дядя, спасибо. А как поживаешь ты? — Я? О, я совершенно счастлив — насколько может быть счастлив старик, только что навсегда распрощавшийся со всеми утомительными делами. — Что вы имеете в виду, Реджинальд? — Моя дорогая Дороти, я имею в виду, что я закончил все свои дела и ухожу на покой. Вы, молодые люди, должны быть благодарны мне, поскольку теперь все в полном порядке, настолько полном, что когда я оставлю сей мир, у вас не будет никаких проблем, кроме, разве что, выплаты пошлины по завещанию — а она, должен заметить, значительна. Честно говоря, еще неделю назад я и не знал, насколько богат — не знал в точности, я имею в виду. Как я когда-то сказал, все, к чему я прикасался, обращалось в золото. Для вас это очень хорошо, дорогие мои, ибо открывает много возможностей. — Я надеюсь, вы проживете еще много лет с нами и сами будете управлять своим состоянием, дядя! — сказал Эрнест. — Ах, кто знает, мой милый. Я чувствую себя прекрасно — но кто способен предвидеть будущее? Долли, девочка моя дорогая! — тут голос его стал мягким и мечтательным. — Ты становишься так похожа на свою мать… Знаешь, иногда мне кажется, что я теперь рядом с нею. Несколько лет назад я считал воспоминания о ней прахом, думал, что она оставила меня навсегда — но в последнее время мои мысли изменились. Я убедился лично, что Провидение прекрасно разбирается с делами нашего несовершенного мира, и теперь начинаю верить, что где-то есть иной мир, в котором возможности Провидения еще больше. Да-да, я думаю, что однажды встречусь с твоей матерью. Дороти, дорогая моя, я иногда чувствую, что она совсем рядом со мной… Что ж, я за нее отомстил. — Я думаю, вы обязательно найдете ее, Реджинальд! — тихо сказала Дороти. — Но еще я думаю, что ваша месть — это злое и неправедное дело. Я и раньше осмеливалась вам это говорить, хоть вы и злились на меня, но теперь говорю снова: зло притягивает зло. Как можем мстить мы, несчастные слабые создания, не понимающие причин происходящего, не видящие зачастую дальше собственного носа? Какое право мы имеем судить других — если, знай мы все об этом мире, должны были бы первыми простить наших обидчиков? — Возможно, ты права, любовь моя, — ты, как правило, всегда оказываешься права в таких вопросах — но мое желание отомстить де Талору было слишком велико, я жил и дышал им одним, и теперь все кончено. Человек, если он живет достаточно долго и обладает достаточной силой воли, может сам достичь всего, кроме счастья. Однако человек несовершенен и распыляет свои силы на множество ничтожных целей; он сбивается с пути в погоне за бабочкой по имени Удовольствие, за мыльным пузырем амбиций, за ангелом разрушения по имени Женщина… Так рушатся его цели, и он пытается сесть между двух, а то и десятка стульев — но оказывается на земле. Большинство же людей вообще не способно ставить перед собой цель. Люди — слабые существа, и все же — какие могучие силы скрываются в каждом из нас! Подумайте, дети мои, кем бы мог стать человек, если бы развивал врожденные добродетели, отвергая слабость и безумие, доводя свои физические и умственные способностидо совершенства! Взгляните на дикий цветок и цветок, выращенный в теплице, — ничто не сравнится с возможностями, заложенными в человеке, даже в нынешнем. Это, конечно, лишь прекрасная мечта. Кто знает, сбудется ли она когда-нибудь? Ну, как говорится, «что бы там ни было — однажды мы это узнаем». Пойдемте, пора домой — скоро ужин. Кстати, Дороти, я вспомнил одну вещь! Мне очень не нравится в последнее время состояние твоего уважаемого дедушки. Я сказал ему, что у меня больше нет для него заданий, что я завершил все свои дела, а он помчался за своей тростью, показал мне зарубки и сообщил — как мог, — что, по его собственным расчетам, время вышло. Потом он схватил свою табличку и написал на ней, что я дьявол, но у меня больше нет над ним власти, поскольку его хранят небеса. А еще раньше я застал его, когда он пялился на меня сквозь стеклянную дверь очень, очень странным взглядом! — Ах, Реджинальд, так вы тоже заметили это? Я совершенно согласна с вами — мне тоже очень не нравятся эти изменения. Знаете, мне кажется, его лучше было бы запереть. — Мне не хочется его запирать, Дороти. Впрочем, об этом мы лучше поговорим завтра. Отведя Эрнеста в комнату переодеваться к ужину, Дороти решила сбегать в контору мистера Кардуса и посмотреть, там ли ее дед. Разумеется, он был там: бродил из угла в угол, размахивая своей тростью, с которой он недавно срезал все зарубки. — Дедушка, что ты делаешь? Почему ты еще не одет? Аттерли схватил табличку и быстро написал: «Время вышло! Время вышло! Время вышло! Я покончил с работой у дьявола и с ним самим. Я отправляюсь на небеса верхом на большом черном жеребце. Я иду искать Мэри. Ты кто? Ты на нее похожа». Дороти ласково взяла его за руку и тихо, успокаивающе сказала: — Дедушка, ну зачем ты пишешь эту ерунду? Не хочу об этом больше слышать. Тебе должно быть стыдно! Запомни — больше ни слова. Положи трость и отправляйся мыть руки перед ужином. Дороти показалось, что старик был более суетлив, чем обычно, но когда он пришел к обеденному столу, то вел себя, как обычно. Они сели за стол без четверти семь, ужин продлился недолго. Когда с едой было покончено, старый Аттерли выпил немного вина, а затем, по привычке, уселся в своем углу у камина. Это было старинное место отдыха в старом доме. Зимними вечерами, когда огонь весело потрескивал в камине, здесь было очень тепло и уютно, но сидеть здесь в полумраке летним теплым вечером… что ж, это было вполне в духе старого Аттерли. После ужина разговор зашел о том роковом дне, когда Корпус Эльстона погиб на поле Изиндлваны. Для Эрнеста и Джереми тема была не слишком приятной и даже весьма болезненной, однако Эрнест все же удовлетворил любопытство своего дяди, рассказав о заключительной битве с шестью зулусами, закончившейся их с Джереми победой. — Как все было? — спросил мистер Кардус. — Как тебе удалось справиться с тем парнем, с которым вы скатились с холма? — Его ассегай оказался у меня в руках. Джереми привез его с собой. Долл, где он? Дороти встала и сняла со стены сломанный ассегай — он висел над каминной полкой. — Джереми, будь добр, ложись на пол, и я покажу дяде, как все случилось. Джереми согласился, впрочем, ворча, что он испачкает куртку. — Джереми, где ты, мой мальчик? Ах, вот ты где… Прости, я наступлю коленом тебе на грудь и приставлю ассегай… вот так… Сейчас мы разыграем эту сцену — получится весьма реалистично. Итак, дядя, вы видите? Мы скатились с холма, рукоять ассегая сломалась, а мне повезло, я оказался наверху. Я прижал коленом его левую руку, а правую держал своей левой рукой. Затем, прежде чем он смог освободиться, я полоснул лезвием ассегая ему по шее, прямо по яремной вене — и он почти сразу умер. Вот так, дядя, теперь ты знаешь об этом все. Эрнест поднялся и положил ассегай на стол, а Джереми, войдя в роль, принялся художественно «умирать» и корчиться на полу, стараясь все же не сильно испачкаться. Затем Дороти подняла голову и увидела, что старый Аттерли высунулся из своего угла и с напряженным вниманием следит за происходящим. Выражение лица у него было то самое, странное и возбужденное. Увидев, что Дороти смотрит на него, он сразу отвернулся. — Вставай, Джереми! — резко прикрикнула Дороти. — Прекрати извиваться, словно змея, на полу. Ты и в самом деле похож на умирающего, это ужасно! Джереми рассмеялся и вскочил на ноги. Потом, с разрешения Дороти, они все разожгли трубки и еще долго сидели в угасающих сумерках, негромко разговаривая о трагических событиях того далекого дня — почему-то именно в этот вечер они особенно заинтересовали мистера Кардуса. Он задавал Эрнесту и Джереми бесчисленные вопросы — как был убит тот или иной человек? Сразу ли они умерли? Тема эта всегда была болезненной для Эрнеста, он редко вспоминал о тех событиях, поскольку для него они в первую очередь были связаны с гибелью его дорогого друга Эльстона и юного Роджера. Дороти знала об этом; знала она и то, что после подобных разговоров Эрнест будет сумрачен и молчалив весь следующий день — поэтому старалась сменить тему. Наконец ей это удалось, но печальные воспоминания уже сделали свое дело: мало-помалу разговор увял, все сидели в тишине вокруг старого дубового стола совершенно неподвижно, напоминая вырезанные из камня статуи. Тем временем сумерки сгустились, на улице поднялся ветер, и старые ставни стали поскрипывать, словно чьи-то призрачные руки пытались открыть их. Тусклый вечерний свет умирал, в комнате множились тени, становилось все темнее и темнее. Вся сцена была довольно жуткой и угнетала Дороти. Она спрашивала себя, почему все молчат — но и сама не могла проронить ни слова; на сердце легла странная тяжесть. Именно тогда случилось самое странное. Как вы, должно быть, помните, много лет назад Ева Чезвик нашла в скалах мумифицированную голову древней красавицы, а Джереми поместил находку в небольшой ковчег-витрину и повесил его на крюк в углу гостиной. Вокруг этой диковины висели старинные доспехи, среди которых — тяжелая стальная рукавица из облачения рыцаря. Она висела на струне, прикрепленной к тому же крюку, над ковчегом. Видимо, пришло время — и старая веревка перетерлась окончательно. Именно в тот момент, когда Дороти задавала себе вопрос, почему стоит такая тишина, тяжелая стальная рукавица с грохотом упала вниз, по пути задев защелку стеклянной дверцы. Ковчежец распахнулся. Все вскочили с мест. В этот же миг последний, кроваво-алый луч заходящего солнца упал на стену, окрасив ее в зловещие цвета и оттенки крови, но главное — наполнив жуткие хрустальные глаза мертвой ведьмы нестерпимо ярким светом. О, как они засияли после долгого сна! Ведь ковчег не открывали годами — и теперь страшные глаза словно шарили по комнате, напряженно выискивая кого-то или что-то. Зрелище было ужасающим. Луч света играл в трепещущих хрустальных глазах, презрительная усмешка искажала мертвое лицо, и струились вокруг мертвой головы бесподобные волосы… После напряженной тишины, после неожиданного грохота рукавицы — это оказалось чересчур для нервов присутствующих. — Что это было? — спросил встревоженный Эрнест. — О эта жуткая голова! Она смотрит на нас! — закричала Дороти в ужасе. Она схватила Эрнеста за руку, а другой рукой прикрыла глаза и попятилась к двери. За ней последовали и остальные. Миновав коридор, они распахнули входную дверь — и оказались в мирной тишине теплого летнего вечера. Джереми заговорил первым, вытирая со лба холодный пот. — Ну, меня и тряхануло! Дороти трясла головой и истерично всхлипывала. — О Реджинальд, я хочу, чтобы вы избавились от этой ужасной вещи, чтобы вынесли ее прочь из дома! С тех пор как она здесь, нас преследуют одни несчастья! Я не могу больше это выносить! Я не могу! — Чепуха! Ты суеверный ребенок, Дороти! — сердито отозвался мистер Кардус, быстрее всех пришедший в себя. — Перчатка сбила защелку, только и всего. Это всего лишь голова древней мумии, но раз она так тебе не нравится, я ее отошлю в Британский музей, завтра же. — О, пожалуйста, Реджинальд, пожалуйста! — всхлипывала совершенно расстроенная Дороти.Все так поспешно бежали из гостиной, что совершенно забыли про «лихого наездника Аттерли», так и оставшегося в своем углу. Однако суета в комнате привлекла его внимание, и он с любопытством высунул лохматую голову из глубин своего кресла. Вскоре взгляд его упал на открытый ковчежец. Хрустальные глаза к тому времени успокоились — и словно бы ответили старику долгим задумчивым взглядом. Несколько мгновений две головы — седая и златокудрая — так и не сводили друг с друга глаз. Потом голова ведьмы одержала верх, подчинив старика своей воле. Он выполз из кресла и стал медленно приближаться к ковчегу, не сводя глаз со злого и прекрасного лица и постоянно кивая, кивая, кивая… Хрустальные глаза одобрительно сверкали в ответ. Аттерли замер, потом очень медленно отступил назад, не сводя глаз с головы, нащупал забытый на столе ассегай и сунул его в рукав. Как только он это сделал, последний луч солнца угас, и пылающие хрустальные глаза угасли вместе с ним. Казалось даже, что длинные ресницы опустились…
В ту ночь никто в гостиную не возвращался. Джереми, оправившись от испытанного ужаса, поспешил в свою каморку, где раньше набивал чучела птиц и мастерил всякие штуки. Мистер Кардус, Эрнест и Дороти пошли прогуляться под луной — она уже взошла, затопив весь Дум Несс призрачным жемчужным светом. Мистер Кардус в ту ночь был непривычно взволнован и взбудоражен. Он не умолкая рассказывал о своих завершенных делах, потом начинал вспоминать Мэри Аттерли, говоря, что Дороти очень похожа на нее голосом и манерой поведения. Говорил он и о браке Эрнеста и Дороти, подчеркнув, что он стал для него самым счастливым событием. Наконец уже около десяти вечера мистер Кардус сказал, что устал и идет спать. — Благослови вас Бог, мои дорогие. Спите крепко. Доброй ночи! Завтра мы обсудим постройку новой оранжереи для орхидей. Доброй ночи! Доброй ночи! Вскоре Эрнест и Дороти тоже отправились спать, пройдя через заднюю дверь, потому что ни один из них не желал снова проходить под взглядом страшных хрустальных глаз. Вскоре они уже крепко спали в объятиях друг друга. В мертвой тишине текли минуты этой ночи, уходя в прошлое. Пробило одиннадцать часов, затем настала полночь. Весь мир — земля, небо и море — погрузился в сон, тишина царила под луной… О небо! Что это за ужасный звук?! Душераздирающий вопль агонии, исполненный смертного ужаса, прокатился по спящему дому, отразился от стен, заставил вздрогнуть старые ставни, отозвался эхом в округе и замер где-то над морем. Затем снова наступила тишина. Все, кто спал, пробудились и вскочили с кроватей, а потом бросились из своих комнат в гостиную. Хрустальные глаза снова ожили — теперь на них играли лунные блики, заставляя вспыхивать опаловыми розблесками. Кто-то зажег свечу и заметил, что мистера Кардуса нет. Разумеется, он должен был спуститься, он не мог не слышать этого вопля… Все бросились к его комнате, путаясь и спотыкаясь на бегу. Мистер Кардус был у себя в комнате — и сон его был крепок. Багровая рана зияла на его горле, и кровь тяжелыми каплями все падала и падала на пол. Все замерли в ужасе — и в этот момент с улицы донесся топот копыт. Они узнали его — это была тяжелая поступь Дьявола, вороного жеребца Эрнеста.
Примерно в миле от болот, прямо на границе печально известных зыбучих песков, в которых, как гласит народная молва, сгинуло столько несчастных и которые временами содрогаются и стонут самым зловещим образом, стоит небольшой домик, в котором живет всего один человек, приглядывающий за шлюзом. Сегодня ночью ему нужно открыть ворота шлюза, и теперь он ждет благоприятного момента. Человек этот — старый моряк; руки он неизменно держит в карманах, старая трубка зажата в углу рта, а глаза чаще всего устремлены на море. Мы уже встречались с ним раньше. Внезапно он слышит яростный топот копыт — приближается крупный конь, это сразу ясно. Моряк поворачивается — и волосы встают дыбом у него на загривке при виде зрелища, открывшегося в лунном свете. Прямо на него мчится громадный угольно-черный конь, громко фыркая от ярости и ужаса. На спине у него, без седла, сидит, вцепившись в уздечку, старик — седые лохмы развеваются у него над головой. В руке он сжимает обломок копья. Они уже совсем близко. Прямо перед ними — широкое ложе шлюза. Если они не свернут или не остановятся — то рухнут прямо в него. Но нет — громадный конь, не останавливаясь, взмывает в воздух! О небо! У него получилось! Ни одна лошадь прежде не преодолевала такое препятствие — и вряд ли совершит подобное в будущем. Перепрыгнув шлюз, конь на полной скорости несется к зыбучим пескам, до которых осталось не более двухсот ярдов… Тяжелый всплеск. Конь и человек погружаются во влажную массу песка, заставляя содрогнуться всю поверхность на двадцать ярдов кругом. Лунный свет так ярок, что все прекрасно видно. Конь издает пронзительный и яростный визг — это крик агонии. Старик у него на спине молча размахивает копьем. Еще несколько мгновений — и конь исчезает в пучине, потом исчезает и старик — лишь копье еще несколько мгновений остается на поверхности, сверкая в лунном свете. Затем исчезает и копье. Поверхность зыбучих песков успокаивается — и тишина вновь воцаряется над миром. — Чтоб меня! — с чувством выдыхает старый моряк, все еще дрожа от пережитого ужаса. — Чтоб мне провалиться — много я повидал здесь странных вещей, но такого не видал никогда! Затем он поворачивается и бежит со всех ног прочь, позабыв о шлюзе, голландских сырах и море, позабыв обо всем — кроме черного коня и его старого всадника.
Так закончилась самая безумная, последняя скачка «лихого наездника Аттерли» — и вместе с ней закончилась долгая история мести мистера Реджинальда Кардуса.
Глава 46
ТРИУМФ ДОРОТИ
Прошло несколько лет, прежде чем Ева Плоуден вернулась в Кестервик — вернее, ее сюда привезли. Живой она сюда так ни разу и не приехала, и все эти годы они с Эрнестом не виделись. Ее похоронили, согласно ее последней воле, на церковном кладбище Кестервика, где лежали все ее предки, и теперь ромашки и маргаритки расцветали у нее в изголовье. Они расцвели уже дважды, прежде чем сэр Эрнест Кершо пришел к небольшому холмику, под которым покоились останки той, кого он так любил когда-то. Эрнест возмужал и выглядел здоровым и крепким мужчиной в расцвете лет. В темных волосах Дороти уже зазмеились серебряные нити. Летним вечером они стояли рука об руку возле могилы Евы. Многое произошло в их жизни с той страшной ночи, когда трагически погиб мистер Кардус. У них родились дети — нескольких они потеряли — обычные английские мальчишки и девчонки с темными глазами их отца. Они наслаждались богатой и спокойной жизнью, тратя свое состояние по-королевски благородно, никогда не отказывая в помощи нуждающимся. Они вдосталь испили из чаши радостей и печалей этого мира. Эрнест на пару лет вошел в парламент страны и даже сделал там некое подобие карьеры. Потом, как всегда нетерпеливый и жаждущий активных действий, он принял высокое назначение в колонии. Его назначению способствовали богатство и безупречная репутация, слепота не стала препятствием. Сейчас они с Дороти готовились к отъезду в Австралию — Эрнеста ждал пост губернатора одной из колоний. Прошло много лет, случилось множество событий — и все же сейчас, стоя возле могильного холмика, который он даже не мог видеть, Эрнест подумал, что все было как будто вчера… и вздохнул. — Все-таки не излечился до конца? — негромко спросила Дороти. — О нет, Куколка. Думаю — я совершенно здоров. — Дороти взяла его под руку и повела прочь. — Во всяком случае, я научился безропотно принимать все, что дарует нам Провидение. Я покончил с мечтами и пессимизмом. Жизнь, правда, была бы совсем другой, если бы Ева не бросила меня — ибо она отравляла воды любого источника, и они всегда были бы горьки. Но счастье — это не цель и не конец человеческого существования, и если бы я даже мог изменить прошлое — я бы не стал этого делать. Отведи меня к тому старинному плоскому надгробью, Долли, что возле входа в церковь. Она подвела его к камню, и Эрнест сел на него. — Ах, — продолжал он, — как она была прекрасна! Была ли когда-нибудь другая такая, как она? И вот теперь ее кости лежат здесь, красота ее исчезла, и в этом мире живы лишь горькие воспоминания о ней и о том, что она натворила. Мне нужно только немного напрячь память, Долл, и я вижу ее совершенно ясно — как она идет по этому церковному дворику. Да, я вижу ее — вижу и людей, что собрались вокруг, вижу ее платье, вижу улыбку, играющую в прекрасных темных глазах, — ты помнишь, Долли, она умела улыбаться глазами! Я помню, как поклонялся ей сердцем и душой, словно она была ангелом небесным! И в этом была моя ошибка, Долл. Она была всего лишь женщиной — очень слабой женщиной. — Ты только что сказал, что полностью излечился от нее, — усмехнулась Дороти, — но судя по твоей речи, это вряд ли так. — О нет, Куколка! Я действительно излечился — ты меня излечила, моя дорогая жена. Ты вошла в мою жизнь и завладела ею так, что для других в ней не осталось места. Теперь, Дороти, я могу смело сказать тебе: я люблю одну лишь тебя всем своим сердцем. Дороти сжала его руку и улыбнулась — ибо знала, что настал час ее торжества, и что Эрнест действительно любит ее, а страсть к Еве осталась лишь воспоминанием, нежным и легким сожалением, уже не отягощенным даже тенью надежды. Дороти была умной маленькой женщиной, хорошо знала Эрнеста и кое-что понимала в человеческой природе. Она всегда верила, что рано или поздно Эрнест будет принадлежать ей одной. Какими усилиями, какой нежностью, преданностью и самоотверженностью она добилась этого — могли бы представить лишь те, кто хорошо ее знал… но это было неважно, ведь она все же добилась своего, получив заслуженную награду. Контраст между двумя главными женщинами его жизни был слишком заметен для Эрнеста — человека справедливого и умного. Как только он начал сравнивать — последовал вполне естественный результат. Тем не менее, научившись любить Дороти, Эрнест не забыл Еву — ибо есть вещи, которые люди не могут забыть, ведь они являлись частью их жизни, частью души: к сожалению, одна из таких вещей — первая любовь. — Эрнест, — снова заговорила Дороти, — ты помнишь, что сказал мне под стенами Тайтбургского аббатства в тот день, когда попросил моей руки? О том, что твоя любовь к Еве переживет этот мир. Ты все еще веришь в это? — Да, Долл, в какой-то степени. Его жена села рядом и немного подумала. — Эрнест! — Да, милая? — Мне удалось выстоять против Евы в этом мире, хотя у нее были все шансы и на ее стороне была красота. Относительно же твоей теории могу сказать, что в ином мире мы все будем одинаково прекрасны — и было бы очень странно, если бы мне не удалось удержать тебя и там. У Евы был шанс — она от него отказалась; я своим воспользовалась — и не собираюсь от него отказываться ни в этом мире, ни в любом другом. Эрнест рассмеялся. — Должен сказать, дорогая моя, что рай был бы очень неказист — не будь там тебя! — Я тоже так думаю. «Кого соединил Бог — да не разлучит Человек», это касается и женщин. Но что толку сидеть здесь и болтать о вещах, в которых мы все равно ничего не смыслим? Вставай, пойдем домой. Джереми и дети заждались нас. Так, рука об руку Эрнест и Дороти отправились домой, и тихие сумерки окутали их.
ДЖЕСС (роман)
Романтико-приключенческое произведение о бескорыстной любви, самоотверженности, самопожертвовании — на фоне современной писателю политической конфронтации между английской колониальной администрацией и бурами.
Глава 1
ПРОИСШЕСТВИЕ
Был жаркий день, необычный даже для такой страны, как Трансвааль, несмотря на то что лето уже перевалило на вторую половину и наступил период гроз, длившийся обычно от одной до двух недель. Под жгучим дыханием полуденного ветра, ежедневно веющего в течение нескольких часов, уже поникли длинные воронкообразные чашечки сочных голубых лилий. Трава по обеим сторонам дороги была покрыта толстым слоем красноватой пыли. Но вот зной начал понемногу спадать, так как солнце уже клонилось к закату, и лишь внезапные порывы ветра изредка вздымали облака пыли, иногда вышиной до пятидесяти футов, некоторое время еще висевшие в воздухе и затем расплывавшиеся по земле. По дороге на недалеком расстоянии от одного из подобных песчаных водоворотов ехал всадник. Он казался утомленным и был с ног до головы покрыт пылью. Лошадь под ним выглядела еще более измученной. Знойный ветер выжег все их кости, как говорят кафры[419], что было вовсе не удивительно, если принять во внимание, что они путешествовали без отдыха уже целых четыре часа. Вдруг столб пыли, крутившийся впереди, внезапно замер и начал понемногу оседать. Всадник приостановил лошадь и задумчиво наблюдал за этим явлением. — В точности как наша жизнь, — произнес он, обращаясь к лошади, — неизвестно откуда возникает и неизвестно зачем. Образует горсть праха, называемого человеком, и затем бесследно исчезает в облаке пыли. Говоривший, видный тридцатилетний мужчина с красивыми голубыми глазами и рыжеватой бородкой, рассмеялся над только что высказанной им мыслью и стегнул кнутом измученную лошаденку. — Ну, ну, — продолжал он, — пошевеливайся, иначе мы никогда не доберемся до старика Крофта. Однако, кажется, следует свернуть в эту сторону. — И он указал кнутом в направлении узкой тропинки, в конце которой на расстоянии четырех миль виднелся одинокий холм с плоской вершиной, — Старый бур упоминал про второй поворот, — рассуждал он вслух, — но, вероятно, он лгал. Я слышал, что некоторые из них любят посмеяться над нами, англичанами, заставив прокатиться несколько лишних миль. Посмотрим. Мне говорили, что жилище Крофта находится у подножья горы с плоской вершиной на расстоянии получаса езды от большой дороги. Но вот же эта гора. С этими словами он пустил усталую лошадь иноходью, весьма обычной для южноафриканских лошадей. «Странная штука жизнь, — рассуждал капитан Джон Нил (именно так звали всадника), по мере того как лошадь медленно шла вперед, — вот я, например, в тридцать четыре года должен сызнова начинать карьеру в качестве компаньона трансваальского фермера. Нечего сказать, приятная перспектива для офицера, четырнадцать лет прослужившего в британской армии! Видно, чему быть, того не миновать». Рассуждения эти были внезапно прерваны весьма странным происшествием. На расстоянии четырех или пяти сотен ярдов навстречу Джону Нилу бешено неслась верхом какая-то девушка, а за нею с распростертыми крыльями и вытянутой шеей гнался страус. Хотя лошадь находилась пока на приличном расстоянии от птицы, она, конечно, не могла соперничать с одним из самых быстрых на свете существ. Прошло пять секунд, и Джон Нил невольно закрыл глаза, когда увидел, что страус бросился на жертву всей своей тяжестью. К счастью, удар пришелся по спине лошади, которая туг же и свалилась. Девушка выскочила из седла и поднялась на ноги лицом к страусу, который тут же набросился на нее. Но, прежде чем ему удалось нанести ей удар, девушка приникла лицом к земле. В одно мгновение страус прыгнул на свою жертву и принялся бить ее ногами и давить. В это время на выручку подоспел Джон Нил. Завидев его, страус оставил девушку в покое и начал кружиться около нового врага с тем сосредоточенным видом, с каким эти птицы готовятся к битве. Капитан Нил совсем не знал повадок и свойств этих пернатых, и его лошадь, по-видимому, также была с ними незнакома — она проявляла горячее желание поскорее покинуть поле сражения. Джон Нил и сам с удовольствием последовал бы ее примеру, но он был рыцарь в душе и не мог покинуть в опасности даму. Поэтому, не находя возможности справиться с лошадью, капитан соскочил с седла и с одним кнутом в руке бросился на врага. Несколько мгновений птица стояла в неподвижности, затем распустила крылья и устремилась на него. Нил сумел отпрянуть в сторону, и птица пронеслась мимо, но прежде, нежели ему удалось оглянуться, он получил сильный удар в спину, сваливший его с ног. Едва Джон Нил поднялся на ноги, как страус снова кинулся на него. Но в это время англичанину удалось захлестнуть кнутом шею птицы. Воспользовавшись ловким ударом, он вцепился обеими руками в крыло страуса. Затем оба стали кружиться, сначала медленно, потом быстрее и под конец с такой головокружительной быстротой, что капитану Нилу показалось, будто время, пространство и земля, на которой он стоял, смешались в каком-то хаосе. Перед ним, подобно шпилю, возвышалась грациозная шея, внизу кружились стройные прямые ноги, и возле него колыхалась пышная масса нежных перьев, черных и белых… Он упал навзничь, а страус, на которого это кружение, по-видимому, нисколько не подействовало, взгромоздился на него и принялся наносить ему удары. К счастью, страус был не в состоянии причинить сильный вред лежащему человеку. В противном случае Джону Нилу пришлось бы туго. Прошло полминуты, в течение которых птица продолжала поражать поверженного врага, и капитан Нил уже начинал подумывать, не наступил ли конец его земному странствию. В это время он заметил пару нежных округлых рук, обхвативших ноги страуса, и услышал слова. — Сверните ему шею, пока я держу ноги, иначе он убьет нас. Эти слова заставили его встрепенуться. Между тем страус и девушка уже катались по земле. Джон Нил бросился вперед, схватил обеими руками противника за шею и принялся изо всех сил гнуть ее, пока она не переломилась. После этого птица сделала еще несколько конвульсивных прыжков и бездыханная упала наземь и замерла. Совсем обессилев, Джон Нил опустился на землю и стал с любопытством оглядывать поле битвы. Страус застыл без движения, а подле него лежала девушка. Джону вдруг подумалось, не убита ли она, но так как он был слишком слаб, чтобы встать, то принялся смотреть на нее издали. Голова молодой особы покоилась на туловище убитой птицы, чьи перья образовали удобное ложе. Пристально разглядывая ее, он заметил, что она хороша собой, несмотря на некоторую бледность лица. У нее были густые брови, оттененные золотистыми волосами, круглый и весьма нежный подбородок и очень красивый рот. Цвет глаз он разобрать не мог, так как девушка лежала в обмороке. Следует прибавить, что она была молода — не более двадцати лет от роду — и прекрасно сложена. Когда он немного оправился, то подполз к ней, взял ее за руки и принялся отогревать их в своих ладонях. Руки были очень красивы, но потемнели от загара и тяжелой работы. Вскоре она пришла в себя, и он с удовольствием заметил, как хороши ее голубые глаза. Она приподнялась и рассмеялась. — Какая я глупая! Упала в обморок. — Этому нечего удивляться, — вежливо проговорил Джон Нил и поднял руку, чтобы снять шляпу, совершенно забыв, что она слетела с головы во время борьбы. — Надеюсь, вы не сильно ушиблись? — Не знаю, — ответила она, — но я рада, что вы убили птицу. Она убежала с фермы три дня назад. В прошлом году она убила мальчика, и я тогда убеждала дядю застрелить ее, но он ни за что не соглашался, так как страус был необычайно красив. — Позвольте вас спросить, — обратился к ней Джон Нил, — вы не мисс ли Крофт? — Да, я одна из них, и знаете, я догадываюсь, с кем разговариваю: вы, должно быть, Джон Нил, которого ожидает дядя, чтобы помогать ему управлять фермой и ухаживать за страусами. — Если все они такие, — воскликнул он, указывая на убитую птицу, — то я не думаю, что это занятие придется мне по душе. Она рассмеялась, обнаружив при этом ровный ряд белоснежных зубов. — О нет, этот составлял исключение. Но, капитан Нил, мне думается, вам будет у нас очень скучно. Здесь нет никого, кроме буров. Англичан вы не встретите ближе Ваккерструма. — Вы забываете себя, — учтиво заметил он, с удовольствием смотря на стоявшую возле него девушку, которая и в самом деле была прелестна. — Нет, — возразила она, — я еще девчонка и, кроме того, совсем глупенькая. Вот моя сестра Джесс, та воспитывалась в Капштадте[420], и она действительно умна. Положим, я тоже была в Капштадте, но немногому там научилась… Однако, капитан Нил, обе наши лошади исчезли. Моя, верно, убежала домой, и я полагаю, что и ваша ушла вслед за ней. Мне крайне интересно было бы знать, как мы доберемся до Муифонтейна, то есть «Прекрасного источника», как мы называем нашу ферму. В состоянии ли вы идти пешком? — Не знаю, — признался он, — впрочем, попробую. Эта птица меня сильно ушибла. — С этими словами он привстал и снова опустился, вскрикнув от боли. Судя по всему, он растянул сухожилие на ноге и вообще чувствовал себя настолько разбитым, что едва мог пошевельнуться. — А как далеко надо идти? — осведомился он. — Не больше мили. Мы увидим дом вот с этого холма. Посмотрите, мне ни за что не встать. Какая глупость с моей стороны — упасть в обморок! Но ведь он же меня почти задушил, — говоря так, она поднялась на ноги и немного протанцевала. — Честное слово, я отлично себя чувствую! Я подам вам руку, вот и все, если вы только ничего не имеете против. — О, конечно, я ничего против этого не имею, — Он рассмеялся, после чего оба отправились под руку домой.Глава 2
О ТОМ, КАК СЕСТРЫ ВПЕРВЫЕ ПРИБЫЛИ В МУИФОНТЕЙН
— Капитан Нил, — заговорила Бесси Крофт (таково было имя девушки), после того как они с большим трудом прошли около сотни ярдов, — вы не сочтете нескромным мой вопрос? — Нет, нисколько. — Что заставило вас приехать сюда и похоронить себя заживо? — Зачем вы спрашиваете об этом? — Затем, что я не думаю, чтобы вам здесь понравилось. Я сомневаюсь, — тихо прибавила она, — чтобы это было вполне подходящее место для английского джентльмена и офицера. Вы сами увидите, что обычаи буров невыносимы. Общества же вам не найти никакого, за исключением моего дяди и нас, двух сестер. Джон Нил рассмеялся. — Джентльмены в Англии теперь уже далеко не так разборчивы, мисс Крофт, в особенности когда дело идет о хлебе насущном. Взять, к примеру, хотя бы меня. Я четырнадцать лет прослужил в армии, и теперь мне тридцать четыре года. Конечно, раньше я имел возможность служить в полку благодаря помощи старухи тетки, дававшей мне по сто двадцать фунтов стерлингов в год. Шесть месяцев назад она умерла, оставив мне небольшое состояние, ибо весь ее доход заключался в пожизненной пенсии. По уплате всех долгов, налогов и пошлин мне осталось всего тысяча сто пятьдесят фунтов. Проценты с этой суммы составляют около пятидесяти фунтов, а с такими деньгами я не мог оставаться в полку. Вскоре после смерти тетки нас перевели сперва в Дурбан, а затем на родину. Поскольку я не имею средств, чтобы там служить, пришлось взять годичный отпуск с целью осмотреться и выяснить, не могу ли я заняться фермерством. Еще в Дурбане мне сообщили про вашего дядю, который желал найти компаньона с тысячей фунтов стерлингов, соглашаясь уступить ему третью часть доходов, потому что одному ему не под силу вести хозяйство. Таким образом между нами завязалась переписка, и я решился приехать сюда на несколько месяцев — попробовать, понравится ли мне новое занятие. И вот я здесь и, как видите, довольно кстати, так как мне удалось отвлечь от вас удары разъяренного страуса. — Да, это правда, — отвечала она, улыбаясь. — Во всяком случае, вы встретили горячий прием. Думаю, вы не станете о нем сожалеть. В это время они успели подняться на вершину холма и здесь заметили идущего навстречу кафра, который держал за поводья обеих лошадей. На расстоянии ста ярдов за ним следовала девушка. — А, — воскликнула Бесси, — лошади пойманы, а вот и Джесс идет, чтобы узнать, в чем дело. Между тем девушка, о которой шла речь, приблизилась к ним настолько, что Джону удалось ее рассмотреть. Она была невысока ростом и немного худа, с густыми вьющимися волосами темного цвета. Ее ни при каких условиях нельзя было назвать хорошенькой, в отличие от сестры. Она отличалась, однако, двумя особенностями: матовой бледностью лица и глубокими темными глазами, прелестнее которых он не видывал, а потому, несмотря ни на что, была чрезвычайно привлекательна. Прежде чем он успел заметить в ее облике еще какие-либо характерные черты, она поравнялась с ними. — Ради Бога, расскажи, что случилось, Бесси, — обратилась она к сестре, мельком взглянув на ее спутника. На этот вопрос Бесси ответила подробным изложением всего, что случилось, и лишь изредка обращалась к своему спутнику для подтверждения сказанного. Между тем Джесс стояла молча и казалась совершенно спокойной. Капитана Нила поразило, что ее лицо сохраняло на удивление бесстрастное выражение даже во время рассказа о том, как страус бросился на сестру и едва ее не убил, а также о том, как они наконец одолели врага. «Вот странно! — подумал он. — Какая удивительная девушка! Вряд ли у нее есть сердце». Но едва эта мысль промелькнула у него в уме, как девушка подняла глаза, и он заметил впечатление, произведенное на нее рассказом. Это впечатление отразилось в глазах. Насколько безжизненным оставалось ее лицо, настолько эти темные глаза светились жизнью и каким-то особенным выражением, придававшим им еще большую прелесть. — Вы чрезвычайно удачно избежали опасности, но мне жаль птицу, — произнесла она наконец. — Почему? — поинтересовался Джон. — Потому что мы были большими друзьями. Лишь я одна умела с нею ладить. — Да, — подтвердила Бесси, — этот страус бегал за ней, как щенок. Мне это всегда казалось крайне странным. Но пойдемте домой, нам надо спешить, так как уже смеркается. Мути, — обратилась она по-зулусски к кафру, — помоги капитану Нилу забраться в седло да смотри, чтобы оно не перевернулось, ведь подпруга могла ослабнуть. Предупрежденный таким образом, Джон с помощью зулуса вскарабкался на лошадь. Бесси последовала его примеру, после чего все направились домой в уже наступившей темноте. Наконец Джон почувствовал, что едет вдоль по аллее высоких смолистых деревьев, а в следующую минуту услышал лай громадного пса и разглядел освещенные окна. Из дома послышалось громкое приветствие, и вслед за тем в дверях показалась фигура старика, некогда высокого роста, а теперь совсем сгорбленного под бременем лет и болезней. Его длинные седые волосы ниспадали до плеч, верхняя же часть головы была совершенно лысой. Черты лица, изрытого морщинами, отличались замечательной правильностью, а серые глаза, окаймленные густыми черными бровями, сохраняли ясное, как у сокола, выражение. Вместе с тем в них не было ничего неприятного, а общее впечатление получалось в высшей степени приветливое и добродушное. Одеяние старика состояло из платья простого покроя, высоких сапог и охотничьей шляпы с широкими полями, какие обычно носят буры. Такова была внешность старика Сайласа Крофта, одного из самых замечательных людей в Трансваале, в то время, когда с ним впервые встретился Джон Нил. — Это вы, капитан Нил? — воскликнул старик. — Мне уже передавали, что вы едете. Ну что ж, в добрый час! Я очень рад вас видеть. Однако что же с вами случилось? — продолжал он, когда зулус Мути подбежал, чтобы помочь капитану слезть с седла. — Случилось лишь то, господин Крофт, — отвечал Джон, — что ваш любимый страус чуть не убил меня и вашу племянницу, а я прикончил вашего любимца. — И поделом мне, — заговорил старик, — пора мне было об этом подумать. Но слава Богу, милая Бесси, что ты счастливо избежала опасности, равно как и вы, капитан. А вы, ребята, возьмите с собой шотландскую повозку, пару волов и привезите птицу домой. Во всяком случае мы успеем снять с нее перья, прежде чем коршуны раздерут ее на части. Переодевшись и немного приведя себя в порядок, Джон Нил отправился в залу, где на столе уже ждал ужин. При этом он заметил, что комната была убрана в европейском вкусе, а на полу лежали разостланные циновки из буковых ветвей. В углу помещалось фортепьяно, а рядом с ним стоял шкаф с сочинениями выдающихся писателей, составлявший, как предположил Джон, собственность самой Джесс. Ужин прошел довольно оживленно, после чего мужчины закурили трубки, а девушки стали петь и музицировать. Тут капитана опять ждал сюрприз, так как после Бесси, полностью оправившейся от дневного приключения и довольно мило исполнившей одну или две вещицы, к инструменту подошла Джесс, до тех пор молча сидевшая в стороне. Она села за него неохотно, лишь уступая просьбам дяди, желавшего, чтобы капитан Нил непременно послушал ее пение. В конце концов она согласилась и, взяв несколько аккордов, запела голосом, подобного которому ему еще не доводилось слышать. Ее голос, несмотря на свою изумительную красоту, не мог быть назван поставленным, и, кроме того, песня исполнялась на немецком языке, отчего Джон Нил не понял ни слова. Впрочем, слова и не нуждались в переводе. Страсть, глубокая, затаенная, в которой просвечивала надежда, чувствовалась в каждой фразе, и в звуках песни слышалась любовь вечная, любовь до гроба. Могучий голос отдавался в сердце каждого слушателя и заставлял трепетать все фибры души, подобно струнам эоловой арфы. Голос звучал все выше и нежнее, вознося сердца слушателей высоко над миром, к преддверию рая, и вдруг замер, словно сраженный орел, сорвавшийся с небесной высоты. Джон тяжело перевел дух и в волнении откинулся на спинку кресла, чувствуя себя совершенно очарованным как самим пением, так и резким переходом к наступившему затем покою. Он оглянулся и увидел, что Бесси смотрит на него с удивлением и некоторым удовольствием. Джесс все еще продолжала сидеть перед инструментом и едва касалась пальцами клавиш, над которыми склонилась ее кудрявая головка. — Ну, капитан Нил, — обратился к нему старик, указывая на племянницу, — что вы скажете о моей пташке-певунье? Разве этого недостаточно для того, чтобы вырвать сердце из груди человека и лишить его рассудка? — Ничего подобного до сих пор не слыхал, — признался Джон, — а между тем мне доводилось слышать многих певиц. Вот уж не думал встретить такой голос в Трансваале! Джесс быстро обернулась, и он снова обратил внимание на то, что хотя ее глаза и блестели от волнения, но лицо по-прежнему оставалось бесстрастным. — Я не вижу причины для того, чтобы вам смеяться надо мной, капитан Нил, — промолвила она и, пожелав ему спокойной ночи, быстро удалилась из комнаты. Старик улыбнулся, вытряхнул пепел из трубки и лукаво подмигнул капитану, что, вероятно, должно было означать весьма многое, но что несколько успокоило гостя, который сидел молча и от удивления не знал, что сказать. Тогда поднялась Бесси и, тоже пожелав ему спокойной ночи, спросила со свойственной ей женской заботливостью, нравится ли ему отведенная для него комната и сколько нужно прислать байковых одеял, предупредив при этом, что в случае, если запах цветов, растущих около веранды, покажется ему слишком сильным, он должен затворить окно с правой стороны и открыть противоположное. Затем, кокетливо поклонившись ему еще раз, удалилась той плавной, грациозной и ровной походкой, видеть которую доставляет истинное наслаждение для молодого человека. — Налейте себе стакан грога, капитан, — предложил старик, пододвигая к нему четырехгранную бутылку, — вам надо подкрепиться после сегодняшнего происшествия. Я, однако, еще не успел как следует поблагодарить вас за то, что вы спасли мою Бесси. Но я вам очень, очень благодарен. Должен вам сказать, что Бесси — моя любимица. Трудно найти на свете другую такую девушку. Красавица, стройна, как тростник, а какие глаза, какая талия! И при всем этом она не может быть названа светской девушкой. Зато она работает за троих, и на уме у нее никаких глупостей. — Ваши племянницы, кажется, мало похожи друг на друга, — заметил Джон. — Да, вы правы, — согласился старик, — вы никогда не поверите, что в их жилах течет одна и та же кровь. Во-первых, у них в возрасте три года разницы. Бесси моложе — ей только двадцать. Господи, как подумаешь, что уже двадцать лет прошло с тех пор, как она родилась! Их судьба тоже весьма занимательна. — В самом деле? — Да, — задумчиво продолжал старый Крофт, вытряхивая пепел из трубки и вновь набивая ее крупно нарезанным табаком, — я вам расскажу о ней, если хотите, тем более что вам предстоит жить с нами и вам не мешает знать эту историю. Я уверен, капитан Нил, что она останется между нами… Я родился в Англии и происхожу из хорошей семьи. Мой отец был священником. Средства его были невелики, и, когда мне минуло двадцать лет, он дал мне свое родительское благословение, тридцать золотых и билет до мыса Доброй Надежды. Я простился с ним, уехал в эту страну, и вот уже пятьдесят лет как я живу здесь, а вчера мне стукнуло семьдесят. Я вам когда-нибудь расскажу об этом поподробнее, а пока вернемся к моим девочкам. Двадцать лет спустя мой дорогой отец женился во второй раз на молодой девушке с богатым приданым, но стоявшей ниже его в обществе. У них родился сын, а вскоре отец умер. Я не имел известий о своем брате и узнал лишь стороной, что он вырос человеком сомнительной нравственности, женился, потом запил… Но вот однажды ночью, лет двенадцать назад, случилось нечто необыкновенное. Я сидел в этой комнате, вот в этом самом кресле, и курил трубку, прислушиваясь к звуку падающих капель дождя, ибо ночь была крайне ненастная, как вдруг мой старый пойнтер Бен залаял. «Тихо, Бен! — крикнул я. — Это кафры!» В это время послышалось слабое царапанье в дверь, а Бен вновь залаял. Я встал, отворил дверь и впустил в комнату двух маленьких девочек, закутанных в старые платки или что-то в этом роде. Затем я запер дверь, предварительно убедившись, что на дворе больше никого не осталось. С удивлением смотрел я на два маленьких существа, стоявшие передо мной. Они замерли на пороге, держась за руки, и, видимо, промокли до костей. Старшей на вид казалось лет одиннадцать, младшей — восемь. Обе молчали, но старшая сняла платок и шляпку с младшей — это была Бесси, и я увидел ее миловидное личико и золотистые волосы. Она держала пальчик во рту и смотрела на меня, и мне казалось, что все это происходит со мнойво сне. «Будьте так добры, — заговорила наконец старшая, — скажите, этот дом принадлежит мистеру Крофту из Южно-Африканской республики?» — «Да, милая барышня, это его дом, и страна эта называется Южно-Африканской республикой[421], а вот перед вами и сам хозяин. А вы кто такие, дорогие мои?» — спросил я в свою очередь. — «Мы, сэр, ваши племянницы и приехали к вам из Англии». — «Что?» — вскрикнул я, чувствуя, что начинаю терять всякое соображение. — «О, сэр! — воскликнула малютка, умоляюще складывая мокрые ручонки. — Не прогоняйте нас. Бесси так промокла, окоченела и голодна, что не в состоянии идти дальше!» При этих словах она заплакала, а младшая с испугу и из чувства солидарности последовала ее примеру. Само собой разумеется, я позвал их ближе к камину, посадил к себе на колени и крикнул старуху Хебе, готовившую мне пищу. Затем мы их раздели, завернули в теплые одеяла, накормили бульоном и напоили вином, так что через каких-нибудь полчаса они совсем повеселели и уже не выглядели испуганными. «А теперь, детки, — сказал я, — подойдите, поцелуйте меня и расскажите, как вы сюда попали». И вот их история, как они мне ее рассказали, понятно, дополненная сведениями, почерпнутыми мной впоследствии. Мой брат женился на кроткой девушке из Норфолка и обращался с ней, как с собакой. Он пьянствовал, бил жену и детей, пока наконец несчастная женщина, слабая от рождения и к тому же больная от жестокого обращения с ней, не возымела мысли оставить страну и искать моего покровительства. Можете себе представить, в каком она была отчаянии. Она собрала кое-какие деньги, купила три билета второго класса до Дурбана и в один прекрасный день, когда муж ушел пьянствовать и играть в карты, отправилась на корабль, и, прежде чем он узнал что-либо о ней, она уже оказалась в открытом море. Но это было последнее ее усилие, которое окончательно подорвало ее и без того слабое здоровье. Не прошло и десяти дней, как она умерла и дети остались одни. Что они вытерпели, или, вернее, что вытерпела Джесс, так она уже все понимала, — ведает один Господь Бог! Скажу только, что она так никогда и не могла полностью оправиться после этого путешествия. Оно оставило печать на ее лице. Но что бы ни говорили люди, есть Бог на небе, который заботится о всех беспомощных. Бог принял несчастных, бесприютных и одиноких детей под свою защиту. Капитан корабля заботился о них как мог, и когда они наконец прибыли в Дурбан, то некоторые из пассажиров провели между собой подписку и наняли старого бура, ехавшего с женой по пути в Трансваале который взялся доставить детей по назначению. Бур и его жена в дороге хорошо обращались с ними, но не сделали ничего сверх оговоренного. При повороте с Ваккерструмской дороги, по которой вы ехали сегодня, они высадили детей, не имевших даже багажа, и сказали им, что если они пойдут прямо, то дойдут до жилища хеера[422] Крофта. Это было около полудня, и бедные крошки были вынуждены тащиться вперед целых восемь часов, потому что дорога была тогда заметна еще меньше, чем теперь. Они брели наудачу и могли бы совсем заблудиться и погибнуть от сырости и холода, если бы случайно не заметили свет в окнах дома. Вот каким образом попали сюда мои племянницы, капитан Нил. С тех пор они постоянно со мной, за исключением тех двух лет, когда я посылал их учиться в Капштадт, и мне тогда было очень тяжело оставаться одному. — А что случилось с их отцом? — спросил крайне заинтересованный рассказом Джон Нил. — Получали ли вы какие-нибудь известия о нем? — Получал ли я известия об этом негодяе? — старик бешено сверкнул глазами. — Да, черт его побери, получал. Что бы вы думали? Мои крошки прожили со мной почти полтора года, и я успел горячо полюбить их, как вдруг в один прекрасный день, стоя за возводимой мною стеной крааля[423] и осматривая свои владения, я увидел подъезжавшего ко мне человека верхом на старой худой лошади. По мере того как он приближался, я думал, глядя на него: «Ты, брат, пьяница и большой плут, это сразу видно по твоей физиономии, а главное то, что я тебя где-то видел». Как видите, я еще не догадывался, что это был сын моего родного отца! «Ваше имя Крофт?» — осведомился он. — «Да», — отвечал я. — «Мое тоже, — продолжал он с пьяной усмешкой, — я ваш брат». — «В самом деле? — я догадывался, что у него было зло на уме. — А позвольте вас спросить, зачем вы сюда пожаловали? Впрочем, я должен предупредить раз и навсегда, что хоть вы и мой брат, но вы — негодяй, а потому я не желаю иметь с вами никаких дел». — «Ага, вот вы как заговорили, — промолвил он, — ну хорошо же, я требую обратно детей. У них дома остался маленький братец — так как я снова женился, — который очень хочет с ними познакомиться, а потому будьте так добры передать их мне, чтобы я взял их с собой». — «Вы возьмете их с собой?» — воскликнул я, дрожа от страха и негодования. — «Да, возьму. Они мои по закону, и я вовсе не намерен воспитывать детей для того, чтобы доставлять вам удовольствие наслаждаться их обществом. Я советовался с юристами, и дело здесь пахнет уголовщиной», — при этих словах он злобно усмехнулся. Я стоял, смотрел на этого человека и думал о том, как он дурно обращался с детьми и их несчастной матерью. Кровь вскипела во мне, я перескочил через стену, схватил его за ногу (десять лет назад я был еще очень силен) и сбросил с лошади. При падении он выронил кнут, которым я воспользовался, чтобы хорошенько его проучить. Великий Боже, как же он бесновался! Устав, я помог ему подняться на ноги. — «Ну, а теперь, — вскричал я, — убирайтесь подобру-поздорову, а если вы еще раз вернетесь, я велю кафрам проводить вас палками до территории Наталя. Здесь Южно-Африканская республика, и нам мало дела до ваших законов». — «Хорошо, — проскрежетал он сквозь зубы, — вы мне ответите за это. Я вытребую детей назад и ради вас превращу их жизнь в ад, и помните мое слово: закон будет на моей стороне». Он удалился с бранью и проклятиями, и я бросил ему вслед его кнут. Таково было мое первое и последнее свидание с братом. — Что же с ним случилось потом? — спросил Джон Нил. — Я вам сейчас расскажу, и вы еще раз убедитесь, что есть на небе Бог, Который недремлющим оком следит за подобными людьми. В ту же самую ночь он отправился в Ньюкасл, зашел в кабак и принялся пить, браня меня все время, пока наконец хозяин заведения не велел слугам вышвырнуть его вон. Кафры очень грубы, особенно когда имеют дело с пьяным белым человеком, а он вдобавок начал драться. Во время борьбы у него из горла хлынула кровь, он свалился на пол и через несколько минут скончался. Вот вам история двух моих девочек, капитан Нил, а теперь я иду спать. Завтра мы с вами осмотрим ферму и поговорим о делах. А пока — спокойной вам ночи, капитан!Глава 3
МИСТЕР ФРЭНК МЮЛЛЕР
Джон Нил проснулся на другой день рано утром, чувствуя себя совершенно разбитым. Однако он кое-как оделся, при помощи палки растворил ставни окна, выходившего на веранду, и стал любоваться открывшейся перед ним картиной. Местность действительно была чрезвычайно живописна. Позади дома возвышался наподобие амфитеатра ряд отвесных скал, как бы охватывавших обширную площадь, в центре которой стояли строения. Жилой дом был выстроен из бурого камня и имел соломенную крышу, все же хозяйственные строения щеголяли крышами из оцинкованного железа, ослепительно сверкавшего от ярких лучей утреннего солнца. Перед домом тянулась веранда, обвитая плющом и диким виноградом, а мимо нее проходила дорога, обсаженная с обеих сторон апельсинными деревьями, сплошь покрытыми цветами, а также зелеными и желтыми плодами. За апельсинными деревьями раскинулся тенистый фруктовый сад, огороженный стеной из грубо сложенных камней, а еще далее располагались краали для волов и страусов. Направо от дома помещались питомники для деревьев, а налево тянулись поля, которые орошались водой источника, пробивавшегося между скалами и давшего местечку название Муифонтейн. Все это Джон Нил разглядел не сразу: в первую минуту он был просто ослеплен дикой и чудной панорамой, открывшейся перед его глазами и слева граничившей с цепью снеговых вершин Дракенсберга[424], а спереди и справа сливавшейся на краю горизонта с тучными нивами Трансвааля. Вид этой местности мог взволновать кровь и заставить сердце биться сильнее. С одной стороны — необъятная ширь полей, покрытых богатой растительностью, безоблачное, вечно голубое небо и утренний прохладный ветерок; с другой стороны — грозные вершины гор, покрытых вечными снегами, а надо всем этим блестящее южноафриканское солнце и как бы веяние Предвечного Духа, носящегося над землей и дающего жизнь своему творению. Джон стоял и смотрел на чудную картину, мысленно сравнивая ее с возделанными полями, которые ему случалось видеть на своем веку, и невольно приходил к заключению, что как бы ни было желательно присутствие цивилизации, но едва ли люди в состоянии сделать краше естественную красоту природы. Его размышления внезапно были прерваны появлением Крофта, который, несмотря на свои годы, все еще выглядел довольно бодрым. — Доброе утро, капитан Нил, — приветствовал его старик, — вы уже поднялись? Ну что ж, это хорошо. Значит, вы намерены всерьез заняться хозяйством. Да, чудный здесь вид и славный уголок! А ведь все это устроил я. Двадцать пять лет тому назад я проезжал мимо и обратил внимание это местечко. Видите вон там позади дома скалу? Я уснул под ней и проснулся на другой день с восходом солнца. Увидев замечательную красоту места, я сказал себе: «Да, брат, двадцать пять лет ты здесь странствуешь и всего насмотрелся, но лучше этого места еще не видел. Будь же благоразумен и остановись на нем». Так я и сделал. Я купил три тысячи моргенов[425] земли за десять фунтов стерлингов и ящик джина и принялся устраивать хозяйство. Да, каждый камень здесь положен моей рукой и каждое дерево выросло на моих глазах, а вы знаете, что это нелегко, особенно на чужой стороне! Как бы то ни было, а я один устроил свое гнездышко, и теперь мне тяжело с ним управляться; вот почему я стал искать помощника, о чем вам и сообщили в Дурбан. Я говорил, что мне нужен человек благородного происхождения. Денег мне, собственно говоря, не надо, я готов уступить третью часть за тысячу фунтов, лишь бы не иметь дела с бурами и белыми людьми низкого происхождения. Я довольно насмотрелся на буров и на их обычаи, и скажу вам, что лучшим днем моей жизни был тот, когда старик Шепстон[426] поднял национальный флаг в Претории и я обрел право снова назваться англичанином. Боже мой! И ведь существуют же люди, которые считают себя подданными королевы — и желают быть гражданами республики. Капитан, я повторяю вам, что эти люди сумасшедшие! Во всяком случае теперь этот вопрос решен. Знаете, что им сказал сэр Гернет Уолсли[427] от имени королевы? Что эта страна будет принадлежать англичанам до тех пор, пока солнце не остановится на небе и пока воды Вааля не потекут вспять. Нет, капитан Нил, я не стал бы уговаривать вас участвовать в хозяйстве, если бы не был уверен, что эта земля останется вечно под английским флагом. Но мы поговорим об этом в другой раз, теперь же идемте завтракать. Поскольку Джон был еще слишком слаб, чтобы осматривать ферму, то Бесси после завтрака предложила ему помочь ей мыть страусовые перья. Операция эта производилась на траве позади группы апельсинных деревьев. Здесь помещалась обыкновенная кадка, наполовину наполненная горячей водой, и жестяная ванна с водой холодной. Страусовые перья, из которых многие были покрыты красной пылью, опускались сперва в кадку с горячей водой, причем на обязанности Джона Нила лежало натирать их мылом, после чего переходили в жестяную ванну, в которой Бесси выполаскивала их и затем раскладывала для просушки на солнце. Утро было великолепно, и Джон вскоре пришел к заключению, что на свете есть множество занятий, гораздо более неприятных, чем обмывание страусовых перьев подле хорошенькой девушки — а она несомненно была очень хорошенькой и представляла собой тип счастливой, дышащей здоровьем женщины, особенно когда сидела против него на низеньком стуле, засучив рукава и обнажив руки, которые сделали бы честь Вейере, смеясь и болтая все время, пока работала. Джон не был особенно увлекающимся человеком, он прошел огонь и воду — и не один раз обжегся, подобно многим людям. Тем не менее, смотря на молодую белокурую девушку, напоминавшую ему роскошный бутон еще не распустившейся розы, он невольно задавал себе вопрос, можно ли с ней жить под одной кровлей и оставаться равнодушным к ее прелестям. Затем он стал думать о Джесс и об удивительном контрасте между обеими сестрами. — Где ваша сестра? — спросил он наконец. — Джесс? Вероятно, ушла в Львиный Ров читать или рисует, — отвечала она, — в нашем маленьком хозяйстве я олицетворяю собой труд, а Джесс — ум. — С этими словами она повернула свою хорошенькую головку и продолжала. — Здесь, должно быть, кроется какая-нибудь ошибка, и на ее долю достался весь ум. — Однако, — спокойно заметил Джон, глядя на нее, — я не думаю, чтобы вы имели причину чересчур жаловаться на судьбу. Она немного покраснела, более от того выражения, с каким были произнесены слова, нежели от самих слов, и поспешила прибавить: — Джесс самая умная, милая и добрая девушка в целом свете, и мне кажется, у нее лишь один недостаток: она слишком заботится обо мне. Я знаю, дядя уже говорил вам, каким образом мы приехали сюда, когда мне было всего восемь лет. Я отлично помню, как мы ночью заблудились в велде[428] во время дождя. Нам было очень холодно, и Джесс сняла с себя платок и накинула его на меня поверх моего собственного. С тех пор всякий раз повторяется та же история, и я, по ее мнению, всегда и во всем должна иметь первенство. Я мало общалась с людьми, но мне кажется, что не много найдется таких женщин, как Джесс. Она слишком умна для нашей глуши, ей бы следовало жить в Англии, быть писательницей и сделаться знаменитостью… Но только, — прибавила она задумчиво, — мне кажется, все ее рассказы были бы очень печальны. Сказав это, Бесси вдруг замолчала и побледнела, причем связка вымытых перьев выпала из ее рук. Обернувшись по направлению ее взгляда, Джон заметил медленно подъехавшего верхом на прекрасной вороной лошади человека высокого роста в широкой шляпе. — Кто это такой, мисс Крофт? — спросил он. — Это человек, которого я ненавижу, — ответила она, слегка топнув ногой. — Имя его Фрэнк Мюллер, и он наполовину бур, наполовину англичанин. Он очень умен и страшно богат, и так как ему принадлежат все окрестные земли, то дядя должен быть с ним вежлив, хотя и недолюбливает его. Что ему, однако, нужно? Всадник был уже недалеко и, по-видимому, вовсе не замечал присутствия разговаривавших. Джон уже начинал надеяться, что он проедет мимо, как вдруг легкое шуршание платья Бесси привлекло внимание Фрэнка Мюллера, и он обернулся. Он был высокого роста и замечательно красив собой; на вид ему казалось не более сорока лет; черты лица, хотя и выражали холодность, были весьма правильны; светло-голубые глаза и прекрасная золотистого цвета борода изобличали в нем истого англичанина. При этом он был слишком изящно одет, чтобы казаться буром и носил платье английского покроя и высокие охотничьи сапоги. — Здравствуйте, мисс Бесси, — приветствовал он девушку по-английски, — вот вы где сидите с вашими пухленькими ручками! Я очень счастлив, что приехал вовремя, чтобы полюбоваться ими. Вы мне позволите помочь вам мыть страусовые перья? Только скажите мне слово, и я… В это время он заметил Джона Нила, и присутствие незнакомца его несколько покоробило. — Я разыскиваю своего черного быка. Не знаете ли вы, где он находится? — Нет, минеер[429] Мюллер, — холодно отвечала Бесси, — впрочем, вы можете спросить дядю, он там. — С этими словами она указала на крааль, находившийся на расстоянии полумили. — Мистер Мюллер, — поправил он, нахмурив брови, — «минеер» говорят бурам, а мы все здесь англичане. Ну что ж, пусть мой бык подождет. С вашего позволения, я посижу около вас, пока дядюшка Крофт не вернется. — Сказав это, он без всяких церемоний соскочил с лошади и, закинув поводья вокруг ее шеи, как бы давая знак стоять смирно, подошел к Бесси и протянул руку. В это самое время Бесси опустила обе руки в ванну по локоть, и Джона, наблюдавшего за Происходившим, поразило то, что она сделала это с намерением не подавать руки докучливому посетителю. — Как жаль, что мои руки мокры, — отвечала она, слегка кивнув головой. — Позвольте вас познакомить друг с другом. Минеер Фрэнк Мюллер — капитан Джон Нил, приехавший помогать дяде в ведении хозяйства. Джон протянул руку, и Мюллер пожал ее. — Капитан, — переспросил он, — флотский капитан? — Нет, — возразил Джон, — армейский. — А, роой батье[430]. Ну, неудивительно, что вы принялись за фермерство после Зулусской войны[431]. — Я вас не понимаю, — холодно заметил Джон. — О, не обижайтесь, капитан, не обижайтесь. Я только хотел сказать, что вы, роой батьес, не особенно отличились в этой войне. Я был в то время в Пайтом Юсом и кое-что видел. Зулусу стоили только показаться ночью, и ваши войска улепетывали, точно стадо быков перед львом. И даже не стреляли — впрочем, пожалуй, стреляли, но больше по облакам… Итак, вы сами видите, почему мне показалось, будто вы намерены меч перековать на орало, как говорится в Библии… Но пожалуйста, не принимайте в обидном значении моих слов. В продолжении всей речи Джон Нил, почитавший себя англичанином до мозга костей и высоко ценивший репутацию британской армии, почти так же, как и свою собственную честь, кипел гневом, тем более что чувствовал долю правды в словах бура. У него было, однако, достаточно здравого смысла, чтобы сдержаться, хотя бы только внешне. — Я не участвовал в Зулуской войне, минеер Мюллер, — заявил он. В это время подъехал верхом старик Крофт, и разговор прервался. Фрэнк Мюллер остался обедать и засиделся до позднего вечера. По-видимому, потеря быка ничуть его не беспокоила. Он сидел возле Бесси, курил, пил джин с водой и очень оживленно говорил на английском языке, испещренном множеством голландских слов, которые Джон не понимал. В то же время он не спускал глаз с девушки, что Джону почему-то сильно не понравилось. Хотя это его не касалось и он лично был мало заинтересован во всем происходившем, тем не менее красавец-голландец казался ему глубоко антипатичным. Наконец он не выдержал и попросил Джесс пройтись с ним несколько шагов. — Вам, по-видимому, не нравится этот господин? — спросила она, как только они вышли за калитку дома. — Нет. А вам? — Мне кажется, — после некоторой паузы ответила Джесс, — что это самый неприятный человек из всех виденных мною на свете и в то же время самый удивительный. — Сказав это, она замолчала и лишь изредка делала отрывистые замечания о цветах и деревьях. Полчаса спустя при возвращении домой они заметили отъезжавшего из усадьбы Фрэнка Мюллера. У веранды стоял готтентот[432] Яньи, державший перед тем лошадь бура. Он был небольшого роста, одет в лохмотья, и волосы его видом и цветом напоминали клочья черной шерсти. Относительно его возраста трудно было составить сколь-либо точное понятие. Ему равной степени можно было дать и двадцать пять и шестьдесят. Желтоватое лицо готтентота, освещенное лучами заходящего солнца, выражало непримиримую ненависть, и, стоя на улице, он шептал какие-то проклятия по-голландски, а также в знак бессильной злобы потрясал кулаком вслед удаляющемуся буру. — Что это с ним? — спросил Джон. Джесс рассмеялась. — Яньи не больше моего не любит Фрэнка Мюллера, хотя и не знаю, по какой именно причине. Он мне о ней никогда не говорил.Глава 4
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вскоре Джон Нил оправился от полученных им ушибов настолько, что мог приняться за изучение фермерского хозяйства. Новое занятие не показалось ему скучным, в особенности под руководством такой прекрасной учительницы, как Бесси, отлично знавшей отрасли хозяйства. От природы одаренный энергичным характером, он настолько освоился с делом, что уже через шесть недель мог свободно рассуждать о достоинстве скота и страусов и о качестве трав. Раз в неделю Бесси устраивала ему нечто вроде экзамена; она давала ему также уроки голландского и зулусского языков, на которых прекрасно говорила. Из этого читатель может сделать вывод, что Джон Нил не испытывал недостатка в полезных и приятных занятиях. В то же время он сильно привязался и к старому Крофту. Старик, со своим благообразным, честным лицом, с огромным жизненным опытом, произвел на него сильное впечатление. До сих пор Нилу еще ни разу не доводилось встречать подобного человека. Чувство это, впрочем, было взаимное, так как Крофт также крепко привязался к молодому человеку. — Видишь ли, моя милая, — объяснял он Бесси, — Джон Нил пока еще мало понимает в хозяйстве, но он научится, к тому же капитан — порядочный человек. Раз приходится иметь дело с кафрами, то надо это поручать человеку благородного происхождения. Белые же низкого происхождения никогда не в состоянии добиться чего-либо от кафра. Вот почему буры бьют и убивают их, тогда как капитан Нил отлично с ними справляется и без крутых мер. Я думаю, он сумеет повести наше хозяйство. И Бесси всякий раз соглашалась с Крофтом. Шестинедельный опыт дал блестящие результаты, договор был наконец заключен, и Джон Нил уплатил тысячу фунтов за третью часть доходов имения Муифонтейн. Трудно допустить, чтобы молодой человек мог долгое время прожить под одной кровлей с красивой девушкой и остаться к ней равнодушным. Еще труднее предложить это, если молодые люди удалены от внешнего мира и постоянно находятся в обществе друг друга. Однако в их отношениях до сих пор не проявлялось ни малейшего признака любви. Джон Нил не был ветреным юношей и не мог потерять голову при виде первого встреченного хорошенького личика. Когда-то давно он и сам прошел через это блаженное состояние и не думал, что оно могло когда-нибудь повториться. С другой стороны, если Бесси и интересовала Нила, то в не меньшей степени занимала его и Джесс. Прожив в доме всего одну неделю, он пришел к заключению, что Джесс — самая странная девушка из всех встреченных им до сих пор и вместе с тем одна из наиболее привлекательных. Даже ее бесстрастное лицо придавало ей особый интерес — ибо кто на свете не желал разгадать секрета? Для него же Джесс представлялась загадкой. То, что она была умна и образована, он вскоре заметил из ее отрывистых замечаний; то, что она пела как ангел, он также прекрасно знал. Но какой был главный интерес в ее жизни, что в особенности занимало ее мысли — вот вопросы, над которыми он напрасно ломал себе голову. Очевидно, это было что-то такое, чего не встретишь у других женщин, и меньше всего — у беззаботной, пышущей здоровьем и красотой Бесси. Он настолько увлекся желанием разгадать эту тайну, что пользовался любым случаем побыть с нею и иногда, если позволяло время, провожать ее на прогулках. Во время этих прогулок она говорила о книгах, об Англии или о каких-нибудь отвлеченных предметах. О себе она не говорила ничего. Скоро Джон заметил, что его общество ей было приятно, и даже наоборот, ей как будто чего-то не хватало, когда он не мог ей сопутствовать. Ему никогда и не приходила в голову мысль, какую радость должна была доставить такой девушке встреча с развитым человеком. Джон Нил не был поверхностно или односторонне образованным человеком. Он много читал, о многом передумал, даже кое о чем писал, и в нем Джесс нашла ум, который более или менее соответствовал ее собственному. Хотя он и не в состоянии был ее понять, зато она отлично его понимала, и даже (если бы он только знал) в сокровеннейших тайниках ее сердца уже зарождалось чувство, правда еще слабое, но которое, подобно первым лучам утреннего солнца, развеяло глубокий мрак в ее душе. Что если она полюбит этого человека и сумеет заставить полюбить себя? У большинства девушек мысль о любви связана с мыслью о замужестве и о той перемене в жизни, к которой они почему-то все так стремятся. Джесс думала вовсе не о том. С любовью она соединяла представление о том блаженстве, когда жизнь одного сливается с жизнью другого, о счастье найти человека, который ее понимает и которого она могла бы понимать, человека, способного развязать ей крылья. Она нашла наконец такого человека; он был выше других и лучше других и обладал светлым умом, то есть тем даром, который для нее самой был скорее несчастьем, нежели благословением, ибо возвышал ее над уровнем окружающего ее общества и тем самым исключал ее из среды этого общества. Ах, если только эта чистая любовь, о которой она столько читала, коснется него и нее, то, может быть, она еще найдет счастье на земле! Странное дело, в подобных вещах опыт никогда не делает людей умнее. Такой человек, как Джон Нил, мог бы, кажется, догадаться, что нельзя шутить с огнем и что предметы, самые обычные на вид, оказываются самыми опасными. Он должен был знать, что постоянное общение с девушкой, в особенности с такими выразительными глазами, как у Джесс, могло быть опасным для него, не говоря уже о ней самой. Пора ему было понять, что ежедневный обмен мыслями, участие в ее занятиях, чтение стихов, которых она никогда никому не показывала, наконец, удовольствие, ощущаемое им при произнесении ее имени, — все это не могло не произвести на нее впечатления. А между тем он нисколько об этом не заботился и не думал, что его действия способны принести какой-то вред. Что касается Бесси, то она искренне радовалась, что сестра нашла человека, с которым могла по душе поговорить и который в состоянии ее понять. Ей никогда не приходило в голову, что Джесс могла влюбиться, от нее этого можно было ожидать меньше всего; точно так же она не задумывалась и о последствиях, которые это сближение могло иметь для Джона. Он пока представлял для нее мало интереса. Дела шли довольно спокойно для всех лиц, замешанных в этой драме, до того дня, когда на ясном небе вдруг появились грозовые тучи. Однажды после обеда Джон задумал отправиться на охоту и отдал приказание Яньи оседлать лошадь. Он стоял на веранде рядом с Бесси, выглядевшей как-то особенно привлекательно в своем белом платье. В это время вдали показался Фрэнк Мюллер верхом на статном вороном коне. — Ну вот, — произнес Джон, обращаясь к Бесси, — и друг ваш к вам подъезжает. — Да, да, — отвечала Бесси, слегка топнув ногой, и затем, быстро обернувшись, спросила: — Почему вы называете его моим другом? — Я думаю, он сам считает себя таким, если судить по его частым визитам, — ответил Джон, пожав плечами, — во всяком случае он не состоит в числе моих друзей, а посему я удаляюсь. До свидания. Надеюсь, вы не будете скучать. — Вы злы, — тихо промолвила она и повернулась к нему спиной. Едва он скрылся из виду, как подъехал Фрэнк Мюллер. — Как поживаете, мисс Бесси? — осведомился он, соскакивая с лошади с ловкостью человека, всю жизнь привыкшего ездить верхом. — Куда это исчез роой батье? — Капитан Нил отправился на охоту, — холодно ответила она. — Тем лучше для вас и для меня, мисс Бесси! Мы можем спокойно побеседовать. Где же эта черная обезьяна Яньи? Ага, вот он. Возьми же мою лошадь, дьявол, и смотри хорошенько за ней, а то я выверну все твои внутренности. Яньи принужденно осклабился, взял лошадь и повел ее вокруг дома. — Я не думаю, чтобы Яньи очень любил вас, минеер Мюллер, — заметила Бесси, — и я нисколько этому не удивлюсь, если вы всегда с ним так разговариваете. Он мне как-то рассказывал, что знает вас уже около двадцати лет. — С этими словами она выразительно взглянула на него. Это вскользь сделанное замечание, по-видимому, сильно задело гостя, на смуглом лице которого показался румянец. — Он лжет, старый пес, — процедил Мюллер сквозь зубы, — я всажу ему пулю в лоб, если он еще раз повторит подобную небылицу. Что я могу знать о нем или он обо мне? Разве я могу давать отчет о всякой обезьяне, которую встречу? — При этом он пробормотал про себя какое-то ругательство по-голландски. — Конечно, минеер! — сказала Бесси. — Почему вы всегда меня называете «минеер»? — он так свирепо взглянул на нее, что она невольно отпрянула в сторону. — Я ведь говорил вам, что я не бур. Я — англичанин. Моя мать была англичанка, а теперь благодаря лорду Карнарвону[433] мы все стали англичанами. — Я не понимаю, почему вы не хотите, чтобы вас считали буром, — холодно заметила она, — между ними встречаются очень порядочные люди, а кроме того вы всегда были великим патриотом. — Прежде был, я этого не отрицаю, так же как и деревья были, может быть, наклонены к северу, пока ветер дул с этой стороны; теперь же они обращены к югу, потому что ветер переменился. Со временем он опять может перемениться, и тогда увидим снова, как поступить. Бесси ничего не отвечала и лишь сжимала своими хорошенькими губками листик, сорванный с висевшей над нею виноградной ветки. Голландец снял шляпу и стал нервно теребить свою бороду. Очевидно, он хотел, но боялся что-то сказать. Раза два он останавливал холодный взгляд на прекрасном лице Бесси и оба раза опускал глаза. — Извините меня, я оставлю вас на одну минутку, — она направилась к дому. — Остановитесь, — воскликнул он по-голландски, сильно взволнованный, и схватил ее за краешек платья. Она легким движением вырвала платье из его рук и повернулась к нему лицом. — Что вам угодно? — спросила она тоном, не обещавшим ничего доброго. — Вы, кажется, хотели что-то сказать? — Да, — проговорил он, — конечно… то есть… я хотел сказать… — и с этими словами замолчал. Бесси стояла с выражением вежливого ожидания на лице и тоже молчала. — Я хотел вам сказать, что… одним словом, я хочу… чтобы вы вышли за меня замуж. — О! — произнесла Бесси с ужасом. — Слушайте, — продолжал он глухим голосом, постепенно становившимся все сильнее и сильнее, как обычно бывает у простых людей, у которых слова выходят прямо из сердца, — слушайте! Я люблю вас, Бесси, вот уже более трех лет. После каждой встречи я вас любил все сильнее. Не говорите мне «нет», потому что вы не знаете, до какой степени простирается моя любовь. Я вас вижу во сне: иногда ночью мне слышится шелест вашего платья, и мне кажется, будто вы целуете меня, и тогда я чувствую себя как бы на седьмом небе. При этих словах Бесси посмотрела на него с отвращением. — Может быть, я оскорбил вас этим, но не сердитесь на меня. Я очень богат, Бесси. Местность по соседству с вами принадлежит мне, а кроме того я владею еще четырьмя фермами в Лейденбурге, десятью тысячами моргенов земли в Ватербрее, тысячей голов крупного рогатого скота, не считая уже овец, лошадей и крупной суммы на счету в банке. Вы будете распоряжаться всем, — продолжал он, заметив, какое ничтожное впечатление произвело на нее перечисление его богатств, — наш дом будет устроен на европейский лад, обстановку я выпишу из Наталя… Я люблю вас. Вы ведь не ответите мне отказом? — И он схватил ее за руку. — Я очень вам благодарна за оказанную честь, минеер Мюллер, — отвечала Бесси, отнимая руку, — но я не согласна выйти за вас замуж. Не будем больше говорить об этом. Вот, кстати, идет мой дядя. Забудьте обо всем, минеер Мюллер. Фрэнк Мюллер поднял голову и заметил вдали медленно идущего к ним старика. — Это ваше последнее слово? — спросил он, задыхаясь. — Конечно, мое последнее слово. Неужели вам надо его еще повторять? — Это проклятый роой батье всему виной, — вскричал он в бешенстве, — прежде вы не были такой. Будь он проклят, этот белокожий англичанин! Если так, то слушайте меня, Бесси: вы выйдете за меня замуж, нравится это вам или нет. Неужели вы воображаете, что я позволю кому-нибудь шутить с собой. Спросите в Ваккерструме, и вам скажут, что за человек Фрэнк Мюллер. Я хочу, чтобы вы были моей — и вы ею будете. Я не дорожу жизнью ни своей, ни вашего роой батье. Если будет нужно, я подниму восстание, но добьюсь своего. Клянусь богом или чертом — это для меня безразлично! — Его губы дрожали, и он вне себя от ярости потрясал огромными кулаками. Бесси испугалась, но, будучи не робкого десятка, встала и выпрямилась во весь рост. — Если вы будете продолжать разговаривать таким образом, — сказала она, — я позову дядю. Я повторяю вам, что не выйду за вас замуж, Фрэнк Мюллер, и ничто не заставит меня сделаться вашей женой! Мне очень вас жаль… но я не подавала вам никакого повода ухаживать за собой и никогда не выйду за вас, слышите, никогда! Некоторое время он стоял молча, глядя на нее, и наконец разразился диким смехом. — А все же в один прекрасный день я добьюсь своего! — пригрозил он и, повернувшись, ушел. Немного спустя Бесси услышала конский топот и разглядела мчавшегося вдоль по аллее несчастного воздыхателя. В это же время до ее слуха долетел чей-то болезненный крик позади дома, и, отправившись посмотреть в чем дело, она увидела готтентота Яньи, катавшегося по земле и произносившего какие-то ругательства и проклятья. Из раны на боку, за которую туземец держался рукой, обильно текла кровь. — Что это такое? — спросила она. — Баас[434] Фрэнк! — простонал он. — Баас Фрэнк стегнул меня бичом. — Животное! — воскликнула она, и слезы негодования навернулись на ее глазах. — Ничего, мисси, ничего, — отвечал готтентот, побледнев от злости, — одним ударом больше — вот и все. Я зарублю еще отметку себе на память. — С этими словами он подал ей длинную палку, с которой всегда ходил и на которой находились разной величины отметки. — Пусть его глаза видят лучше, нежели у сокола, пусть он скрывается в траве лучше змеи, но когда-нибудь он еще встретится с Яньи, и Яньи сумеет за себя постоять. — Что это Фрэнк Мюллер ускакал так неожиданно? — спросил старик племянницу, когда она вернулась на веранду. — Мы немного с ним повздорили, — коротко отвечала Бесси, не желая посвящать дядю в подробности недавнего разговора. — В самом деле? Будь осторожна, моя милая, с таким человеком, как Фрэнк Мюллер, ссориться опасно. Я его давно знаю, он очень зол, когда бывает раздражен. Видишь ли, друг мой, можно сойтись и с буром, и с англичанином, но трудно приручить собаку смешанной породы. Последуй моему совету и помирись с Фрэнком Мюллером. Благоразумный совет этот, однако, не смог убедить Бесси, которая все еще находилась под впечатлением произошедшего разговора.Глава 5
ЭТО БЫЛ СОН
Оставив Бесси на веранде, Джон Нил взял ружье и свистом подозвал пойнтера Понтака, затем вскочил на лошадь и отправился на охоту за куропатками. Склоны холмов, окружающих Ваккерструм, покрытые высокой красной травой, изобилуют множеством дичи, и для охотника составляет истинное наслаждение слышать, как при восходе солнца на все голоса заливаются птицы. Выехав за околицу, Джон направился к холму, возвышавшемуся позади дома. Лошадь осторожно ступала между камнями, а пойнтер Понтак бежал впереди на расстоянии двухсот или трехсот ярдов. Вдруг собака остановилась перед кустом мимозы, словно чем-то пораженная, и Джон поспешил к ней. Понтак стоял точно окаменелый, и лишь временами поворачивал голову, желая убедиться, идет ли хозяин. Джон знал, что это означает. Умный пес всегда трижды поворачивал голову, и если затем не слышал выстрела, бросался вперед и разгонял дичь. От этого правила он не отступал никогда, так как выдержка его также имела предел. На этот раз Джон, однако, прибыл раньше, нежели истощилось собачье терпение, и полный счастливого ожидания стал медленно подбираться к кусту, держа в руке ружье со взведенными курками. Собака бросилась на добычу с пеной у рта и выражением крайнего остервенения в глазах. Она была уже подле мимозы и наполовину скрыта в красной траве. Дичь не вылетала. Вдруг что-то зашумело в траве, и масса перьев тяжело поднялась в воздух. Это оказался выводок по крайней мере из двенадцати пар, ютившихся друг подле друга недалеко от брошенного колеса. Джон выстрелил, но слишком рано — и промахнулся. Затем последовал вторичный выстрел с таким же успехом. Здесь мы опустим завесу, чтобы не быть свидетелями последовавшей за сим немой сцены. Достаточно сказать, что Джон и Понтак глядели друг на друга с чувством презрения. — Это все ты, дурак, — говорил Джон Понтаку, — я думал, ты сумеешь поднять выводок, а ты только напрасно меня поторопил. — Как же, — казалось, отвечал Понтак, — нечего вину сваливать на меня, когда не умеешь стрелять. И к чему мне было делать стойку? Есть от чего собаке прийти в отчаяние! Выводок, или лучше сказать, собрание старых птиц, ибо этот род куропаток собирается вместе незадолго до периода высиживания, рассеялся по всем направлениям, и Понтаку стоило большого труда его разыскать. На этот раз Джону удалось подстрелить одну из них — прекрасный экземпляр куропатки с желтыми лапами — и промахнуться по другой. Понтак вновь сделал стойку, и Джон снова подстрелил пару. Продолжение охоты оказалось несравненно удачнее начала. Жизнь представляет много восхитительных мгновений для людей, но я сомневаюсь, есть ли на свете что-либо выше радости истого спортсмена (даже если он только посредственный стрелок), когда он возвращается домой с охоты, нагруженный добычей. Приятны для политического деятеля крики избирателей, возвещающие его триумф. Приятно для отчаявшегося уже писателя неожиданное признание критикой его таланта, помещенное на столбцах «Субботнего обозрения». Приятно для всех мужчин выражение любящих женских глаз и прикосновение нежных уст. Мы же испытали все эти радости и по совести можем сказать, что для заядлого охотника несравненно приятнее вид распущенных крыльев летящей птицы, прикосновение ружейного ложа, внезапный и вместе с тем страшный переход от жизни к смерти и затем — медленное падение тяжелой массы, увлекаемой силой инерции еще на несколько ярдов от того места, где птица была застигнута выстрелом. Может быть, в следующую сессию политический деятель будет освистан, на следующий год счастливый писатель будет отделан в том «Субботнем обозрении»; на следующей неделе вам уже опротивеют нежные ласки или — что вполне возможно — они будут расточаемы другим. Суета сует, читатель, все суета! Но если вы истый охотник, хотя бы и неважный стрелок, то для вас всегда будет составлять наслаждение идти на охоту, и если ваша охота была удачна, то нет на земле радости, подобно той, которая светится в ваших честных глазах (ибо все охотники народ честный). Охота — великий спорт; жаль только, что она в то же время и жестокая забава. Вот о чем думал Джон, любовно опуская куропаток в ягдташ. Но счастье его на сей раз не ограничилось одними куропатками, так как, выбравшись из кустов на открытое место, он заметил на расстоянии ста ярдов высунувшуюся из травы высокую шею и хохлатую голову стрепета. Джон знал, что совершенно бесполезно пытаться приблизиться к стрепету. Единственное, что оставалось, — это усыпить его внимание, делая постепенно сужающиеся круги. Пустив лошадь вскачь, Джон принялся приводить в исполнение свой план, причем сердце его едва не разрывалось от волнения. С последним кругом он приблизился на семьдесят ярдов и, опасаясь продолжать маневр, соскочил с лошади и со всех ног бросился к птице. Едва он пробежал десять ярдов, стрепет поднялся, но поскольку он вообще довольно тяжел и неуклюж, Джон успел приблизиться к нему на расстояние не более сорока ярдов, пока птица как следует расправила крылья. Джон выстрелил из обоих стволов и, видя падающую птицу, побежал за ней, забыв снова зарядить ружье. Он протянул уже руку, чтобы схватить добычу, но в это время птица взмахнула крыльями и медленно улетела прочь. Некоторое время Джон пребывал в нерешительности, но, заметив, что птица опустилась в двухстах ярдах, поспешно зарядил ружье, вскочил на лошадь и бросился вдогонку. Приблизившись, он увидел, что она поднялась снова и на этот раз опустилась всего лишь в сотне ярдов. Погоня продолжалась до тех пор, пока он не приблизился на ружейный выстрел и не покончил с этим царем птичьего рода. В это время он находился как раз на краю пропасти, известной под названием Львиного рва. Название рва произошло от того, что однажды три льва были загнаны сюда бурами и здесь застрелены. Котловина эта имела около полумили длины, шестисот футов ширины и полутораста футов глубины. Происхождение ее, очевидно, следовало приписать действию воды, это было тем вероятнее, что на поверхности земли из-за подземных ключей образовался небольшой ручек, который, извиваясь между скалами, устремился в ров наподобие водопада. На дне котловины он продолжал свой путь, наполовину скрытый кустами мимозы и других растений, пока наконец не вытекал наружу. Сколько потребовалось столетий терпеливой и неустанной работы ручья, чтобы промыть этот овраг! Вдоль ручья и по дну Львиного рва там и здесь виднелись огромные скалы и груды камней, как бы наваленных друг на друга руками титанов. Камни эти держались в равновесии единственно своей тяжестью. В ста шагах от ближайшего края оврага возвышалась наиболее замечательная по своей высоте груда, в сравнении с которой развалины Стонхенджа[435] казались не более чем игрушками. Лежавшие внизу были величиной с небольшую хижину; меньший же, взгромоздившийся наверху, имел от восьми до десяти футов в диаметре. Камни эти были отшлифованы действием воды. Поблизости лежали огромные глыбы в виде окаменелых ядер. Одно из них было расколото надвое, и Джон заметил, что на одной половинке сидела не кто иная, как Джесс Крофт, по-видимому сильно занятая рисованием и с вершины оврага едва заметная. Сойдя с лошади и осмотревшись, он увидел, что можно добраться до дна оврага, если только следовать по течению ручья и осторожно спускаться по естественным ступеням, прорытым водой в каменистом ложе. Закинув по обычаю южноафриканских охотников поводья вокруг шеи лошади и оставив для надзора за нею Понтака, он сложил ружье и добычу на землю, а сам начал спускаться вниз, останавливаясь на каждом шагу для того, чтобы полюбоваться дикой красотой местности и лучше рассмотретьмногочисленные виды мха и папоротников, в особенности — разновидность волосатика (capilla veneris), ютившегося внутри почти каждой расселины и на каждом обломке скалы, где помещалась хотя бы горсть земли и куда могли бы долетать брызги водопада. По мере приближения ко дну оврага он замечал по берегам ручья в тех местах, где земля была несколько более сыра, множество распустившихся цветов арума. На эти цветы он обратил внимание еще прежде, но сверху они показались ему чем-то вроде сухоцвета или анемонов. Теперь он уже не мог видеть Джесс, так как она была скрыта от него кустами, в изобилии растущими в низменных местах по берегам южноафриканских рек и усеянными в это время года великолепными пунцовыми цветами. Шагов его совсем не было слышно из-за множества мха и цветов, и когда он обошел наконец последний пышный куст, ему стало ясно, что она не слышала его приближения, так как спала. Ее шляпка лежала на земле, но тень от куста защищала ее от солнца; голова девушки склонилась над рисунком. Луч, пробившийся между листьями, освещал ее вьющиеся темные локоны и бросал нежные тени на сияющее лицо. Джон стоял рядом и смотрел на нее, и им вновь овладело страстное желание разгадать эту девушку. Но не следует пытаться проникнуть в то, что должно оставаться скрытым от взоров людей; никогда не следует взывать ни к небу, прося его явить свою славу, ни к аду, прося его явить могущество сил преисподней. Знание приходит само по себе, и многие из нас согласятся, что оно иногда приходит даже слишком рано и оставляет в сердце пустоту. «Нет ничего ужаснее горечи знания», — сказал кто-то из великих, и многие, слепо следовавшие по его стопам, должны были сознаться в истине этих слов. Будем же благодарны за то, что многое скрыто от наших взоров. Не ищите поэтому, люди, возможности проникнуть сквозь завесу таинственного, будьте довольны тем, что вы видите, что может быть осязаемо и что представляется вам при дневном свете. Вспоминайте судьбу Евы и утренней звезды Люцифера. Не следует снимать покрывала с сердца людей, ибо в душе каждого скрывается много невысказанного, подобно тому как в уме спящего — сновидений. Не снимайте этого покрывала, не шепчите слов, взывающих к жизни, когда вокруг все объято сном, чтобы этим шепотом любви и сострадания не вызвать образов, которые устрашат вас же самих. Джон стоял несколько минут в ожидании, как вдруг Джесс испуганно открыла глаза и пристально посмотрела на него. — О! — произнесла она, вся дрожа. — Это вы, или я все еще вижу сон? — Чего же вы испугались? — он рассмеялся. — Кто же другой, как не я? Она закрыла лицо руками и тотчас же их отняла; в эту минуту Джон заметил перемену в выражении ее глаз. Они были такие же большие и прекрасные, как и всегда, но в них светилось что-то новое, особенное. Казалось, душа ее отражалась в них. Может быть, это происходило из-за того, что зрачки ее расширились во время сна. — Ваш сон! Какой сон? — спросил он, продолжая смеяться. — Нет, пустяки, — отвечала она прежним утренним голосом, который возбудил его любопытство больше, чем когда-либо, — это был сон!Глава 6
ГРОЗА
— По-моему, вы — на удивление странная девушка, мисс Джесс, — заговорил Джон, — я не думаю, чтобы у вас было весело на сердце! Она взглянула на него. — Весело на сердце? Да у кого бывает весело на сердце? Только у того, кто ничего не чувствует. Положим, — продолжала она после некоторого молчания, — что кто-нибудь на время отрешится от собственного своего я, от мелких личных интересов и скромных радостей и забот. Можно ли быть счастливым, видя повсюду людское горе, несчастья и страдания человечества? Если даже самому находиться в безопасности, можно ли, имея сердце, оставаться равнодушным? — Разве одни только равнодушные и счастливы? — Да, равнодушные и эгоисты, что, впрочем, почти все равно, ибо равнодушие есть высшая степень эгоизма. — В таком случае на свете много эгоизма, потому что и счастливых людей много, несмотря на все зло, существующее на земле. Я думаю, однако, что счастье происходит от доброты сердца и от здорового желудка. Джесс покачала головой и отвечала: — Может быть, я и ошибаюсь, но я не знаю, как может человек чувствовать себя счастливым, видя вокруг одни лишь страдания, болезни и смерть. Вчера, например, я видела умирающую готтентотку и плачущих над нею детей. Это была бедная женщина, и ей выпала тяжелая доля, но она любила жизнь и была любима детьми. Может ли быть счастлив и благодарить Создателя за дарованную ему жизнь тот, кто был свидетелем этой сцены? Капитан Нил, быть может, мои взгляды покажутся вам странными, и, по всей вероятности, не мне первой они пришли в голову, но во всяком случае я их вам не навязываю. И для чего, — продолжала она с усмешкой, — эти же самые мысли и до меня роились в уме многих, и та же история повторяется из года в год вот уже сколько веков, подобно тому как те же облака проносятся по тому же голубому небу? Как облака родятся в вышине, точно так же и мысли образуются в голове, а и те и другие кончаются слезами или расплываются в тумане, разъедающем глаза. — Так вы думаете, что нельзя быть счастливым на земле? — спросил он. — Я этого не говорю. Счастье, по-моему, возможно. Да, оно возможно, если кто-либо полюбит другого настолько сильно, что будет в состоянии забыть все на свете, и если кто-либо положит свою жизнь за других. Нет истинного счастья без любви и самопожертвования, или, вернее, без любви, так как в ней уже подразумевается второе. Она — чистое золото, все же прочее — позолота. — Откуда вы все это знаете? — с живостью спросил он. — Вы ведь никогда не были влюблены? — Нет, — отвечала она, — я так никогда не любила, но все счастье, выпавшее мне в жизни, проистекало из любви. Я думаю, что в любви заключается мировая тайна: любовь — это философский камень, который безуспешно искали ученые и который обладает свойством все превращать в золото. Может быть, — продолжала она с загадочной улыбкой, — ангелы, покидая землю, оставили в удел человечеству любовь, чтобы мы посредством нее могли вновь с ними соединиться. Она одна возвышает человека над миром, с ее помощью мы постигаем Божество. Все пройдёт — одна любовь останется, потому что она не может угаснуть, пока есть хоть искра жизни; если она истинная, то она бессмертна. Но только она должна быть непременно истинной. Постоянная сдержанность и холодность Джесс исчезли, ее бесстрастное лицо оживилось и приобрело отпечаток какой-то особой прелести. Джон смотрел на нее и понемногу начинал постигать всю глубину души этой замечательной девушки. Невзначай он встретился с нею глазами, и ее взгляд произвел на него сильное впечатление, хотя капитан Нил не принадлежал к числу влюбчивых натур и был слишком стар для того, чтобы ощущать волнение от случайного взгляда хорошенькой женщины. Он подошел ближе и пристально на нее посмотрел. — В таком случае стоит жить для того, чтобы испытать такую любовь, — произнес он скорее про себя, нежели вслух. Она не отвечала и только смотрела на него, вложив в этот взгляд всю свою душу, и Джон Нил почувствовал себя как бы находящимся под ее гипнотическим влиянием. И в это же время в ее душе возникло и утвердилось сознание, что стоит ей лишь пожелать — и сердце этого человека будет принадлежат ей, что она овладеет им наперекор целому свету, потому что воля ее сильнее его воли и ум ее в состоянии подчинить себе его ум. Мысль эта промелькнула в ее сознании мгновенно, она и сама не могла бы дать себе в том отчета, но она твердо была убеждена, что это так, подобно тому, как была убеждена, что над ее головой сияет южное небо. Но что важнее всего, так это то, что он сам был в том же убежден. Сознание это явилось в ней внезапно и наполнило ее душу такой радостью и в то же время так болезненно отозвалось в ее сердце, что она на мгновение забыла обо всем остальном. Затем она опустила глаза. — Я думаю, — проговорила она спокойно, — что мы наговорили друг другу много глупостей; мне же пора снова приняться за прерванный рисунок. Он встал и удалился, заметив при прощании, что и ему надо вернуться домой. Несколько минут спустя, оглянувшись, Джесс увидела Джона, медленно поднимавшегося на вершину оврага. Был чудный солнечный день, один из тех, какие иногда выдаются весной в Африке. Несмотря на царящую вокруг тишину, все уже говорило о пробуждающейся новой жизни. Зима сменилась вешней красой, и воздух был пропитан ароматом цветов. Джесс лежала на траве и глядела в беспредельную голубую высь. Она не замечала черных туч, медленно надвигавшихся с горизонта. Высоко над нею парил коршун и, спускаясь все ниже и ниже, казалось, пытался рассмотреть, мертва она или только спит. Она невольно вздрогнула. Вестник смерти напомнил ей о самой смерти, которая тоже, быть может, только ждет удобного случая, чтобы низринуться на человека. Затем взгляд ее остановился на свесившейся над ее головой ветке куста, под которым она отдыхала. Она видела, как пчела опустилась на ветку, как перелетела с цветка на цветок, а между тем сама она лежала так тихо и спокойно, что даже ее не потревожила. С ветки, усеянной цветами, взгляд Джесс медленно перенесся на груду камней, возвышавшихся над нею. Груда эта, казалось, говорила: «Я очень стара. Я пережила не одну зиму и не одну весну, и я много видела девушек, отдыхавших подобно тебе. А где они теперь? Все спят непробудным сном!..» Раздавшийся в скалах лай старого павиана вторил этим словам. Вокруг нее цвели лилии, воздух был напоен ароматом папоротников и мимоз, и всюду чувствовалась молодая жизнь. Слышался плеск воды и тихое журчанье ручья, и где-то вдали между скалами раздавался шелест крыльев и воркование диких голубей. Даже старый орел, приютившийся на высоком утесе, казалось, радовался тому, что его подруга снесла ему яйцо. Все говорило о жизни, о том, что наступила пора цвести, любить и вить гнезда, но в то же время напоминало и о том, что скоро лето, что, может быть, зародится иная жизнь — эта же будет забыта. И в то время, когда она лежала, прислушиваясь к голосу природы, ее юная кровь, повинуясь этой же самой природе, пришла в волнение и смутила чистоту ее девственного сердца, которое невольно откликнулось на зов счастья, жизни и любви. В ней произошел внезапный переворот: в глубине души что-то напоминало ей о собственном я, о том, что это я должно также жить и притом отдельной, собственной жизнью, и невольно в ее сердце запала искра того чувства, которое должно было жить в ней вечно, никогда не угасая. Она поднялась на ноги, бледная и вся дрожа, как женщина, впервые ощутившая трепетание ребенка, и инстинктивно протянула руки к цветущему кусту, чтобы удержаться. Затем она опустилась снова, чувствуя, что детство ее миновало и что она полюбила сердцем, душой и телом и превратилась в женщину. Она взывала к любви, как несчастный взывает к смерти, и любовь явилась и овладела ею. Между тем она боялась полностью отдаться ее власти, подобно несчастному в басне, который раздумал умирать, когда почувствовал ледяные объятия смерти. Ощущение это, впрочем, скоро прошло — и сердце ее наполнилось великой радостью. Некоторое время спустя она начала подумывать о том, не пора ли ей идти домой, но медлила и продолжала лежать с закрытыми глазами, все еще находясь под влиянием своих опьяняющих мыслей. Она была так ими занята, что не заметила, как умолкли птицы и как улетел орел, спеша укрыться от непогоды. Она не чувствовала великой и грозной тишины, сменившей пение птиц и голоса животных и предвещавшей бурю. Когда она наконец поднялась и открыла глаза, обернувшись, чтобы еще раз взглянуть на то место, где нашла свое счастье, то невольно вскрикнула. Свет и сияние дня и вся радость кипевшей вокруг нее жизни исчезли, их место заняла внезапная темнота, и мгла охватила ее со всех сторон. Пока она лежала и предавалась сладким грезам, солнце успело скрыться за горой; черные тучи нависли и заслонили собой голубое небо; пронесся вихрь, закапали тяжелые дождевые капли и засверкала молния. Джесс окончательно пришла в себя, схватила альбом и поспешила укрыться в маленьком углублении в скале, прорытом водой. Потянул резкий, холодный ветер, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями, молния беспрестанно рассекала тучи, и раздавались оглушительные удары грома. Наступившая затем на несколько мгновений тишина и сгустившийся мрак были вновь нарушены раскатом грома и ослепительным потоком света, при котором Джесс разглядела, как одна груда камней, находившихся слева от нее, зашаталась и затем рассыпалась с таким шумом, что он заглушил сам удар грома и крик объятых ужасом павианов, приютившихся между скалами. Так кончил свой век один из каменных великанов, свидетель многих столетий, и это наполнило страхом и ужасом сердце девушки, присутствовавшей при его падении. Буря пронеслась так же быстро, как и наступила, и оставила за собой лишь мелкий, насквозь пронизывающий дождик. Джесс, промокшая до нитки, выкарабкалась из оврага по вырытым природой ступеням, сделавшимся почти недоступными из-за массы струившейся вниз воды, прошла вдоль всей каменистой площадки, миновав огороженное местечко, где покоился прах умершего в Муифонтейне путника, и с наступившими сумерками добралась наконец до дома. При входе стоял ее дядя с фонарем в руках. — Это ты, Джесс? — спросил он, разглядев ее, хотя она была почти неузнаваема, так как мокрое платье прилипло к ее худенькому телу, руки были в крови и наполовину распустившиеся курчавые волосы скрывали ее лицо. — Боже мой, да что же это? — еще раз воскликнул он. — Где это ты была, Джесс? Капитан Нил отправился к кафрам разыскивать тебя. — Я рисовала с натуры в Львином рву и была застигнута грозой. Я пройду к себе, дядя, переодеться. Какая ужасная ночь! — С этими словами она ушла в свою комнату, причем вода струилась с нее ручьями. Старик проследовал за ней в дом, запер за собой двери и погасил фонарь. «Как это все напоминает мне, — думал он, входя в гостиную, — ту ночь, когда она в первый раз пришла ко мне, ведя за руку Бесси! О чем эта девочка думала, что не заметила приближения грозы? Кажется, ей пора бы научиться узнавать погоду. Должно быть, мечтала! Странная девушка эта Джесс». Он и не подозревал, до какой степени слова его были близки к истине. Между тем Джесс быстро переоделась и привела себя в порядок. Только следов душевной борьбы она не смогла уничтожить. Следы эти и зародившаяся в ней любовь уже никогда не могли изгладиться. Она как бы отрешилась от прежнего своего я и сбросила свою старую оболочку, как вещь никому не нужную. Все это было ей ново. Итак, он отправился ее разыскивать и не нашел. Она обрадовалась этому. Ей было приятно, что он теперь всюду ее ищет, зовет, а сам мокнет под дождем. Подобное чувство вполне естественно для женщины. Он скоро вернется домой и найдет ее уже одетой, веселой и готовой его приветствовать. Она была очень довольна, что он не видел ее растрепанной, мокрой и такой жалкой. Женщины в подобных случаях бывают совсем не интересны. Быть может, это заставило бы его отвернуться от нее. Мужчины любят хорошеньких, чистеньких и изящных женщин. Мысль эта заставила ее призадуматься. Она посмотрела на себя в зеркало, и, держа над головой свечу, принялась внимательно рассматривать свое лицо. В ней так мало кокетства, и до сих пор она не обращала на себя ровно никакого внимания. Кокетство ей казалось совершенно излишним в Ваккерструмском дистрикте[436] Трансвааля. Теперь же она сразу почувствовала, насколько оно для нее важно; вот почему она стояла перед зеркалом и задумчиво глядела на свои замечательно красивые глаза, на массу вьющихся темных волос, еще мокрых и покрытых каплями дождя, на свое бледное матовое личико и резко очерченный рот с решительным выражением. «Если бы не мои глаза и волосы, я была бы просто безобразна, — подумала она. — О, если бы я была так же хороша, как Бесси!» — Воспоминание о Бесси дало иное направление ее мыслям. Что если его выбор остановится не на ней, а на ее сестре? Ведь он всегда был к ней очень внимателен. Невольное сомнение закралось в ее душу, и ею овладело чувство сильнейшей ревности. Неужели все, что произошло сегодня, было напрасно, и любовь, которую она отдала обеими руками и не может уже вернуть, отдана человеку, влюбленному в другую женщину, в ее родную сестру! Что если ее любовь подобна воде, вечно струящейся на камень, который ее не только не в состоянии удержать, но даже и не ощущает? Конечно, вода в конце концов источит камень, но разве этого достаточно? Она могла бы покорить его сердце, — это она прекрасно знала, так как еще сегодня утром прочла ответ в его глазах. Но разве она вправе — она, обещавшая покойной матери лелеять и охранять сестру, которую любила более всего на свете и которую и теперь еще любит сильнее, нежели свою жизнь, — отнять у той возлюбленного? И даже если бы это и случилось, то на что стала бы похожа ее жизнь? И сердце ее болезненно сжалось в груди. В это время послышались шаги Джона. — Я не мог ее найти, — говорил он кому-то с явным беспокойством в голосе. В эту минуту Джесс встала, взяла в руки подсвечник и вышла из своей комнаты; зажженная свеча осветила его бледное лицо, и она была рада, что заметила на нем признаки беспокойства. — Славу Богу! Вы здесь! — воскликнул он, взяв ее за руку. — А я уже начинал думать, что вы заблудились. Я искал вас в Львином рву. — Это очень любезно с вашей стороны, — тихо сказала она, и снова глаза их встретились, и сердце его вновь затрепетало. В ее глазах светилось какое-то особенное чувство. Полчаса спустя все общество по обыкновению собралось за ужином. Всем было как-то не по себе. Одна Джесс кое-как поддерживала разговор, рассказывая про свое приключение; прочие присутствующие говорили мало. Вероятно, каждый был занят собственными мыслями. После ужина старик Крофт принялся рассказывать о политическом положении в стране, которое его сильно беспокоило. Он говорил, что боится восстания буров, которые, по словам Фрэнка Мюллера, всегда узнающего обо всем заранее, замышляли на этот раз всерьез выступить против правительства. Известие это, разумеется, не могло рассеять общего настроения, и вечер прошел в таком же молчании, как и ужин. Наконец Бесси встала, потянулась и заявила, что идет спать. — Приходи ко мне в комнату, — шепнула она сестре, — мне нужно с тобой поговорить.Глава 7
ЮНЫЕ ГРЕЗЫ
Подождав еще несколько минут, Джесс пожелала всем спокойной ночи и отправилась в комнату Бесси. Сестра уже переоделась и грустная сидела на кровати в простеньком голубом платье, которое чрезвычайно ей шло. Бесси принадлежала к числу тех женщин, которые легко поддаются радости и так же легко приходят в уныние. Джесс подошла и поцеловала ее. — Что с тобой, моя милая? — спросила она. По ее голосу Бесси никогда бы не догадалась о том, какая щемящая тоска гложет сердце бедной Джесс. — О, Джесс! — воскликнула она. — Как я рада, что ты пришла. Я так нуждаюсь в твоем совете: мне хотелось бы, чтобы ты высказала свое мнение, — с этими словами она замолчала. — Ты мне должна сказать сперва, в чем дело, милая Бесси, — ответила Джесс, усаживаясь против сестры таким образом, что ее лицо оставалось в тени. Бесси топнула ножкой по ковру, разостланному в комнате. У нее была прехорошенькая ножка. — В чем дело, дорогая моя? — переспросила она. — Фрэнк Мюллер был сегодня здесь и просил моей руки. — О, — воскликнула Джесс и свободно вздохнула, — только-то? — Словно камень свалился с ее плеч. Она и сама с некоторых пор надеялась услышать эту новость. — Он хотел, чтобы я вышла за него замуж, и когда я отвечала отказом, то он обошелся со мной, как… — Как бур, — подсказала Джесс. — Как скотина! — поправила Бесси. — Значит, ты не любишь Фрэнка Мюллера! — Люблю ли я его? Я терпеть не могу этого человека. Ты себе и представить не можешь, до какой степени я ненавижу его красивое злое лицо. Я никогда его не любила, а теперь еще меньше… Но я тебе все расскажу по порядку. Джесс молча ожидала конца рассказа. — Вот что, — сказала она наконец, — ты не желаешь выходить за него замуж, а потому не стоит об этом говорить. Ты не можешь его ненавидеть больше моего. Я знаю его уже много лет и скажу, что Фрэнк Мюллер — лгун и предатель. Этот человек в состоянии предать родного отца, если увидит в том для себя выгоду. Он ненавидит дядю, хотя и делает вид, что очень его любит. Я уверена, что он много раз старался восстановить против него буров. Старик Ханс Кетце рассказывал мне, что он отзывался о нем, как об изменнике, и еще за два года до покорения этой страны англичанами пытался предать его суду, хотя в то же время выдавал себя за его друга. Затем, в войну с Секукуни[437], Фрэнк Мюллер устроил так, что дядя был вынужден снарядить две лучшие фуры с волами. Сам он ничего не пожертвовал, кроме двух мешков провизии. Он очень зол, Бесси, и злопамятен, он умнее и влиятельнее, чем кто-либо в Трансваале, и ты должна быть с ним очень осторожна, иначе он наделает нам бед. — Вот еще, — возразила Бесси, — едва ли он может что-либо теперь сделать, так как земля принадлежит англичанам. — Ну, я в этом не уверена. Я еще не убеждена в том, что страна будет вечно принадлежать англичанам. Ты смеешься надо мной, когда я читаю газеты, но я узнаю из них тревожные вести. Теперь у власти иные лица, и неизвестно, как они поступят в данном случае[438]. Ты слышала, о чем говорил дядя сегодня вечером? Они, быть может, уступят нас бурам. Ты, верно, забываешь, что мы, колонисты, — не более чем пешки, которыми играют как угодно. — Это пустяки, Джесс, — с негодованием отвечала Бесси, — англичане не такой народ. Если уж они что-то говорят, то держатся своего слова. — Да, так было прежде, — промолвила Джесс, пожав плечами, и поднялась, чтобы идти в свою комнату. Бесси беспокойно зашевелилась. — Посиди еще, милая Джесс, — сказала она, — мне нужно еще кое о чем с тобой поговорить. Джесс снова уселась или, лучше сказать, упала в свое кресло, и ее бледное лицо побледнело еще больше; Бесси же вспыхнула и остановилась в нерешимости. — Я хотела поговорить о капитане Ниле, — выговорила она наконец. — А-а, — протянула Джесс, нервно засмеявшись, причем голос ее прозвучал как-то холодно и странно, — что же, разве он также заразился примером Фрэнка Мюллера и сделал тебе предложение? — Н-н-е-е-т, — протянула Бесси, — но… — С этими словами она встала с кровати и, пересев на стул рядом с креслом сестры, склонила голову к ней на колени, — но я люблю его и думаю, что и он любит меня. Утром он сказал мне, что я самая хорошенькая девушка на свете, и притом самая симпатичная… И знаешь, — продолжала она, засмеявшись тихим, счастливым смехом, — мне кажется, что он действительно так и думал, говоря это. — Ты шутишь, Бесси, или говоришь серьезно? — Совершенно серьезно! И я нисколько не стыжусь в этом признаться. Я полюбила капитана Нила еще в тот момент, когда он боролся со страусом. Он проявил тогда такую храбрость! Как красив мужчина, когда он выказывает всю свою силу. И потом, он настоящий джентльмен, он так непохож на всех окружающих. Да, я с первого же раза полюбила его, и с тех пор это чувство все росло и росло во мне, и если он не женится на мне, то, кажется, я не переживу. Вот что я хотела тебе сказать, дорогая Джесс. — С этими словами она опустила голову на колени сестры и заплакала тихими, кроткими слезами. Между тем Джесс сидела неподвижно, рука ее свесилась через ручку кресла, лицо приняло выражение сфинкса, глаза были устремлены в окно и глядели куда-то вдаль, туда, где бушевала буря и лил дождь. Она слышала отдаленный рев этой бури и тихие всхлипывания плачущей сестры, чувствовала ее голову на своих коленях и все же ей казалось, что она умерла. Молния разбила ее сердце, как недавно каменную груду. И как все это быстро произошло! Как непродолжительны были ее счастье и надежда! Она сидела безмолвная, убитая горем, Бесси же тихо рыдала, уткнувшись в ее колени; и вместе они представляли такую группу, подобную которой не часто доводится видеть даже художнику, изучающему человеческую натуру. Старшая сестра заговорила первая. — Ну что же, милая моя! О чем же ты плачешь? Ты любишь капитана Нила и думаешь, что и он любит тебя. Тут не о чем горевать. — Положим, что это так, — отвечала младшая, немного повеселев, — но я все думаю, как было бы ужасно потерять его. — Тебе нечего этого опасаться, — сказала Джесс, — а теперь, милая моя, мне, право, пора идти спать. Я так устала. Спокойной ночи. Благослови тебя Бог! Мне кажется, ты сделала хороший выбор. Капитан Нил такой человек, которого полюбит всякая женщина, а полюбив — будет гордиться им! Минуту спустя она уже была в своей комнате. Скрывать своих чувств было уже незачем. Она бросилась на постель, зарыла голову в подушки и горько, истерично зарыдала. Ее слезы, так непохожие на тихий плач Бесси, до такой степени душили ее, что она прижимала к губам одеяло, чтобы всхлипывания не достигли как-нибудь слуха Джона Нила, помещавшегося рядом с ее комнатой. Ей внезапно представилась вся ирония, заключавшаяся в ее положении: она была отделена от него одной лишь тонкой перегородкой, находилась от него всего в нескольких шагах; а между тем она оплакивала его, как будто их разделяли тысячи миль, а он этого даже и не подозревал. В самые критические минуты жизни нам иногда приходят в голову подобные параллели. Такие примеры, как Джон Нил, ложащийся спать под приятным впечатлением удачной охоты, и Джесс, лежащая в шести шагах от него и выплакавшая о нем всю душу, постоянно встречаются в нашем удивительном мире. Разве мы часто понимаем чужое горе? И если даже сумеем иногда его различить, то разве можем измерить его глубину? Еще менее мы способны его понимать, когда сами являемся причиной чужой скорби. А чаще всего, как и в настоящем случае, мы попираем ногами чужое счастье вследствие простой случайности или вполне извинительной беззаботности. Он уже спал крепким сном, а она, немного успокоившись после первого потрясения, ходила неслышными шагами по комнате, стараясь заглушить ощущение острой душевной боли. Если бы от нее зависело вернуться к прежним дням! Зачем только она встретилась с ним и увидела его лицо, которое отныне всегда будет пред нею! Она хорошо знала свою натуру. Ее сердце заговорило, а этот внутренний голос будет вечно отдаваться в ее душе. Разве можно вернуть назад сказанное слово или заставить его смолкнуть? Это относится не ко всем женщинам, но ведь есть же исключения. Такое сердце, как у этой бедной девушки, слишком чутко и несет в себе слишком много божественного постоянства, чтобы быть способным изворачиваться и приспосабливаться к тем или другим переменам, происходящим в нашем изменчивом мире. Для этих натур нет середины, они не могут держаться одной стороны пути, они ставят на карту все свое благополучие. Когда же их карта бита, то разбито и их сердце и счастье их рассеивается как дым. У таких натур любовь зарождается совершенно так же, как ветер зарождается на тихой поверхности какого-нибудь отдаленного моря. Никто не знает, откуда он веет и куда, а между тем он вздымает волны на груди морей; эти волны бушуют, образуя высокие извилистые гребни, которые затем рассыпаются в виде мелких блестящих брызг, пока не наступит ночь, подобная смерти, и не скроет их своей темнотой. Чем это объяснить? Почему ветер волнует глубокие воды? Ведь он только рябит поверхность мелкой лужи. На этот вопрос трудно ответить. Известно лишь, что только глубокое может быть глубоко затронуто. Это есть возмездие всему глубокому и великому, это цена, которой они покупают божественное право страдать и вызывать участие. Мелкие лужи, отражающие мелкие интересы нашей будничной жизни, — те ничего не ведают, ничего не чувствуют. Бедные! Они могут только рябиться и отражать. Но глубокое море в страдании своем иной раз внимает божественному голосу, раздающемуся в свисте ветра; волнуясь же и вздымая в смертной тоске свою грудь, удостаивается видеть небесный свет, озаряющий все его существо. Страдание душевное составляет прерогативу великого, и в этом заключается мировая тайна. Во всем должна быть и своя хорошая сторона. Чуткие натуры находят радость там, где более грубые равнодушно проходят мимо. Так же и тот, кто удручен скорбью при виде человеческого горя, — а все великие и честные люди таковы, — временами не помнит себя от радости, когда удостоится усмотреть в нем сокровенные цели божества. Так было и с Сыном Человеческим в горестные часы Его жизни. Дух Святый, давший Ему испить до дна чашу земных страданий и неправды, давал Ему также узреть все конечные цели этой неправды и греха; точно так же и чистые сердцем дети Его Имени хоть и смутно, но разделяют с Ним часть этого небесного деяния. И в этот едва ли не самый горький час жизни луч радости проник в душу Джесс одновременно с первыми лучами начинающейся зари, рассеявшими мрак ночи. Она решила пожертвовать собой ради сестры, и вот почему на ее лице появилась улыбка счастья, ибо есть счастье в самопожертвовании, как бы ни звучали эти слова. Сперва ее женская натура возмутилась при этой мысли. Зачем должна она отказываться от земного счастья? Ее право было равносильно праву Бесси, и она знала, что, несмотря на всю красоту той, она была бы в состоянии отнять его у сестры, как бы далеко ни зашли их отношения, а, как все ревнивые женщины, она склонна была думать, что их отношения зашли дальше, нежели это было в действительности. Но мало-помалу ее лучшее я восторжествовало и побороло дурные мысли, подсказанные ее сердцем. Бесси была влюблена в него, и Бесси была слабее ее, менее способна переносить горе; она же поклялась Умирающей матери (Бесси была ее любимица) содействовать ее счастью, утешать ее всеми средствами и покровительствовать во всем. Это была великая клятва, и хотя Джесс была тогда еще ребенком, но нисколько не считала себя при этом меньше связанной. А главное, она сама ее очень любила, гораздо больше, чем та ее. Итак, пусть Бесси возьмет себе любимого человека и пусть никогда не узнает, чего это ей стоило; что же касается нее самой, то она должна удалиться, как раненый олень, и скрываться до тех пор, пока это чувство не умрет в ней или ее не станет. Джесс нервно засмеялась и принялась расчесывать волосы в ту минуту, когда первые яркие лучи зари осветили покрытые туманом поля. Она больше не глядела в зеркало; теперь ей было уже все равно. Затем она кинулась на постель и заснула тяжелым сном для того, чтобы проснуться на другой день утром и лицом к лицу встретиться с ожидавшим ее горем. Бедная Джесс! Твои юные грезы не долго веяли над тобой! Они продолжались всего лишь только три часа. Зато они уступили место другим грезам.* * *
— Дядя, — обратилась на следующий день Джесс к старику Крофту в то время, когда он стоял у калитки крааля, пересчитывая овец, — операция, требовавшая замечательного навыка и ловким исполнением которой он весьма гордился. — Да, да, моя милая, я знаю, что ты хочешь сказать. Действительно, я ловко их пересчитал; едва ли найдется кто-нибудь, кто в состоянии без ошибки пересчитать шестьсот бегающих голодных овец. Но ведь я к этому привык в течение пятидесяти лет, которые провел в Старой колонии[439] и здесь. А многие на моем месте просчитались бы по крайней мере голов на пятьдесят. Взять, к примеру, хотя бы Ника… — Дядя, — снова обратилась она к нему, вздрогнув при этом имени, как вздрагивает лошадь под нажатием шпор, — я не об овцах хотела поговорить с вами. У меня к вам просьба. — Просьба? Господи, да что с тобой, отчего ты такая бледная? Ну, в чем же дело? — Мне бы хотелось поехать в Преторию в дилижансе, отправляющемся завтра днем из Ваккерструма, и погостить месяца два у подруги по школе — Джейн Невилл. Я ей уже давно обещала, да все было некогда. — Что с тобой случилось? — спросил старик. — Моя домоседка Джесс вдруг собирается куда-то ехать, да еще без Бесси! — Мне хотелось бы поразвлечься, дядя. Вы ведь не откажете мне в этом. Дядя посмотрел на нее пристальным взглядом. — Гм! — проговорил он. — Если ты решила ехать, то нечего и толковать. Никогда не следует задавать слишком много вопросов там, где замешана молодая девушка. А? Как ты думаешь? Конечно, поезжай, моя милая, если хочешь, хотя мне будет очень тяжело без тебя. — Благодарю вас, дядя, — отвечала она, целуя его, и, быстро повернувшись, ушла. Старик Крофт снял свою широкополую шляпу и старательно вытер лоб красным носовым платком. — Тут что-то не ладно, — промолвил он, глядя на ящерицу, выползавшую из стенной щели крааля, чтобы погреться на солнце, — я не такой дурак, каким, может быть, кажусь, и повторяю, что с моей девочкой приключилось что-то неладное. Она стала более странной, нежели когда-либо… С этими словами он гневно стукнул палкой по тому месту, где была ящерица, отчего та быстро скрылась в щель и тотчас же высунулась опять, чтобы посмотреть, не ушел ли сердитый человек. — Как бы там ни было, — размышлял он сам с собой, направляясь к дому, — я доволен, что это не Бесси. В мои годы я бы не вынес с нею разлуки даже на два месяца.Глава 8
ДЖЕСС ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПРЕТОРИЮ
За обедом Джесс неожиданно объявила, что едет в Преторию навестить Джейн Невилл. — Навестить Джейн Невилл? — переспросила Бесси, широко открыв свои голубые глаза. — Да ведь еще в прошлом месяце ты сама говорила, что Джейн Невилл тебе нисколько не интересна, потому что стала такой вульгарной. Разве ты не помнишь, как она в прошлом году гостила у нас проездом в Наталь и однажды воскликнула, воздев руки к небу: «Ах! Джесс — это настоящий гений! Какое счастье быть с нею знакомой!» А потом, как она хотела, чтобы ты непременно прочла что-нибудь из Шекспира ее придурковатому братцу, и ты отвечала, что если она не придержит язык, то ты лишишь ее возможности долее наслаждаться твоим обществом. А теперь ты хочешь ехать и гостить у нее два месяца! Какая ты, Джесс, смешная! И наконец, это довольно нелюбезно с твоей стороны — уехать от нас на такое продолжительное время. На все эти доводы Джесс ничего не возражала и лишь только настаивала на своем намерении ехать. Джон также был удивлен, и, по правде сказать, решение Джесс произвело на него неприятное впечатление. Со времени разговора в Львином рву Джесс приобрела в его глазах новый и более определенный для него интерес. До тех пор она была загадкой. Теперь он разгадал в ней многое, и у него появилось желание узнать ее еще ближе. Может быть, он и сам не подозревал, насколько сильно было в нем это Желание, до тех пор пока не услышал, что она уезжает надолго. Ему вдруг пришло в голову, что без нее на ферме будет очень скучно. Конечно, Бесси очаровательна, но в ней недостает остроумия и оригинальности сестры, а он весьма ценил и ум, и оригинальность у Женщин. Джесс сильно его заинтересовала, и он был сам не свой при мысли об ее отъезде. Он посмотрел на нее с упреком и в состоянии Раздражения нечаянно опрокинул уксусницу на стол. Джесс отвернулась и сделала вид, что не заметила разлитого уксуса. Чувствуя, что сделал все от него зависевшее, он встал из-за стола и отправился поглядеть на страусов, причем несколько помедлил, ожидая, не выйдет ли она, но она по-прежнему продолжала сидеть на своем месте. Так ему и не удалось повидать ее до самого ужина. Бесси сообщила ему, что сестра все это время была занята укладыванием вещей в дорогу; но так как при путешествии в почтовой карете разрешалось брать с собой не более двадцати фунтов, то аргумент этот показался мало убедительным. За ужином она была еще более молчалива, нежели за обедом. Когда все встали из-за стола, он попросил ее что-нибудь спеть, но, несмотря на его просьбы и на все настояния присутствовавших, она отказалась под тем предлогом, что с некоторого времени оставила пение. Птицы поют перед тем, как начинают вить гнезда, и подобный закон повторяется повсюду в природе. Точно так же и Джесс, когда великая скорбь овладела ее сердцем и она увидела, что ее любовь погибла, потеряла всякое желание пользоваться божественным даром. Разумеется, это было не более чем совпадение, но во всяком случае весьма примечательное. Было решено, что Джесс на другой день утром поедет на повозке до Мартинус Вессельструма, называемого обычно Ваккерструмом, и там уже пересядет в почтовый дилижанс, отходящий по расписанию в полдень, но в действительности — неизвестно в какое время. Отправление почтовых дилижансов в Трансваале не отличается особой аккуратностью. Старик Крофт хотел вместе с Бесси проводить ее до Ваккерструма, где последняя собиралась произвести кое-какие закупки. Но у него разыгрался припадок ревматизма, которому он был подвержен с давних пор. Тогда Джон предложил свои услуги, и хотя Джесс начала прибегать к различным отговоркам, Бесси подхватила эту мысль, и предложение его наконец приняли. Ровно в половине девятого утра была подана крытая полотном повозка на двух массивных колесах и с высокой спинкой, запряженная четверкой молодых лошадей. Переднюю пару с помощью зулуса Мути держал готтентот Яньи, одетый с туземной простотой и украшенный несколькими перьями, воткнутыми в волосы. Лицо его хранило угрюмое выражение. Затем все начали усаживаться: сперва Джон, рядом с ним Бесси и после всех — Джесс. Яньи вскарабкался на запятки. Лошади понеслись галопом, таща повозку с такой быстротой, которая устрашила бы всякого, незнакомого с ездой в Трансваале. Джон прилагал все усилия, чтобы остановить бешеную скачку, и одно это, не говоря уже о грохоте и тряске экипажа, делало невозможным какой бы то ни было разговор. Ваккерструм находится в восемнадцати милях от Муифонтейна, и расстояние это проехали за каких-нибудь два часа. Пока лошадей отпрягали во дворе гостиницы, Джон зашел на станцию, откуда должен был отойти дилижанс, чтобы купить билет для Джесс, и затем вернулся к дамам, ожидавшим его в лавке, где они делали закупки. Все отправились в гостиницу, чтобы пообедать. По происшествии некоторого времени возница дилижанса принялся наигрывать какую-то веселую, но дикую мелодию на рожке, давая знак пассажирам собираться в дорогу. Бесси куда-то ушла, И) за исключением грязного оборванца, исполнявшего должность лакея, в комнате не было никого. — Надолго вы едете, мисс Джесс? — осведомился Джон. — Месяца на два, капитан Нил. — Мне очень жаль, что вы едете, — промолвил он несколько взволнованный, — на ферме будет так пусто без вас. — С вами остается Бесси, — отвечала она, повернувшись к окошку и внимательно разглядывая двор гостиницы. — Капитан Нил! — вдруг обратилась она к нему. — Я слушаю вас. — Присмотрите за Бесси во время моего отсутствия. Слушайте. Я хочу вам кое-что сказать. Вы знаете Фрэнка Мюллера? — Да, я с ним знаком. Чрезвычайно несимпатичный человек. — Так вот, он однажды пригрозил Бесси, — а это такой человек, который в состоянии привести угрозу в исполнение… Я не в праве передавать вам подробности, но прошу, обещайте мне защитить сестру в случае необходимости. Не думаю, чтобы это непременно произошло, но все может быть. Итак, вы мне обещаете? — Разумеется, да; я бы сделал и больше, если бы только вы меня об этом просили, — отвечал он с нежным оттенком в голосе, ибо теперь, когда она уезжала, он чувствовал, что она сделалась ему очень дорога, и желал это ей высказать. — Обо мне незачем упоминать, — нетерпеливо возразила она, Бесси настолько мила и симпатична, что вполне стоит того, чтобы о ней позаботились ради нее самой. Раньше чем он успел что-либо ответить, вошла Бесси и объявила, что карета подана, после чего все вместе вышли проводить отъезжавшую. — Не забудьте вашего обещания, — шепнула Джесс, наклонившись к нему в то время, когда он помогал ей влезть в дилижанс. При этом губы девушки почти коснулись его щеки, и он почувствовал ее горячее дыхание. Вслед за тем сестры нежно обнялись и поцеловались, возница вновь заиграл на своем ужасном инструменте, и дилижанс тронулся в путь, увозя с собой Джесс, еще двух пассажиров и почту ее величества. Некоторое время Джон и Бесси стояли на месте, следя за бешенной скачкой почтовой кареты, после чего отправились назад в гостиницу, чтобы готовиться к отъезду домой. В это самое время к Джону подошел один из знакомых ему буров, старик Ханс Кетце, и, протянув необычайных размеров руку, приветствовал его словами: «Добрый день». Ханс Кетце был добродушный бур и более или менее приближался к образчику людей этого «пастушеского народа». Он был высокого роста, имел открытое, весьма приятное лицо и добрые глаза. — Как поживаете, капитан? — продолжал он по-английски, так как хорошо знал этот язык. — Ну, как вам нравится в Трансваале? Впрочем, — заметил он, подмигнув, — нашу страну теперь уже нельзя называть Южно-Африканской республикой, потому что это было бы теперь изменой! — Мне здесь очень нравится, минеер, — отвечал Джон. — Да, это чудная страна. Лошади не болеют никакими болезнями, сочная и вкусная трава представляет отличный корм для скота; вы должны себя очень хорошо чувствовать на ферме у дядюшки Крофта, где удачно разводятся страусы, ибо это лучший уголок во всем дистрикте. Я не из зависти это говорю. Сам я не занимаюсь страусами, потому что они хорошо разводятся только в Старой колонии, но не здесь. Мне это отлично известно по опыту. — Да, здесь замечательно хорошо, минеер. Я почти весь свет объездил, а лучшей местности не видел. — Теперь этого вы сказать уже не можете! Боже мой, как счастливы люди, которые много путешествовали. Я не из зависти это говорю. Сам бы я не желал путешествовать. Мне кажется, что Господь назначил каждому жить в том месте, которое для него приготовил. Наша же страна прекрасна и, — продолжал он, понизив голос, — стала с некоторых пор еще прекраснее. — Вы хотите сказать, минеер, что кафры усмирены? — Вовсе нет. Я хочу сказать, что страна ныне принадлежит Англии, — отвечал он с таинственным видом, — и хотя я не смею говорить этого открыто, тем не менее надеюсь, что и впредь будет ей принадлежать. Когда страна была республикой, я был республиканцем, что в некоторых отношениях тогда было удобно. Во-первых, меньше приходилось платить налогов, а во-вторых, мы управлялись по своему с чернокожими; теперь же с переменой формы правления я сделался англичанином. Я отлично понимаю, что английскоеправительство — это хорошая государственная монета и безопасность, а если нет у нас народного собрания, то что из того? Господи, какой бывало крик поднимался тогда на этих собраниях! Но знаете ли что, капитан? Здешний народ рассуждает иначе. У него на языке «ненавистное британское правительство». Глупые люди, они бегут друг за другом словно бараны! Но вот в чем дело, капитан. У нас скоро поднимется восстание, и наш народ перестреляет всех несчастных роой батьес, как оленей, и вернет назад свою страну. Бедные! Мне просто плакать хочется, когда я подумаю об этом! Джон улыбнулся в ответ на это мрачное предсказание и только хотел объяснить буру, каким жалким покажется туземное войско при встрече с британскими войсками, как был поражен внезапной переменой, произошедшей в его собеседнике. Опустив тяжелую руку на плечо Джона, Ханс Кетце вдруг разразился громким деланным смехом, причину которого Джон понял лишь тогда, когда заметил стоявшего вблизи Фрэнка Мюллера, привезшего хлеб на ваккерструмскую мельницу и, по-видимому, сильно занятого созерцанием того, как его лошадь отгоняла мух при помощи своего хвоста, но в действительности прислушивающегося к словам бура. — Ха, ха, милейший мой! — воскликнул старик Кетце, обращаясь к изумленному Джону. — Неудивительно, что вы любите Муифонтейн! Есть много муи (прекрасных) вещей на свете, кроме воды. Ну, а как часто вы сидите по ночам с хорошенькой племянницей дядюшки Крофта, а? Я еще не слеп. Я ведь видел, как она покраснела, когда вы сейчас с ней заговорили. Ну что ж, это недурная дичь для молодого охотника. Как вы полагаете, милейший Фрэнк? — Последнее было адресовано Мюллеру. — Я готов прозакладывать все что угодно, что капитан просиживает ночи в компании хорошенькой Бесси — как вы думаете, Фрэнк? Надеюсь, вы не ревнуете, милейший? Мне, впрочем, рассказывали, будто вы и сами по ней вздыхаете. — Сказав это, он наконец замолчал и беспокойно взглянул на Мюллера, выжидая ответа, между тем как Джон, который был совершенно подавлен этим потоком красноречия, вздохнул свободнее. Что касается Мюллера, то он держался как-то странно. Вместо того, чтобы рассмеяться, как полагал словоохотливый бур, он становился все мрачнее и мрачнее и в конце речи произнес какую-то ругань по адресу Джона, смысла которой тот не мог разобрать, отвернулся и направился к гостинице. — Черт возьми, — воскликнул старый Ханс, отирая красным платком пот, выступивший на лице, — ловко же я попался. Этот негодяй Мюллер от слова до слова слышал все, что я вам говорил; он пока мотает да мотает себе на ус, а в один прекрасный день возьмет да и выдаст меня народу, как изменника страны. Я уже отчасти с ним знаком. Это сущий дьявол. И за что он вас так ругал? Видно, из-за мисс. Кто его знает! Ах, я теперь все вспомнил, хотя и не понимаю, с чего это мне пришло в голову, — мне рассказывали кафры, будто недалеко от меня, в полутора часах езды от Муифонтейна, пасется прекрасное стадо оленей. Умеете вы держать ружье, капитан? Вы похожи на заядлого охотника. — О, конечно, минеер, — отвечал Джон в восторге от предстоящей охоты. — Мне так и показалось. Все англичане спортсмены, хотя все же вы не сумеете подстрелить оленя. В таком случае вот что. Возьмите у Дядюшки Крофта легкую шотландскую тележку и пару добрых лошадок и приезжайте ко мне, но только не завтра, потому что к нам приедет кузина моей жены, старая ведьма, но страшно богатая — у нее в копилке под подушкой тысяча фунтов золотом — и не послезавтра, ибо это воскресенье, и в этот день охотиться грех. А приезжайте-ка вы в понедельник. Мы отправимся на охоту к восьми часам, и вы увидите, как надо стрелять оленей. Что, однако, задумал этот шакал Фрэнк Мюллер? Да, это дьявол в человеческом образе. — С этими словами веселый бур удалился, покачивая головой, а несколько минут спустя Джон увидел его удаляющимся верхом на маленьком охотничьем пони, который весил едва ли не меньше, нежели всадник, и который между тем ступал легко, точно нес перышко.Глава 9
ИСТОРИЯ ЯНЬИ
После отъезда старого бура Джон отправился во двор гостиницы посмотреть за тем, чтобы запрягали лошадей, как вдруг его внимание было остановлено шумом суетившихся кафров и праздных зевак и раздававшимися среди них громкими ругательствами и проклятиями. В углу двора близ конюшни посредине толпы стоял Фрэнк Мюллер и держал в руке кнут, как бы намереваясь кого-то ударить. Перед ним, оскалив зубы, с глазами, налитыми кровью, и обезображенным от страха лицом, стоял пьяный готтентот Яньи. По всему лицу кафра проходила синеватая полоса от удара кнутом, а в его руках поблескивал тяжелый нож с белой рукояткой, который он постоянно носил при себе. — Что такое, в чем тут дело? — спросил Джон, протискиваясь через толпу. — Эта скотина украла сено у моей лошади и отдала его вашей! — закричал Мюллер, которым, по-видимому, овладело бешенство и который старался еще раз хлестнуть Яньи. Последний увернулся от удара, спрятавшись за спину Джона, которому концом кнута задело по ноге. — Будьте поосторожнее с вашим кнутом, минеер, — заметил Мюллеру Джон, с трудом удерживая свое негодование, — и откуда вы знаете, что он украл у вас сено? И вообще, по какому праву вы его трогаете? Если он что-нибудь сделал не так, вам следовало обратиться ко мне. — Он лжет, баас, он лжет, — жалобно воскликнул готтентот, — он всегда был лгун и даже хуже того. Да, да, я многое мог бы про него рассказать. Страна принадлежит теперь англичанам, и буры не смеют нас больше убивать. Этот злодей, этот бур Мюллер, застрелил моего отца и мою мать. Он два раза стрелял, она не умерла с первого разу. — Ах ты, черная душа, чернокожий сын дьявола! — заревел бур, — Вот как ты разговариваешь с господами? Прочь с дороги, роой батье (последнее относилось к Джону), я вырву ему язык. Я ему покажу, как мы разделываемся с подобными лжецами. С этими словами он бросился на готтентота. Джон, который и сам вышел из себя, протянул руку и со всей силы толкнул в грудь Мюллера. Джон был очень силен, хотя не отличался большим ростом, и удар заставил Мюллера попятиться назад. — Что это значит, роой батье? — гневно обратился к нему Мюллер, причем лицо его побелело как полотно. — Прочь с дороги — или я оставлю знак на твоем красивом лице. У меня с тобой есть счеты, а я привык всегда платить свои долги. Прочь с дороги, черт тебя побери! — И он снова бросился на готтентота. Джон окончательно пришел в бешенство и, не ожидая нападения, сам ринулся на врага. Обхватив голову противника, он не только остановил наступление, но с помощью ловкого удара ногой опрокинул его навзничь в лужу, образовавшуюся от стока нечистот из конюшни. Крик восторга вырвался из груди толпы, всегда радующейся при виде поражения задиры, тем более что при падении он довольно сильно ударился головой о порог конюшни. Некоторое время он лежал неподвижно, и Джон начал опасаться, не получил ли его противник серьезную рану. Наконец Фрэнк Мюллер встал и, не проявляя более никаких враждебных намерений и не говоря ни слова, удалился по направлению к гостинице. Джон, как все порядочные люди, терпеть не мог стычек, но, как и все англичане, любил доводить дело до конца. Вся эта история злила его до невероятности, ибо он знал, что с большими или меньшими прикрасами она обойдет всю страну. В особенности же ему было неприятно то, что он нажил себе смертельного врага. — Это все из-за тебя, пьяница! — злобно произнес он, обращаясь к Яньи, который, несколько успокоившись, вертелся подле него, всхлипывая и называя его своим спасителем и баасом. — Он ударил меня, баас, он ударил меня, а я и не думал брать его сена. Он злой человек, этот баас Мюллер. — Убирайся с глаз долой и посмотри, чтобы запрягали лошадей, — ты еще пьян. — С этими словами он вернулся в залу гостиницы, где его ожидала Бесси, пребывавшая в полном неведении относительно происходившего. Лишь на полпути домой он рассказал ей о том, что случилось. Вспомнив собственный разговор с Фрэнком Мюллером и его угрозы, она вдруг приняла чрезвычайно озабоченный вид. Дядюшка Крофт сделался сам не свой, когда услышал про эту историю. — Вы нажили себе врага, капитан Нил, — сказал он, — и притом злопамятного. Конечно, вы были правы, защищая готтентота. Я бы сделал то же на вашем месте, будь я десятью годами моложе. Но Фрэнк Мюллер не такой человек, чтобы забыть, как вы его опрокинули в присутствии кафров и белых. Может быть, Яньи уже протрезвел. (Разговор этот имел место на следующий день, когда они оба сидели после завтрака на веранде). Я позову готтентота, и мы послушаем, что это за история об убийстве его отца и матери. Немного спустя он вернулся в сопровождении грязного и оборванного туземца, снявшего шляпу, униженно поклонившегося и затем тотчас же присевшего на корточки. — Ну, Яньи, выслушай меня, — обратился к нему старик, — ты вчера снова напился. Я об этом с тобой говорить не стану, но предупреждаю, если я увижу или только услышу еще раз, что ты был пьян, то откажу тебе от места. — Да, баас, — отвечал с покорностью готтентот, — я был пьян, но не сильно; я выпил только полбутылки капской водки. — Напившись, ты затеял ссору с баасом Мюллером, за которой последовала драка между ним и этим баасам, чего ты уже совершенно не стоишь. Когда же баас Мюллер тебя ударил, ты сказал, что он будто бы застрелил твоих родителей. Что это — ложь или правда? И вообще, что ты этим хотел сказать? — Это не ложь, баас, — взволнованно отвечал готтентот. — Ия это сказал и повторяю опять. Слушайте, баас, я вам расскажу всю историю. Когда я был еще маленьким, вот таким, — и он показал рукой, каким был в четырнадцать лет, — отец мой, мать и дядя, который был очень стар, старше, нежели баас (Яньи указал на старика Крофта), все мы жили близ Лейденбурга, на земле, принадлежавшей старику Якобу Мюллеру, отцу бааса Фрэнка. Это была степная ферма, и старый Якоб пригонял туда скот зимой, когда на горной ферме не хватало травы. С ним вместе приезжала тогда англичанка, его жена, и молодой баас Фрэнк — баас, которого вы видели вчера. — Как давно это было? — перебил его мистер Крофт. Яньи несколько секунд загибал пальцы и затем, подняв руку, разжал ее четыре раза подряд. — Да, — отвечал он, — это было двадцать лет тому назад. Баас Фрэнк был тогда очень юн, целой головой ниже ростом, нежели теперь. Однажды старик Якоб ушел на степную ферму после первых дождей, оставив моему отцу шесть волов, которых не мог взять с собой из-за того, что они были слишком тощи, и поручив ему смотреть за ними, как за собственными детьми. Но волы были околдованы. У троих началось воспаление легких; из остальных же один был зарезан львом, другой ужален змеей, и, наконец, последний наелся ядовитой травы и сдох. Таким образом, когда старик Якоб вернулся на следующий год домой, он недосчитался шести волов. Он был очень зол на отца и до крови избил его ремнями, и хотя мы показывали ему кости волов, он все же утверждал, что мы их украли и затем продали. У старика Якоба было, кроме того, восемь пар великолепных черных волов, которых он любил, как родных детей. Волы эти были совершенно ручные и послушно являлись на зов, как собаки. Тощие вначале, они за два месяца вполне оправились и потолстели. В ту пору у нас проживал один больной из племени басуто, принадлежавший к клану секвати. Когда старик узнал про это, он страшно рассердился на отца и сказал, что все басуто воры. Отец передал о неудовольствии бааса этому басуто, который в ту же ночь и ушел к себе домой. Но на другой день утром черные волы исчезли, а ворота крааля оказались сломанными. Мы снарядили за волами погоню, искали их целый день, но найти не могли. Старик с ума сходил от бешенства, молодой же баас Фрэнк сказал ему, будто один из кафрских мальчишек слышал, как мой отец отдавал этих волов басуто за овец, который тот обещался пригнать нам летом. Это была неправда, но баас Фрэнк за что-то ненавидел моего отца — кажется, за какую-то зулусскую девушку. На следующий день утром, когда все еще спали, Якоб Мюллер, баас Фрэнк и двое кафров вытащили нас из хижины — отца, дядю, мать и Меня — и крепко привязали к четырем мимозам буйволовыми ремнями. Затем кафры удалились, и старик Якоб спросил моего отца, куда девался скот, на что отец отвечал, что не знает. После этого баас Якоб снял шляпу и прочел молитву Великому Человеку, живущему на Небе, по окончании которой к отцу приблизился с ружьем баас Фрэнк и выстрелил в него в упор. Отец упал мертвым и повис на ремнях, причем его голова почти касалась ног. Затем он снова зарядил ружье и таким же образом покончил со стариком дядей. Наконец он выстрелил в мать, но пуля ее не убила, а перерезала ремень, и она побежала; но он погнался за ней и убил ее. Покончив с ней, он вернулся, чтобы застрелить и меня; но я был тогда очень юн и не знал еще, что лучше умереть, нежели жить, как собака, и, пока он заряжал ружье, я стал умолять пощадить мою жизнь. На мою просьбу баас расхохотался и сказал, что покажет готтентотам, как воровать скот; старый же Якоб опять прочел молитву Великому Человеку и промолвил, что ему меня очень жаль, но что такова воля его господина. И в эту минуту, когда баас Фрэнк наводил на меня ружье, он тотчас его опустил, так как вдруг увидел все шестнадцать волов, мирно Пасущихся на горе в кустарниках. Они вышли ночью из крааля и отправились в какую-то лощину для перемены пастбища, а теперь возвращались домой. Старик побледнел, как смерть, и схватился руками за волосы, затем упал на колени и стал благодарить Создателя за сохранение моей жизни. Как раз в эту пору англичанка, мать молодого бааса, вышла из возка узнать причину стрельбы. Увидав убитых и меня, плачущего и привязанного к дереву, и узнав в чем дело, она совсем потеряла голову, потому что у нее было доброе сердце, когда она не была пьяна. Придя же немного в себя, она сказала, что проклятие падет на их голову и что все они умрут насильственной смертью. После этого она взяла нож и обрезала связывавшие меня ремни, хотя баас Фрэнк настаивал на том, чтобы меня убить, дабы лишить возможности рассказывать небылицы. Почувствовав себя свободным, я пустился бежать, скрываясь днем и выходя лишь ночью, ибо очень боялся, — пока наконец не достиг Наталя, где поселился и стал работать вплоть до того дня, когда земля перешла во власть англичанам и когда баас Крофт нанял меня к себе в услужение. А живя здесь, я встретил и бааса Фрэнка, который возмужал, но, за исключением бороды, выглядит так же, как и прежде. Итак, баас, все это истинная правда, и вот почему я ненавижу бааса Фрэнка, убийцу моего отца и матери. А баас Фрэнк ненавидит меня за то, что не может забыть своего злодеяния и видит во мне живого свидетеля этого преступления. Кроме того у нас говорят, что человек всегда ненавидит того, кого ранил копьем. Окончив рассказ, маленький человек поднял свою засаленную шляпу, в которую были воткнуты два истертых пера, нахлобучил ее на уши и стал чертить ногой круги на песке. Слушатели переглянулись. Рассказ не требовал комментариев и не вызывал ни малейшего сомнения в его правдивости. И действительно, оба они, подобно прочим жителям диких стран Южной Африки, слышали похожие истории и прежде, хотя и знали, что нельзя им всем безусловно доверять. — Ты говоришь, — промолвил старик, — женщина предрекла, будто проклятие падет на их головы и что все они умрут насильственной смертью? Она была права. Двенадцать лет тому назад старик Якоб и его жена были зарезаны отрядом кафров из Мапоха в том же самом Лейденбургском велде. Я помню, эта история наделала тогда много шума, но все розыски ни к чему не привели. Фрэнка Мюллера с ними не было. Он в то время отправился на охоту и лишь потому избежал участи родителей, а вернувшись домой, унаследовал все отцовское состояние. — Да, — отвечал готтентот без всякого признака удивления, — я знал, что все это случится, но я хотел бы там быть, чтобы самому все увидеть. Я знал, что в женщине сидел черт и что все умрут, как она предсказала. Когда черт сидит в человеке, то он помимо своей воли говорит правду. Посмотрите, баас, я ногой черчу на песке круг и произношу известные мне слова, и вот концы круга сходятся. Это круг старика Якоба и его жены англичанки. Концы сошлись, и они умерли. Один старый колдун научил меня, как следует чертить круг жизни человека и какие при этом произносить слова. А теперь я черчу другой круг — для бааса Фрэнка. Ага, на пути встретился камень, и концы не сходятся. Но я все продолжаю описывать круги и произносить известные слова, и вот наконец камень остается вне круга — и концы сходятся. Так будет и с баасом Фрэнком. В один прекрасный день камень сдвинется, концы сойдутся, и он умрет насильственной смертью. Черт, сидевший в англичанке, сказал это, а черти не могут лгать или говорить правду наполовину. А теперь смотрите: я стираю круги ногой, и вот их уже нет, и место по-прежнему чисто. Это значит, когда они умрут, они будут забыты и память о них сотрется с лица земли. Даже могилы их сровняются с землей! При этих словах желтое лицо готтентота исказилось, и он добавил уже совершенно спокойным голосом: — А сколько баас прикажет дать охапок сена серой кобыле, одну или две?Глава 10
ДЖОН БЛАГОПОЛУЧНО ИЗБЕГАЕТ ОПАСНОСТИ
В понедельник Джон, как и обещал, отправился в сопровождении Яньи на охоту к Хансу Кетце в шотландской тележке, запряженной лучшими лошадьми. Он прибыл в сборный пункт в половине девятого утра и, видя множество телег и лошадей, стоящих возле дома, заключил, что он не единственный приглашенный. В самом деле, первым, кого он встретил при приближении к дому, был его недавний враг Фрэнк Мюллер. — Посмотрите, баас, — воскликнул Яньи, — а вот и баас Фрэнк разговаривает с одним из кафров! Разумеется, Джон не особенно обрадовался этой встрече. Он никогда не чувствовал расположения к Фрэнку Мюллеру, а со времени последнего с ним столкновения и печального рассказа Яньи просто возненавидел его. Выйдя из экипажа, он намеревался уже обойти вокруг дома, чтобы избежать неприятной встречи, как вдруг Мюллер, случайно подняв голову и заметив его приближение, подошел к нему и поздоровался с самой непринужденной улыбкой. — Как поживаете, капитан? — он протянул руку, до которой Джон едва дотронулся. — Стало быть, и вы приехали поохотиться за оленями к дядюшке Кетце, да пожалуй еще и нас, трансваальцев, поучить, как стрелять. Да не глядите вы на меня так, будто кол проглотили. Вы, видно, все думаете о нашем недоразумении в Ваккерструме. Ну что ж, я был не прав и не стыжусь в этом признаться с глазу на глаз. Я немножко выпил и сам не отдавал себе отчета в том, что делал. Мы должны быть добрыми соседями, а потому забудем прошлое и станем добрыми друзьями. Я не злопамятен, да к тому же и религия нам это запрещает. Выкиньте эту историю из головы. Если бы только не эта обезьяна, — продолжал он, указывая пальцем на Яньи, стоявшего возле лошадей, — то ничего бы не случилось, а из-за него христианам вовсе не подобает ссориться. Мюллер произнес всю эту тираду, точно школьник — вытверженный урок, переминаясь с ноги на ногу и глядя куда-то в сторону, из чего Джон, в ледяном молчании выслушавший произнесенную речь, заключил, что она не вылилась сама собой, а была заранее обдумана и приготовлена. — Я вовсе не желаю с кем бы то ни было ссориться, минеер Мюллер, — отвечал он наконец, — я никогда не затеваю ссоры первый, но если меня тронут, — продолжал он угрюмо, — я сумею постоять за себя и насолить врагу. Прошлый раз вы первый задели моего слугу, а затем и меня. Я очень рад, что вы теперь сами видите свою неправоту. Что касается меня, то я вопрос этот считаю исчерпанным. — И он повернулся, чтобы войти в комнату. Мюллер последовал за ним и, дойдя до того места, где стоял Яньи, опустил руку в карман, вынул монету в два шиллинга и бросил ее готтентоту, крикнув ему, чтобы ловил. Яньи одной рукой держал лошадей, другой длинную палку с отметками, ту самую, которую показывал Бесси. Желая схватить монету, он нечаянно выронил палку, причем Мюллеру сразу бросились в глаза сделанные на ней зарубки, вследствие чего он тотчас же и принялся внимательно ее рассматривать. — Что это такое? — спросил он, указывая на ряд больших зарубок, из которых иные, очевидно, были сделаны несколько лет тому назад. Яньи дотронулся до шляпы, плюнул на «шотландца», как жители этой части Африки обычно называют монету в два шиллинга, и припрятал ее в кармане прежде, нежели решился что-либо сказать. То обстоятельство, что даривший был убийца всей его семьи, ничуть не умаляло в его глазах ценности подарка. Чувства готтентотов не отличаются возвышенностью. — Ничего, баас, — отвечал он со странной усмешкой, — при помощи этих зарубок я веду свой счет. Если кто-нибудь прибьет Яньи, то Яньи отмечает на палке и перед тем, как ложится спать, смотрит на нее и говорит: «Придет день — и ты дважды ударишь того, кто тебя ударил один раз!» — и он делает это всегда, баас! Посмотрите, баас, какой длинный ряд этих отметок! Придет день — и я всем им отплачу, баас Фрэнк! Мюллер бросил палку и последовал за Джоном. Дом отличался несколько лучшей постройкой, нежели дома большинства буров, и лучшим убранством внутри, хотя все же в гостиной недоставало пола, если не считать утрамбованной смеси глины с коровьим пометом, устланной шкурами убитых оленей. Посреди комнаты помещался стол, вокруг которого были расставлены самодельные кресла и диваны. В огромном кресле в углу комнаты сидела сложа руки тетушка Кетце, жена старого Ханса, высокого роста, пожилая и довольная плотная женщина, несомненно бывшая когда-то хороша собой; на диванах же расположилось до полдюжины буров, опиравшихся на ружья, поставленные между коленями. При входе в комнату Джону бросилось в глаза, что некоторым из присутствующих не понравилось его появление, и ему даже показалось, будто один из молодых буров пробурчал что-то соседу на ухо по поводу «проклятых англичан». Тем не менее старик Кетце вышел к нему навстречу с ласковым приветствием и приказал двум дочерям, миловидным девушкам, одетым довольно изысканно, подать капитану чашку кофе. После этого Джон по обычаю буров обошел с рукопожатием всех присутствующих, начиная со старухи, сидевшей в кресле. С места никто не поднялся, — это не в обычае буров, — но каждый протянул руку и пробормотал односложное дааг, то есть доброе утро. Вообще это довольно скучная церемония, пока к ней не привыкнешь, и, окончив ее, Джон остановился, чтобы принять чашку кофе, которого он вовсе не желал, но от которого никак нельзя было отказаться. — Капитан, кажется, роой батье? — полувопросительно, полуутвердительно обратилась к нему тетушка Кетце. Джон отвечал кивком головы. — Для чего капитан пожаловал в нашу страну? Не для того ли, чтобы шпионить? Все присутствующие прислушивались сперва к вопросам хозяйки и затем тотчас поворачивали голову, чтобы слышать ответ. — Нет, фроу[440], я приехал сюда для того, чтобы заниматься фермерством у старика Крофта. На губах присутствующих появилась недоверчивая улыбка: «Разве роой батье может заниматься фермерством? Конечно нет». — В британской армии числится три тысячи человек? — вдохновенно продолжала старуха, сурово глядя на волка в овечьей шкуре, или, что то же самое, на воина, вознамерившегося заниматься хозяйством. Все обратили глаза на Джона и в мертвом молчании ожидали ответа. — В британской армии около ста тысяч регулярного войска, да еще столько же в индийской армии. Волонтеров же числится вдвое больше, — раздраженно заметил Джон. Заявление это было принято крайне недоверчиво. — В британской армии три тысячи человек, — повторила старуха с выражением полной уверенности. — Да, да, — хором подхватила молодежь. — В британской армии три тысячи человек, — торжественно заявила она в третий раз, — если капитан говорит, что их больше, — он лжет. Впрочем, если он и лжет, то это вполне естественно, ибо дело касается его собственной армии. Брат моего деда находился в Капштадте в то время, когда губернатором был Смит, и он видел всю британскую армию. Он ее пересчитал. Всех солдат было ровно три тысячи. Я утверждаю, что в британской армии три тысячи человек. — Да, да! — воскликнули все хором. Джон же почти с отчаянием глядел на ужасную старуху. — Сколько солдат находится у вас под командой? — спросила она после наступившего молчания. — Сотня, — быстро отвечал Джон. — Девушка, — обратилась старуха к одной из дочерей, — ты была в школе и умеешь считать. Сколько раз сто содержится в трех тысячах? Девушка сконфузилась и умоляюще взглянула на молодого бура, за которого вскоре должна была выйти замуж; последний грустно замотал головой, показывая этим, что бывают тайны, в которые даже и не следует стремиться проникать. Предоставленная собственным силам, девушка углубилась в вычисления, в которых немалую роль играли также ее пальцы, и наконец с триумфом объявила, что сто содержится в трех тысячах ровно двадцать шесть раз. — Да, да, — снова подхватил хор, — ровно двадцать шесть раз! — Капитан, — заговорила снова вдохновенная старуха, — командует двадцать шестой частью британской армии, и он утверждает, что прибыл в нашу страну для того, чтобы заниматься фермерством с дядюшкой Крофтам! Он говорит, — продолжала она с презрительной усмешкой, — что намерен вести хозяйство, между тем как командует двадцать шестой частью британской армии! Очевидно, он лжет. — Да, да! — воскликнул хор. — Что он лжет, это вполне естественно, — заметила она, — все англичане лгут, особенно роой батьес, но он не должен лгать так грубо. Господу Богу должно быть очень неприятно слышать такую грубую ложь, хотя бы она исходила из уст англичанина вообще и роой батье в особенности. Тут Джон не выдержал и, не помня себя от бешенства, с бранью выбежал на улицу. Последнее мы должны ему простить ввиду того, что он был выведен из терпения и что оскорбление, ему нанесенное, было велико. Весьма неприятно быть публично названным лжецом, да притом еще самого низшего разбора. Следом за ним вышел из комнаты старик Ханс Кетце, ласково похлопал его по плечу, как бы давая понять, что, несмотря на его неумение говорить ложь, он со своей стороны его ценит, и объявил, что пора ехать. Охотники тотчас стали усаживаться кто в телегу, кто верхом, и скоро вся компания двинулась в путь. Фрэнк Мюллер по обыкновению сел на своего великолепного вороного коня. После получасовой езды по неровной дороге передовая телега, в которой сидел сам Ханс Кетце, повернула влево в открытый велд, постепенно поднимавшийся в гору; за ней последовали и другие. Путешествие продолжалось до тех пор, пока не достигли вершины, с которой открывался вид на всю окрестность. Ханс Кетце остановился и поднял руку, после чего прочие также придержали лошадей. Осмотревшись вокруг, Джон тотчас же понял причину остановки. На расстоянии полумили паслось целое стадо оленей, числом до трехсот, а за ним другое, состоявшее из шестидесяти или семидесяти животных с белыми хвостами, на вид более диких и размером несколько крупнее, в которых Джон без труда признал буйволов. Неподалеку от охотников рассыпались там и здесь группами дикие козы. Немедленно было решено всадникам, в числе которых находился и Фрэнк Мюллер, объехать стадо и загнать его к телегам, расположенным в разных точках на известном расстоянии друг от друга. Четверть часа спустя в отдалении показался белый дымок, и один из буйволов грохнулся оземь. Поднявшись на ноги, он начал сильно брыкаться и кидаться из стороны в сторону. Вслед за тем все стадо, смешавшись и вытянувшись почти в одну линию, бросилось по направлению к охотникам с таким шумом, что земля тряслась под ногами животных; за ними скакали буры, время от времени останавливаясь и слезая с лошадей для того, чтобы произвести выстрел, результатом чего всякий раз становилось падение какой-либо из несчастных жертв. Наконец стадо приблизилось на ружейный выстрел к телегам, и тут началась настоящая канонада. Несколько оленей шарахнулись в сторону и пронеслись мимо Джона не более чем в сорока ярдах от него. Спрыгнув с телеги, он выстрелил из обоих стволов своего «экспресса», но — увы! — промахнулся. Первая пуля прошла под брюхом животных, вторая же только задела их спины. Вновь зарядив ружье, он опять выстрелил в стадо, находившееся в двухстах ярдах, и на этот раз свалил одного оленя. Впрочем, он знал, что это была простая случайность: он целился в животное, бежавшее позади всех, а попал в то, которое находилось спереди в десяти шагах. Дело в том, что охота на оленей в этих краях чрезвычайно трудна и к ней надо попривыкнуть. Неопытный стрелок из двадцати случаев не промахнется, может быть, всего один раз, так как в этих необъятных южноафриканских степях малейшая ошибка в определении расстояния или высоты прицела влечет за собой промах. Буры обычно следуют позади линии стада и стреляют в середину. Очевидно, если высота прицела взята ошибочно или же расстояние определено неверно, то пуля поражает животное, находящееся спереди или сзади того, по которому был сделан выстрел. Необходимое при этом условие заключается в том, чтобы направление выстрела было верно. Обо всем этом Джон узнал уже впоследствии и, когда освоился, стал стрелять не хуже других. Пока же он был еще новичок и, к крайней своей досаде, не мог похвастаться особенно удачной охотой; буры же вынесли убеждение, что английский роой батье так же хорошо умеет стрелять, как и говорить правду. Усевшись снова в телегу и оставив на произвол судьбы убитое животное, что было неблагоразумно в виду изобилия стервятников, кружащих над велдом, Джон или, точнее сказать, Яньи пустил лошадей вскачь, и они понеслись по полю. Подобное путешествие с заряженным ружьем в руках было не вполне безопасно, ибо весь велд усеивали камни и кроме того на пути постоянно встречались норы муравьедов, глубокие ямы и тому подобные неприятности. Но увлечение и соблазн были слишком велики, а потому они мчались сломя голову, возлагая заботу о своих шеях единственно на Провидение. Время от времени они останавливались, когда приближались к стаду на ружейный выстрел. В этих случаях Джон выскакивал из телеги, а затем снова вскакивал, произведя выстрел, и пускался в погоню. Таким образом прошло около часа, и в течение этого времени он двадцать семь раз спускал курок, хотя убил всего только трех оленей да ранил одного буйвола, которого и продолжал преследовать. Пуля попала, однако, животному в круп, а раненный таким образом зверь может бежать еще долго и довольно быстро. Буйвол успел пробежать несколько миль, прежде чем начал приметно замедлять ход, хотя тотчас же пускался дальше, видя приближение врага. Наконец, перевалив через пригорок, Джон увидел то, что сначала было принял за убитого им буйвола. Хотя животное лежало без движения, тем не менее он ранил другое — последнее, опустив голову, стояло несколько поодаль. А так как мертвый буйвол, очевидно павший от руки какого-либо другого охотника, лежал всего в сотне ярдов от них, то Яньи посоветовал Джону выйти из телеги, осторожно подползти к трупу убитого животного и, спрятавшись за его тушу, выстрелом из ружья покончить и с тем, которое еще оставалось в живых. Вслед за тем Яньи под прикрытием естественного возвышения, образуемого пригорком, увел лошадей в сторону, а Джон пополз по направлению к убитому зверю. Все шло как нельзя лучше, и, достигнув засады Джон мысленно уже поздравлял себя с великолепной добычей, как вдруг под ним что-то шлепнуло и покрыло его облаком земли и песка. Он остановился в изумлении, и в то же время до него донесся звук выстрела. Очевидно, ударившийся под ним предмет был нечем иным, как ружейной пулей. Он еще не успел прийти в себя, как почувствовал, что мягкая черная шляпа, которую он постоянно носил на охоте, сама собой поднялась с его головы и, перевернувшись не сколько раз в воздухе, опустилась на землю; одновременно с этим второй выстрел долетел до его слуха. Теперь уже не подлежало сомнению, что кто-то стреляет именно по нему, а потому, вытянувшись во весь рост и подняв руки, Джон выскочил из засады и громко крикнул, не желая никого оставлять в неизвестности относительно своего местопребывания. Минуту спустя он заметил подъезжающего к нему всадника, в котором сразу же узнал Фрэнка Мюллера. Джон поднял шляпу; она оказалась простреленной. Вне себя от гнева он подошел к Фрэнку Мюллеру. — Что это значит? — спросил он. — Вы, кажется, стреляли в меня? — Ах ты Господи! — воскликнул тот. — Представьте, я принял вас за теленка убитого мной буйвола. Промахнувшись в первый раз, я сделал по нему второй выстрел, но когда увидел, что вы выскочили, и услышал ваш крик, то тотчас сообразил, что стрелял в человека, и едва не упал в обморок. Слава Богу, что я промахнулся! Джон холодно выслушал объяснение. — Я вынужден удовлетвориться вашим объяснением, минеер Мюллер, — отвечал он, — но мне говорили, будто вы самый зоркий из всех здешних охотников, а посему кажется весьма странным, что на расстоянии каких-то трехсот ярдов вы не сумели отличить человека от теленка. — Не думаете ли вы, капитан, что я имел намерение убить вас, — возразил бур, — особенно после того, как я пожал вам сегодня утром руку? — Я ничего не думаю, — отвечал Джон, пристально глядя на Мюллера, который тотчас же опустил глаза, — я знаю лишь то, что ваша удивительная ошибка едва не стоила мне жизни. Смотрите! — с этими словами он вынул клок волос из своей прострелянной шляпы. — Да, пуля прошла очень близко. Слава Богу, что вы избежали опасности! — Ближе она едва ли могла пройти, минеер. Надеюсь, что ради собственной безопасности и безопасности тех, кто отправляется с вами на охоту, вы будете в следующий раз более осмотрительны. До свидания. Красавец бур сидел на своем коне, поглаживая длинную густую бороду и глядя вслед англичанину, удалявшемуся твердой поступью к оставленной им телеге, тогда как раненого буйвола и след простыл. — Удивительное дело, — рассуждал он сам с собой, повернув назад лошадь и медленно отъезжая, — неужели старики правы, говоря, что есть Бог (Фрэнк Мюллер был заражен современным вольнодумством). Наверное, это так, — продолжал он, — иначе как могло случится, что одна пуля прошла под ним, а другая едва задела голову, не причинив ему никакого вреда? Я довольно хорошо метил и из двадцати разно промахнусь по крайней мере девятнадцать. Как бы не так! Бог тут не при чем. Случай, а не Бог. Случай распоряжается судьбой людей по своему произволу и играет ими, как ветер высушенной солнцем травой, до тех пор, пока не придет смерть и, подобно степному пожару, не пожрет их огнем. Но есть люди, которые умеют, что называется, оседлать случай, как необъезженного жеребца, и управлять им сообразно своим видам, которые нарочно позволяют ему кидаться из стороны в сторону до утомления и затем спокойно ведут его к намеченной цели. Я, Фрэнк Мюллер, один из таких людей. Я никогда не отступлюсь от того, что задумал. И когда-нибудь я убью этого англичанина! Быть может, вместе с ним я также убью старика Крофта и готтентота. Они ведь и не знают, что творится в стране. Мне же это прекрасно известно, так как я сам помогал подложить мину, и, если они не покорятся мне, я первый приставлю фитиль. Я их всех погублю и возьму себе Мунфонтейн, а затем женюсь на Бесси. Она будет бороться, но тем слаще победа. Она любит этого роой батье, я это знаю. А все же я буду целовать ее над трупом ее возлюбленного. Ага! Вот и телеги. Однако я не вижу капитана. Должно быть, отправился домой расстроенным. Ну что ж, придется поговорить с этими дураками. Господи, как они глупы со своими толками о «стране» и о «проклятом английском правительстве». Они сами не знают, что для них хорошо, а что плохо. Это какое-то стадо баранов, а Фрэнк Мюллер играет роль пастуха! Они когда-нибудь выберут меня в президенты, и я буду управлять ими. Да, я ненавижу англичан, но все же рад, что родился наполовину англичанином, ибо от них набрался ума-разума. Но этот народ глуп, Боже, как глуп! Он будет непременно плясать под мою дудку! — Баас, — обратился Яньи к Джону, когда оба уже возвращались домой, — баас Фрэнк целился именно в вас. — Откуда тебе это известно? — спросил Джон. — Я сам видел. Он хотел сначала стрелять в раненого буйвола, а вовсе не в теленка. Никакого теленка даже и не было. В ту минуту, когда он собирался спустить курок, он заметил вас и, прежде чем я успел опомниться, опустился на одно колено и сделал выстрел в вашу сторону, а заметив свой промах, выстрелил вторично. Я просто не понимаю, как вы остались живы, потому что он замечательный стрелок и никогда не дает промаха. — Я буду его преследовать судом за покушение на убийство, — отвечал Джон, в сердцах бросая ружье на дно телеги, — подобный поступок не должен оставаться безнаказанным. Яньи рассмеялся. — Не стоит, баас. Он будет оправдан, так как я единственный свидетель. Суд не поверит чернокожему и никогда не накажет бура за то, что тот убил на охоте англичанина. Нет, баас, вы должны как-нибудь спрятаться в велде, где он будет проезжать, и застрелить его. Я бы это и сам исполнил, если бы только смел!Глава 11
РУБИКОН
Несколько недель протекло со дня приключения Джона на охоте, и за это время в Муифонтейне не произошло ничего особенного. Дни тянулись однообразно, и, что бы ни говорили люди, ищущие веселья, в этом однообразии существует своего рода особая прелесть. «Счастлива та страна, которая не имеет истории», — говорит пословица. То же может быть сказано и про отдельные личности. Встать поутру, чувствуя себя полным здоровья и сил, выполнить ряд дневных обязанностей до наступления вечера и затем отправится на покой с ощущением приятной усталости для того, чтобы заснуть сном честно исполнившего свой долг человека, — в этом заключается истинное счастье. Острые ощущения, тревоги едва ли полезны для умственного или жизненного развития человека, и по этой-то причине те, чье существование проходит именно в подобных заботах, более всего мечтают о тихой, спокойной домашней жизни. Достигнув желаемого, они вначале еще волнуются, душа их еще жаждет борьбы, и до их слуха доносятся слабые отголоски внешнего мира, покинутого ими. И вот в чем заключается непреложный закон природы: он не допускает абсолютного покоя, а ставит непременным условием жизни какого-либо рода заботу. Вообще Джон нашел, что жизнь южноафриканского фермера вполне отвечала его желаниям. У него не было недостатка в занятиях, и все его время в самом деле уходило на заботы о страусах, лошадях, рогатом скоте, овцах и посевах. Отсутствие цивилизованного общества его беспокоило мало, так как он восполнял этот недостаток чтением; книги же всегда можно было выписать из Дурбана или Капштадта, не говоря уж о газетах, которые еженедельно доставлялись по почте. По субботам он прочитывал Крофту политические новости, помещаемые на столбцах «Субботнего обозрения», так как глаза старика стали плохо различать буквы, а подобное внимание было ему особенно дорого. Он был весьма образован и, несмотря на постоянное пребывание в полуцивилизованной стране, никогда не терял связи с внешним миром, в стороне от которого жил. Чтение газет прежде составляло одну из обязанностей Бесси, но дядя весьма обрадовался был переменам. Познания Бесси не соответствовали глубине мыслей этого журнала, и, кроме того, она была склонна к рассеянности в местах, требовавших особого внимания. Таким образом получилось, что между стариком и его молодым помощником зародилось чувство взаимной привязанности. Джон вел себя весьма предупредительно по отношению к старику и старался всегда и во всем быть ему полезным. Кроме того, в его характере было много Добродушия и самой строгой честности, что одинаково нравилось как мужчинам, так и женщинам. Но более всего его выделяло среди колонистов то, что он, во-первых, хорошо знал свое дело, а, во-вторых, оказался вполне порядочным человеком, что было редкостью в этой стране. С каждым днем старик все больше и больше ему доверялся и наконец почти полностью передал все дело в его руки. — Я становлюсь стар, Нил, — заявил он однажды вечером, — и вот что я вам скажу, мой друг, — с этими словами он положил Джону руку на плечо, — у меня нет сына, и вы должны мне его заменить, так же как и дорогая моя Бесси давно сделалась для меня дочерью. Джон видел перед собой ласковое, благообразное лицо старца, осененное густыми прядями снежного цвета волос, видел его проницательные глаза, глубоко сидевшие в глазных впадинах и оттененные темными бровями, и думал об отце, давно умершем. Невольно он почувствовал себя взволнованным, и его глаза наполнились слезами. — Да, мистер Крофт, — горячо отвечал он, схватив старика за руку, — я это исполню с величайшей охотой. — Спасибо вам, мой друг, спасибо. Я не люблю много распространяться об этом предмете, но, как уже вам сказал, я становлюсь стар, и Господь Бог может вскорости призвать меня к ответу; в таком случае я вполне полагаюсь на вас и поручаю вам моих двух девочек. Здесь дикая страна, и никто не знает, что случится завтра, а им вполне может понадобиться ваша помощь. Иногда мне приходит в голову мысль совсем покинуть эти места. А теперь мне пора спать. Я чувствую, что земная задача моя исполнена, и я уже хилый старик, Джон. С этих пор Крофт уже не переставал называть его просто Джоном. О Джесс почти ничего не было слышно. Правда, она писала каждую неделю и давала подробный отчет как обо всем, происходившим в Претории, так и о своем времяпрепровождении. Но она принадлежала к числу тех людей, которые мало говорят о себе лично и о том, что думают. Письма эти в равной степени могли быть названы как ее личной корреспонденцией, так и вообще «Письмами из Претории», как однажды презрительно заметила Бесси, прочитав несколько страниц, исписанных красивым и твердым почерком сестры. — Стоит лишь потерять ее из виду, — заявила она, — и можно считать, что она для вас умерла: вы уже ничего про нее не узнаете. Впрочем, вы не более того узнаете даже и тогда, когда она с вами вместе, — заключила она. — Она очень странная девушка, — задумчиво промолвил Джон. Вначале ему как будто чего-то недоставало, ибо, несмотря на странность этой девушки, она затронула в его душе какие-то новые струны, о существовании которых он и сам не подозревал. Более того, струны эти некоторое время звучали, но теперь снова пришли в состояние покоя, словно арфа, когда на ней перестают играть.Если бы она осталась еще на неделю, то влияние ее оказалось бы значительно сильнее. Но Джесс уехала, а Бесси оставалась. Она была постоянно с ним вместе, окружала его той нежной заботливостью, которую женщина невольно выказывает по отношению к любимому ею человеку. Красота ее сияла подобно лучу света, озаряющему все вокруг, ибо она была действительно хороша собой и в то же время чиста и невинна, как голубь. Очевидно, Джон не мог долго оставаться в неведении относительно тех чувств, которые она к нему питала. Хотя она никогда не позволила себе переступать границ известной сдержанности, но зато и не старалась скрывать своего к нему предпочтения. А для нее и этого уже было много. Конечно, она не питала к нему того возвышенного чувства любви, какое овладело душой Джесс и встречи с которым довольно редки и даже нежелательны в нашей прозаической и обыденной жизни. Но она любила его простой, искренней любовью и несомненно согласна была бы стать для Джона Нила верной и любящей женой, как только он ее об этом попросит. Время шло, и он действительно начинал подумывать о том, не следует ли ему сделать предложение Бесси. Нехорошо человеку оставаться одному, в особенности в Трансваале. Да и возможно ли было для него находиться ежедневно под обаянием подобной красоты и фации и не мечтать в то же время о более близких и тесных узах. Будь Джон моложе или менее умудрен опытом, он поддался бы искушению гораздо раньше. Лет десять тому назад, в более юные и бурные годы, как уже сказано, он довольно-таки сильно обжегся и, по-видимому, воспоминание об этом случае сделало его осторожным. К тому же он достиг того возраста, когда люди становятся вообще более осмотрительными и не сразу решаются на подобный шаг. В двадцать три года большинство из нас ради хорошенького личика согласны принять на себя серьезное и во многих случаях тяжелое бремя опасностей и забот совместной жизни, а также родительскую ответственность за семью. Но в тридцать три года мы рассуждаем иначе. Соблазн может быть так же велик, но другая чаша весов перевешивает первую, а при всем том мы даже и тогда не можем предусмотреть всех последствий. Вот какого рода мысли волнуют человека — к большой невыгоде рынка женихов и невест! И как бы Джон Нил ни пал в глазах читателей, мы должны в интересах истины признаться, что он не был свободен от этих мыслей. Дело в том, что, несмотря на миловидность и красоту Бесси, он не был в нее страстно влюблен. А в тридцать четыре года надо быть страстно влюбленным, чтобы решиться на такой бесповоротный шаг. Однако, как бы ни был осторожен человек, он зачастую подвержен искушению достаточно сильному, чтобы разрушить все его расчеты и планы. На что уж прочна веревка, но и та может быть натянута лишь до известной степени; точно так же и продолжительность нашего сопротивления всецело зависит от силы соблазна. То же случилось и с Джоном. Прошла неделя со времени последнего разговора со стариком Крофтом, и Джон заметил, что обращение с ним Бесси несколько изменилось. Так, ему показалось, будто она стала избегать его общества. В то же время она сделалась несколько бледнее обычного и начала проявлять признаки усталости и раздражения, столь несвойственного ее кроткой натуре. Джону и в голову не приходило, что Бесси серьезно влюблена и даже несколько огорчена тем, что он уделяет ей мало внимания. Если поглубже вникнуть в сущность дела, то можно убедиться, что это-то обстоятельство и стало истинной причиной перемены. Бесси обладала прямым, честным характером, и ее мысли и намерения были так же чисты, как ключевая вода. Она сердилась на Джона, но едва ли бы в этом призналась даже самой себе — и в ее обращении, как в зеркале, отражалось ее душевное состояние. — Бесси, — обратился к ней однажды вечером Джон (он у же давно стал называть ее просто Бесси), — я пойду посмотрю, как принялись наши молодые деревца в питомнике. Если вы кончили вашу стряпню, — ибо Бесси в это время занималась приготовлением пирожного, — то не наденете ли вы шляпку и не пойдете ли прогуляться со мной? Мне кажется, что вы сегодня еще не выходили из дома. — Благодарю вас, капитан Нил, я не имею ни малейшего желания выходить сегодня из дома. — Почему же? — спросил он. — Не знаю, право. К тому же у меня сегодня очень много работы. Если я уйду из дома, то эта идиотка сожжет тесто, — с этими словами она указала на молодую готтентотку в голубой рубашонке и с воткнутым в волосы пером, которая, блаженно улыбаясь, считала на потолке мух и сосала свои черные пальцы. — В самом деле, — прибавила она, слегка топнув ногой, — надо иметь ангельское терпение, чтобы что-нибудь втолковать этой дурехе. Вчера, например, она разбила самое большое обеденное блюдо и, улыбаясь во весь рот, принесла мне черепки, прося их сложить вместе. «Белые так умны — говорила она, — что для них это вовсе не трудно. Если они сумели сделать посуду и нарисовать на ней цветы, то, знать, могут и из черепков снова сделать целое блюдо». Я просто не знала, смеяться мне или плакать, и кончила тем, что швырнула ей в лицо черепки. — Слушай, молодая женщина, — произнес Джон, взяв за руку согрешившую и торжественно подводя ее к открытой печке, — слушай, если ты сожжешь это пирожное, пока хозяйка будет отсутствовать, я по возвращении посажу тебя в печку и сожгу вместе с пирожными. Я таким же точно образом сжег одну девушку в Натале в прошлом году, и когда она вышла из печи, то уже была совершенно белая! Бесси перевела угрозу, на что девушка осклабилась и пробормотала: — Слушаю, баас. Кафрскую девушку поутру мало беспокоит перспектива быть изжаренной вечером, ибо до вечера еще далеко, — а в особенности если угроза была произнесена таким человеком, как Джон Нил. Окрестные жители за это время уже успели попривыкнуть к характеру Джона. Угрозы его были страшны, но никогда не приводились в исполнение. Однажды, впрочем, ему пришлось натолкнуться на кафра, который подобное обращение с ним принял за слабость и получил за это внушительный урок, после чего уже никто не осмеливался более ему противоречить. — Ну, а теперь, — обратился он к Бесси, — мы позаботились о безопасности вашего пирожного и можем идти. — Благодарю вас, капитан Нил, — отвечала Бесси, — благодарю вас, но мне, право, не хочется. — Слова эти она произнесла устами, глаза же ее выражали: «Я на вас сердита и потому не желаю иметь с вами никаких дел». — В таком случае, — промолвил Джон, — я иду один. — С этими словами он с видом мученика нахлобучил шляпу на голову. Бесси глядела через кухонное окошко на вечерние тени, ложившиеся на волнистой поверхности горы, позади дома. — Положим, сегодня хорошая погода, — заметила она. — А далеко вы намерены идти? — Нет, хочу только пройтись вокруг плантаций. — Там ужасно много змей, а я их терпеть не могу, — еще раз попробовала отговориться Бесси. — Я постараюсь вас от них защитить. Пойдемте. — Хорошо, — согласилась она наконец, спуская рукава, которые засучила во время приготовления пирожного, и тем скрывая от Джона свои прекрасные руки, — я иду с вами не потому, что сама этого хочу, а потому, что вы меня переубедили. Я сама не знаю, что со мной, — прибавила она, слегка топнув ногой. При этом голубые глаза девушки наполнились слезами. — Но с некоторых пор я совершенно потеряла над собой власть. Когда я собираюсь делать одно, а вы меня просите другое, мне всегда приходится уступать. И предупреждаю вас, капитан Нил, что это мне вовсе не нравится и я буду очень зла на себя, что отправилась с вами гулять. — Произнеся эти слова, она быстро прошла мимо него в свою комнату, чтобы захватить шляпку, той грациозной походкой, которая так к лицу хорошеньким женщинам, чувствующим себя немного обиженными, и оставила Джона в размышлении о том, что он никогда еще не видывал более симпатичной и привлекательной девушки ни в Европе, ни за ее пределами. Он уже почти решился попытать счастья и рискнуть просить ее руки. Вдруг ему пришло на ум: что если она откажет? Когда первая молодость уже прошла, то многие из нас боятся очутиться в таком положении, которое могло бы подать повод капризной женщине вначале сделать вид, будто она сочувственно относится к ухаживанию мужчины, а затем оттолкнуть его от себя, подвергнув в то же время насмешкам своих друзей, родных и знакомых. К несчастью, многие из нас склонны думать — до тех пор, пока не доказано противное, — что большинство женщин по природе капризны, мелочны и непостоянны. Вот почему Джон Нил, может быть, отчасти благодаря сравнительно малому опыту в юные годы, также считал себя в числе попавших на этот ложный путь.Глава 12
ЖРЕБИЙ БРОШЕН
Выйдя из дома, Бесси и Джон направились вдоль по аллее. Аллея эта составляла предмет гордости старика Крофта. Хотя молодые хвойные деревца были им посажены не более двадцати лет тому назад, они очень удачно принялись и разрослись благодаря дивному трансваальскому климату. Деревья на неширокой аллее были посажены близко друг от друга. Их стройные оголенные стволы поднимались над землей высоко, подобно двум рядам колонн, и лишь вершины настолько переплетались между собой, что образовывали нечто вроде крыши. В целом все это напоминало тоннель, сквозь который словно в телескоп был виден живописный ландшафт, находящийся на противоположной стороне. Джон и Бесси шли вдоль этой прекрасной аллеи и, дойдя до конца, свернули на тропинку, поднимавшуюся в гору и терявшуюся в скалах. Сначала им пришлось пройти мимо огорода, а затем мимо небольшой поляны, весьма опасной во время грозы по причине множества рассеянного здесь железняка, но служащей прекрасной защитой для строений и деревьев; влево от них тянулись обработанные поля, а прямо перед ними — тот питомник, который Джон так пламенно желал осмотреть. Не проронив ни слова, они подошли к плантации, обрытой канавой и обведенной низкой каменной оградой, на которую Бесси тотчас же уселась, говоря, что подождет, пока Джон окончит осмотр, так как сама она очень боялась змей, во множестве здесь расплодившихся. Джон согласился, заметив, что как-нибудь вышлет на них свиней, ибо те их едят и, по-видимому, без всякой опасности для себя, и затем удалился, осторожно пробираясь, чтобы не задеть молодые растения. На осмотр потребовалось немного времени, змей же он так и не видел. Покончив с осмотром, он все с той же осторожностью вернулся назад. Подойдя к каменной ограде, он невольно остановился и залюбовался Бесси, сидевшей всего в двадцати шагах от него и освещенной яркими лучами заходившего солнца. В лениво свисающей руке она держала шляпу, так как солнце уже перестало палить. Взгляд девушки был устремлен куда-то вдаль, за горизонт, окрашенный всеми цветами южноафриканской вечерней зари. Он смотрел на ее прекрасное лицо и на ее изящный стан, и ему почему-то припомнились слова, которые он где-то читал в юности:* * *
Между тем дома, на расстоянии не более полумили, происходила сцена совершенно в ином роде. Через десять минут после ухода Джона и Бесси Фрэнк Мюллер верхом на своем великолепном вороном коне подъезжал к описанной выше аллее. Яньи, находившийся в это время за деревьями, тотчас притаился в траве, оглядываясь и прислушиваясь, как будто ожидал увидеть скрытого врага или же услышать приближение хищного зверя. Он действовал по свойственному всем кафрам врожденному инстинкту, зная, что за ним никто не наблюдает. Жизнь в Муифонтейне была для Яньи настолько бедна приключениями, что он время от времени чувствовал настоятельную потребность развлечься близким его сердцу занятием. Как истое дитя природы, он жаждал встреч с хищными животными и врагами, и если таковых поблизости не оказывалось, он чувствовал себя вполне удовлетворенным, видя их просто в своем воображении. Хотя всадник и находился еще на весьма значительном расстоянии, однако до чуткого слуха Яньи донесся стук лошадиных копыт. Тем не менее он все же счел долгом приникнуть ухом к земле и прислушаться. — Да, это лошадь бааса Фрэнка, — пробормотал он. — У нее разбито копыто, и потому одна нога легче ступает по земле. Чего ради он сюда едет? Должно быть, для мисси. Он с ума сойдет, узнав, что мисси ушла с баасом Нилом на плантацию. Люди ходят на плантацию, чтобы целоваться, — Яньи, как видим, был довольно близок к истине. — И баас Фрэнк будет очень зол, когда об этом проведает. Он и меня прибьет, если я только об этом скажу. Стук лошадиных копыт становился все более явственным, а посему Яньи с ловкостью змеи прополз в густую траву, растущую между деревьями, и приготовился к ожиданию. Никому бы и в голову не пришло, что в траве скрывается живое человеческое существо; даже бур догадался бы, лишь нечаянно на него наступив. Собственно, и на этот раз у Яньи не было оснований скрываться, но он это делал исключительно ради своего удовольствия. Наконец лошадь приблизилась, и змееподобный готтентот слегка приподнял голову для того, чтобы взглянуть на всадника. Глаза его остановились на холодном лице Фрэнка Мюллера. Оно хранило задумчивое и угрюмое выражение. Он был до такой степени сосредоточен, что не обращал внимания на лошадь, которая также предавалась мечтам о спокойном стойле и потому не заметила, как попала ногой в яму, вырытую муравьедом на самой середине дороги. «Удивительно, о чем это баас Фрэнк так замечтался?» — подумал Яньи, когда лошадь со всадником поравнялась с ним. Затем он поднялся на ноги, перешел дорогу и, скользнув на боковую тропинку, очутился у входа в конюшню, где как ни в чем не бывало остановился, прежде чем лошадь и ее владелец достигли ворот дома. — Попытаюсь в последний раз, — прошептал красавец бур, — и если они и теперь не согласятся, то пусть вина падет на их голову. Завтра я отправляюсь в Паарде Крааль на совещание с Полем Крюгером, Преториусом[442] и прочими главарями, как они сами себя называют. Если я подам голос против восстания, то восстания не будет; если же я выскажусь за него, то оно произойдет. Поэтому, если дядюшка Крофт не выдаст за меня Бесси или она сама не согласится быть моей женой, я подниму восстание и повергну всю страну от Мыса[443] до пределов Ватерберга[444] в ужас и смятение! «Патриотизм! Независимость! Налоги!» — вот о чем они кричат до тех пор, пока сами не начинают этому верить. Эх, из-за всего этого не стоит и воевать! Вот честолюбие, мщение — это другое дело. Я готов погубить всех, кто стоит поперек моей дороги, — всех, за исключением Бесси. Если вспыхнет война, кто протянет руку помощи «проклятым англичанам»? Все побоятся. Чем же я виноват, что так люблю эту женщину? Чем я виноват, что вся моя кровь волнуется при одной мысли о ней, что я не сплю по ночам и плачу, я, Фрэнк Мюллер, который смотрел на зарезанные трупы отца и матери и не проронил ни одной слезинки. Плачу только потому, что она относится ко мне враждебно и даже не глядит на меня. О женщина, женщина! Люди толкуют о честолюбии, об эгоизме и о чувстве самосохранения как о главнейших причинах наших действий и поступков, но какая сила может сравниться с любовью к женщине! Слабенькое, хрупкое существо, игрушка, ломающаяся от неосторожного прикосновения ребенка. И в то же время она в состоянии быть двигателем мира, из-за нее могут пролиться потоки крови. И вот я стою возле колеблющегося утеса; одно усилие с моей стороны — и утес этот сорвется с огромной высоты, и шум от его падения отзовется в целой стране. Должен ли я его произвести? Для меня ведь это безразлично. Пусть Бесси и дядюшка Крофт сами рассудят. Я перебью всех англичан в Трансваале, но завладею Бесси! Я готов поступить так же и со всяким буром, стоящим на моем пути. С этими словами он громко захохотал и пришпорил коня. — А затем, — продолжал он, увлекаясь, — когда Бесси будет моей и мы выбьем отсюда англичан, я постараюсь захватить власть в свои руки и восстановить прежний голландский дух в Натале и в Старой колонии. Англичан же мы отбросим за море, очистим страну от туземцев, оставив лишь необходимое количество для домашних услуг, и затем создадим единое южноафриканское государство, о котором мечтал бедный Бюргерс[445], не зная, как взяться за дело. Соединенная Южно-Африканская Голландия, и во главе ее — Фрэнк Мюллер! Что ж, такие случаи бывали. Если бы я был уверен, что мне обеспечены еще сорок лет жизни и силы, я бы показал себя… В это время он приблизился к веранде дома и, оставив пока в стороне свои честолюбивые замыслы, соскочил с коня и вошел в комнаты. В гостиной сидел старый Крофт и читал газету. — Добрый вечер, — произнес честолюбец, протянув руку. — Здравствуйте, минеер Фрэнк Мюллер, — холодно отвечал старик Крофт, ибо Джон рассказал ему о своем приключении на охоте, и хотя старик тогда промолчал, но у него по этому поводу сложилось свое мнение. — Что это вы, читаете «Народный листок»? — осведомился Мюллер. — Видно, просматриваете статью о Безейденхауте? — Нет, а что это за статья? — Да просто рассказ о поднимающемся против вас, англичан восстании. Шериф назначил в продажу с аукциона имущество Безейденхаута в Почефструме за неуплату налогов. Народ же выгнал аукциониста и с криками проводил его за город, а теперь губернатор Лэньон[446] посылает туда капитана Раафа с военной силой для приведения закона в исполнение. Это все равно что пытаться остановить течение реки, бросая в нее камешки. Позвольте, пятнадцатого декабря в Паарде Краале должен был состояться большой митинг, теперь же он перенесен на восьмое число. Тогда и поглядим, чему быть, миру или войне. — Миру или войне? — брюзгливо переспросил старик. — Ведь об этом давно толкуют. Сколько уже было больших митингов, с тех пор, как Шепстон присоединил страну к Англии? Помнится, штук шесть. А чем все кончилось? Одним вздором. Ну, положим, буры в самом деле задумают восстание. Во-первых, они будут разбиты. Во-вторых, множество народу погибнет, и все же они ничего не добьются. Ведь нельзя же предположить, чтобы Англия уступила горсти буров. Вы помните, что сказал последний раз за обедом в Почефструме генерал Уолсли? Что Англия никогда не отдаст ни одной пяди этой земли, будет ли во главе ее консервативное, либеральное или радикальное министерство. А на днях новый кабинет Гладстона[447] телеграфировал о том же. А посему я думаю, что все эти толки не более чем ребячество. Мюллер засмеялся и отвечал. — Вы, англичане, очень доверчивы. Разве вы не знаете, что ваше правительство — все равно что женщина, которая кричит: «Нет, нет, нет!» — и в то же время целует. Если дело дойдет до серьезного, то британское правительство возьмет обратно свои слова и забудет, что говорили Уолсли, Шепстон, Бартл Фрер[448] и Лэньон. Грядущее восстание посерьезнее, чем вы думаете. Во всяком случае сборища и толки начались. Народ недоволен обращением англичан с туземцами, недоволен и налогами; к тому же он надеется вернуть свою независимость после того, как англичане уплатили его долги и разбили Секукуни и Кетчвайо[449]. Тогда он с радостью отдал себя во власть англичан, теперь же рассуждает как раз наоборот. Но это еще не все. Если бы эти люди были предоставлены самим себе, дело бы, конечно, и ограничилось одними разговорами, ибо многие отлично себя чувствуют под защитой Англии. Главные заводилы находятся в Капштадте. Они-то и желают изгнать всех англичан из Южной Африки. Когда Шепстон присоединил Трансвааль, он начал гонения против голландского населения и разрушил планы, которые народ лелеял в течение многих лет, а именно образование великой республики, враждебной Англии. Если Трансвааль останется в руках англичан, то и этим мечтам наступит конец. Вот почему народ недоволен, вот почему его вожаки поддерживают волнение умов. Они замышляют восстание, и я полагаю, что оно на этот раз достигнет удачи. Если на митинге возьмут верх буры, они тотчас же станут во главе дела, если же нет, то они стушуются, и вы ничего о них не услышите. Они хитрый народ, эти местные патриоты, и ловко обделывают свои делишки. Старик Крофт казался сильно взволнованным и ничего не отвечал, а Фрэнк Мюллер приподнялся со своего места и стал глядеть в окно.Глава 13
ФРЭНК МЮЛЛЕР ОТКРЫВАЕТ СВОИ КАРТЫ
Наконец Мюллер обернулся. — Знаете ли, с какой целью я все это говорил, мистер Крофт? — начал он. — Нет. — Для того, чтобы вы поняли, что вы и все англичане, живущие в этой стране, находитесь в очень опасном положении. Не сегодня завтра будет объявлена война, и, будет ли счастье на вашей стороне или нет, в обоих случаях вам придется пострадать. У вас, англичан, много врагов. Вы захватили всю торговлю в свои руки, завладели доброй половиной страны и всегда защищаете чернокожих, которых мы, буры, ненавидим. Плохо вам придется в случае войны. Вас будут убивать, ваши жилища — сжигать, и если вы не примите мер, то оставшихся в живых изгонят из пределов нашей земли. Трансвааль будет для трансваальцев и Африка — для африканцев. — Ну что ж, минеер Фрэнк Мюллер, если этому суждено случиться, то значит, и нечего толковать. К чему, однако, вы клоните речь? Я ведь отлично понимаю, что у вас есть какая-то задняя мысль. Бур рассмеялся. — Вы совершенно верно угадали. Если хотите знать, то я вам скажу в чем дело. Я один в состоянии защитить вас, ваших людей и ваше жилище в это смутное время. Я имею больше влияния, нежели вы полагаете. Я бы, пожалуй, даже мог предотвратить войну, если б это соответствовало моим планам. Но я ничего не делаю даром. Мне нужно заплатить, и притом наличными, а не в кредит. — Я не понимаю вас и ваших полунамеков, — холодно произнес старик, — я человек простой, и если вы мне скажете, чего хотите, я вам отвечу прямо. В противном случае, мне кажется, не стоит и разговаривать. — Хорошо, я скажу вам, чего желаю. Мне нужна Бесси. Я люблю вашу племянницу и хочу на ней жениться, ибо так или иначе, а я решил жениться на ней, будет ли то с ее согласия или против ее воли. — А причем же тут я, минеер Мюллер? Девушка сама себе госпожа. Не могу же я, в самом деле, ею распоряжаться, как какой-нибудь лошадью или коровой, даже если бы и желал! Вы сами должны об этом с ней переговорить. — Я уже говорил с ней и получил отказ, — с горячностью возразил бур, — разве вы не понимаете, что она не желает выходить за меня замуж? Она влюблена в этого проклятого роой батье Нила, которого вы здесь приютили. Она его любит и даже не глядит на меня. — Вот как! — спокойно заметил старик. — В таком случае у нее неплохой вкус, так как Джон Нил порядочный человек, а вы — нет. Слушайте, — продолжал он, все более и более воодушевляясь, — вы бессовестный и злой человек. Вы хладнокровно убили отца готтентота Яньи, его мать и дядю, когда были еще ребенком. Вы хотели убить и Джона Нила и лгали, уверяя, что приняли его за буйвола! Наконец, вы в качестве представителя буров умоляли правительство Англии о принятии страны под защиту королевы и кричали на всех перекрестках о своей преданности закону, а теперь говорите мне, что готовите восстание и намереваетесь подвергнуть эту же страну всем ужасам и бедствиям войны, и в то же время просите руки Бесси как плату за покровительство! Так слушайте же, что я вам на это скажу, — при этих словах старик поднялся со своего места, глаза его сверкнули гневом, и, вытянувшись во весь рост, он указал рукой на дверь. — Убирайтесь вон из моего дома и никогда больше сюда не возвращайтесь. Я уповаю на Бога и великую английскую нацию и скорее уж соглашусь видеть дорогую Бесси в гробу, нежели замужем за таким, как вы, изменником и убийцей. Вон! Лицо бура покрылось мертвенной бледностью. Дважды он собирался что-то сказать — и дважды его голос обрывался. Когда же он наконец пересилил себя, то его слова были едва слышны и звучали как-то хрипло. Обычно это случалось с ним тогда, когда он бывал вне себя от бешенства. Если бы он умел владеть собой, то хоть и казался бы негодяем, но все же имел бы вид человека убежденного и уверенного в самом себе. Отсутствие этой способности приводило лишь к тому, что вся его самоуверенность и дерзость уступали место приступу бессильной злобы. В подобном же припадке злобы он затеял драку с Джоном в ваккерструмской гостинице, и в таком же состоянии мы застаем его и теперь. — Хорошо, мистер Крофт, — произнес он наконец, — я уйду. Но запомните мои слова: я вернусь снова, на этот раз уже с вооруженной силой. Я на ваших же глазах сожгу сие прелестное гнездышко, которым вы так гордитесь, и убью вас и вашего друга англичанина. Что же касается Бесси — ею я завладею насильно, и тогда я уже сам не женюсь на ней, даже если она будет ползать у моих ног, а ползать на коленях она у меня будет частенько. Посмотрим тогда, сильно ли помогут вам Бог и великая английская нация! Спрашивайте тогда овец и лошадей, спрашивайте скалы и деревья — вы скорее дождетесь ответа от них. — Убирайтесь вон! — вне себя от бешенства закричал старик. — Иначе именем Бога, над которым вы кощунствуете, я всажу вам пулю в лоб! — С этими словами он протянул руку к ружью, висевшему на стене. — Или велю своим людям выпроводить вас отсюда плетьми. Фрэнк Мюллер не заставил себя дольше упрашивать. Он повернулся и ушел. В это время уже совсем стемнело, но все же было еще настолько светло, что, проезжая мимо аллеи, он заметил стройную фигуру девушки, о которой мечтал. Джон оставил Бесси одну, сам же отправился куда-то по хозяйству, и вот она стоит задумчивая, и сердце ее полно радостью женщины, впервые узнавшей любовь, но она все еще медлит с возвращением домой, дабы не разрушить сладкого очарования. Она казалась олицетворением всего прекрасного в этом суровом мире. Голубые глаза девушки светились любовью, и чувство глубокой признательности к Творцу наполнило ее грудь. Чувство это исходило из самой глубины ее чистого сердца и было чуждо всякой земной страсти. Она была так счастлива и так мила в своем сознании счастья! Только милосердный и всемогущий Отец может создать такое нежное и милое существо и вдохнуть в него жизнь, дабы оно светило на радость людям и научило их познавать прекрасное, и только люди в состоянии извратить Его цели и испортить Его чудные творения, сделав из них орудия тех грязных стремлений, свидетелями которых мы являемся чуть ли не ежедневно! Бесси услышала стук лошадиных копыт и повернула голову. В это время слабый вечерний свет озарил ее лицо и сделал его еще более прелестным. Но это была скорее небесная красота, нежели земная. В ее глазах было что-то, — такова уж сила любви, дающей какое-то особенное, свойственное ей одной выражение человеческому лицу, — что проникало прямо в сердце этого влюбленного в нее необузданного и злого человека. Он невольно остановился, чувствуя нечто вроде полураскаяния и полустраха. К чему вмешиваться в ее дела и основывать свои планы и расчеты на погибели ее и всего, что для нее дорого? Не лучше ли оставить ее в покое? В эту минуту она больше походила на существо, принадлежащее иному миру, чем на обыкновенную женщину. Люди, обладающие сильным умом, но неразвитые, как Фрэнк Мюллер, всегда суеверны, каковы бы ни были их воззрения относительно религии. Может быть, великое наказание постигнет того, кто осмелится втоптать в грязь этот едва распустившийся цветок, да притом в грязь, смешанную с кровью тех, кого она любит? Он явно колебался. Не бросить ли ему все это злое предприятие, оставив на произвол судьбы начавшиеся волнения, и не жениться ли на одной из дочерей Ханса Кетце, удалившись в Старую колонию, в Бечуаналенд[450] или куда бы то ни было. Он начнет с того, что будет ее избегать… В эту минуту мысль о счастливом сопернике сверкнула в его уме. Неужели забыть ее ради этого человека? Никогда. Лучше он задушит ее своими руками. Он спрыгнул с лошади, и прежде чем девушка догадалась о присутствии кого-либо возле нее, он уже стоял лицом к лицу с ней. Ревность овладела им. — A-а, я так и думал, что он приехал к мисси, — промолвил Яньи и, верный своей тактике, еще раз проскользнул за деревьями и спрятался в гуще травы. — Посмотрим, что скажет мисси. — Как поживаете, Бесси, — спокойным голосом осведомился бур, между тем как она при одном взгляде на своего собеседника догадалась, что спокойствие это было лишь внешнее. — Благодарю вас, минеер Мюллер, неплохо, — откликнулась она, направляясь к дому и стараясь скрыть душевное волнение, так как внезапно почувствовала какой-то безотчетный страх и полное свое одиночество. Она знала характер поклонника и боялась оставаться с ним с глазу на глаз, вдали от всякой помощи, ибо она была совершенно одна на расстоянии по крайней мере трехсот ярдов от дома. Он стоял перед ней таким образом, что она никак не могла пройти, не оттолкнув его. — Куда вы так спешите? — поинтересовался он. — Ведь вы все это время стояли совершенно спокойно? — Мне пора домой. Нужно позаботься об ужине. — Ужин подождет, Бесси, мне же ждать некогда. Я завтра чуть свет еду в Паарде Крааль и хотел перед отъездом проститься с вами. — Прощайте, — отвечала она, еще более пораженная его странным обращением с ней, и протянула руку. Он взял протянутую руку и некоторое время держал ее в своей. — Пустите меня, — попросила она. — Я не отпущу вас до тех пор, пока вы не выслушаете меня. Бесси, я люблю вас всем сердцем. Я знаю, вы считаете меня всего лишь полуобразованным дикарем, но я не простой бур. Я бывал в Капштадте и видел свет. У меня есть здравый смысл, и если вы выйдете за меня, я составлю ваше счастье. Вы будете одной из самых знатных дам в Африке, хотя пока что я всего лишь жалкий Фрэнк Мюллер. Мы накануне великих событий, Бесси, и вскоре я буду играть очень заметную роль. Нет, не уходите. Я повторяю, что люблю вас, и вы не подозреваете, до какой степени. Я умираю от любви к вам. Неужели вы мне не верите, дорогая моя, дорогая? Да, я буду вас целовать! — воскликнул он, как бы решившись, и в припадке страсти, разгоравшейся по мере ее сопротивления, обнял стан девушки и привлек ее к себе. В эту минуту произошло нечто совершенно неожиданное. Видя, что дело принимает серьезный оборот, и опасаясь выйти из засады, дабы не быть убитым, что Фрэнк Мюллер не задумался бы исполнить, Яньи, желая оказать посильную помощь, прибегнул к иному средству, а именно к своей способности чревовещания, довольно часто встречающейся среди туземцев. Тишина и спокойствие ночи внезапно были нарушены раздавшимся над головой Бесси пронзительным воплем, в котором довольно явственно можно было различить слово «Фрэнк». Действие, произведенное этим звуком на Мюллера, оказалось поразительным. — Боже милостивый! — воскликнул он. — Это голос моей матери! — Фрэнк! — снова послышался вопль. Полный страха и недоумения, бур оставил в покое Бесси и принялся оглядываться, чтобы узнать, откуда исходил этот голос, — обстоятельство, которым воспользовалась девушка для поспешного, но вместе с тем и несколько постыдного отступления. — Фрэнк, Фрэнк, Фрэнк! — звучал голос то там, то здесь, пока наконец Мюллер, совершенно обезумевший от ужаса, не бросился к лошади, которая хромала, фыркала и дрожала всем телом. Суеверному страху одинаково подвержены как люди, так и животные, но Мюллер этого не знал и принял беспокойство лошади за ясное указание чего-то сверхъестественного. Одним прыжком он вскочил в седло и в это время услышал жалобный женский крик. — Фрэнк, ты умрешь насильственной смертью, как и я! Лицо Мюллера побелело от ужаса, холодный пот выступил на лбу бура. Хоть он и не принадлежал к робкому десятку, но это было слишком для него. — Это голос моей матери, это именно ее слова! — произнес он, и, дав шпоры лошади, стрелой умчался прочь от заколдованного места. Остановился он лишь в десяти милях оттуда, когда подъехал к своему дому! Дважды лошадь под ним спотыкалась, ибо ночь была безлунная, и во второй раз даже сбросила его с себя, но хотя он и сильно расшибся, однако тотчас же вскочил обратно в седло и продолжал свою бешеную скачку. Вот как трепетал перед воображаемым голосом умершей женщины человек, который со спокойным сердцем намеревался привести в исполнение план всеобщего избиения невинных обитателей родной страны! Человеческая душа полна противоречий! Когда умолк конский топот, Яньи выпрыгнул из засады и на радостях начал кувыркаться и прыгать по пыльной дороге. «Голос его матери, — бормотал он про себя. — Неужели ему может прийти в голову, что Яньи помнит звук голоса его матери, в особенности же те слова, которые говорил сидевший в ней черт? Ха, ха, ха!» Наконец он вернулся домой, чтобы поужинать куском говядины, отрезанным от туши павшего утром от какой-то сложной болезни быка, вполне довольный тем, что день для него не прошел даром. Бесси, не останавливаясь, бежала, пока не достигла группы апельсиновых деревьев, росших подле веранды, и успокоилась только при виде освещенных окон. Ее ничуть не испугал странный вопль; по правде сказать, она о нем вовсе не думала. Сильнее всего ее занимала мысль, должна ли она рассказать про свою встречу с Фрэнком Мюллером. Молодые женщины и девушки, как известно, неохотно рассказывают мужьям или своим женихам про то, что кому-нибудь удалось их поцеловать, и во-первых, потому, что тех это может расстроить, да и их самих поставит в неловкое положение, во-вторых, потому, что могут возбудить подозрение, не подавали ли сами они к этому какого-либо повода. То и другое пришло на ум практичной Бесси, а кроме того, она вспомнила, что Фрэнк Мюллер не успел ее поцеловать, а потому решила ничего не говорить Джону. Дяде же девушка собиралась открыться настолько, чтобы воспретить ненавистному поклоннику являться в дом, — предосторожность совсем излишняя, как уже известно читателю. Бесси немного помедлила, чтобы окончательно прийти в себя, что вскоре ей и удалось, ибо она была мало подвержена истерике, — сорвала апельсинную ветку и как ни в чем не бывало вошла в дом. Первым, кого она увидела, был Джон, уже успевший вернуться. Посмеявшись над ее букетом, он заметил, что букет этот вполне соответствует настоящим обстоятельствам, после чего нежно обнял ее тут же на пороге; и в самом деле он оказался бы глупцом, если бы не догадался так поступить, ибо она была очень мила. Как раз в это самое время старик Крофт приоткрыл дверь гостиной и сделался невольным свидетелем нежной сцены. — Объясни мне, Бесси, что это значит? — осведомился он. Само собой разумеется, оставалось лишь одно: чистосердечно рассказать, в чем дело, — что Джон, заикаясь, и исполнил, в то время как Бесси, краснее розы, стояла рядом, положив руку ему на плечо. В немом молчании слушал старик рассказ Джона, лицо его кротко улыбалось, и глаза светились тихой радостью. — Так вот чем вы занимались! — промолвил он наконец. — Очевидно, вы все больше и больше интересуетесь нашей фермой, капитан. Ну что ж, я не браню вас. А знаешь, милая моя, у меня только что просили твоей руки — и кто же? Фрэнк Мюллер, негодяй из негодяев! — При этих словах лицо старика омрачилось. — Но я его выгнал вон, и поверь мне, больше он уже не вернется. Знай я раньшето, что мне теперь известно, я поручил бы Джону по-своему с ним разделаться. Он нехороший человек и чрезвычайно опасен, но Бог с ним. Он просто стремится к виселице и когда-нибудь да попадется. Да, дети мои, новость, которую вы мне сообщили, лучшая из всех, какие я только слышал за последние годы. Пора вам обоим остепениться, ибо не следует человеку оставаться одному. Я сам всю свою жизнь прожил бобылем и вот наконец к какому пришел заключению. Да, я даю вам свое согласие и благословляю вас. Берите ее, Джон, она ваша. Мне выпала на долю суровая жизнь, но все же я видел много женщин и скажу вам откровенно, что лучшей девушки вам не найти во всей Южной Африке и, остановив свой выбор на ней, вы доказали, что у вас есть вкус. Господь да благословит вас обоих, мои дорогие. А теперь Бесси, подойди и поцелуй своего старого дядю. Надеюсь, ты не позволишь Джону заставить тебя выкинуть дядю из твоей памяти. Видите ли, дорогие мои, у меня нет детей, а за эти двенадцать лет я привык к вам и полюбил вас обеих, как своих собственных дочерей. Бесси подошла и нежно поцеловала старика. — Нет, дядя, — отвечала она, — ни Джон, ни кто-либо другой на свете не в состоянии меня принудить к этому. — По одному тону ее голоса уже можно было убедиться, что она не изменит данному слову. У Бесси был неистощимый запас любви, и ни в каком случае она не позволила бы даже горячо любимому человеку лишить дядю и благодетеля маленького уголка в ее золотом сердце.Глава 14
ДЖОН ИДЕТ НА ПОМОЩЬ
Описанные в предыдущей главе события семейного характера происходили 7 декабря 1880 года. Последующие двенадцать дней не внесли ровно никакой перемены в мирную жизнь обитателей Муифонтейна. С лица Крофта не сходила радостная улыбка, порожденная мыслью о счастливом повороте в судьбе племянницы. Что же касается Джона, то он с каждым днем все больше и больше убеждался в благоразумии принятого им решения. Став женихом, он заметил такие душевные качества у своей невесты, о существовании которых до сих пор и не подозревал. Бесси была подобна цветку. Как цветок распускается под действием живительных лучей солнца и распространяет вокруг себя благоухание, точно так же и характер Бесси, освещаемый и согреваемый любовью, постепенно раскрывался, обнаруживая при этом новые и новые сокровища души. То же бывает и со всеми женщинами, в особенности же с теми, которые, подобно Бесси, как бы для того только и созданы, чтобы любить и в свою очередь быть любимыми, сперва как девушки, затем как жены и, наконец, как матери. Ее физическая красота приобрела какой-то особенный блеск; лицо приняло более нежный оттенок, глаза же сделались глубокими и задумчивыми. Она совмещала в себе все, что можно желать найти в подруге жизни, за исключением лишь одного качества, отсутствие которого в женщине для большинства мужчин составляет великое приобретение, а именно: она не была образованной девушкой, хотя вообще имела достаточно ума и большой запас здравого смысла. Между тем Джон был высокоразвитым человеком и чрезвычайно ценил это качество в женщинах. Но в конце концов, когда мужчина становится женихом хорошенькой и симпатичной ему девушки, он мало заботится о ее умственных качествах. Подобного рода размышления являются уже впоследствии. Все эти дни они находились друг подле друга и были вполне счастливы. Они ни о чем не задумывались, и ничто не омрачало их спокойствия. Менее же всего их смущали изредка доходящие до них слухи о великом собрании буров в Паарде Краале. Уже столько раз и прежде говорилось о восстании, что теперь никто не обращал внимания на эти толки. Они являлись каким-то хроническим состоянием страны. — Уж эти буры! — воскликнула однажды, сидя с Джоном на веранде, Бесси и очаровательно покачала своей русой головкой. — Мне до тошноты надоело слышать об их глупых толках. Я отлично понимаю, в чем дело. Это просто предлог уйти на время от своих жен и детей и провести несколько дней сообща для того, чтобы выпить и досыта наговориться. Вы помните, что писала Джесс в последнем письме? В Претории, оказывается, все убеждены, что дело от начала до конца один вздор, и я думаю, они абсолютно правы. — Кстати, Бесси, — обратился к ней Джон, — писали вы что-нибудь Джесс о нашей помолвке? — Конечно, я уже несколько дней как написала, но письмо отправилось только вчера. Она очень обрадуется, узнав об этом. Дорогая, милая Джесс, когда-то наконец она надумает вернуться! Она уже давно в отсутствии. Джон не отвечал, но продолжал молча курить трубку, думая, насколько весть эта будет приятна Джесс. Он еще не вполне знал ее. Она уехала как раз в то время, когда он только начал ее понимать. В эту минуту он заметил Яньи, ползущего между деревьями и, по-видимому, желавшего привлечь к себе внимание, так как иначе ничто не мешало бы ему оставаться скрытым в густой траве. — Выходи-ка из своей засады и перестань там ползать и пресмыкаться, точно змея! — закричал Джон. — Чего тебе нужно? Жалованья, что ли? При этих словах Яньи выполз из-за деревьев и по обыкновению уселся на самом солнцепеке. — Нет, баас, — отвечал он, — я не за жалованьем, мне еще пока ничего не следует. — Так что же тебе надо? — А вот в чем дело, баас. Буры объявили войну английскому правительству и перебили всех роой батьес в Бронкерс Сплинте[451], около Мидделбурга. Жубер сам расстрелял их третьего дня. — Что! — воскликнул Джон, выронив от удивления трубку. — Впрочем, погоди, может быть, это еще не правда. Ты говоришь, около Мидделбурга, третьего дня? Значит, двадцатого декабря. А когда ты об этом узнал? — Сегодня на заре, баас. Мне сообщил один человек из племени басуто. — В таком случае это вздор. Известие не могло дойти сюда за тридцать шесть часов. Для чего ты мне рассказываешь сказки? Готтентот улыбнулся. — Это верно, баас. Дурные вести летят как птицы. С этими словами он поднялся и ушел. Несмотря на всю несообразность известия, Джон был сильно взволнован, зная, с какой быстротой новости распространяются среди кафров. Оставив Бесси, также не на шутку встревоженную, он поспешил к старику Крофту и, найдя его в саду, передал слышанное от Яньи. Старик не знал, что и сказать, но, припомнив угрозы Фрэнка Мюллера, покачал головой. — Если только это правда, то дело не обошлось без негодяя Мюллера, — отвечал он, — я пойду домой и поговорю с Яньи. Дайте мне вашу руку, Джон. Дойдя со стариком до дома, он заметил видную фигуру Ханса Кетце, своего недавнего гостеприимного хозяина, подъезжавшего верхом на маленьком пони. — А, — промолвил старик, — вот кто нам обо всем расскажет. — Здравствуйте, дядюшка Кетце, здравствуйте, — воскликнул он своим звучным голосом. — Какие вести везете вы нам? Добродушный бур неуклюже соскочил с пони и, закинув поводья через голову лошади, молча подошел к старику. — Скверные вести, дядюшка Крофт! Вы ведь слышали о баймакааре[452] в Паарде Краале, Фрэнк Мюллер хотел, чтобы я непременно туда отправился, но я не желал этого, и вот теперь они объявили войну британскому правительству и отправили прокламацию Лэньону. Большая будет резня, дядюшка Крофт, и наша страна обагрится потоками крови, а бедных роой батьес перестреляют, как оленей! — То есть бедных буров, вы хотите сказать, — огрызнулся Джон, который не мог равнодушно слышать слов сожаления, обращенных к армии ее величества. Старик Кетце покачал головой с видом человека, убежденного в правоте своих слов, и затем стал внимательно слушать версию рассказа Яньи. — Боже милосердный! — воскликнул Кетце. — Ну, что я вам говорил? Бедные роой батьес перестреляны, и страна уже в крови. А теперь Фрэнк Мюллер и меня вовлечет в эту резню, и я должен буду стрелять в бедных роой батьес. А мое ружье не даст промаха, как бы я ни старался. И когда мы всех их перестреляем, этот Бюргере снова вернется к нам, а он сумасшедший. Да, да, Лэньон плох, а Бюргере и того хуже! — При этих словах старый джентльмен, враг всяких треволнений, громко вздохнул и задумался о предстоящих ему в скором времени хлопотах и беспокойствах, после чего отправился домой по горной тропинке, прибавив на прощание, что ему было бы весьма неприятно, если бы кто-нибудь теперь узнал о его визите к англичанину. — Пожалуй, еще скажут, что я неверен стране, — заметил он в свое оправдание, — стране, за которую, мы, буры, заплатили своей кровью и которую обязаны еще раз отстоять, как бы ни старались эти бедные вьючные животные, роой батьес, нам противодействовать. Ах, бедные, бедные! Один бур в состоянии обратить в бегство по крайней мере два десятка этих роой батьес и разогнать их по полю, если только они в силах бежать со своими тяжелыми ранцами за спиной, увешанные всевозможной посудой наподобие ходячих кухонь. Так и слышатся слова Библии: «Тысяча побежит перед одним, а пятеро погонят все множество». И я думаю, что все так и случится. Господь знал, когда писал эти слова. Он имел в виду буров и бедных роой батьес. — С этими словами он удалился, грустно качая головой. — Я рад, что старик наконец убрался восвояси, — заметил Джон, — потому что если бы он продолжал свои разглагольствования по поводу несчастных английских солдат, то наверное обратился бы в бегство предо мной одним. — Джон, — произнес вдруг Крофт, — вы должны ехать в Преторию и привезти Джесс. Буры непременно начнут осаду этого города, и если нам не удастся высвободить Джесс теперь же, то впоследствии ей невозможно будет оттуда выбраться. — Ни за что на свете, — вскричала Бесси, — я не отпущу моего Джона! — Мне жаль, Бесси, что ты так говоришь, зная, что твоя сестра в опасности, — несколько сурово проговорил старик, — но твое чувство вполне понятно. Я отправляюсь сам. Где Яньи? Нужно велеть приготовить мой капский фургон и запрячь в него четверку серых. — Нет, милый, дорогой дядя, пусть уж лучше поедет Джон. Я сказала не подумав. Мне сперва стало так больно… — Конечно, должен ехать я, — решил Джон, — не беспокойся, милая, я вернусь дней через пять. Наши лошади могут пробежать миль шестьдесят в день, если не больше. Они хорошо выкормлены, и в случае надобности мы найдем достаточно травы на дороге. Кроме того, я возьму овса и полсотни вязок сена. С собой я захвачу зулусского мальчишку Мути. Хоть он и не привык к лошадям, зато очень расторопен и исполнителен. А на Яньи положиться нельзя: вечно где-то ползает и постоянно оказывается пьян в ту минуту, когда особенно необходим. — Совершенно верно, Джон, совершенно верно, — отвечал старик, — я пойду распорядиться, чтобы запрягали лошадей и смазали колеса. Где касторовое масло, Бесси? Нет лучшей смазки для этих патентованных осей, чем касторовое масло. Вы должны отправиться уже через час. В Лукке вы останетесь ночевать. Конечно, можно было бы проехать и дальше, но в Лукке помещение гораздо удобнее. Оттуда вы выедете в три часа утра и будете в Хейдельберге к десяти вечера, а в Претории — послезавтра к полудню. — И он ушел отдать необходимые распоряжения. — О Джон, — обратилась к нему Бесси рыдая, — мне так не хочется, чтобы вы ехали к этим диким бурам. Вы — офицер британской армий, и если они об этом проведают, то убьют вас. Вы не знаете, что это за животные, в особенности когда думают, что для них это полезно. О Джон, Джон, мне так тяжело на сердце, что вы едете. — Успокойтесь, моя дорогая, — отвечал Джон, — и ради Бога перестаньте плакать: я не выношу слез. Я должен ехать. Ваш дядя никогда мне не простит, если я останусь, а главное, я сам себе этого никогда не прощу. Больше ехать некому, а мы не можем оставить Джесс на произвол судьбы в Претории. Что касается опасности, то, понятно, я немного рискую. Но что поделаешь! Я не боюсь опасности — по крайней мере, я ее не боялся, — но вы, милая Бесси, сделали меня немного трусом. А теперь поцелуйте меня и помогите уложить вещи. Даст Бог, через неделю я вернусь цел и невредим и привезу с собой Джесс. Чувствительная, но в высшей степени практичная Бесси отерла слезы и с веселым лицом, но стесненным сердцем принялась за работу. Одежду, которую Джон намеревался был взять в дорогу, тотчас упаковали в дорожный мешок, а в корзину положили консервы, которые были в большом употреблении в Южной Африке, а также разного рода мелочи, необходимые всякому путешествующему в этих диких странах. Затем наскоро собрали завтрак, и, прежде нежели он подошел к концу, лошади уже стояли у подъезда. Переднюю пару по обыкновению держал Яньи, а расстроенный Мути, весь багаж которого состоял из связки палочек, завернутых в циновку, прогуливался рядом, одетый, несмотря на нестерпимую жару, в огромных размеров военную куртку. — До свидания, милый Джон, — прощалась Бесси, целуя Нила и стараясь сдержать слезы, которые против воли текли из ее глаз. — Благослови тебя Бог, моя дорогая, — отвечал он просто и поцеловал ее на прощание. — Мистер Крофт, надеюсь, мы увидимся с вами через неделю, — в это время он уже сидел на козлах фургона и держал в руках вожжи. Яньи прикрикнул на лошадей, Мути перестал глазеть по сторонам и проворно вскочил в фургон. Лошади проворно понеслись и, подняв облако пыли, вскоре скрылись из виду. Бедная Бесси! Это было тяжелым испытанием для нее, и теперь, когда Джон уехал и уже не мог ее видеть, она удалилась в свою комнату и дала волю слезам. Джон достиг Лукки, расположенной по дороге в Преторию и представлявшей собой нечто среднее между гостиницей, лавкой и фермой, как это обычно бывает в малонаселенных местностях. Собственно говоря, это не была ни гостиница, ни ферма и ни лавка, хотя внутри и устроили помещение для хранения товаров. Если путник желал найти ночлег для себя и лошадей, он должен был пройти через ряд известного рода формальностей и со Шляпой в руках просить оказать ему гостеприимство. В этом на собственном горьком опыте убедились многие из путешественников, привыкшие видеть в хозяевах гостиниц других стран вечно угодливое к себе отношение. Нет никого самовластнее хозяина южноафриканской гостиницы, ибо он отлично чувствует свое положение. «Если вам не нравится, то сделайте одолжение убирайтесь», — таков его ответ не в меру возомнившему о себе путешественнику. В последнем случае остается одно из двух: или примириться со своим положением, или искать иного приюта. Что касается Джона, то он всегда становился желанным гостем. Он был знаком с хозяевами, всегда благосклонными с теми, кто в их присутствии имел смиренный вид, а кроме тою, он нашел всех в страшной тревоге, и появление англичанина, с которым можно поговорить о политике, становилось особенно приятным. Известия еще не успели со всеми подробностями распространиться в стране. Носились, правда, слухи о кровавой расправе в Бронкерс Сплинте, о движении буров к Претории и об их намерении овладеть горными проходами Дракенсберга; но ничего определенного известно не было. — Вам не проехать в Преторию, — заметил кто-то из хозяев, — всякая попытка окажется бесполезна. Вы попадетесь в руки буров и будете убиты. Лучше предоставьте девушку ее собственной участи и вернитесь в Муифонтейн. Но Джон смотрел на дело иначе. — Ну что ж, — твердил он. — Я попытаюсь. В самом деле, какое-то чувство говорило ему, что если он захочет чего-либо достигнуть, он этого достигнет, если только вообще будет существовать возможность добиться своего. Удивительно, до какой степени такая мысль в состоянии овладеть человеком. Это именно та сила, которая сделала из Англии то, чем она стала ныне. К сожалению, эта национальная черта постепенно изглаживается из характера англичан, и результаты этого уже выразились в упадке нашего могущества. Мы не в состоянии управлять Ирландией, это свыше наших сил — так дадим же ей самоуправление! Мы не в состоянии справиться со своими имперскими обязанностями — так не будем же настаивать на своих правах, и так далее. Англичане лет пятьдесят тому назад рассуждали иначе. Взгляды наций меняются постоянно, и это, по-видимому, всеобщий закон. Очевидно, настало время измениться и нашим взглядам, хотя это происходит скорее от недостатка, нежели от излишка законов. Южноафриканская колония была организована не по почину государства, а усилиями частных лиц. Направление же нынешней политики заключается в том, чтобы заменить частное устройство государственным и ограничить, а если можно, то совершенно уничтожить характер частной инициативы в этом деле. Система эта находится в самом начале своего становления. Когда она разовьется вполне, империя потеряет свои индивидуальные особенности и сделается бездушной машиной, которая сперва выйдет из своей колеи, затем начнет шататься и под конец распадется совершенно. Уже и теперь целостью государства, сами того не подозревая, мы обязаны таким бесстрашным и убежденным храбрецам, каковым перед нами предстает капитан Нил. Вот что происходит в девятнадцатом столетии. А что будет в двадцатом? На следующее утро, задолго до зари, Джон снова пустился в путь. Еще все спади, а так как не было возможности поднять прикорнувших до разным уголкам кафров, которые терпеть не могут утреннего холода, то Джон вдвоем с Мути запрягли лошадей, что было довольно-таки затруднительно в темноте и притом без всякой посторонней помощи. Наконец все было готово, а так как по счету уплатили еще накануне, то ничто больше не удерживало наших путников, и они, вскарабкавшись в фургон, пустились дальше. Не успев, однако, проехать и сорока ярдов, они услышали голос, требовавший немедленной остановки. Удержав лошадей, Джон заметил в стороне от дороги фигуру хозяина гостиницы, с головы до ног закутавшегося в одеяло и державшего в руках свечу, ярко горевшую на влажном воздухе. Фигура эта приближалась медленно и важно, точно привидение, и достигла наконец фургона, причем лошади едва не понесли со страху. — Что случилось? — недовольным голосом спросил Джон, не желавший терять ни минуты времени. — Я хотел еще раз повторить вам, — отвечало привидение, — что вы будете убиты бурами, в этом не может быть никакого сомнения. И я бы крайне сожалел, если бы вы впоследствии упрекнули меня в том, что я не предупредил вас заблаговременно. — С этими словами он поднес свечу к лицу Джона и с сочувствием взглянул на него в знак прощания. — Черт бы вас побрал, — вскричал Джон, — если вам нечего сказать ничего поумнее, то лучше бы вы лежали в постели. Затем он хлестнул лошадей и, отстранив рукой свечу, понесся вперед, едва не опрокинув чересчур заботливого хозяина.Глава 15
ОПАСНЫЙ ПЕРЕЕЗД
Четверка Джона была подобрана из сильных, хорошо откормленных лошадей и не везла почти никакой клади, а потому, несмотря на отвратительную дорогу, быстро мчалась вперед. К одиннадцати часам Джон достиг Стандертона, небольшого городка, расположенного на берегу реки Вааль, неподалеку от которого ему суждено было вынести первое испытание. В этом городке он услышал подтверждение рассказа о гнусном убийстве англичан в Бронкерс Сплинте и узнал все подробности резни, подобной которой, по его словам, трудно было отыскать в летописях цивилизованных войн. Но, в конце концов, что за беда! Несколько забытых[453] могил в Бронкерс Сплинте, несколько лишних вдов и сирот. Правительство Англии в ответ на посланный ему запрос отвечало именно в этом смысле. В Стандертоне Джона вновь предупредили о невозможности проехать мимо бурского лагеря в Хейдельберге, городе, отстоящем на шестьдесят миль от Претории, в котором три вождя восстания — Крюгер, Преториус и Жубер — провозгласили республику. Джон, как и прежде, отвечал, что будет продолжать путь, пока его не остановят силой, после чего снова запряг лошадей, несколько успокоенный известием, что епископ Претории, спешивший к своему семейству, проследовал в том же направлении несколько часов тому назад и, по-видимому, так же, как и он, пытался прорвать блокаду. Джон рассудил, что если поспешит, то сможет нагнать епископа. Уже несколько часов он мчался по голой пустыне, а ему все не удавалось нагнать священнослужителя. Проскакав миль сорок от Стандертона, он заметил в стороне от дороги какой-то фургон и остановился с намерением узнать что-либо от возницы. Подъехав ближе, он увидел, что фургон разграблен и волы выпряжены. Впрочем, это были не единственные признаки насилия. Возле фургона валялся труп чернокожего возницы с бамбуковым кнутом в сжатой и поднятой как бы с целью защиты руке. Лицо его хранило до такой степени спокойное выражение, что если бы не маленькая синеватая ранка на лбу, то его можно было принять за спящего человека. Вечером Джон распряг лошадей и задал им корму из своего запаса. Оставив наблюдать за ними Мути, Нил отошел немного в сторону и, усевшись на кочке, принялся размышлять. Дикая и грустная картина раскинулась перед ним. К востоку и к западу, к северу и к югу, точно застывшее безбрежное море, тянулся бескрайний велд, лишь в одном месте, близ Хейдельберга, перерезанный цепью холмов, известной под названием Роой-Конни. Все небо пылало заревом заката, и низкие тучи кроваво-красного цвета носились над землей, бросая багровую тень на траву. Казалось, небо, земля и самый воздух напоены кровью. А потому и неудивительно, что Джон, все еще находившийся под свежим впечатлением разграбленного фургона и рассказа о резне в Бронкерс Сплинте, сидел совершенно подавленный зловещим видом природы. Хотя он был далек от мысли предаваться отчаянию, но уже начинал подумывать, не последнее ли это его путешествие и не суждено ли шальной пуле какого-нибудь спрятавшегося бура открыть ему мировую тайну жизни и смерти. Он достиг того душевного состояния, которое более или менее известно каждому и во время которого человек спрашивает сам себя: к чему мы стремимся? Зачем мы родились? Какая польза от нашего существования? Почему мы должны быть (как в большинстве случаев оно и происходит в действительности) только вьючными животными, обремененными непосильной ношей, под тяжестью которой сгибаются наши бедные спины? Могуществен или беспомощен Господь? Если могуществен, то почему Он не дает нам жить спокойной жизнью, вместо того чтобы подвергать нас огорчениям и напастям и затем допустить гибель от несчастий? Все это старые вопросы, которые не следует и затрагивать, чтобы не вызвать насмешек со стороны окружающих. Кто знает, может быть, эти окружающие и правы. Во всяком случае, приятнее любоваться мрамором гробницы, нежели заглянуть внутрь ее. И все же эти вопросы напрашиваются сами собой, когда мы остаемся наедине с обломками разрушенных надежд и воспоминаниями о дорогих усопших и мысленно сравниваем закат солнца с собственной судьбой. Нельзя вечно любоваться красивой внешностью гробницы — крышка может всякую минуту соскользнуть, и тогда мы увидим то, что было от нас скрыто. Впрочем, все зависит от расположения духа. Некоторые в состоянии, говоря метафорически, с трубкой в зубах острить над смертным ложем лучших своих друзей или над своим собственным. Дай Бог всякому такое расположение духа — от него становится куда веселее на белом свете! К этому времени лошадей уже накормили, и Мути насильно совал остатки сена им в рот. Грозный свет зари погас, и ночь вступила в свои права, постепенно захватывая все большее пространство. К счастью для путников, ярко светил месяц, и при его бледном сиянии Джону удалось благополучно проехать еще несколько миль. Он продолжал свой опасный путь, пока наконец к одиннадцати часам вечера вдали не замелькали огни Хейдельберга и не наступила минута, когда должен был окончательно решиться вопрос о дальнейшем путешествии Джона. Само собой разумеется, ничего больше не оставалось, как попытаться проскользнуть незамеченным. Он уже переправился вброд через лежавшую на его пути маленькую речку и тут только заметил фургон, вокруг которого суетились какие-то люди с фонарями. Мгновенно в его уме мелькнула мысль, что это должен быть не кто иной, как епископ, задержанный бурами. Едва Нил успел поравняться с фургоном, как он двинулся вперед, а в следующую минуту послышался громкий окрик часового и Джон увидел направленное на него дуло ружья. — Кто идет? — Друг! — отвечал веселым голосом Джон, хотя на душе у него было далеко не весело. Последовало молчание. В это время часовой позвал товарища, который подошел и позевывая начал говорить ему что-то по-голландски. До слуха Джона явственно долетели слова «секретарь епископа», и это натолкнуло его на блестящую мысль. — Кто вы такой, господин англичанин? — сурово спросил вновь подошедший по-английски и поднес к лицу Джона фонарь, чтобы получше его разглядеть. — Я секретарь епископа, сэр, — кротко отвечал Нил, стараясь принять вид смиренного священника, — и я спешу за ним в Преторию. Человек, державший в руке фонарь, еще раз внимательно на него посмотрел. К счастью, Джон был одет в темного цвета плащ и носил на голове черную шляпу, похожую на священническую, ту самую, которая была прострелена Фрэнком Мюллером. — Да, пожалуй, это священник, — заметил один из них, обращаясь к другому, — посмотри, он и одет-то старой вороной! А как значится в пропуске дядюшки Крюгера? Сколько должно было проехать повозок, одна или две? Помнится, одна. Собеседник его почесал за ухом. — Кажется, две, — отвечал он. Он не хотел сознаваться перед товарищем, что не умел читать. — Да, наверное, там говорилось о двух фургонах. — Не лучше ли послать спросить к дядюшке Крюгеру? — предложил первый. — Дядюшка Крюгер теперь спит, и он бывает очень недоволен всякий раз, когда его разбудят, — отвечал второй. — В таком случае оставим проклятого проповедника до утра. — Бога ради, отпустите меня, господа, — кротко обратился к ним Джон, — мне придется говорить завтра проповедь в Претории и ходить за ранеными и умирающими. — Да, да, — заметил первый, — скоро в Претории будет довольно-таки много раненых и умирающих. С ними случится то же, что и со всеми роой батьес в Бронкерс Сплинте. Господи, что это была за картина! Но ведь к ним же едет епископ — стало быть, вы пока не нужны. Вы можете остаться с нашими ранеными, если только роой батьес ухитрятся подстрелить хоть кого-либо из нас. — После этого он знаком пригласил Джона выйти из фургона. — Стой! — воскликнул его товарищ, — Тут, кажется, привешена корзина с провизией. Нужно ею воспользоваться. — С этими словами он вынул из-за пояса нож и перерезал веревки, поддерживающие корзинку. — Этого нам хватит по крайней мере на неделю, — заметил он с хохотом, которому вторил и его товарищ. — Ну что, отпустим старую ворону, что ли? — спросил первый. — Если мы его не отпустим, — отвечал его второй, — то должны будем тащить штаб-квартиру к дядюшке Крюгеру, а я хочу спать. — При этих словах он зевнул. — Пусть едет, — подытожил первый. — Мне кажется, ты прав. В пропуске говорится о двух фургонах. Ну, проваливай, проклятый проповедник. Джон не стал дожидаться повторного предложения и стегнул лошадей. — Я думаю, мы поступили правильно, — заметил часовой, державший в руке фонарь, между тем как фургон уже катился дальше по дороге, — хотя с другой стороны я не убежден, что это духовное лицо. Меня так и подмывает пустить ему пулю вдогонку. — Его товарищ, которого уже клонило ко сну, не отвечал, и разговор прекратился. Легко представить себе бешенство Фрэнка Мюллера, командовавшего передовым отрядом, когда было донесено, что мимо Хейцельберга ночью проследовал фургон, запряженный четырьмя серыми лошадьми по всем приметам принадлежавший его врагу Джону Нилу, об отъезде которого из Муифонтейна в Преторию Мюллер уже знал. Обоих часовых он предал военному суду, который и отправил их на фортификационные работы на все время восстания. С тех пор они не могут слышать имени священника без того, чтобы не придти в исступление и не разразиться богохульственными словами. Отстав минут на пять, если не больше, Джон решил наверстать потерянное время и нагнать фургон, в котором, по его предположению, ехал епископ. У его преподобия в пути также произошла маленькая задержка — оборвались постромки. Не случись этого, самозваному священнику никогда не удалось бы проехать по крутым улицам Хейдельберга. Весь город был заставлен телегами и заполнен спящими бурами. Над одной группой телег и палаток развевался трансваальский флаг, на котором виднелось изображение капского фургона и вооруженного бура. Очевидно, это и была штаб-квартира триумвирата. Вдруг фургон, ехавший впереди, был остановлен часовыми, последовал непродолжительный разговор, после которого повозка двинулась дальше, а за ней беспрепятственно проследовал и капитан Нил. Труден и опасен был этот переезд по улицам Хейдельберга. Джон каждую минуту ждал, что вот-вот его остановят и безжалостно поведут на виселицу. Лошади были сильно утомлены и невольно останавливались перед каждым домом. Тем не менее оба фургона благополучно проехали через весь город, но у заставы были вновь задержаны двумя часовыми. Передний пустился далее, но Джону на этот раз посчастливилось меньше. — В пропуске сказано об одном фургоне, — заметил первый. — Да, да, об одном фургоне, — подтвердил второй. Джон вновь принял вид смиренного служителя церкви и рассказал бесхитростную историю, а так как ни один из часовых не понимал по-английски, то оба отправились к повозке, стоявшей невдалеке, в пятидесяти ярдах, чтобы привести переводчика. — А теперь, баас, — шепнул зулус Мути, — спасайтесь, гоните лошадей как можно скорее. Джон воспользовался советом и ударил по лошадям. Четверка понеслась и пробежала с сотню ярдов, прежде чем оба часовых сообразили, в чем дело. Затем они принялись кричать и пробовали было пуститься вдогонку, но скоро и фургон, и лошади скрылись в ночной темноте. Джон и Мути не жалели кнута и спешили в Преторию по каменистой дороге, постепенно поднимавшейся в гору. Догнать епископский фургон им так и не удалось. Около полуночи скрылся месяц, и они Должны были взбираться в гору в полной темноте. В самом деле, стояла такая темень, что Мути пришлось выйти из фургона и вести Уставших лошадей, из которых одна то и дело валилась с ног от Усталости и подвергалась за это жестоким, ударом кнута. Один раз Фургон едва не опрокинулся, а в другой раз чуть не свалился в пропасть. Таким образом путешествие продолжалось до двух часов ночи когда Джон наконец убедился, что лошади не в состоянии ступить вперед и шагу. В это время он находился вблизи какой-то маленькой речки, протекавшей в шестнадцати милях от Хейдельберга, и, сойдя с повозки, напоил лошадей и задал им корму. Одна из них тут же свалилась, не дотронувшись до пищи, — явный признак крайнего изнеможения; другая ела лежа. Остальные две пока чувствовали себя относительно хорошо. Потянулись долгие, томительные часы в ожидании рассвета. Мути заснул, но Джон не решился последовать его примеру. Единственное, что он сделал, это поел сушеного мяса с хлебом и запил ромом с водой, после чего уселся в фургон и с ружьем в руках стал дожидаться зари. Наконец давно желанный рассвет озолотил всю восточную половину неба, и Джон поднялся еще раз, чтобы покормить лошадей. Тут опять возникло затруднение. Лошадь, ослабевшая настолько, что была не в состоянии дотронуться до пищи, явно не могла везти фургон, больную же лошадь привязали сзади. Затем Джон отправился дальше. К одиннадцати часам он достиг постоялого двора, известного под именем гостиницы Фергюссона и расположенного в двадцати милях от Претории. Гостиница была совершенно пуста, если не считать пары кошек и дворовой собаки, ибо все прочие ее обитатели бежали. В этой-то гостинице Джон выпряг лошадей и дал им весь оставшийся у него запас корма, после чего снова пустился в путь. Дорога была ужасна, кроме того, Джон знал, что вся местность вокруг населена бурами. К счастью, он не встретил ни одного. Четыре часа потребовалось для того, чтобы проехать отрезок в двадцать миль. Подъезжая к Претории, он завидел на расстоянии шестисот ярдов двух человек верхами, ехавших по обрывистому склону горы, возвышавшейся в стороне от дороги. Сперва ему показалось, будто они собираются спуститься в долину, но вдруг всадники переменили первоначальное намерение и слезли с лошадей. Пока он размышлял, что бы это значило, на том месте, где стояли всадники, показался один белый дымок, а затем и другой. Почти в ту же минуту он услышал над головой свист и был осыпан облаком пыли, поднятой с земли каким-то ударившимся в нее предметом. Очевидно, всадники стреляли в него. Он не стал более медлить, припустил лошадей и, прежде чем стрелявшие могли снова зарядить ружья, скрылся за выступом горы. Вскоре перед ним открылась картина самого прелестного города в Южной Африке, с его красными и белыми домиками, с его группами высоких деревьев и длинными заборами из цветущих роз. Весь город утопал в зелени и был ярко освещен лучами полуденного солнца. В груди Джона зашевелилось чувство благодарности и благоговения перед Создателем. Он знал, что теперь в безопасности, и потому, желая дать лошадям отдохнуть, решил проехать шагом мимо живописных холмов и среди зеленых полей те немногие мили, которые еще отделяли его от Претории. Влево от него виднелись тюрьма и временные бараки, а вокруг них расположились сотни повозок и палаток, к которым он и направился. Очевидно, город был пуст, его жители переселились в лагерь. Не доезжая с полмили до этого лагеря, он заметил пикет ехавших ему навстречу солдат, а за ним разношерстную толпу пеших и конных. — Кто идет? — окрикнул его часовой на родном английском языке. — Друг, который необычайно рад вас видеть, — отвечал он с тем оттенком игривости, с каким говорим все мы, когда чувствуем, что тяжелый груз наконец свалился с наших плеч.Глава 16
ПРЕТОРИЯ
Джесс была далеко не счастлива в Претории. Люди, которые после долгой и упорной душевной борьбы решили пожертвовать собой ради других, всегда испытывают реакцию, столь же неизбежную, как и смена дня ночью. Иное дело отречься от своего счастья и всех радостей жизни, и иное дело влачить грустное одинокое существование. Мысль о самопожертвовании поддерживает нас еще некоторое время, но мысль эта постепенно слабеет. Со всех сторон нас окружает как бы непроницаемая броня, и мы чувствуем себя одинокими, отвергнутыми от внешнего мира. Наступает ночь, беспросветная, безотрадная. С последним мы, пожалуй, еще можем примириться, ибо сознаем неизбежность судьбы и ее всесокрушающую руку. Земля ведь не ропщет в то время, когда от нее удаляется солнце, она спит. Но Джесс заживо похоронила себя и прекрасно это сознавала. Для нее не было никакой необходимости отказываться от счастья сестры, она это совершила по собственному желанию и временами весьма об этом сожалела. Впрочем, она никому не показывала своего великого горя. Она лишь стала бледной и молчаливой, вот и все. Но ведь этим она отличалась и прежде. Зато она совершенно забросила пение. Так тянулись недели за неделями, не принося решительно никакой перемены для бедной девушки, которой поневоле оставалось делать то же, что делали и все окружающие, а именно: есть и пить, ездить верхом и гулять, как ели, пили и гуляли и все прочие обитатели Претории, пока наконец ей не пришло в голову, что лучше было бы вернуться домой, иначе такое душевное состояние может серьезно отозваться на ее здоровье. Но вместе с тем она и не решалась на это, опасаясь искушения. Относительно того, что происходило в Муифонтейне, она оставалась в полном неведении. Правда, Бесси писала ей, и даже дядя вспомнил о ней раза два, но письма эти не давали ответа на то, что ее особенно интересовало. В письмах Бесси, конечно, упоминалось о времяпрепровождении Джона Нила, но не более того. Молчание сестры, однако, было красноречивее слов. Почему она так Мало о нем говорила? Несомненно потому, что сердечные дела все еще оставались в неопределенном положении. А затем Джесс начинала раздумывать, что бы могла означать эта нерешительность с его стороны, и снова ревность овладевала ее сердцем, и снова ее грызла тоска. Пришло Рождество, и Джесс, уступившая настойчивым просьбам новых знакомых, решила остаться еще на некоторое время в Претории и вернуться домой уже в начале следующего года. В городе много толковали о бурах, но она была слишком занята собственными мыслями, чтобы думать о чем-либо постороннем. По правде сказать никто особенно и не волновался. Все в Претории привыкли к угрозам буров и знали, что они всегда кончаются ничем. И вдруг утром 18 декабря пришло известие о провозглашении республики, и весь город разом заволновался. Стали говорить о необходимости взяться за оружие и выступить в лагерь, и Джесс, всей душой стремившаяся теперь к своим родным, не видела никакой физической возможности вернуться домой до конца восстания. А два дня спустя с места побоища в Бронкерс Сплинте прискакал один из уцелевших, некто Эгертон, обернутый в знамя 94-го полка, и сообщил весть, от которой у нее волосы стали дыбом и она едва не лишилась чувств. После этого воцарилось великое смятение. Город был объявлен на военном положении и покинут жителями, которые получили приказ выступать в лагерь, разбитый неподалеку на возвышенности. Тут были и стар и млад, больные и здоровые, женщины и дети. Все собрались сюда под защиту укреплений, захватив с собой лишь палатки, фургоны и навесы, чтобы укрываться от палящих лучей солнца и непогоды. Джесс поместилась в одной повозке с подругой, ее сестрой и матерью и чувствовала себя в большом стеснении. Спать же в такой тесноте при постоянном шуме и гаме оказывалось решительно невозможным. На другой день по переселении в лагерь Джесс получила письмо Бесси, извещавшее о ее помолвке с Джоном. Захватив письмо, она отправилась из лагеря на близлежащий холм, где рассчитывала прочесть его без свидетелей. Там, в тени мимоз, она присела на кочке и сломала печать. Не успела она дочитать первой страницы, как уже поняла все. Тем не менее Джесс спокойно прочла длинное письмо до конца, хотя слова сочувствия сестры, казалось, и жгли ее. Так вот как! Значит, это в конце концов свершилось. Ну что же, она этого ожидала, даже сама способствовала такой развязке — стало быть, ей нет причин и огорчаться. Напротив, она должна бы была радоваться, и в самом деле, она от души порадовалась за сестру. Ей было приятно думать, что Бесси, которую она так любила, нашла свое счастье. А между тем она была недовольна Джоном, и в сердце ее зашевелилось чувство, похожее на то, какое мы испытываем к лицам, невольно нас чем-либо огорчившим. Какое имел он право так с ней поступить? Но в то же время она желала ему и сестре счастья и думала о том, что скоро ненавистные буры завладеют Преторией и она будет убита. Ей это было безразлично, ибо все ее надежды развеялись как дым. Что ей оставалось делать? Выйти замуж за первого встречного и заняться воспитанием детей? Для нее это было невозможно. Уж лучше отправиться в Европу, броситься в водоворот жизни и подыскать себе какое-нибудь занятие. Она и прежде знала, что у нее к этому есть способности. Теперь же, когда она вырвала из своей груди сердце, она была уверена в успехе, ибо успех принадлежит бессердечным — самым сильным людям на свете. Она решила не оставаться на ферме после свадьбы Джона и Бесси и, если возможно, даже не возвращаться домой, пока они не будут обвенчаны. Она больше не должна его видеть! Ах, зачем только она с ним встретилась! Решение это несколько успокоило Джесс, и она поднялась с места, чтобы вернуться в шумный лагерь. Желая подольше остаться наедине со своими мыслями, она пошла дальней дорогой, ведущей к Хейдельбергу. Она уже шла около десяти минут, как вдруг заметила вдали капский фургон, показавшийся ей знакомым, запряженный тройкой лошадей, которых она тоже где-то видела. Рядом с фургоном шли какие-то люди и, по-видимому, о чем-то оживленно говорили. Она посторонилась, чтобы пропустить эту странную процессию, и случайно заметила между незнакомыми ей людьми Джона Нила и в то же время разглядела фигуру Мути, сидевшего на козлах. Перед нею вновь стоял тот, кого она поклялась никогда больше не видеть! Появление этого человека, казалось, отняло у нее волю, у Джесс подогнулись колени, и она едва удержалась на ногах. Кроме того, появление этого человека послужило ей как бы наглядным доказательством ее бессилия перед судьбой. Ей стало ясно, что она не в состоянии себе помочь, что она не более чем орудие в руках Всевышнего Существа, волю Которого должна исполнять и для Которого ее страдание было безразлично! Рассуждения девушки отличались непоследовательностью и были похожи на ропот, но надо признать, что сами обстоятельства наталкивали ее на такое заключение. Предопределение и свободная воля никогда не были полностью различены, даже самим апостолом Павлом, а посему подобная мысль и была, быть может, отчасти извинительна для Джесс. Люди в этом не любят признаваться, но в конце концов все же существует вопрос, можем ли мы противопоставить нашу слабую волю воле мировой или же хоть в чем-либо изменить ход событий ради наших мелких целей и обыденных интересов. Джесс была умная женщина, но все же провести эту разграничительную черту ей оказалось не под силу. Фургон приближался, вместе с ним приближалась и кучка людей, а несколько минут спустя, подняв голову, Джон заметил Джесс, устремившую на него глубокий, задумчивый взгляд, в который она, казалось, хотела вложить душу. Поговорив еще немного с окружавшими его людьми и отдав кое-какие приказания Мути, который тотчас отправился вперед, Джон с улыбкой подошел к ней и протянул руку. — Как поживаете, Джесс? — спросил он. — Надеюсь, у вас все благополучно? Она пожала протянутую руку и произнесла почти недовольным голосом: — Зачем вы приехали? Зачем вы покинули Бесси и дядю? — Я приехал потому, что меня послали, а также и потому, что сам этого желал. Я хотел вывезти вас из Претории, пока осада еще не кончилась. — Вы с ума сошли! Да как же мы можем пробраться домой? Теперь мы будем оба заперты в Претории. — Да, пожалуй, вы правы. Впрочем, могло быть и хуже, — прибавил он смеясь. — Я не думаю, что может быть что-нибудь хуже этого, — нетерпеливо проговорила она и затем, будучи не в состоянии долее владеть собой, залилась слезами. Джон Нил, весьма простодушный от природы, никак не мог предположить, что существует какая-либо иная причина этого горя, кроме перспективы долгого затворничества в осажденном городе и ежедневной опасности быть взятым в плен с оружием в руках. Темне менее он чувствовал себя глубоко оскорбленным подобным приемом, в особенности после такого опасного путешествия, предпринятого исключительно ради нее. — Мне кажется, Джесс, — заметил он, — что вы могли бы отнестись ко мне с большим участием. Ну, а затем, — продолжал он, — перестаньте плакать. В Муифонтейне, слава Богу, все благополучно, и я надеюсь, что так или иначе, а мы, даст Бог, как-нибудь да выберемся отсюда. Зато проникнуть сюда было довольно-таки сложно. Она перестала плакать и улыбнулась. Горе ее прошло, как летняя гроза. — Каким образом вы добрались сюда? — спросила она. — Расскажите мне все, капитан Нил! Ему оставалось лишь удовлетворить ее любопытство. В немом молчании она выслушала подробности его путешествия, и, когда он кончил свой рассказ, она заговорила извиняющимся голосом. — Очень любезно с вашей стороны, что ради меня вы так рисковали своей жизнью. Только как это никто из вас не догадался, что путешествие ваше, в сущности, не принесет никакой пользы. Мы с вами будем теперь заперты в Претории, вот и все, и это очень печально для Бесси. — Да? Значит, вы уже знаете о нашей помолвке? — спросил он. — Я получила письмо Бесси часа два тому назад и от души поздравляю вас обоих. Мне кажется, что Бесси будет лучшей женой во всей Южной Африке, а ее супруг — человек, которым могла гордиться любая женщина. — С этими словами она поклонилась ему с такой грацией и в то же время с таким достоинством, что он был тронут. — Благодарю вас, — простодушно отвечал он, — мне кажется, что и в самом деле я один из счастливейших людей на свете. — А теперь, — промолвила она, — пойдемте, так как надо позаботиться о вашем фургоне. Вам отведут для него место в нашем лагере. Вы, должно быть, очень утомлены и сильно проголодались. Несколько минут спустя они уже подходили к фургону, из которого Мути успел выпрячь лошадей и который поместился возле повозки, где жили Джесс и ее друзья. Первой, кого они увидели, была сама миссис Невилл, добрая колонистка, привыкшая к суровой жизни и нелегко поддающаяся унынию даже в обстоятельствах, подобных настоящим. — Господи Боже, да ведь это капитан Нил! — воскликнула она, как только Джесс подвела к ней своего спутника. — Ну, счастлив же ваш Бог, что вам удалось прорваться сквозь блокаду. Удивительно, как эти буры вас не застрелили или до смерти не избили своими бичами. Положим, ваш приезд совершенно бесполезен, так как Джесс вам все равно не удастся высвободить отсюда до тех пор, пока сэр Джордж Колли[454] не подоспеет к нам на помощь, а это едва ли случится раньше чем через два месяца. С другой стороны, у Джесс будет теперь фургон, вы же сможете поместиться в караульной палатке. Хоть там и не особенно чисто, но в настоящее время некогда думать об удобствах. Пока ступайте к коменданту, он будет очень рад вашему прибытию. Он только что отправился в ту сторону лагеря; а тем временем устроим что нужно в вашем фургоне. Напутствованный таким образом Джон отправился к коменданту, где и рассказал про свое путешествие, хоть и богатое приключениями, но не заключавшее особенно важных сведений, а полчаса спустя по возвращении с удовольствием заметил, что процесс приведения в порядок его вещей в полном разгаре. Но ему было особенно приятно то, что Джесс сумела изжарить на походной кухне бифштекс и ко времени прихода накрывала для него возле фургона маленький столик. Усевшись на походном стуле, он начал с аппетитом уничтожать импровизированный завтрак, между тем как Джесс ему прислуживала, а миссис Невилл без умолку болтала. — А знаете, — говорила она. — Джесс мне только что рассказала о вашей помолвке с ее сестрой. Ну что ж, желаю вам счастья! Мужчина должен иметь жену в стране, подобной нашей. Здесь не Англия, где в пяти случаях из шести жениться — все равно что надеть себе петлю на шею. Женитьба здесь — экономия, а дети — благословение, как природа и разумела вначале, а не бремя, каким сделала их цивилизация. Господи, вот я заболталась! Неловко ведь говорить о детях, когда вы всего пару недель как помолвлены, но в конце концов они появятся. Бесси прехорошенькая девушка и очень добрая, впрочем, я мало ее знаю, хотя она далеко не так умна, как Джесс. Ах, да, кстати: так как вы собираетесь жениться на ее сестре, то вы вправе теперь принять на себя заботу о Джесс, и никто ничего плохого не скажет. Ах, если бы вы только знали, как тут любят сплетни. Хотя в настоящее время, пожалуй, никто о них и не думает. А вот идет мой муж, он поможет устроить в вашем фургоне помещение и для Джесс. Хорошо, что ваш фургон достаточных размеров. Нам очень тесно в нашей повозке, и по правде сказать, хоть Джейс премилая девушка, но я рада от нее изба, виться. Но смотрите, вы непременно должны оба приходить к нам обедать. Джесс слушала молча. Она понимала, что ей неудобно оставаться в прежней повозке, а кроме того, она уже ночевала в ней, и это было для нее более чем достаточно. Она попробовала было намекнуть на то, что намерена просить монахинь приютить ее на время, но встретила сильнейший отпор со стороны миссис Невилл. — Монахинь? — переспросила она. — Это еще что за глупости, когда ваш свояк — ведь будет же он им, если только буры не покончат с нами со всеми, — находится здесь. Даже смешно говорить о каких-то монахинях. Пусть они лучше присматривают сами за собой. Джон ничего не возражал и молча доедал бифштекс. Предложение ему явно понравилось.Глава 17
ДВЕНАДЦАТОЕ ФЕВРАЛЯ
Джон скоро освоился с лагерной жизнью в Претории, Хотя он числился пехотным армейским офицером в отставке, но тем не менее счел долгом предложить коменданту Претории свои услуги в качестве кавалериста и принять скромный чин сержанта в отряде волонтеров, известных под названием карабинеров Претории. Он оказался весьма деятельным сержантом, а потому военная служба отнимала много времени днем и даже ночью, особенно когда предстояло исполнить какое-либо поручение вне лагеря. Всякий раз по возвращении в фургон — он выговорил себе это право, чтобы иметь возможность защитить Джесс в случае какой-либо опасности, — он встречал с ее стороны радушный прием, причем делалось все возможное для его удобства. Мало-помалу они пришли к решению самим готовить пищу вместо того, чтобы разделять трапезу своих знакомых, и с этих пор постоянно завтракали и обедали у себя в палатке за импровизированным столом — в точности как парочка влюбленных. Подобное времяпрепровождение имело своего рода особую прелесть. Начать с того, что Джесс являлась самой подходящей собеседницей для такого человека, как Джон Нил. Никогда еще до тех пор не обращал он внимания на то, как смела и оригинальна была ее речь и каким остроумием искрились ее мысли. Она обладала неистощимым запасом веселости, и ее игривый юмор, столь же трудно поддающийся описанию, как игра шампанского в бокале, делал беседу с ней особенно приятной, тем более что из всех знакомых она удостаивала подобных разговоров его одного. Второе, что его поразило, — это замечательная перемена, произошедшая во внешности девушки. С каждым днем она все более и более хорошела. Когда Джон приехал в Преторию, она была бледна и худа, но и месяца не прошло с тех пор; а она стала положительно неузнаваема, поправившись и окрепнув. Цвет лица сделался более свежим, и время от времени на нем появлялся румянец, а глаза стали еще более глубокими и прекрасными. — Кто бы мог подумать, что это та самая девушка! — заметила однажды миссис Невилл, держа Джесс за руки в то время, как та озабоченно следила за приготовлением жаркого. — Помилуйте, ведь она была всегда такая жалкая, а теперь стала прехорошенькая! И это при таких условиях, которые превратили меня в бродячую тень и едва не свели в могилу мою дочку! — Я думаю, это следствие чистого воздуха, — отвечал Джон, не подозревая, что лекарство, приносившее столько пользы Джесс, заключалось в нем самом. А между тем это было именно так. Конечно, сперва она боролась с собой, но затем ей пришла на ум мысль, почему бы в самом деле ей не наслаждаться его обществом, пока это еще возможно. Он стал на ее пути помимо ее воли. Она не имеет намерения отнимать его у сестры, а если бы и имела, то слишком честна, чтобы привести намерение в исполнение. Джон нисколько не виноват во всем происшедшем, для него она была только молодой женщиной, случайно оказавшейся сестрой его невесты, вот и все. Так отчего же ей не собирать те розы, которые достались на ее долю. Она забыла, что благоухание роз опасно: оно может взволновать кровь и вскружить голову. И тем не менее она все же предалась соблазну и впервые испытала близость истинного счастья. Удивительная вещь — любовь женщины! Она озаряет будничную жизнь и даже в рабстве находит для себя источник наслаждения. Только очень немногие женщины умеют любить так, как Джесс, большинство же если полюбят, то или тратят понапрасну сокровища своего сердца, или, что еще хуже, становятся причиной горя и стыда не только для себя, но и для других. Уже более месяца длилась осада Претории, когда Джона вдруг осенила блестящая идея. На расстоянии четверти мили от лагеря находился маленький домик с железной крышей, подобно многим другим оставленный владельцами на произвол судьбы. Прогуливаясь вдоль аллеи, постепенно поднимавшейся в гору, Джон и Джесс однажды достигли домика и зашли, чтобы осмотреть его. Все помещение состояло из двух комнат — спальни и небольших размеров гостиной. Позади дома были устроены кухня и конюшня. Они вошли в комнаты и с любопытством стали глядеть на окружающую местность из окон. Прямо перед ними открывался чудный вид на долину, кончавшуюся рядом лесистых холмов. С правой стороны возвышалась гора, покрытая темной зеленью кустарников. Склоны холма, на котором расположился Уединенный домик, представляли собой сплошные виноградники, в которых только что начинать созревать плоды. Виноградники окружали живые изгороди из роз. Возле дома также цвели розы, и некоторые из них отличались замечательной красотой. Прелестный это был уголок, а после шумного лагеря он показался им просто раем. Некоторое время они сидели молча, а потом заговорили о ферме, о старике Крофте и о Бесси. — Как здесь хорошо, — воскликнула Джесс, закинув руки за голову и глядя на роскошный розовый куст, красовавшийся перед окнами. — Да, — отвечал Джон, — знаете, какая мне пришла мысль? Хорошо бы нам обоим устроиться в этом домике. Понятно, спать мы будем в лагере, но зато можем здесь обедать и проводить свободное время, а кроме того, здесь и безопасно, потому что буры никогда не отважатся напасть на город. Джесс подумала и вскоре решила, что и в самом деле эта мысль прекрасна, и уже на следующий день принялась за работу. Спустя некоторое время она сделала помещение настолько чистеньким и уютным, насколько это позволяли обстоятельства. И вот началось их хозяйство. Между тем осада затянулась надолго. Вести извне перестали поступать, но это обстоятельство мало беспокоило жителей, ибо они были уверены, что генерал Колли спешит к ним на выручку, и даже держали пари относительно времени его прибытия. Время от времени делались вылазки, но так как они приносили мало пользы и в общем не были особенно удачными, то лучше всего о них умолчать. Само собой разумеется, что Джон принимал в них деятельное участие, и тогда для Джесс наступали минуты тяжелого испытания. Она жила в постоянном страхе, ей казалось, что вот-вот он окажется в числе убитых. Однако все обходилось благополучно до двенадцатого февраля, то есть дня, в который осажденные решили произвести нападение на местность, называемую «Крааль Красного дома». Смешанный отряд пеших и конных выступил из Претории до рассвета. Джон также принял участие в экспедиции. Он был весьма удивлен, когда, подойдя к фургону, в котором спала Джесс, чтобы захватить кое-что с собой в дорогу, застал ее сидящей на ящике за импровизированным столом с чашкой кофе в руках, который она только что для него приготовила. — Что это значит, Джесс? — строго спросил он. — Я вовсе не желаю, что бы вы вставали по ночам для того, чтобы варить мне кофе. — Я и не думала вставать, — отвечала она спокойно, — я просто еще не ложилась. — Это еще хуже, — заметил он, но тем не менее с удовольствием выпил кофе. Она же продолжала сидеть, не спуская с него глаз. — Накиньте платок и наденьте что-нибудь на голову, — обратился он к ней, — роса промочит вас насквозь. Смотрите, ваши волосы уже совсем влажные. — Обещайте исполнить мою просьбу, Джон! — заговорила она. Теперь уже она называла его не иначе, как просто Джон. — Как вы похожи на всех женщин, — заметил он, улыбаясь, — просите обещать исполнить что-то и не говорите, что именно. — Я желаю, чтобы вы мне обещали это ради Бесси, — отвечала она. — Ну, в чем же дело? — Не ездите нынче со всеми. Вы легко можете остаться, если только сами этого захотите! Он расхохотался. — Какая же вы глупенькая. Почему вы хотите, чтоб я остался? — Не знаю. Но не смейтесь над тем, что я такая нервная… Я боюсь, что… что-нибудь с вами случится. — Ну что же, — попробовал он ее успокоить, — всякая пуля куда-нибудь да попадет, этому уже нечем помочь. — Вспомните Бесси, — промолвила она. — Послушайте, Джесс, — произнес он недовольным голосом, — зачем вы стараетесь растравить мое сердце? Если мне суждено умереть — значит, так уж на роду написано, а потому нечего об этом и толковать. Прощайте, мне пора ехать. — Вы правы, Джон, — отвечала она спокойно, — и мне было бы неприятно, если бы вы рассуждали иначе, но я не смогла удержаться, чтобы не высказать, что у меня лежит на сердце. До свидания, Джон. Господь да хранит вас! — С этими словами она протянула руку, которую он пожал и исчез. — Положительно она меня смущает, — рассуждал он сам с собой, в то время как отряд двигался вперед по лугам, покрытым утренней росой. Видно, она чувствует, что я буду убит. Ну что ж, может быть! Хотелось бы мне знать, однако, как бы приняла это известие Бесси? Она, наверное, была бы страшно огорчена, но и утешилась бы вскоре. Но не думаю, чтобы Джесс утешилась так же скоро. Обе девушки так не похожи друг на друга. После того он принялся размышлять о Бесси, о том, что она поделывает дома, а затем мысль его перенеслась к Джесс, и он начал раздумывать о том, какая она незаменимая подруга, до такой степени серьезная и внимательная, и втайне надеялся, что она будет жить с ними и после его свадьбы. Они и сами не подозревали, насколько стали необходимы друг другу. Положим, Джесс давно отвела ему местечко в своем сердце, но он все еще стоял на самой первой ступени и не сознавал, что большая часть его заветных дум посвящена черноокой девушке, под обаянием которой он находился. Он только чувствовал, что она умеет сделать приятным общение с ней. Когда он разговаривал с ней или же молча сидел возле, им овладевало душевное спокойствие, которого он никогда не ощущал в присутствии других женщин. Само собой разумеется, ощущение это приходило вследствие влечения более слабой натуры к более сильной, но кроме того, здесь крылось и нечто другое. Это нечто было отголоском высшей симпатии и полнейшего созвучия душ, служащего наиболее верным залогом истинных и совершеннейших форм любви. Когда эта гармония сопровождает любовь мужчины и женщины (что случается весьма редко, и это созвучие следует искать там, где нет места чувственности), то она возвышает человека над остальным миром. Ибо только в такой любви — будь она между матерью и сыном, или мужем и женой, или же у тех, которые, ища такой любви, не встречают взаимности, — кроется любовь бессмертная, бесконечная! Между тем отряд понемногу втягивался в сражение, и вскоре Джону пришлось испытать на себе удовольствие ружейной перестрелки с бурами. Ехавший рядом с ним товарищ был убит, а спустя некоторое время и самого его легко ранили пулей в бедро. Достаточно сказать, что битва эта может быть названа едва ли самой бесславной для чести нашего оружия из всей войны, в которой лишь Почефструм, Лейденбург, Рюстенбург и Ваккерструм до некоторой степени еще соединены со светлыми воспоминаниями. Битва окончилась полнейшей победой горсти буров над англичанами, и Джон был вынужден в числе других возвратиться в Преторию. Медленно продвигаясь вместе с принятым на седло тяжело раненным солдатом (перевязочный пункт остался в руках противника), он слышал слова стыда и проклятия раненого, которые смешивались с его собственными. Весть о поражении со многими прикрасами долетела до города, и между прочим говорилось, что и капитан Нил убит. Кто-то утверждал, что видел, как он свалился с простреленной головой. Услышав об этом, миссис Невилл, сильно взволнованная, тотчас поспешила к Джесс, чтобы сообщить ей грустное известие. На рассвете Джесс по обыкновению отправилась в маленький домик и решила провести там остаток дня. Сперва она принялась было за рукоделие, но работа вываливалась из ее рук; затем так же неудачно взялась за книгу. Взгляд ее блуждал по страницам, между тем как до слуха доносился гул отдаленных выстрелов. Бедная девушка предчувствовала, что с Джоном произойдет какого-то несчастье. Все мы так или иначе испытывали подобное же состояние при тех или иных обстоятельствах нашей жизни, хотя не раз это предчувствие нас обманывало, а потому мы должны в данном случае отнестись к ней снисходительно. В действительности же она почти не ошиблась, так как Джона ранили. Не найдя Джесс в лагере, миссис Невилл побежала к домику, плача уже от одной мысли о том несчастье, о котором намеревалась сообщить (она и сама за последнее время привязалась к Джону Нилу). Джесс, слух которой был напряжен до последней степени, как это случается во время сильного нервного возбуждения, расслышала скрип калитки прежде, нежели гостья успела войти в сад, и бросилась ей навстречу. Одного взгляда на плачущее лицо миссис Невилл оказалось достаточно. Джесс поняла все и невольно ухватилась за дерево, чтобы удержаться на ногах. — Что случилось? — спросила она задыхающимся голосом. — Он убит? — Да, милая моя, да. Говорят, ему прострелили голову. Джесс ничего не отвечала, но еще сильнее сжимала в руке ствол деревца и в то же время чувствовала, что силы ее покидают. Взгляд девушки безумно скользил с одного предмета на другой. Невдалеке проходила кратчайшая дорога от места побоища к лагерю, и глаза ее невольно остановились на четырех кафрах, несших кого-то на носилках в сопровождении трех конных карабинеров. Из-под плаща, покрывавшего носилки, торчали ноги, обутые в сапоги со шпорами. Положение ног было до того неестественно, что не оставалось сомнения в значении всей картины. — Вот, смотрите! — воскликнула она, указывая на проходившую группу. — Ах, бедняга, бедняга! — промолвила миссис Невилл. — Они несут его сюда, чтобы похоронить. При этих словах прекрасные глаза Джесс закатились, и она без чувств упала на землю, лишь слегка вскрикнув. В то же время люди с носилками прошли мимо.* * *
Джон Нил услышал о своей собственной смерти тотчас по прибытие в лагерь и, опасаясь, как бы этот слух не дошел до Джесс, поспешил к домику, насколько позволяла рана, и, соскочив с лошади, бросился к калитке. — Господи Боже, ведь это капитан Нил! — всплеснула руками миссис Невилл, оглядывая его с ног до головы. — А ведь мы думали, что вы убиты. — И поторопились сообщить ей об этом, — отвечал он, глядя на лицо девушки, покрытое смертельной бледностью, — вам бы следовало хоть немного подождать, пока этот слух не подтвердится. Бедная! Что вы с ней сделали. — С этими словами он опустился на землю, обхватил девушку обеими руками и с помощью миссис Невилл осторожно перенес в комнату, где и положил на столе. Однако все усилия привести ее в чувство были тщетны, и миссис Невилл отправилась в лагерь за спиртом, оставив его одного растирать ей руки и опрыскивать лицо водой. Не успела она удалиться, как Джесс открыла глаза, а затем опустила ноги на пол. Взгляд ее с удивлением остановился на Джоне, и ему показалось, что она снова собирается упасть в обморок, — по крайней мере, губы девушки побелели, и ее начало трясти как в лихорадке. — Джесс, Джесс! — закричал он вне себя. — Ради Бога не смотрите так на меня, вы меня пугаете! — Я думала, что вы… что вы… — прошептала она и, вдруг зарыдав, упала ему на грудь и залилась горькими слезами. Джону стало неловко, и, кроме того, он был тронут. В конце концов, он мужчина, и вид этой странной девушки, к которой он за последнее время сильно привязался, повергнутой в глубокое отчаяние и пришедшей в себя только вследствие беспокойства за его судьбу, не мог не подействовать на него, точно так же как подействовал бы и на всякого. Что-то отозвалось в глубине его сердца в ответ на это видимое проявление горя, и ощущение это было невыразимо сладостно, но в то же время пугало его. — Джесс, милая Джесс, ради Бога перестаньте. Я не могу равнодушно смотреть на ваши слезы. Она подняла голову и стала пристально глядеть на него, опираясь рукой о стол. Лицо девушки было мокро от слез и похоже на лилию, смоченную росой, а прекрасные глаза блестели таким огнем, какого он еще никогда не видывал у женщины. Она ничего не говорила, но ее лицо было красноречивее всяких слов, ибо временами на лице можно прочесть много такого, чего не передаст ни один язык. Она стояла подле него, и грудь ее высоко вздымалась — явный признак проснувшийся в женщине страсти. И в то же время ею овладело какое-то новое, неведомое ей дотоле ощущение. Она впервые почувствовала, что любовь в состоянии преодолеть ее волю, и узнала, хотя догадывалась и прежде, что стоит ей захотеть — и она может покорить сердце этого человека и заставить смотреть на нее такими же глазами, какими теперь сама она смотрела на него. Но при этом Джесс не проронила ни одного слова и даже не пошевельнулась, а только пристально глядела на него. — Неужели вы так испугались за меня? — промолвил он. Она не отвечала, но продолжала смотреть ему в глаза, и Джон чувствовал, что теряет над собой власть. Все его мысли смешивались под влиянием ее чарующего взгляда. Бесси, честь, данное слово — все было забыто. Едва тлевшая искра обратилась в пламя. И он полюбил эту девушку, как никогда еще никого не любил. — Джесс, — задыхаясь прошептал он, — я люблю вас! — С этими словами он наклонился, чтобы ее поцеловать. Она опомнилась и отстранила его рукой. — Вы забываете, — проговорила она в ужасе, — что женитесь на Бесси. Охваченный чувством стыда и сознанием нового несчастья, выпавшего на его долю, Джон повернулся и опрометью выбежал прочь.Глава 18
БОЛЕЗНЬ
Не успел Джон выбежать из дома, как почувствовал крайнее изнеможение от потери крови и нравственного потрясения, а потому, очутившись в саду, с наслаждением опустился в кресло, стоявшее там с незапамятных времен. Немного погодя он увидел показавшуюся вдали миссис Невилл с бутылкой спиртного в руках. «Вот кстати, — подумал он, — если не подкреплюсь стаканом водки, то по всей вероятности последую примеру Джесс и свалюсь с этого несчастного кресла». — Где Джесс? — обратилась к нему миссис Невилл. — Там в гостиной, — отвечал он, — она уже очнулась. «Впрочем было бы лучше для нас обоих, если бы она совсем не приходила в себя», — мысленно прибавил он. — Да что с вами, капитан Нил? Какой у вас странный вид, — заговорила она, обмахиваясь шляпой. — Ах, если бы вы знали, что теперь творится в лагере! Волонтеры бранят солдат, что те их покинули в минуту опасности, а мне просто никто верить не хотел, когда я сказала, что вы не убиты… Да что же это? Ваши сапоги полны крови. Значит, вы все же ранены? — Дайте мне, ради Бога, выпить, — простонал Джон. Она зачерпнула взятым с собой стаканом воды из протекавшего невдалеке ручья и затем долила его спиртом. Он выпил и почувствовал себя лучше. — Господи, — воскликнула миссис Невилл, — вас теперь пара! Надо было видеть, как эта девушка испугалась, когда мимо нее пронесли мертвое тело! Я была уверена, что это вы, но ошиблась. Говорят, это несчастный Джим Смит, сын старика Смита из Рюстенбурга. Знаете что, капитан Нил? Я советую вам быть осторожнее: если девушка еще не влюблена в вас, то во всяком случае близка к этому. Девушки вообще не очень-то легко падают в обморок из-за всякого встречного Дика, Тома или Гарри. Вы уже простите меня, дуреху, что я говорю вам так откровенно, но Джесс очень странная девушка, и если вы не примете мер, то легко увлечетесь ею и поставите себя в неловкое положение, тем более что собираетесь жениться на ее сестре. Уверяю вас, что Джесс не из таких женщин, что кокетничают скуки ради, — при этих словах она с сомнением покачала головой, как будто подозревала его в легкомысленном отношении к чувству будущей свояченицы, а затем, не дожидаясь ответа, повернулась и ушла в домик. Из груди Джона вырвался стон. Что он мог возразить на это? Все было ясно до очевидности, и если когда-либо он чувствовал себя пристыженным, то именно теперь. Ему, человеку слова, до боли тяжело было сознаться, что в настоящем случае он поступил бесчестно по отношению к Бесси. Несколько минут тому назад он признавался Джесс в любви и говорил правду, но отвратительную правду. Хуже всего именно то, что это была правда. Да, он действительно любил Джесс. Он чувствовал, что эта любовь охватила его волной в то время, когда он стоял перед нею в комнате, и поглотила и превозмогла всю его привязанность к Бесси, с которой его связывали узы чести. В его сердце внезапно вспыхнула страсть, страсть преступная и даже просто непонятная; и он смутно догадывался, что она была вместе с тем и вечная. Сидя на ветхом от времени кресле и перевязывая рану, он мысленно проклинал себя. Какого он свалял дурака! Зачем не подождал, чтобы окончательно убедиться, к которой из двух чувствует большее расположение? И к чему только понадобилось Джесс ни с того ни с сего уезжать и оставлять его одного в обществе ее хорошенькой сестрицы? Теперь он твердо знал, что и тогда еще она была к нему неравнодушна. И вот какой оборот принял его роман! В одном он был убежден, а именно в том, что следует положить всему этому конец. Он не должен брать назад своего слова, данного Бесси, об этом нечего и думать. Тем не менее он чувствовал тяжесть на сердце и за самого себя, и за Джесс. В это время повязка ослабла и кровь полилась с такой силой, что он уже собирался идти в комнаты просить помощи. Джесс, совершенно оправившаяся, разговаривала с миссис Невилл, которая уговаривала ее выпить глоток водки, добытый с таким трудом. Заметив смертельно бледное лицо Джона и красную полоску крови, сочившейся из раненой ноги, Джесс схватилась за шляпу, лежавшую на столе. — Ложитесь-ка лучше в кровать, — велела она, — а я побегу за доктором. С помощью миссис Невилл он тотчас же разделся, но, к ужасу этой доброй женщины, прилагавшей все усилия, чтобы остановить обильные потоки струившейся крови, еще задолго до прибытия доктора впал в обморочное состояние. Появившийся доктор констатировал, что пуля оцарапала стенки одной из внутренних артерий бедра, не перерезав ее, впрочем, окончательно, и что в настоящее время требуется немедленная серьезная перевязка. С помощью хлороформа он довольно удачно провел эту операцию, не выходя из комнаты, и заявил, что обморок последовал от сильной потери крови. По окончании операции миссис Невилл спросила доктора, не следует ли поместить Джона в госпиталь, на что тот категорически отвечал, что раненого необходимо оставить там, где он находится, но что Джесс должна принять на себя заботу ухаживать за ним во время болезни с помощью сиделки, которую он хотел прислать. — Скажите мне, — спросила миссис Невилл, — его положение опасно? — Оно будет очень опасно, если вы вздумаете его тревожить, — угрюмо отвечал доктор, — потому что шелк любую минуту может соскочить, а в таком случае артерия непременно лопнет и он истечет кровью. Джесс не проронила ни слова и занялась необходимыми приготовлениями для ухода за больным. Раз судьбе угодно снова столкнуть их вместе, то ничего более не оставалось, как только безропотно подчиниться ей, хотя, по правде сказать, она этого вовсе не желала. Час спустя после операции, когда Джон начал понемножку приходить в себя, явилась и присланная доктором сиделка. Джесс сразу заметила, что эта женщина в высшей степени беззаботна и невежественна в уходе за больным, и возложила на нее исключительно черную работу. Когда Джон пришел в сознание и увидел, кто именно сидел над ним и чья рука дотрагивалась до его горячего лба, он слегка застонал и попробовал заснуть. Но Джесс решила не спать. Она просидела всю ночь у его изголовья, не смыкая глаз. При свете едва занимавшейся зари она с грустью смотрела на бледные черты лица любимого человека, спавшего глубоким сном. А так как ночь была нестерпимо жаркая и удушливая, то Джесс сняла с него покрывала, оставив лишь одну простыню. Когда под утро она встала, чтобы пойти немного отдохнуть, то взглянула еще раз на больного и заметила, что повязка стала красной от крови. Артерия лопнула. Приказав сиделке скорее бежать за доктором, Джесс принялась расталкивать больного, так как он спал крепким сном и мог незаметно уснуть навеки. Затем они принялись делать что могли, дабы остановить обильное течение крови. Джесс перевязала ему ногу платком и палкой закрутила узел, а он прижимал поврежденную артерию пальцем. Но все усилия были напрасны, и Джесс начала опасаться, что он умрет у нее на руках. Она испытывала невыразимые нравственные страдания, видя, как с каждой минутой его жизнь угасала. — Мне уже не долго осталось жить, Джесс! Бог да благословит вас, моя дорогая! — прошептал он. — У меня темнеет в глазах. Бедная девушка! Она стиснула зубы и ожидала конца. Рука Джона, нажимавшая на артерию, ослабла, и он вновь впал в обморочное состояние. Но странное дело: как раз в этот момент мгновенно течение крови значительно уменьшилось. Несколько минут спустя она услышала шаги доктора. — Слава Богу, что вы наконец пришли! Он начал истекать кровью. — Я только что от больного, раненного пулей навылет. А эта дуреха дожидалась, пока я возвращусь домой, вместо того чтобы бежать за мной следом. Я привел вам более расторопную. Да, он потерял много крови. Вероятно, повязка сползла. Ну что же, остается одно средство — хлороформ. Опять для Джесс наступили полчаса томительного ожидания, и когда наконец несчастный Джон открыл глаза, то был не в состоянии говорить, а мог лишь улыбаться. Три дня его жизнь висела на волоске, ибо если бы артерия порвалась в третий раз, то, истощенный потерей крови, он умер бы прежде, нежели ему успели бы оказать какую-либо помощь. Иногда от слабости у него начинался бред, и эти минуты становились для него самыми опасными, так как трудно было помешать ему шевелиться. Единственный способ заставить его лежать неподвижно заключался в том, что Джесс должна была класть ему руку на голову или же давать ему держать ее в своих руках. Прикосновение руки Джесс имело благотворное влияние на его больное воображение. И много часов просидела она таким образом возле него, хотя ее рука ныла от боли и ей ломило спину. Зато она была вознаграждена тем, что безумное выражение исчезло из его глаз и он наконец заснул тихим безмятежным сном. И вместе с тем это время стало самым счастливым в ее жизни. Перед нею лежал человек, которого она любила всеми силами души, она ходила за ним, как за ребенком, и сознавала, что этот ребенок полностью зависит от нее. Даже в бреду он постоянно упоминал ее имя и всякий раз с каким-нибудь нежным прилагательным. Она чувствовала, хотя и не могла дать себе в том отчета, что в эти тяжелые часы сомнения и страха они стали близки друг другу до такой степени, что их жизни как бы слились воедино. Она чувствовала, что это так, и была уверена, что и в будущем их связь никогда не может быть расторгнута. А потому она была счастлива, хотя и сознавала, что его выздоровление означает для нее вечную с ним разлуку. На последнее она твердо решилась, ибо если однажды в минуту слабости едва не выдала своего чувства, то это не значит, что она не сумеет удержаться во второй раз. И так уже она поступила нечестно по отношению к Бесси, отняв у нее сердце ее будущего мужа. Теперь, конечно, уже нечем помочь горю, но зато следует принять меры на будущее. Джон должен вернуться к сестре. И вот она просиживала бессонные ночи над изголовьем любимого человека и была счастлива. В этом заключалась вся ее радость. Вскоре он будет взят от нее, и она останется по-прежнему одинокой, но пока Джон возле нее, он принадлежит ей. Держа руку на его голове и прислушиваясь к его ровному дыханию, она испытывала в глубине сердца неизъяснимое наслаждение, ибо в желании охранять сон дорогого существа заключается высшее проявление любви женщины. Время шло, а кровь больше не появлялась, и вскоре наступило утро, в которое Джон открыл глаза и стал всматриваться в бледное лицо, наклоненное над его постелью, как бы что-то припоминая. Наконец он вспомнил. — Я был очень болен, Джесс? — произнес он немного погодя. — Да, Джон. — И вы ходили за мной? — Да, Джон. — Я поправлюсь? — Конечно. Он снова закрыл глаза, потом продолжил расспросы. — Есть ли какие-нибудь вести извне? — Нет. Дела все в том же положении. — О Бесси ничего не слышно? — Нет. Мы отрезаны ото всех. Наступила минута молчания. — Джон, — заговорила Джесс. — Есть вещи, которые иногда говорятся в бреду, но за которые люди не отвечают; о таких вещах лучше всего не вспоминать. — Да, — отвечал он, — я вас хорошо понимаю. — А потому, — продолжала она тем же спокойным голосом, — постараемся забыть все то, что вы или я невольно высказали со времени вашего ранения и моего обморока. — Совершенно верно, — согласился Джон, — я со своей стороны отрекаюсь от этих слов. — Мы оба от них отрекаемся, — поправила она, глубоко вздохнув, и таким образом между ними был заключен договор забвения. Но оба знали наперед, что это ложь. Если любовь существовала раньше, то разве в его или ее власти уменьшить эту любовь? Конечно, нет. Их дружба сделалась лишь более совершенной и искренней. Они решились забыть также и сцену в гостиной, когда Джон невольно признался в любви Джесс. Очевидно, его поступок следовало приписать начинавшемуся бреду. Тем не менее оба сознавали, что любят друг друга и что их любовь растет по мере того, как становится все более и более безнадежной. Они толковали о Бесси, о свадьбе Джона, рассуждали о поездке Джесс в Европу, как о вещах совершенно для них посторонних. Короче, если они и забылись однажды, то впредь решили твердо ступать по пути долга, не обращая внимания на острые каменья, до крови резавшие ноги. И тем не менее все же это была ложь, и ложь сознательная, ибо между ними стояло прошлое, соединившее их навек неразрывными узами.Глава 19
ХАНС КЕТЦЕ ЕДЕТ В ПРЕТОРИЮ
Выздоровление Джона шло быстро. Артерия срослась, и так как сам он от природы отличался крепким телосложением, то вскоре и наверстал обильную потерю крови, а месяц спустя чувствовал себя физически таким же здоровым, как и прежде. Однажды — это случилось 20 марта — Джесс и он сидели в запущенном садике. Джон полулежал на длинном плетеном кресле, которое Джесс достала для него в одном из домов, покинутых жителями, и курил трубку. Возле него в углублении, устроенном в ручке кресла и предназначавшемся, по всей вероятности, для стакана с водой, лежали гроздья винограда, нарочно для него сорванные рукой Джесс. Он держал на коленях развернутый лист газеты «Новости с театра войны», отличавшейся замечательной скудностью каких бы то ни было известий, что вполне объяснимо для газеты, выходящей в осажденном городе. Оба молчали, Джон курил трубку, а Джесс оставила на время свое рукоделие и смотрела на тени, ложившиеся по склонам лесистых холмов. Оба сидели до такой степени тихо и неподвижно, что у них из-под ног смело выползла ящерица, чтобы погреться на солнышке, а затем великолепная бабочка спокойно опустилась на виноград. День выдался чудный, и местность вокруг отличалась необычайной живописностью. От лагеря было далеко, а потому они не могли слышать его беспокойного шума, и единственными долетавшими до них звуками были плеск струившейся невдалеке воды да шелест листьев, производимый слабым ветерком, в то же время доносившим до них аромат распустившихся цветов мимозы. Они сидели в тени сада перед домиком, к которому Джесс успела привыкнуть и который полюбила, как что-то родное, а все вокруг них — и сад, и домик, и деревья тонули в блеске ослепляющих лучей солнца. Вдали, по ту сторону сада, где пунцовые цветы гранатовых деревьев, казалось, соперничали с красотой роз, раскаленный воздух как бы таял над каменной оградой и расплывался в голубом эфире. Тишина и безмолвие царили кругом. А между тем, несмотря на эту видимую тишину, в ней ключом била молодая жизнь. Жизнь эта сказывалась и в ворковании диких голубей, и в сиянии лучей солнца, в веянии ветра и в порхании мотылька. Джесс глядела на окружающее богатство и красоту природы и чувствовала себя в раю и затем, незаметно предавшись меланхолическому настроению, задумалась о том, сколькие до нее и подобно ей сидели и мысленно рассуждали о том же, о чем и она, и однако навеки исчезли из памяти людей; и сколько еще явится впереди мечтателей, которые так же, как и она, будут сидеть и созерцать окружающую природу, тогда как сама она будет там, откуда не доносится даже эхо. Но что же из этого? Солнце будет вечно светить над землей, вечно будет струиться вода и вечно будет порхать мотылек; а на ее место явятся другие женщины и так же будут складывать руки, глядя на происходящее вокруг, и задумываться над теми же неразрешимыми вопросами, далее которых не идет человеческий ум. И то же повторится через тысячу лет и будет повторяться вечно, доколе не наступит конец существованию земному и доколе мир не перейдет в состояние небытия. А она — что будет с ней? Будет ли она чувствовать тогда, любить и страдать? Или же все это один жестокий обман? Что она собой представляет: горсть земли — или же существованию ее суждено продолжаться за пределами земной жизни? Что ожидает ее на закате дней? Покой? Она часто об этом размышляла и постоянно надеялась, что это будет именно покой. Но теперь она думает иначе. Ее жизнь приобрела дня нее новый интерес, интерес, который умрет в ней разве только с ее смертью. Теперь она надеялась на загробную жизнь, ибо если жизнь эта существует для нее, то существует также и для него, и наконец настанет желанный день, который соединит их навсегда — старое заблуждение, сладкий бред нашего больного воображения! А между тем кто об этом не мечтал? И пусть себе смеются философы и ученые, но отчего бы и не допустить, что может существовать любовь и тогда, когда давно уже потухли желания? Джон кончил курить трубку и уже некоторое время наблюдал за выражением лица Джесс. Теперь оно не выглядело бесстрастным, а напротив, отражало волновавшие ее думы и надежды. Рот девушки слегка приоткрылся, в глазах светилось нечто придававшее всему ее лицу какую-то необыкновенную прелесть. Такое же вдохновенное выражение ему доводилось встречать у мадонн на картинах старых мастеров. Джесс вообще не могла назваться хорошенькой. Но в эту минуту Джон заметил, что на ее облике лежит отпечаток божественной красоты, какой он никогда до тех пор не видывал у женщин. Красота эта взволновала его, но не так, как красота Бесси, и заставила отозваться в его сердце те струны, затронуть которые могла одна только Джесс. В ней было что-то неземное, почти устрашающее. — Джесс, — произнес он наконец, — о чем это вы задумались? Она встрепенулась, и ее лицо снова приняло обычное выражение. — К чему вам это знать? — отвечала она. — Да просто из любопытства. Я никогда еще не замечал у вас такого взгляда. Она улыбнулась. — Вы стали бы смеяться надо мной, если бы я вам сказала, о чем думала. Ведь мысли приходят сами собой, помимо нашей воли. Лучше я вам скажу, о чем думаю теперь: о том, когда мы выберемся отсюда. Дядя и Бесси, наверное, потеряли всякое терпение, ожидая нас. — Да, вот уже более двух месяцев как мы сидим взаперти. Отряд, посланный нам на выручку, видно, уже недалеко, — заметил с иронией Джон, — и здешние жители до сих пор в полной уверенности, что в один прекрасный день увидят вдали сверкающие ряды английских штыков и буров, разбегающихся в разные стороны подобно облакам, гонимым ветром. Джесс покачала головой. Она давно утратила веру в спасительный отряд. — Если мы сами себе не поможем, то останемся здесь до тех пор, пока не умрем с голоду, что, по всей вероятности, скоро и случится. А потому нечего об этом и говорить. Теперь же я пойду за провизией. Все ли вы записали, что нужно? — Все, ступайте с Богом и не беспокойтесь обо мне. — В таком случае лежите смирно, пока я не возвращусь. — Вот так раз, — рассмеялся Джон, — да я здоров как лошадь. — Очень может быть, но ведь это приказание доктора. До свидания. С этими словами Джесс удалилась, захватив с собой корзину для провизии. Не успела она отойти пятидесяти шагов, как рассмотрела вдали приближающуюся к ней толстую сияющую фигуру верхом на маленькой знакомой лошадке. Фигура эта также показалась ей знакомой, и, вглядевшись пристальнее, Джесс распознала в ней Ханса Кетце, выезжавшего из ворот Претории. Джесс просто не хотела верить своим глазам. Старик Ханс в Претории! Что бы это могло значить? — Дядюшка Кетце, дядюшка Кетце! — закричала она, когда он, поравнявшись с ней, уже сворачивал на Хейдельбергскую дорогу. Старый бур остановил лошадь и с удивлением начал озираться вокруг. — Сюда, дядюшка Кетце, сюда! — Господи Боже! — воскликнул он, повернув лошадь. — Это вы, мисс Джесс? Ну кто бы мог подумать встретить вас здесь? — Кто бы мог подумать вас встретить здесь? — поправила она. — Да, да, странно, очень даже странно. Но ведь я вестник мира — знаете, как голубь дядюшки Ноя. Дело в том, — он оглянулся, желая убедиться, что никто его не подслушивает, — что я послан правительством устроить обмен военнопленных. — Правительством! Каким правительством? — Как каким? Понятно, триумвиратом, да будет на нем Господне благословение и благое поспешение во всем, как на пророке Ионе, когда он гулял по стенам Иерихона. — На Иисусе Навине, когда он обходилстены города, — поправила его Джесс, — Иона же прогулялся во чрево китово! — Совершенно верно, он еще играл на трубе. Теперь я вспомнил, хотя решительно не понимаю, как он ухитрился это сделать. Дело в том, что блестящая победа отшибла у меня память. Да, вот что значит быть патриотом! Господь дает силу мускулам патриота и заботится о том, чтобы удар его пришелся в середину врага. — Удивительно, как вы быстро сделались таким горячим патриотом, дядюшка Кетце! — ядовито заметила Джесс. — Да, мисс, да, я сделался патриотом до мозга костей, я ненавижу английское правительство! Будь оно трижды проклято, это английское правительство! Я стою за возвращение наших древних владений и за народное представительство! И в правоте нашего дела я совсем недавно убедился при Лейнгс Нэке[455]. Несчастные роой батьес! Я сам застрелил четверых: двоих, когда они взбирались на гору, и двоих в то время, когда они бежали; один из них кувырком полетел с утеса, как раненый олень! Бедняга! Я потом о нем плакал. Я вовсе и не хотел идти на войну, но Фрэнк Мюллер прислал ко мне сказать, что если я не выйду, то буду казнен. Да, этот Фрэнк Мюллер — сущий дьявол! И вот я отправился, но когда увидел, что Господь внушал английскому генералу[456] сделаться еще большим дураком, чем он был всегда, и попытаться с тысячью роой батьес выгнать нас из Лейнгс Нэка, — то, повторяю вам, я воочию убедился в правоте задуманного предприятия и воскликнул: «Будь оно проклято, английское правительство! К чему оно нам?» А после битвы при Ингого[457] я эти же слова повторил снова. — Бросим этот разговор, дядюшка Кетце, — перебила его Джесс, — прежде вы рассуждали иначе, а впоследствии, может быть, будете опять иначе рассуждать. Расскажите лучше, как поживают мой дядя и моя сестра? Они по-прежнему живут на ферме? — Вот тебе раз! Неужели вы воображаете, что я там был? Но тем не менее я слышал, что они еще в Муифонтейне. Прелестное местечко, и я надеюсь купить его, когда мы повыгоним всех вас, англичан, из нашей страны. Фрэнк Мюллер говорил мне, что они еще там. А теперь мне пора ехать дальше, иначе этот дьявол, Фрэнк Мюллер, пожалуй, начнет справляться, отчего я так замешкался. — Дядюшка Кетце, — обратилась к нему Джесс, — исполните мою просьбу. Мы с вами старые друзья, и я когда-то упросила дядю одолжить вам пятьсот фунтов, помните, когда все ваши волы передохли от какой-то болезни легких. — Да, да, я их непременно отдам, когда мы изгоним отсюда проклятых англичан. — С этими словами он собрал поводья, намереваясь ехать дальше. — Так вы исполните мою просьбу? — спросила Джесс, ухватившись за поводья. — Что такое? В чем дело, мисс? Мне надо спешить. Этот дьявол Мюллер ждет меня с пленными в Рюйис Краале. — Мне нужен пропуск для себя и для капитана Нила, а также небольшой конвой. Нам бы хотелось вернуться к своим. Старый бур воздел руки к небу в знак удивления. — Владыка Небесный! — воскликнул он. — Это невозможно. Пропуск! Ну слыханное ли это дело? Нет уж, я лучше поеду. — Это вовсе уже не так невозможно, дядюшка Кетце! — отвечала Джесс. — Слушайте, если у меня будет пропуск, я поговорю с дядей насчет пятисот фунтов. Может быть, они и вовсе ему не понадобятся. — А-а, — протянул бур. — Это правда, мы старинные друзья, мисс, и не в моих правилах покидать друзей в нужде. Господи Боже, да я охотно проскачу сотню миль и переплыву реку крови для друга. Ну хорошо, хорошо, посмотрим. Все зависит от этого дьявола Фрэнка Мюллера. Где мне вас найти? В этом белом домике, что ли? Прекрасно. Завтра же сюда прибудет конвой с пленными, и если я добуду пропуск, я пришлю его с ними. Но помните, мисс, о пятистах фунтах. Если вы не поговорите с дядей, я сам буду вынужден об этом ему напомнить. Владыка Небесный! Хорошо иметь доброе сердце и любить помогать ближним! Ну, до свидания, до свидания. — С этими словами он припустил свою жирную лошадку и ускакал с лицом, сияющим от счастья. Джесс бросила на него взгляд, полный презрения, и затем отправилась в лагерь за провизией. Вернувшись домой, она рассказала Джону про свою встречу и намекнула на то, что было бы полезно на всякий случай приготовиться к отъезду, а посему фургон тотчас же выкатили на двор. Затем Джон принялся за смазку колес при помощи касторового масла и приказал Мути держать наготове лошадей, которые немного поправились, но все еще были тощи от недостатка хорошего корма. Между тем старик Ханс продолжал путь и по прошествии часа подъезжал к небольшому красному домику. В то же время из ворот домика показался всадник верхом на вороном коне. Всадник — стройный, красивый мужчина с бородой — поднес руку к глазам, чтобы защитить их от солнца, и стал пристально всматриваться в даль. Затем он как будто что-то сообразил и, пришпорив коня, быстро пустился к Хансу. — Ну вот, дьявол этот уже тут! — воскликнул Ханс. — Чего ему от меня надо? У меня всякий раз пробегает мороз по коже, как только он начинает заговаривать со мной. Огромный вороной конь уже приблизился вплотную к маленькой лошадке старика и едва не задевал копытами его голову. — Всемогущий Боже! — воскликнул Ханс, отстраняясь от него вместе с лошадью. — Осторожнее, племянничек, осторожнее! Я вовсе не желаю подвергнуться ударам копыт вашего коня. Фрэнк Мюллер, ибо это был он, улыбнулся. Он с намерением приблизил своего коня, желая слегка напугать старика, которого знал как отчаянного труса. — Почему вы так припозднились и чем кончились ваши переговоры с англичанами? Вы должны были вернуться еще полчаса тому назад. — И, конечно, вернулся бы, племянничек, если бы меня не задержали. Не думаете ли вы, что я с намерением замешкался в этом проклятом городе? Тьфу! — с этими словами он плюнул. — От этого города разит англичанами. У меня до сих пор неприятный вкус во рту. — Вы лжете, дядюшка Кетце, — последовал холодный ответ. — Вы с англичанами — англичанин, а с бурами — бур. Ведь для вас решительно все равно. Смотрите же, чтобы мы не вывели вас на чистую воду. Я ведь вас вижу насквозь. Помните, что вы говорили англичанину Нилу во дворе ваккерструмской гостиницы, когда, нечаянно оглянувшись, увидели меня? Я ведь все слышал и ничего не забыл. Вы знаете, чего заслуживает изменник страны? Зубы Ханса застучали, и его румяное лицо внезапно побледнело. — Что вы хотите этим сказать, племянничек? — спросил он. — Я? Да ничего особенного. Я только хотел вас предупредить, как друга. Я ведь кое-что слышал про вас от… — И он прошептал имя, при звуке которого несчастный старик побледнел как полотно. — Ну, — продолжал мучитель, сполна насладившись страхом своей жертвы, — на чем же вы порешили в Претории? — Отлично, племянничек, отлично, — затрещал старик, довольный тем, что разговор перешел на другую тему. — Англичане сделались уступчивы настолько, что из них можно вить веревки. Они согласны отдать двенадцать своих военнопленных за четырех наших. Я рассказал их начальнику про Лейнгс Нэк и Ингого, и он просто не хотел мне верить. Он думал, что я лгу, как и он. Англичане уже испытывают голод. Я встретил знакомого мне готтентота, и он сказал мне, что их кости выступают наружу. — Они скоро выступят совсем, — пробормотал Фрэнк. — А теперь, — продолжал он, — мы в нашей штаб-квартире. Генерал Крюгер находится здесь. Он только что приехал из Хейдельберга, и вы можете лично сделать ему доклад. Кстати, узнали вы что-нибудь о капитане Ниле? Правда ли, что он убит? — Нет, он не убит. Я встретил старшую племянницу дядюшки Крофта. Она заперта в Претории вместе с капитаном Нилом и просила постараться достать для них обоих пропуск. Понятно, я отвечал, что это невозможно и что пусть они околевают с голоду. Мюллер, с особым вниманием выслушавший последние слова, встрепенулся и, повернувшись на седле, проговорил: — В самом деле? В таком случае вы еще больший дурак, чем я вас считал до сих пор. Кто дал вам право разбирать, следует или нет выдавать им пропуск?Глава 20
ВЕЛИКИЙ РЕСПУБЛИКАНЕЦ
Озадаченный последним заключением, Ханс Кетце сжался, как рыба, только что вынутая из воды, и в глубине своей мелкой душонки решил, что Фрэнк Мюллер и в самом деле не кто иной, как дьявол. К этому времени оба успели доехать до ворот красного домика, а немного погодя Ханс стоял перед лицом Поля Крюгера, одного из вождей восстания. Это был приземистый человек пятидесяти пяти лет, с огромным носом, маленькими глазками, взъерошенными волосами, немного сгорбленный. Лоб у него был открытый, и все лицо выражало необычайную проницательность и подвижность. Великий республиканец сидел за письменным столом и, куря огромных размеров трубку, усиленно старался выводить какие-то слова на грязном лоскутке бумаги. — Садитесь, господа, садитесь, — пригласил он, указывая длинным чубуком на стоявшую возле стены скамейку. Новоприбывшие воспользовались приглашением и уселись на скамейку, не снимая шляп, а спустя некоторое время вынули трубки и принялись их закуривать. — Скажите, ради Бога, как пишется слово «превосходительство»? — неожиданно спросил генерал. — Я четырежды писал его на разные лады, и всякий раз у меня выходит все хуже и хуже. Фрэнк Мюллер поспешил вывести начальника из затруднения. Ханс Кетце в душе сознавал, что учитель в свою очередь также неправ, но не осмелился этого при нем высказать. Затем наступила тишина, нарушаемая лишь скрипом пера о бумагу. В продолжение этого времени Ханс едва не заснул, так как в комнате было нестерпимо жарко и он очень утомился в дороге. — Ну вот! — точно обрадованный школьник, воскликнул наконец генерал, с любовью разглядывая свое произведение. — Черт бы побрал того, кто выдумал писанину! Наши отцы отлично обходились без нее. Вот бы и нам последовать их примеру! Хотя, впрочем, она полезна для заключения договоров с кафрами. Мне кажется, однако, милейший, что вы неверно продиктовали слово «превосходительство». Ну да сойдет и так. Когда пишут подобное письмо представителю королевы, то нет надобности особенно заботиться о грамматике. И так прочтут! — Он откинулся на спинку кресла и засмеялся. — Ну, минеер Кетце, в чем дело? Ах, да, это насчет военнопленных. И на чем же вы порешили? Ханс изложил подробности исполненного им поручения, затем стал переминаться с ноги на ногу и пережевывать свой рассказ, но тотчас был остановлен генералом: — Довольно, милый друг, довольно. Ваш рассказ похож на несмазанную телегу: много шума и скрипа, но толку никакого. Они согласны обменять двенадцать буров на четырех пленных англичан. Да, расчет этот довольно подходящий. Хотя нет, не совсем. Четверо буров стоят куда больше двенадцати англичан! — При этих словах он снова рассмеялся. — Хорошо, мы отравим к ним военнопленных, пусть они помогут им доесть последние сухари. Прощайте, дружище. Впрочем, погодите, еще одно слово. До меня доходяг иногда о вас очень странные слухи. Мне, например, передавали, будто вам нельзя доверять. Лично я этому не верю. Но знайте, если это правда и я действительно что-нибудь открою, то клянусь вам, что выпорю вас ремнями и велю расстрелять, а затем отправлю ваш труп в подарок англичанам. При этих словах он наклонился вперед и со всей силы стукнул кулаком по столу, что произвело на Ханса чрезвычайно тяжелое впечатление. В то же время в маленьких глазках генерала сверкнул зловещий огонек, от которого бедняге стало жутко на сердце, хотя он и чувствовал себя совершенно правым. — Клянусь вам… — залепетал он. — Не клянитесь, дружище, тем более что вы староста церкви. В этом нет никакой надобности. Я уже сказал вам, что не верю этим слухам, хотя нечто подобное и случилось еще на днях. Я вам не скажу, с кем именно, все равно вы их уже больше не увидите. До свидания, дружище, до свидания. Не забудьте возблагодарить Создателя за наши славные победы. От церковного старосты молитвы Ему будут еще приятнее. Несчастный Ханс был совершенно подавлен только что слышанным и ушел в полном убеждении, что трудно усидеть на двух стульях, как бы человек ни был ловок и беспристрастен, и что такое положение может даже оказаться весьма опасным. А если в конце концов победят англичане — на что он втайне надеялся, — то каким образом он докажет им свои старания? Генерал, насупив брови, следил за тем, как Ханс Кетце медленно переступал порог, а по уходу его не мог удержаться от насмешливой улыбки. — Флюгер, трус, человек без убеждений! Да, минеер Мюллер, вот каков Ханс Кетце! Я его знаю уже много лет. Он бы продал нас, если бы мог, но я его немножко попугал, и он отлично понял, что я никогда не лаю, если не имею намерения укусить. Ну, довольно о нем. Позвольте поблагодарить вас за ваше участие в деле при Маюбе[458]. Да, это была славная победа! Сколько было вас, когда вы начали взбираться на гору? — Восемьдесят человек. — А сколько выбыло из строя? — Трое. Один убит, двое ранены. Кроме того, несколько царапин. — Превосходно, превосходно! Да, это было рискованное дело, и потому именно и вышло так удачно, что было рискованно. Он, должно быть, совсем с ума сошел, этот английский генерал. Кто его застрелил? — Брейтенбах. Он выстрелил в него, и генерал покатился, а весь отряд, как стадо баранов, устремился под гору. Да, блестящая победа! Вот что значит стоять за правое дело, дядюшка Крюгер! Лицо генерала несколько омрачилось. — Вот что значит иметь людей, которые хорошо стреляют, знают расположение местности и ничего не боятся. До сих пор судьба нам благоприятствовала, Фрэнк Мюллер. Но что будет дальше? Вы — неглупый человек, скажите мне: чем все это закончится? Фрэнк Мюллер встал и раза два прошелся взад и вперед по комнате, прежде чем ответить. — Вы хотите знать? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Извольте. Мы отвоюем назад нашу страну. И вот что означает настоящее перемирие. В Ньюкасле находятся тысячи роой батьес. Очевидно, они ждут не подкрепления, а благоприятного случая, чтобы заключить мир на возможно менее унизительных условиях. Мы вернем нашу страну, а вы будете президентом республики. Старик принялся набивать свою трубку. — Вы умный человек, Фрэнк, у вас трезвый взгляд на вещи. Счастье продолжает нам улыбаться. Правительство Англии настолько же сумасшедшее, насколько и его офицеры. Они непременно уступят. Но это означает нечто большее, Фрэнк, — с этими словами он снова стукнул кулаком по столу, — а именно — полный триумф буров во всей Южной Африке. Да, Бюргере был глубоко прав, когда мечтал о великой голландской республике! Я знаю теперь, что такое англичанин. Это человек, который ни о чем понятия не имеет. Он знает только свою лавку, он ею занят, а до остального ему нет дела. Иногда он поднимается с места и заводит лавку еще где-нибудь, а затем постепенно расширяет ее обороты, потому что в торговле понимает толк. Но если его дело начинает конкурировать с интересами метрополии или если относительно этого существует просто-напросто одно подозрение — в таком случае метрополия уничтожает его. Да, многое говорится в Англии, но это все разговоры исключительно о лавках. Толкуют о чести нации, о патриотизме, но лавка берет верх над всем. И вот что я вам скажу, Фрэнк Мюллер: лавка создала Англию и лавка же ее погубит. Тогда и мы получим свою часть, и Африка будет существовать для африканцев. Трансваальцам сперва достанется Трансвааль, а затем и все остальное. Шепстон был не дурак. Он всю страну хотел обратить в английскую лавку, а чернокожих сделать приказчиками. Мы все это изменили на свои лад, но должны быть благодарны и Шепстону. Англичане уплатили наши долги, они оттеснили зулусов, которые в противном случае поглотили бы нас, и в свою очередь дали нам себя разбить. А теперь уж мы управимся и сами, и, пожалуй, как вы говорите, я даже буду первым президентом. — Да, дядюшка Крюгер, — отвечал Фрэнк Мюллер, — а я буду вторым. Великий республиканец взглянул на своего собеседника и проговорил: — Вы смелы, а смелость возвышает человека и создает государства. У вас есть ум, а человек с умом может управлять многими дураками так же, как руль правит кораблем. И я говорю вам, что когда-нибудь, в свою очередь, и вы будете президентом. — Да, я буду президентом и тогда изгоню англичан из пределов Южной Африки. Это я исполню с помощью зулусов из Наталя. Затем я истреблю туземцев, как это сделал Чака[459], и оставлю лишь небольшое количество для услуг. Вот мой план, дядюшка Крюгер, и это прекрасный план. — Это великий план, но я не думаю, что он прекрасен. Вы можете исполнить его, если доживете. Человек с недюжинным умом, к тому же богатый, всего достигнет, если только доживет. Но ведь есть Бог на свете! Я верю, Фрэнк Мюллер, что Бог существует, и я твердо убежден, что Он полагает пределы действиям человека на земле. Если человек преступает эти пределы, Бог поражает его. Если вы доживете, Фрэнк Мюллер, то приведете в исполнение вами задуманное; но может быть, Бог поразит вас прежде. Кто может дать на это ответ? Вы исполните лишь то, что вам повелит Господь, а не то, чего пожелаете сами. Старик говорил серьезно и с глубоким убеждением. Мюллер сознавал, что это не просто громкие слова, которые иные находящиеся у власти буры употребляют в беседах с подчиненными. Он говорил от чистого сердца, и, несмотря на прирожденный скептицизм Мюллера, слова старика глубоко запали ему в душу и повергли его в сомнение, как иногда может повергнуть нас в сомнение правдивое слово разумного человека, хотя бы и противоречащее нашим собственным убеждениям. Умолкнувшие было на время опасения вновь зашевелились в его сердце. Между ними и блестящим будущим разверзлась бездна. Что если бездна эта — смерть, и будущее — одна мечта? Лицо его омрачилось, и генерал заметил произошедшую в нем перемену. — Эх, — воскликнул он, — поживем — увидим! Тем временем вы все же сослужили прекрасную службу отечеству и будете вознаграждены. Если я буду президентом, — слова эти он подчеркнул, что не ускользнуло от внимания его слушателя, — если с помощью своих друзей, я добьюсь президентства, — повторил он, — я не забуду и вас. А теперь мне пора ехать. Мне необходимо быть в Лейнгс Нэке через двое с половиной суток, чтобы слышать ответ генерала Вуда. Вы же позаботьтесь об отправлении военнопленных. — И он встряхнул свою трубку и приподнялся. — Одну минуту, минеер, — промолвил Мюллер, сразу приняв подобострастный вид, — позвольте обратиться к вам с маленькой просьбой. — В чем же дело? — Мне нужен пропуск для моих друзей англичан, находящихся в Претории и отправляющихся к родным в Ваккерструмский дистрикт. Они передали мне свою просьбу через Ханса Кетце. — Вообще-то я не люблю выдавать пропусков, — недовольным голосом заметил генерал. — Вы ведь сами понимаете, как это опасно. Даже удивительно, что вы меня об этом просите. — Это пустячная просьба, минеер, и я не думаю, чтобы она могла иметь какое-либо влияние. Ведь осада Претории протянется не долго, а я в долгу у этих англичан. — Хорошо, хорошо, как знаете. Но если что случится — вы отвечаете. Составьте пропуск, я его подпишу. Фрэнк Мюллер присел к столу и, составив бумагу, пометил ее числом. Содержание бумаги было весьма просто:Предъявителям сего надлежит давать беспрепятственный пропуск.— Однако с таким пропуском можно провести целую толпу людей! — заметил генерал, когда Мюллер протянул ему бумагу для подписи. — Если хотите, он подразумевает, пожалуй, всю Преторию. — Я не знаю, может быть, их двое или трое, — спокойно возразил Мюллер. — Ну, да все равно, вы отвечаете. Давайте перо. — И он принялся выводить неровным почерком свою подпись на бумаге. — С вашего позволения, я возьму с собой двух конвоиров. Вам известно, что завтра я еду принимать в свое ведение управление над Ваккерструмским дистриктом? — Хорошо, хорошо. Это ваше дело, — вы отвечаете. Я не стану вам задавать лишних вопросов, разве что ваши друзья меня к тому принудят. — С этими словами он вышел из комнаты. Когда великий республиканец удалился, Фрэнк Мюллер снова уселся на скамейку и, взглянув на пропуск, принялся рассуждать сам с собой, ибо был слишком умен, чтобы рассуждать с кем-либо иным. — Господь предает врага в мои руки, — промолвил он, усмехаясь и поглаживая бороду, — ну, теперь-то я постараюсь не упустить благоприятного случая, как в тот раз на охоте. А пока помечтаем о Бесси. Вероятно, придется покончить также и со стариком, хоть мне его жаль. Но что же делать? Затем, если что случится с Джесс, Бесси наследует Муифонтейн, а это славный кусочек! Положим, мне его вовсе не надо, я и так богат. Да, я женюсь на ней. Все же это будет лучше, даже в том случае, если она и не пожелает выйти за меня замуж, так как женитьба внушает больше уважения и в конце концов крепче привязывает женщину. За нее некому будет заступиться. Затем она постепенно ко мне привыкнет и сделается просто необходимой для меня, ибо красивая женщина — великая сила даже у моих соотечественников, если только муж сумеет держать ее в руках. Да, я непременно женюсь на ней. Один из способов приобрести любовь женщины — это взять ее в плен, а самое лучшее то, что они это любят. Они рассуждают так: «Значит, я того стою». Это своего рода турнир. Тем слаще будут ее поцелуи, и в конце концов она меня будет тем больше ценить, чем больше я потратил на нее сил и трудов. Так, Фрэнк Мюллер, так! Десять лет тому назад ты рассуждал сам с собой: «В мире существуют только три вещи, из-за которых стоит жить: во-первых, богатство, во-вторых, женщины, в-третьих, власть». Деньги у тебя есть, потому что, так или иначе, а ты самый богатый человек в Трансваале. Через неделю ты будешь обладать женщиной, которую любишь и которая для тебя дороже всего на свете. А через пять лет ты будешь иметь в руках власть, и власть почти неограниченную. Старик умен, он будет президентом. Но я умнее. Вскоре я сяду на его место, вот так, — с этими словами он пересел на генеральское кресло, — а он спустится на одну ступень и сядет на мое. И тогда я буду властвовать. Уста мои будут слаще меда, а десница — тверже стали. Я грозой пройду через всю страну. С помощью кафров я изгоню англичан из пределов моего государства, а затем истреблю моих союзников и завладею их землей. И тогда, — продолжал он, увлекаясь все больше и больше, причем глаза честолюбца сверкали от волнения и ноздри расширились, — я скажу, что действительно стоит жить на свете! Что значит власть! Что значит сознание иметь право все разрушить! Возьмем для примера моего соперника англичанина: сегодня он жив и здоров, а через три дня его не будет, и это сделаю я! Вот что значит власть! Но придет время, когда я протяну лишь руку и то же сделаю с тысячами ему подобных. Вот тогда-то у меня действительно будет неограниченная власть. И тогда я буду счастлив с Бесси! Распаленное воображение увлекало его все дальше и дальше, и по происшествии часа он дошел до состояния, близкого к опьянению. Картина за картиной разворачивались перед его глазами. Он уже представлял себя президентом республики, открывающим народное собрание и направляющим прения согласно своим желаниям. Он видел себя во главе войска, отражающего значительные силы англичан и обращающего их в бегство. Даже место битвы было им избрано — у подножия Драконовых гор в Натале. Затем ему представилась картина безжалостного изгнания туземцев из Южной Африки и неограниченное владычество над покоренным народом. В довершение всего он видел что-то блестящее у своих ног — это была корона! Он дошел до крайних пределов опьянения. Затем последовала реакция. Воображение, которое увлекало его все дальше и дальше, как пестрая бабочка увлекает за собой ребенка, вдруг изменило свое направление, и его уму представились начерченные огненными буквами пророческие слова генерала: «Бог полагает пределы действия человека на земле. Если человек преступает эти пределы, Бог поражает его!» Бабочка опустилась на гроб!
Глава 21
ДЖЕСС ПОЛУЧАЕТ ПРОПУСК
На другой день утром, в половине одиннадцатого, Джесс сидела у входа и по обыкновению что-то вышивала, а Джон был занят укладыванием тех немногих предметов, которые оставались в его распоряжении. По правде сказать, он мало рассчитывал на получение пропуска, но в шутку замечал, что это в сущности такое же полезное времяпрепровождение, как и всякое другое. — Подойдите сюда, Джесс! — обратился он к ней. — Зачем? — откликнулась она, не двигаясь с места и продолжая смотреть на роскошную картину южноафриканской природы, красовавшуюся перед нею. — Затем, что мне хочется поговорить с вами. Она медленно поднялась и с неохотой подошла к нему. — Ну вот, — недовольным голосом проговорила она, — я и пришла. Что вам надо? — Я хотел сказать вам, что кончил укладывать вещи, вот и все. — И вы только для этого меня и звали? — Понятно. Моцион полезен молодым девушкам. Тут он расхохотался, и она последовала его примеру. Конечно, это был пустяк, мелочь, но от этой мелочи становилось тепло на сердце. Очевидно, обоюдная привязанность, даже не высказываемая друг другу, дает особенную прелесть всякой глупости и заставляет от души над нею смеяться. Как раз в эту минуту к ним подошла миссис Невилл и вне себя от волнения заговорила, по обыкновению обмахиваясь шляпой: — Подумайте, капитан Нил, только что прибыли военнопленные, и один из конвоиров уверял, будто привез кому-то пропуск, подписанный неприятельским генералом. Кому бы это могло быть? — Это нам, — быстро отвечала Джесс, — мы отправляемся домой. Я виделась вчера с Хансом Кетце и просила его выхлопотать нам пропуск. Судя по всему, он исполнил просьбу. — Господи! Вы едете домой! Какие счастливчики! Позвольте мне в таком случае черкнуть несколько слов моему дедушке в Капштадт. Вы отправите письмо по почте, когда будете в состоянии это сделать. Старику девяносто четыре года, он уже слаб, но все же ему будет приятно получить от меня весточку, — с этими словами она прошла в комнату с тем, чтобы дать дряхлому родственнику подробный отчет об осаде Претории, насколько это позволяло время. — Джон, — обратилась к нему Джесс, — велите Мути готовиться к отъезду. — Хорошо, — промолвил он, задумчиво поглаживая бороду, и, как бы что-то вспомнив, прибавил: — А вы рады, что едете? — Нет, — отвечала она, вспыхнув, и, отвернувшись, ушла в комнаты. — Мути, — велел Джон зулусу, — готовься к отъезду. Мы едем домой, в Муифонтейн. — Слушаю, хозяин, — спокойно отвечал Мути и отправился исполнять приказание, как будто выезд из осажденного города был самым обычным делом. Это отличительная черта характера зулуса: его ничем нельзя удивить. Джон стоял и смотрел, как Мути чистит лошадей, но мысли его витали далеко. Ему, в свою очередь, тоже было чего-то жаль. Хотя он и стыдился в этом сознаться, но ему не хотелось расставаться с белым домиком. Последнюю неделю он прожил как бы во сне, и все, что выходило за пределы этого сна, представало перед ним в каком-то тумане. Он знал о существовании вокруг него разных предметов, но все они представлялись ему в каких-то неясных очертаниях, их взаимное расположение и относительная величина ускользали от его внимания. Единственным, в чем он отдавал себе отчет и чем жил, была его мечта. Прочее же казалось ему чем-то весьма отдаленным, как те предметы, которые мы теряем в детстве и находим уже в зрелом возрасте. И вдруг всем этим сладким сновидениям должен наступить конец, туман рассеется, и все предметы снова предстанут в прежнем виде. Джесс, с которой он делил все радости и заботы, удалится в Европу, а он женится на Бесси, и все воспоминания, связанные с Преторией, бесследно исчезнут в прошедшем. Но что же делать, так должно случиться. Более того, справедливость и честь требуют, чтобы все случилось именно так, а не иначе; неужели он будет уклоняться от своей прямой обязанности? С другой стороны, он не был бы человеком, если бы не ощущал острой боли в сердце. В самом деле, как неудачно все повернулось для него! К этому времени Мути успел вывести лошадей и спросил, не пора ли их запрягать. — Нет, погоди, — отвечал Джон. — Может быть, все это вздор, — прибавил он про себя. Едва он произнес эти слова, как увидел двух вооруженных буров угрюмого вида и отталкивающей наружности, скакавших по направлению к белому домику в сопровождении четырех конных карабинеров. Буры остановились у калитки, и один из них, сойдя с лошади, подошел к конюшне, возле которой стоял Джон. — Вы капитан Нил? — задал он вопрос на чистейшем английском языке. — Да, это я. — В таком случае вот письмо на ваше имя. Джон развернул письмо — оно не было запечатано — и прочел следующее:Милостивый государь! Предъявитель сего письма везет просимый вами пропуск, с которым вы и мисс Джесс Крофт можете беспрепятственно проследовать в Муифонтейн в Ваккерструмский дистрикт республики. Единственное обязательное для вас условие, предписанное одним из членов великого триумвирата, заключается в том, чтобы вы не везли писем из Претории. Относительно точного исполнения этого пункта вы обязываетесь честным словом в присутствии предъявителя письма, после чего вам немедленно будет вручен пропуск.Письмо было написано по-английски вполне правильно, но не имело никакой подписи. — Кто писал это письмо? — осведомился Джон. — Это не ваше дело, — последовал короткий ответ, — даете ли вы слово относительно соблюдения известного пункта? — Даю. — Прекрасно. Вот вам пропуск, — с этими словами бур передал Джону документ, написанный по-голландски той же рукой, что писала послание; только почерк подписи был другой. Джон взглянул на пропуск и позвал Джесс, чтобы перевести ему содержание документа. Она в это время и сама уже к нему подходила, так как слышала весь разговор. — В пропуске сказано, что его предъявители могут беспрепятственно проследовать в Муифонтейн, — сказала она, — и подпись вполне правильна. Мне знакома рука генерала. — Когда мы должны ехать? — спросил Джон у бура. — Сию минуту — или никогда! — Мне необходимо заехать в лагерь, чтобы объяснить свой отъезд. Иначе подумают, что я бежал. Бур замялся, но, переговорив с товарищем, стоявшим у калитки, согласился, после чего оба отправились к лагерю, предупредив Джона, что будут его там ожидать. Пять минут спустя все было готово, фургон стоял у калитки. Джон тщательно осмотрел ремни и, убедившись, что все в порядке, отправился звать Джесс. Он нашел ее стоящей у порога» всматривающейся в свой любимый ландшафт. Она держала над глазами руку, как бы защищаясь от солнца. Между тем там, где она стояла, солнца не было, и Джон никак не мог догадаться, зачем она прикрывает глаза. На самом же деле девушка плакала от сожаления, что вынуждена покинуть это место, теми тихими и в то же время раздирающими душу слезами, какими иногда плачут женщины. У Джона при виде этой картины сжалось сердце, слезы подступили к горлу, и, чтобы скрыть собственное волнение, он обратился к ней довольно резко: — Ну чего вы там застряли? Неужели лошадям дожидаться вас целый день? Джесс даже не почувствовала этой резкости. Вероятно, она догадывалась о ее причине. К тому же женщины иногда прощают резкость человеку, к которому чувствуют расположение. В эту минуту из комнаты выбежала миссис Невилл, держа в руках конверт. — Извините меня, — затараторила она, — что я вас задержала, хоть я не высказала в письме и половины того, что хотела. Я дошла только до того дня, когда все наши сообщения были прерваны, и думаю, старику и без меня все это давно известно из газет. Но он, вероятно, захочет знать подробности и по ним догадается и об остальном. А может быть, он уже умер и похоронен. Я вам останусь должна за марку. Кажется, она стоит три пенса. Вы их получите, когда мы встретимся вновь. Я начинаю думать, что осада затянется на целую вечность. Ну, прощайте, моя дорогая! Благослови вас Господь! Когда вы отсюда выберетесь, не забудьте послать корреспонденцию в газету «Таймс». Ну, не плачьте. Я бы на вашем месте вовсе не плакала, если б только могла выехать отсюда, — прибавила она, услышав всхлипывания Джесс, горько рыдавшей на ее груди. Немного спустя они сидели в фургоне, а Мути забрался на запятки. — Хватит плакать, Джесс, — укоризненно заметил Джон, кладя ей руку на плечо, — надо терпеть, коли нечем помочь. — Вы правы, Джон, — отвечала она и вытерла слезы. Прибыв в лагерь, Джон объяснил причину своего отъезда. Вначале офицер, заступавший должность коменданта, раненного одновременно с Джоном, воспротивился было его намерению, в особенности когда узнал, что тот дал слово не возить с собой никаких писем. Подумав же немного, он пришел к заключению, что едва ли это грозит каким-либо ущербом для гарнизона. — Как раз наоборот, — добавил он, — ибо у вас будет возможность рассказать, как мы бедствуем в этой Богом забытой яме. Я бы только желал, чтобы и мне кто-нибудь выхлопотал пропуск! После чего Джон обменялся с ним рукопожатием и вышел из палатки, у входа в которую встретил целую толпу ожидавшего народа. Весть об отъезде Джона Нила распространилась в городе с быстротой молнии, и всякий желал как можно скорее лично в этом убедиться. Об отъезде кого-либо из Претории не слышали уже более двух месяцев, и тем понятнее было всеобщее возбуждение и любопытство. — Правда ли, что вы едете, Нил? — крикнул какой-то досужий парень. — Как это вы ухитрились добыть пропуск? — спросил другой с лисьим выражением лица. Он был известен под прозвищем обманщика буров, то есть странствующего торговца, умевшего вводить в заблуждение простодушных голландцев, продавая им втридорога ничего не стоящие товары. — У меня среди буров множество приятелей. Едва ли найдется в Трансваале хоть один бур, который бы меня не знал. (Еще бы им тебя не знать, — вставил сосед). И однако же, несмотря на все мои старания (а они ему довольно-таки дорого обошлись, — промолвил неугомонный сосед), мне так и не удалось добыть себе пропуска. — Неужели ты воображаешь, что буры выпустят тебя, раз ты попался им в лапы? — продолжал мучитель. — Ведь это, дружище, несогласно с человеческой природой. Ты уже снял с них всю шерсть. Неужели они отдадут тебе еще и свои шкуры? Собеседник его замахнулся было на оскорбителя, но был остановлен окружающими. — О, мисс Крофт! — закричала какая-то женщина из толпы, подобно Джесс задержанная в Претории во время кратковременного своего визита к знакомым. — Если вам удастся побывать в Марицбурге, передайте моему мужу, что я жива и здорова, если не считать легкой простуды, нажитой мной из-за того, что приходилось спать на сырой траве. Скажите ему также, чтобы он поцеловал за меня деток. — А я прошу вас, Нил, сказать этим бурам, что мы зададим им хорошую трепку, когда к нам на помощь придет Колли, — обратился к Джону юный англичанин, одетый в форму карабинеров Претории. Пылкий юноша и не подозревал, что генерал Колли, этот храбрый и честный воин, покоится вечным сном на глубине шести футов под землей, с головой, простреленной шальной бурской пулей. — Однако, капитан Нил, если вы готовы, то нам пора ехать, — заметил один из буров по-голландски, стегнув крайнюю лошадь, отчего та как бешеная рванулась вперед. Затем вся четверка понеслась, оставляя справа и слева густые толпы народа, и среди восклицаний и многочисленных пожеланий успеха вскоре совершенно скрылась из виду. В продолжение часа не случилось ничего особенного. Джон сидел на облучке и правил лошадьми, а двое буров ехали верхом. По прошествии часа, когда путники приблизились к гостинице — к тому красному дому, в котором Фрэнк Мюллер беседовал накануне с генералом, — к ним подъехал один из буров и довольно грубо объявил, что необходимо остановиться и немного перекусить. Так как уже был второй час, то предложение это и не встретило противодействия со стороны Джона, и он повернул во двор. Здесь он лично позаботился о лошадях: выпряг их, напоил и задал корму, после чего вошел в здание гостиницы. Буры уже сидели на веранде, и когда Джон вопросительно на них взглянул, то один из них указал чубуком на затворенную дверь. Путники поняли намек и вошли в маленькую комнатку, где увидели готтентотку, устанавливавшую на стол кушанья. — А вот и обед. Ну что ж, поедим! — воскликнул Джон. — Кто знает, когда нам удастся еще раз пообедать! С этими словами он уселся за стол, Джесс последовала его примеру. В эту минуту в комнату вошли оба бура, причем один из них шепнул на ухо товарищу какое-то замечание, от которого другой так и покатился со смеху. Джон покраснел, но сдержался. Он счел это более безопасным, так как, по правде сказать, физиономии обоих конвоиров ему чрезвычайно не нравились. Один из них был высокого роста, со смуглым лоснящимся лицом и самой подозрительной наружностью. Впечатление это усиливалось от того, что поверх верхней губы у него выдавался огромных размеров гнилой зуб. Другой был низенького роста, с сардонической улыбкой и лицом, сплошь покрытым растительностью; густые черные волосы спускались ему на плечи. Когда он смеялся, то брови почти сливались с бородой и усами, и в это время он скорее походил на обезьяну, нежели на человека. Родом он был из самых диких и отдаленных местностей Трансвааля, а именно из предгорий Саутпансберга[460], и ни слова не понимал по-английски. Джесс прозвала его Буйволом за сходство с этим свирепым животным. Товарищ его, напротив, прекрасно говорил по-английски, так как много лет провел в Натале и бежал из колонии из-за какой-то истории, которая должна была привести его на скамью подсудимых. Этого Джесс прозвала Единорогом за его страшный клык. Единорог был удивительно благочестив и, подойдя к столу, к великому смущению Джона, вежливо, но с большой твердостью взял из рук у него нож, которым тот собирался было резать мясо. — Что это значит? — спросил Джон. Бур с грустью покачал головой. — Неудивительно, что вы, англичане, Богом отверженный народ и отданы нам в руки, подобно тому как могущественный царь Ахав был предан в руки израильтян. Садясь за стол, вы даже и не подумали возблагодарить Создателя. — С этими словами он откинул назад голову и запел в нос какую-то длинную голландскую молитву. Не довольствуясь этим, он принялся переводить ее на английский язык, что в свою очередь также заняло немало времени, хотя перевод и не отличался особенной правильностью. По окончании молитвы Буйвол сардонически улыбнулся и произнес «аминь», после чего путники могли продолжать прерванный появлением буров обед, который в общем прошел довольно молчаливо. В сущности они и не могли при данных обстоятельствах ожидать особенного оживления и все свое внимание сосредоточили на еде. В конце концов могло быть и хуже, если бы вовсе не было обеда.
Глава 22
В ДОРОГЕ
Окончив обед, они уже собирались встать из-за стола, как вдруг дверь отворилась и в комнату вошел не кто иной, как сам Фрэнк Мюллер! Да, несомненно это был он, все с той же золотистой бородой, такой же густой и прекрасной и, по мнению Джесс, такой же противной, как и всегда. Холодный взгляд бура остановился на Джоне, и что-то вроде злой усмешки заиграло в углах его красиво очерченного рта. Затем он взглянул на буров, из которых один стальной вилкой чистил зубы, а другой бесцеремонно закуривал трубку над головой Джесс, и лицо его сделалось сумрачно. — Разве вы забыли, что я вам говорил, солдаты? — закричал он, — чтобы вы не смели обедать вместе с пленниками! (Слова эти болезненно отозвались в сердце Джесс). Я вам приказывал обходиться с ними почтительно, а вы расположились здесь чуть ли не на столе и пускаете им дым прямо в лицо. Убирайтесь вон! Бур с лоснящимся лицом и выдававшимся клыком вздохнул, положил на место стальную вилку и удалился, мысленно рассуждая, что с таким начальником, как Фрэнк Мюллер, шутки опасны. Его спутник, Буйвол, заупрямился. — Что? — зароптал он, тряхнув гривой. — Разве я не достоин сидеть за одним столом с проклятыми англичанами — роой батьес и женщиной? Если бы от меня зависело, я бы заставил его вычистить мне сапоги, а ее — нарезать мне табаку! — При этих словах он осклабился, а его брови, баки и усы до такой степени слились вместе, что он стал как две капли воды похож на павиана. Фрэнк Мюллер не стал попусту тратить слов. Он преспокойно подошел к своему подчиненному, схватил его за шиворот и вытолкнул в дверь настолько неловко, что непокорный бюргер ударился головой о косяк, причем его трубка разлетелась вдребезги и лучшее украшение его лица — нос — получило значительные повреждения. — Вот, — промолвил Мюллер, затворяя за ним дверь, — как надо обращаться с подобными молодцами. А теперь позвольте поздороваться с вами, мисс Джесс, — и он протянул руку, которую та холодно пожала. — Я очень рад, что мне удалось оказать вам небольшую услугу, — прибавил он учтиво, — мне было чрезвычайно трудно добиться пропуска от генерала, а потому я прибег к перечислению личных своих заслуг перед республикой, чтобы выудить у него разрешение. Как бы там ни было, но я это дело устроил и с удовольствием берусь проводить вас до самого Муифонтейна. Джесс поклонилась, и Мюллер обратился к Джону, сидевшему в двух шагах от него и тотчас же ответившему ему на поклон. — Капитан Нил, — заговорил он, — мы когда-то с вами повздорили. Надеюсь, что услуга, которую я только что оказал вам, убедит вас в моих миролюбивых намерениях. Я иду дальше. Как я уже сказал однажды, я виноват в нашей ссоре во дворе ваккерструмской гостиницы. Пожмем же друг другу руки и кончим раз и навсегда наше взаимное недоразумение. — Говоря это, он подошел к Джону и протянул руку. Джесс внимательно следила за происходящим. Она знала о предшествовавшей ссоре и полагала, что Джон не дотронется до протянутой руки; вспомнив, однако, в каком они положении, она втайне пожелала, чтобы Нил пожал своему противнику руку. Джон покраснел и, отступив несколько шагов назад, решительно заложил руки за спину. — Мне очень жаль, минеер Мюллер, — проговорил он, — но даже при настоящих обстоятельствах я не могу пожать вам руки. Вы знаете, почему. Джесс видела, как лицо бура перекосилось и покраснело от злости, что, впрочем, случалось с ним довольно часто. — Я не знаю, капитанНил. Пожалуйста, объясните. — Хорошо, я объясню, — спокойно заметил Джон, — вы пытались меня убить. — Что вы этим хотите сказать? — вспылил Мюллер. — То, что говорю. Вы дважды стреляли в меня под предлогом, будто целились в буйвола. Смотрите! — при этих словах он снял с головы свою мягкую черную шляпу, которую постоянно носил. — Видите ли на ней отметину от вашей пули? Тогда я не подозревал умысла, теперь же мне это доподлинно известно, а потому я отказываюсь от чести пожать вашу руку. В эту минуту ярость Мюллера достигла высших пределов. — Вы ответите мне за это, лжец! — закричал он, машинально ощупывая рукой пояс, на котором висел охотничий нож. Несколько минут они молча смотрели друг на друга, причем Джон даже не пошевельнулся. Он стоял спокойно и твердо, как могучее дерево, а его честное, открытое лицо и решительный взгляд представляли полнейшую противоположность демоническому выражению красивого лица голландца. Наконец Джон произнес, медленно выговаривая каждое слово: — Я уже доказал вам однажды, Фрэнк Мюллер, что сильнее вас, и если нужно, готов доказать вновь, несмотря на ваш нож. Пока же считаю необходимым напомнить вам, что мне выдан пропуск за подписью вашего генерала, подтверждающий нашу безопасность. А теперь, минеер Мюллер, — при этих словах глаза Джона сверкнули, — я готов. Голландец вынул нож и затем заткнул его обратно за пояс. С минуту он колебался, не покончить ли ему все дело разом, но вдруг вспомнил о присутствии третьего лица. — Пропуск за подписью генерала! — воскликнул он, забыв всякую осторожность. — Сильно вам поможет этот пропуск! Вы в моей власти, капитан. Мне стоит сжать руку — и я раздавлю вас. Впрочем, постойте, — прибавил он, как бы опомнившись, — мне надо быть немного снисходительнее. Вы один из представителей разбитого нами войска и, будучи вне себя, не знаете, что говорите. Во всяком случае теперь этот разговор неуместен, в особенности в присутствии дамы. Когда-нибудь мы решим этот спор, как подобает порядочным людям, капитан Нил. Теперь же, с вашего позволения, мы его на время прекратим. — Правда, минеер Мюллер, — отвечал Джон, — только пожалуйста, не просите меня впредь пожимать вашу руку. — Хорошо, капитан Нил, а пока я велю вашему слуге запрягать лошадей. Нам надо спешить, если мы хотим засветло добраться до Хейдельберга. Он поклонился и вышел из комнаты, чувствуя, что неумение владеть собой сильно повредило успеху его планов. — Черт бы его побрал! — пробормотал он. — Этот человек именно то, что у англичан именуется джентльменом. Все-таки большая храбрость с его стороны отказаться от рукопожатия, когда он находится в моей власти. — Джон, — заговорила Джесс, как только дверь затворилась. — Я боюсь этого человека. Если бы я знала, что пропуск получен при его содействии, я бы ни за что не согласилась его взять. Мне и тогда почерк показался знакомым. Напрасно мы не остались в Претории! — Что с воза упало, то пропало! — промолвил Джон. — Будем стараться с честью выйти из беды. С вами ничего не случится, но меня он ненавидит от всего сердца. Вероятно, это из-за Бесси. — Да, из-за нее, — отвечала Джесс, — он до безумия влюблен в Бесси. — Удивительно, что человек до такой степени может быть влюблен, — проговорил Джон, закуривая трубку, — но это лишь доказывает, какие странные люди бывают на свете. Если он меня так ненавидит, Джесс, то для чего же он в таком случае хлопотал о пропуске? Какая у него была цель? Джесс покачала головой и отвечала: — Не знаю, Джон, но мне это подозрительно. — Не думает же он убить меня из-за угла, как пытался однажды? — О нет, Джон! — каким-то особенно взволнованным голосом воскликнула она. — Нет, я не думаю. — Ну что ж, едва ли он этим хоть сколько-нибудь поможет делу, — полугрустно-полушутливо заметил Джон. — Это только ускорит развязку и избавит меня от многих терзаний. Но я, кажется, напугал вас и потому скажу, что, на мой взгляд, он пока действует честно и ведет игру открыто. А вот и Мути зовет нас. Дали ли ему эти животные что-нибудь поесть? Возьмем на всякий случай с собой этот кусок баранины. По крайней мере, минеер Мюллер хоть с голоду не уморит меня. — И, рассмеявшись, он вышел из комнаты. Несколько минут спустя они уже ехали по дороге. Как раз перед отъездом к ним подошел Фрэнк Мюллер, снял шляпу и объявил, что рассчитывает нагнать их на другой день за Хейдельбергом, причем предупредил, что в этом городе они найдут все удобства для ночлега. Но если паче чаяния ему не удастся встретиться с ними за Хейдельбергом, то виной тому будут дела. В последнем случае буры обязаны проводить их до самого Муифонтейна. — И, — прибавил он многозначительно, — вы увидите, что на этот раз с вами будут уже более почтительны. Вслед за этим он ускакал на своем огромном вороном коне, оставив путников в недоумении, но зато с несколько облегченным сердцем. — Однако, — заметил Джон, — все это мало похоже на бесчестную игру с его стороны, разве только он готовит нам горячий прием. Джесс пожала плечами. Она не понимала этой игры. Немного погодя они пустились в свое долгое и бесконечное путешествие. Им следовало проехать около сорока миль, но конвоиры, или, скорее, сторожа, согласились только на одну остановку, и то лишь под открытым небом, незадолго до заката. После заката они двинулись далее по постепенно темневшим полям. Дорога была из рук вон плоха, и до восхода месяца, то есть приблизительно до девяти часов, ехать было и тяжело, и небезопасно. Потом стало немного легче. Наконец около одиннадцати часов они прибыли в Хейдельберг. Город показался им совершенно опустевшим. Очевидно, главные силы буров из него удалились, и в городе остался лишь небольшой отряд для защиты местонахождения нового правительства. — Где мы остановимся? — поинтересовался Джон у Единорога, уже начинавшего от усталости клевать носом. — В гостинице, — последовал лаконичный ответ. Спустя короткое время они подъехали к одной из гостиниц, по освещенным окнам которой Джон заключил, что она еще не совсем необитаема. Джесс, несмотря на тряску экипажа, спала крепким сном уже на протяжении более чем двух часов. Ее рука была закинута за спинку сиденья, а голова покоилась на плаще Джона, который устроил из него нечто вроде подушки. — Где мы? — встрепенувшись и вся задрожав, спросила она, как только фургон остановился. — Мне приснился страшный сон. Мне снилось, будто я всю жизнь еду, еду без конца, и вдруг все остановилось и я умерла. — И неудивительно, — засмеялся Джон, — последние десять миль дорога была тяжела, словно иная жизнь. Мы приехали в гостиницу. Вот идут служители, чтобы принять лошадей. — И он соскочил с повозки, после чего помог сойти и Джесс, а вернее, взял ее на руки, так как сама она была не в состоянии двигаться. В дверях гостиницы со свечей в руках стояла молодая женщина, англичанка довольно приятной наружности, приветствовавшая их от чистого сердца. — Фрэнк Мюллер был здесь часа три тому назад и предупредил о вашем приезде, — произнесла она. — Я очень рада, что снова вижу английские лица. Меня зовут миссис Гук. Не знаете ли вы, как поживает мой муж в Претории? Он поехал туда в тот самый день, когда началась осада, и с тех пор о нем ни слуху ни духу. — Я его знаю, — отвечал Джон, — он совершенно здоров. Месяц тому назад он был легко ранен в плечо, но теперь уже полностью поправился. — Слава Богу! — воскликнула молодая женщина и заплакала. — Эти злодеи уверяли меня, что он убит, очевидно для того, чтобы меня помучить. Ступайте за мной, мисс. Когда вы приведете себя в порядок, то вам уже будет подан горячий ужин, а прислуга тем временем позаботится о лошадях. Они последовали за ней и почувствовали себя настолько счастливыми, насколько хороший ужин, радушный прием и мягкие постели могут сделать счастливыми людей, находящихся в подобном положении. На другой день поутру один из конвоиров послал им сказать, что двинуться в путь можно будет не раньше половины десятого, так как лошади измучены и для них необходим более продолжительный отдых. Поэтому наши путники могли остаться в гостинице еще на несколько часов, а всякий, кому доводилось путешествовать по Южной Африке, знает, какое это великое благодеяние. В девять часов они позавтракали, и как только часы пробили половину десятого, Мути подал лошадей. В это время в комнату вошли и оба бура. — Ну, миссис Гук, — обратился Джон к хозяйке гостиницы, — сколько вам следует заплатить? — Ничего, капитан Нил, ничего! Если бы вы только знали, какое бремя вы сняли с моей души! А кроме того, мы почти разорены: буры отняли весь скот и лошадей моего мужа, и до последней недели шестеро из них квартировали у меня, не заплатив ни пенса. Вот почему для меня это и не составляет большой разницы. — Не огорчайтесь, миссис Гук, — попытался успокоить ее Джон, — правительство возместит вам все убытки, как только война будет окончена. Миссис Гук с сомнением покачала головой. — Я не жду от них ничего, — отвечала она, — если бы мне только удалось вернуть мужа и выбраться с ним из этого проклятого места, я бы была вполне счастлива… Смотрите, капитан Нил, — продолжала она, — я уложила вам в фургон целую корзину провизии: хлеба, мяса, вареных яиц и бутылку водки. Все это вам пригодится в дороге. Вот только не знаю, где вы будете ночевать, так как англичане до сих пор еще держат в своих руках Стандертон и вам придется там останавливаться. Нет, не благодарите меня, не за что. Я не могла поступить иначе. Прощайте, прощайте, мисс, дай Бог вам благополучно добраться до дому. Все-таки оглядывайтесь иногда. Оба ваших проводника — люди ненадежные. Про бура с лоснящимся лицом и торчащим зубом я слышала, что он пристрелил двоих раненых уже по окончании битвы при Бронкерс Сплинте, и про его товарища тоже мало знаю хорошего. Они сегодня на кухне что-то очень хохотали и о чем-то перешептывались между собой. Кто-то из моей прислуги даже подслушал кое-что из их разговора, а именно как длинноволосый уверял товарища, что оба они избавятся от вас завтра ночью. Что он хотел этим сказать — неизвестно; может быть, то, что их сменят другие. Я же на всякий случай сочла своим долгом вас об этом предупредить. Лицо Джона сделалось мрачно, и умолкнувшие было подозрения вновь зашевелились в его душе. Но в ту же самую минуту к ним приблизился верхом один из буров и объявил, что пора ехать. Второй день путешествия составлял полную противоположность первому. Дорога была пустынна, и, за исключением коз и оленей, мелькавших там и здесь по склонам гор, они не встретили никого — ни буров, ни англичан, ни кафров. Только один раз, около двух часов пополудни, вскоре после небольшой остановки, однообразие их путешествия было нарушено незначительным приключением. Лошадь Буйвола нечаянно попала ногой в нору муравьеда и, споткнувшись, скинула всадника с седла. Хотя он тотчас вскочил на ноги, но сильно расшибся, ударившись лбом о пень когда-то свалившегося от старости дерева. Его волосатое лицо сплошь покрылось кровью. При виде этой картины второй бур так и покатился со смеху, ибо существуют люди, которым несчастья ближних кажутся донельзя смешными. Раненый же разразился грубой бранью и старался остановить кровь полой одежды. — Погодите, — обратилась к нему Джесс, — вот там в лужице есть немного чистой воды. — И, сойдя с повозки, она подвела к ручью раненого бура, чьи глаза были залиты кровью. Тут она заставила его опуститься на колени и принялась обмывать рану, которая, к счастью, оказалась неглубокой, пока кровь не остановилась, после чего наложила на раненое место кусочек ваты, случайно взятой с собой в дорогу, и повязала голову собственным платком. Бур казался тронутым ее добротой. — Боже мой! — воскликнул он. — У вас доброе сердце и нежные пальцы. Моя жена не могла бы сделать этого лучше. Как жаль, что вы англичанка! Джесс не отвечала и молча уселась в фургон, который и покатил дальше, причем Буйвол с пестрым платком на голове и запекшейся кровью, которую он даже не потрудился смыть с бороды, еще менее, чем когда-либо, стал походить на человеческое существо. Затем путешествие продолжалось уже без всяких приключений, и незадолго до заката солнца маленький отряд остановился для ночлега на перекрестке двух дорог, из которых одна, представлявшая собой едва заметную тропинку, ведущую к Стандертону, извилистой лентой терялась вдали.Глава 23
ВБРОД ЧЕРЕЗ ВААЛЬ
Весь день стояла невыносимая жара и духота, и путники, защищаясь от палящих лучей солнца в тени, падавшей от фургона, еле могли переводить дыхание. Правда, около полудня повеял было легкий ветерок, но к вечеру он стих, и в воздухе начинало сильно парить. Оба бура, разметавшись поблизости на траве, по-видимому, крепко спали. Что касается лошадей, то они до такой степени утомились и изнемогли, что были просто не в состоянии есть и лениво бродили стреноженные по полю, пощипывая иногда травку то здесь, то там. Единственным кто не обращал никакого внимания на зной, был зулус Мути, сидевший возле лошадей на самом солнцепеке и напевавший какую-то песенку собственного сочинения, ибо зулусы так же музыкальны, как и итальянцы. — Съешьте еще одно яичко, Джесс, — уговаривал девушку Джон. — Нет, благодарю, и последнее-то еще стоит у меня в горле. Просто нет возможности есть в такую жару. — А все же я бы советовал вам сделать по-моему. Кто знает, где и когда будет следующая остановка. Я решительно ничего не мог выведать у наших прелестных проводников. Или они сами не знают, или же не хотят сказать. — Нет, Джон. Кажется, будет гроза, я чувствую ее приближение, а я никогда не могу есть перед грозой или когда устала, — прибавила она в раздумье. Разговор на некоторое время умолк. — Джон, — обратилась к нему Джесс, — как вы полагаете, где мы остановимся для ночлега? Если мы пойдем прямо, то уже через час будем в Стандертоне. — Едва ли они направят путь к Стандертону, — отвечал он, — я думаю, мы перейдем реку Вааль вброд где-нибудь в ином месте. Как раз в эту минуту проснулись оба бура и принялись горячо о чем-то спорить между собой. Между тем величественное светило, совершив свой дневной путь, медленно спускалось к горизонту в виде огромного огненного шара, постепенно окрашивая в багровый цвет небо и весь необъятный велд. На расстоянии приблизительно ста ярдов от того места, где остановились путники, узкая тропинка, ведущая в сторону от большой дороги, пересекала одну из таких возвышенностей, которые наподобие застывших длинных волн рядами тянулись по всему беспредельному пространству велда. Джон некоторое время любовался закатом, как вдруг его внимание было привлечено каким-то странным предметом. Взглянув еще раз в том же направлении, он заметил стоявшую на возвышении неподвижную фигуру всадника, ярко освещенную последними лучами догоравшего солнца. Это был Фрэнк Мюллер. Джон его тотчас узнал. Лошадь Мюллера стояла немного боком, так что на сравнительно большом расстоянии уже можно было различить черты лица ее владельца. Ружье же, лежавшее у него на коленях, до такой степени ясно выделялось на кроваво-красном фоне неба, что его легко было рассмотреть до мельчайших подробностей. И он, и лошадь казались объятыми пламенем. Эффект был до того поразителен, что Джон не мог удержаться, чтобы не обратить на него внимание своей спутницы. Она взглянула и невольно вздрогнула. — Он похож на дьявола из преисподней, — заметила она, — огненные струйки так и бегают по нему. — Да, — согласился Джон, — без сомнения, это дьявол. Жаль только, что он еще не добрался до своего подземного царства. Вот он несется сюда, как вихрь. В это время Мюллер пришпорил своего огромного вороного коня и мигом очутился возле них. Несколько мгновений спустя он уже обратился к ним с речью, приятно улыбаясь и держа шляпу в руке. — Видите, я сдержал свое слово, — начал он, — хоть это и стоило мне больших трудов, тем не менее я теперь весь к вашим услугам. — Где мы будем ночевать? — осведомилась Джесс. — В Стандертоне? — Нет, — ответил он, — это было бы больше того, что я могу предложить вам, разве только вам удалось бы убедить начальника гарнизона сдаться. Я решил иначе: мы перейдем Вааль вброд в том месте, которое я укажу, в двенадцати милях отсюда, и переночуем на ферме уже на другом берегу. Не беспокойтесь. Уверяю вас, в эту ночь вы оба отлично выспитесь, — при этом он улыбнулся, как показалось Джесс, какой-то странной, загадочной улыбкой. — Но позвольте, минеер Мюллер, — поинтересовался Джон, — безопасен ли брод? Я полагал, что Вааль сделался непроходимым от дождей, шедших последнее время. — Брод совершенно безопасен, капитан Нил. Я сам по нему перешел часа два тому назад. Конечно, я знаю, вы плохого обо мне мнения, но неужели вы полагаете, что я вас поведу в опасное место? — И, поклонившись еще раз, он произнес: — Велите кафру запрягать лошадей, — после чего подъехал к бурам. Джон встал, пожал плечами и подошел к Мути, чтобы помочь ему управиться с четверкой серых, которые теперь стояли вместе и вздрагивали от укусов мух, в большом количестве появившихся перед грозой и жаливших сильнее обыкновенного. Лошади проводников стояли несколько поодаль, как бы сознавая свое преимущество и не желая смешиваться с животными, принадлежавшими англичанам. Буры тотчас же встали перед своим начальником и отправились за лошадьми, а Фрэнк Мюллер последовал за ними. Когда они подошли к лошадям, то благородные животные шарахнулись в сторону и подняли головы, а вместе с тем и переднюю ногу, к которой были привязаны их шеи, и искоса посматривали на хозяев, как бы решая вопрос, стоят ли они того, чтобы пожать им руку. Фрэнк Мюллер стоял подле проводников, которые в это время взяли в руки поводья своих лошадей. — Слушайте! — сурово произнес он. Буры подняли головы. — Твердо ли помните мои приказания? Повторите их! Бур с торчащим зубом, к которому обратился Мюллер, начал так: — Довести обоих пленников до Вааля, заставить их ночью спуститься в реку в том месте, где нет брода, чтобы их утопить. Если же они не утонут, то застрелить их. — Да, именно таковы приказания, — подтвердил Буйвол, сморщив в улыбке лицо. — Вполне ли вы их себе усвоили? — Вполне, минеер, но простите, дело это очень ответственное. Приказание вы передали устно, нам бы хотелось иметь письменное его подтверждение. — Да, да, — согласился и второй. — Дайте нам письменное подтверждение. Эти пленники — люди безобидные. Нельзя их лишать жизни без особого на то распоряжения законной власти, хоть они и англичане, в особенности если здесь замешана девушка, которая могла бы быть прекрасной женой. Фрэнк Мюллер заскрежетал зубами. — Славные вы подчиненные! — воскликнул он. — Я ваш начальник, какой еще вам нужно законной власти? Но я это предвидел. Вот! — С этими словами он вынул письменное удостоверение из кармана. — Читайте, да смотрите, держите бумагу осторожнее, чтобы ее не могли увидеть из фургона. Единорог взял в руки бумагу и прочел вслух:Сим предписывается обоих пленников и их слугу (то есть англичанина, девушку англичанку и молодого кафра) подвергнуть казни по указанию вашего начальника, как врагов республики. В чем и выдано настоящее удостоверение.— Ну что, видите подпись? — снова заговорил Мюллер. — Теперь, надеюсь, вы больше не сомневаетесь? — Да, мы видим подпись и больше не сомневаемся. — Прекрасно. Отдайте же мне бумагу. Единорог собирался было исполнить приказание, но его товарищ вдруг воспротивился. — Нет, — заявил он, — предписание должно остаться при нас. Если бы дело шло только об англичанине и кафре, а то здесь замешана девушка! Если мы отдадим бумагу, то чем оправдаем свое злодеяние? Предписание должно непременно остаться у нас. — Да, да, он прав, — согласился и Единорог, — пусть лучше оно останется у нас. Спрячьте его, Джон! — Черт бы вас побрал совсем! Отдайте его мне! — процедил сквозь зубы Мюллер. — Нет, Фрэнк Мюллер, нет! — отвечал Буйвол, похлопывая себя по карману. При этом все его лицо снова сморщилось в улыбке, и только небольшое пространство около носа оставалось свободным от волос. — Если вы желаете оставить бумагу при себе, мы ее, конечно, возвратим, но в таком случае тотчас же вернемся назад, а вы и сами можете совершить убийство. Выбирайте; мы будем очень рады вернуться домой, так как это убийство нам не по сердцу. Когда я выхожу на охоту, то стреляю оленей да кафров, но не белых людей. Фрэнк Мюллер задумался, а вслед за тем расхохотался. — Забавный народец эти доморощенные буры! — произнес он. — Что ж, с вашей точки зрения вы, пожалуй, и правы. В конце концов, не все ли равно, в чьих руках останется предписание, лишь бы оно было в точности исполнено! — Да, да, — отвечал бур с лоснящимся лицом, — в этом отношении вы можете на нас положиться. Они не первые, которых мы уложили. Раз у меня на руках имеется разрешение, то я не могу представить себе большего наслаждения, чем пристрелить англичан. Я готов охотиться за ними день и ночь. Для меня не существует лучшей картины, нежели вид падающего англичанина. — Ну, довольно этой болтовни, седлайте лучше лошадей: фургон уже давно вас дожидается. Вы, дураки, не понимаете разницы между убийством, когда оно действительно необходимо, и убийством ради пустого времяпрепровождения. Эти люди должны умереть, ибо они изменили стране. — Да, да, — поддакнул Буйвол, — они изменили стране, мы это уже слышали. Кто изменяет стране, тот должен утучнить собой землю. Справедливый закон. — С этими словами он удалился. Фрэнк Мюллер со злобным выражением лица следил за удаляющейся фигурой бура. — Вот ты каков, приятель, — процедил он сквозь зубы, — будь спокоен, не пройдет и нескольких часов, как ты расстанешься с этой бумагой. Ведь таким образом дождешься, пожалуй, что меня повесят! Старик никогда не простит мне этой маленькой подлости, совершенной его именем. Сколько, однако, надо потратить трудов и забот, чтобы отделаться от одного-единственного врага! Зато Бесси вполне стоит того, чтобы ради нее решиться на такой шаг. Но надо также сознаться, что, если бы не война, мне никогда не удалось бы так удачно уладить свои делишки. Хорошо, что я подал голос за войну. Мне жаль эту бедную Джесс, но что же делать? Нельзя же оставлять в живых свидетеля. Кажется, однако, что ночью будет ненастье. Тем лучше. Такого рода дела лучше всего сходят во время бури! Мюллер был прав: гроза быстро надвигалась, и черные тучи со всех сторон все больше и больше застилали небо. В Южной Африке сумерки продолжаются недолго, и ночь является на смену догорающему дню незаметно. Не успело гневное огненное светило скрыться за горизонтом, как наступила ночь, раскинувшая над землей свой звездный покров. А вслед за ней явилась гроза и всесокрушающей рукой скрыла великолепие южной ночи. В воздухе стояла невыносимая духота. Посреди неба еще оставалось небольшое пространство, усеянное звездами; на востоке тяжелые грозовые тучи беспрестанно разрезали молнии, а на той стороне неба, где незадолго до того пылало кровавое зарево, алела едва заметная полоса, отражавшая отблеск лучей давно уже зашедшего солнца. Лошади пустились дальше к западу в полной темноте. К счастью, дорога была гладкая и без выбоин. Фрэнк Мюллер скакал впереди, указывая дорогу. Наступила мертвая тишина. Не слышно было ни пения птиц, ни крика животных, ни даже шелеста травы, колеблемой ветром. Единственным, что еще свидетельствовало о жизни природы, была не прекращающаяся ни на минуту молния, прорезывавшая мрак ночи целыми потоками ослепительного света. Таким образом промелькнуло еще несколько миль. Теперь всадники были уже недалеко от реки, и до их слуха ясно долетали раскаты грома и эхо, отдававшееся по скалистым берегам. Ночь была ужасна. Грязновато-серые облака спустились к самой поверхности земли и двигались им навстречу без всякого, по-видимому, участия ветра. Из-за туч выглянула луна и, подернутая туманом, бросала тусклый свет на окружающие предметы, которые, казалось, трепетали от страха в бледном сиянии месяца. Облака все больше и больше застилали пространство, а следом за ними тянулись черные тучи. Фургон уже подъехал к самому берегу реки, и до путников ясно доносился гневный рокот волны. Слева от них возвышалась груда залитых лунным сиянием белых камней, походивших на гигантские плиты. — Глядите, Джон, глядите! — в ужасе воскликнула Джесс и при этом нервно расхохоталась. — Эта груда камней выглядит, как огромное кладбище, а отбрасываемые ими тени напоминают выходцев с того света. — Пустяки, — сурово отвечал Джон, — с чего это вам лезут в голову всякие небылицы? Он чувствовал, что ее мысли мешаются, и, кроме того, сознавал, что и его собственное воображение сильно расстроено, а потому был зол на нее и решил постараться лучше владеть собой. Джесс не возражала, но она была объята ужасом, сама не зная почему. Вся эта грозная картина представлялась ей каким-то тяжелым сновидением. Без сомнения, приближение бури было отчасти причиной расстройства ее нервов. Даже привычные лошади — и те храпели и дрожали всеми членами. Они переехали гребень одного из холмов, и затем колеса фургона покатились по мягкой траве. — Мы сбились с дороги! — закричал Джон, обращаясь к Мюллеру, ехавшему впереди. — Ничего, ничего. Это кратчайшее расстояние к броду! — успокоил он, и голос его как-то странно и глухо прозвучал среди окружающей тишины. В сотне ярдов от них, при слабом сиянии месяца, скрывшегося за тучи, едва мерцало огромное водное пространство реки. Через пять минут они спустились на отмель, но никак не могли различить в темноте противоположного берега. — Держите влево, — заревел Мюллер, — брод всего в нескольких ярдах вверх по течению. Здесь слишком глубоко для лошадей. Джон повернул и поехал к месту, где с шумом струилась и бурлила вода. — Вот и брод, — произнес Мюллер, — на той стороне ферма, и хорошо бы до нее добраться, пока еще не разыгралась буря. — Положим, это так, — возразил Джон, — но я ни зги не вижу и даже не знаю, куда править. — Держите прямо. Вода не глубже трех футов, а кроме того, здесь много подводных камней. — Я не пойду, вот и все. — Вы должны ехать, капитан Нил. Вам нельзя здесь оставаться, а если бы даже вы этого желали, то мы не можем. Глядите! — С этими словами он указал рукой по направлению к востоку, который теперь представлял ужасную и вместе с тем величественную картину. Вправо от них всю восточную сторону неба застилала огромная грозовая туча, имевшая подобие надувавшегося паруса; на поверхности этой тучи беспрестанно сверкала и играла молния — то в виде целых потоков пламени, то в виде длинных огненных языков и змеек. Этот перемежающийся блеск был силен до такой степени, что, казалось, воспламенял даже грязновато-серые облака и всю безграничную даль. Но самое тяжелое впечатление производила наступившая сверхъестественная тишина. Отдаленные раскаты грома уже умолкли, и теперь буря в грозном и величественном молчании шествовала бесшумно и беззвучно, как привидение. Впереди мчались ее скорые вестники — оторванные облака, а позади нависла непрерывная сеть дождя. В это время порывом ледяного ветра фургон накренило набок, и молния засверкала еще сильнее. Очевидно, буря началась. — Вперед, вперед! — ревел Мюллер. — Вы здесь погибнете. Молния всегда ударяет по берегам реки! — И он со всей силы стегнул по спинам лошадей. — Мути, попробуй перелезть через фургон и взобраться на козлы, чтобы помочь мне управиться с лошадьми! — воскликнул Джон, обращаясь к зулусу. Расторопный мальчишка повиновался и расположился между ним и Джесс. — А теперь, Джесс, соберитесь с духом и помолитесь, ибо, сдается мне, вскоре нам это понадобится. Вперед, лошадки, вперед! Лошади подались было назад, но Мюллер с одной стороны, а бур с лоснящимся лицом с другой начали их немилосердно хлестать, и тогда они взвились на дыбы и затем стремглав бросились в реку. Порыв ветра утих, и снова воцарилась мертвая тишина. Только где-то внизу клокотала вода и слышалось шипение дождевых капель. Сначала все, по-видимому, обстояло благополучно, но вдруг Джон заметил, что передняя пара лошадей начала погружаться в воду и едва в состоянии сопротивляться течению. — Черт вас побери! — закричал он на берег. — Да здесь никакого брода нет. — Ничего, ничего, вперед! — послышался в отдалении голос Мюллера. Джон больше не возражал, но напряг все свои силы и круто повернул назад к берегу. Джесс обернулась, и в то же время молния осветила Мюллера и обоих его сообщников, сошедших с лошадей и направлявших дула своих ружей на фургон. — Боже милосердный! — воскликнула она. — Они собираются в нас стрелять! Едва она произнесла эти слова, как три огненные струйки вылетели из стволов, и зулус Мути, сидевший рядом с ней, грохнулся головой вперед на дно фургона, между тем как одна из лошадей, составлявших заднюю пару, встала на дыбы и с криком предсмертной агонии скрылась под водой. Затем последовала ужасная сцена, от которой немеет мое бедное перо. Наверху яростно ревела буря, а молния превратилась в настоящий огненный дождь. Гром гремел подобно трубному гласу в день Суда. Ветер все усиливался и, скользя по поверхности воды, обращал ее в пену; забравшись внутрь фургона, сорвал его с места, так что он поплыл. Передняя пара лошадей, напуганная завыванием бури и предсмертным барахтаньем задней лошади, бешено ринулась вперед и, разорвав постромки, исчезла в кипящей бездне. Теперь фургон, медленно крутясь, плыл вниз по течению, время от времени касаясь дна реки. Вместе с ним плыла и убитая лошадь, своей тяжестью увлекая в пучину и оставшуюся в живых. Страшен был вид этой борьбы — борьбы не на жизнь, а на смерть — при свете молнии, но под конец лошадь все же выбилась из сил, и ее постигла печальная участь остальных ее подруг по несчастью. А между тем, несмотря на свист ветра и на вой бури, всякий раз, как только на берегу показывались огненные струйки, до погибающих отчетливо доносился грохот ружейных выстрелов. Мути лежал на дне фургона, раненный пулей между лопаток и с простреленной головой, но Джон чувствовал, что жизнь еще бьется в юном теле, хотя смерть уже наложила на лицо бедного мальчика свою печать. Инстинктивно Джон придвинулся к Джесс и прикрыл ее своим телом, смутно надеясь защитить девушку от смертоносных пуль. Выстрелы раздавались один за другим, но какая-то невидимая сила хранила несчастных, и хотя одна пуля прострелила верхнюю одежду Джона, а две других — платье Джесс, ни одна не задела их самих. Вскоре выстрелы стали раздаваться реже, а вслед за тем частый дождь и густая мгла заволокли их такой непроницаемой пеленой, что даже при свете молнии убийцы на берегу не в состоянии были различить местонахождение фургона. — Довольно, — сказал Фрэнк Мюллер, — перестаньте стрелять, фургон утонул, и они погибли. Ни один человек не в состоянии уцелеть после такой перестрелки и не сделаться жертвой многоводного Вааля в такую ночь. Оба бура прекратили стрельбу, а Единорог покачал головой и заметил товарищу, что ненавистные англичане вряд ли чувствуют себя хуже в воде, нежели сами они — на суше. Буйвол не отвечал. На душе у него лежала тяжесть, и воображение его было расстроено. Он думал о нежных пальцах, которые еще утром обмывали его рану — платок девушки до сих пор красовался у него на голове. Теперь эти пальцы в предсмертной тоске цепляются о скользкие и острые камни на дне Вааля, а может быть, они уже окоченели, и в ногти забился мелкий песок. Это были грустные мысли, но он вспоминал о приказе и утешался тем, что сознавал себя неповинным в убийстве несчастных англичан, так как всякий раз с намерением стрелял мимо. Мюллер тоже думал о подделанном им приказе. Он непременно должен был им завладеть, даже в том случае, если бы… — Однако нам надо как-нибудь укрыться от непогоды, — заговорил Единорог, — недалеко отсюда есть местечко, защищенное пригорком от дождя. Мы промокли до костей. Лошадей седлать нельзя, пока не рассветет. Хорошо бы теперь подкрепиться! Господи! Мне до сих пор все еще мерещится лицо этой девушки! Молния осветила его как раз в тот момент, когда я в нее стрелял. Да, теперь она, бедняжка, уже на небе, если только англичане туда попадают. Так говорил Единорог. Буйвол же не отвечал, но отправился вместе с товарищем к тому месту, где находились лошади. Животные смирно стояли в ожидании хозяев, понурив головы. Вода так и струилась с них ручьями. Фрэнк Мюллер стоял возле своего коня и следил за бурами, пока оба не скрылись в темноте. Каким же образом добыть приказ, не обагряя еще раз в крови руки, и без того красные от злодеяний? Ответ последовал независимо от него самого. В это мгновение раздался один из тех страшных громовых ударов, какими иногда заканчиваются южноафриканские грозы. Молния осветила всю местность от края до края, и в самой середине пламени Мюллер разглядел обоих сообщников преступления и их лошадей, как некогда великий царь разглядел отроков в пещи огненной[461]. Они находились всего в сорока шагах. Один миг он видел их стоявшими на ногах; в следующее же мгновение они пали на землю. Затем все погрузилось в глубокий мрак. Мюллер вздрогнул и, когда снова стемнело, бросился к бурам, называя их по именам. Но ни один из них не откликнулся, лишь эхо раздавалось вдали. В это время луна начала понемногу пробиваться из-за туч. Ее бледное сияние осветило трупы, один из которых лежал на спине с лицом, искаженным судорогами и обращенным кверху, а другой — лицом к земле. Возле них лежали трупы и обеих лошадей. Они погибли со своими всадниками и ради них. Молния поразила преступников, как поражает многих безвинных людей в Южной Африке! Фрэнк Мюллер стал дико озираться кругом, а затем, забыв о приказе и обо всем на свете и считая происшедшее видимой небесной карой, бросился, как сумасшедший, к лошади и ускакал во весь опор, словно преследуемый и гонимый всеми ужасами и видениями ада.
Глава 24
ПРИЗРАКИ СМЕРТИ
Стрельба с берега умолкла, и Джон со свойственным англосаксонской расе присутствием духа сообщил, что по крайней мере, с этой стороны всякая опасность пока миновала. Джесс лежала неподвижно на дне фургона, склонив голову к нему на грудь. Страшная мысль мелькнула в его уме. Ему представилось, что ее могли ранить, могли даже убить. — Джесс, Джесс, — воскликнул он, заглушая рев бури, — как вы себя чувствуете? Она подняла голову и отвечала: — Благодарю вас, ничего. А как наши дела? — Одному Богу известно. Лежите себе спокойно, все обойдется благополучно. Но в глубине души он сознавал, что далеко не все обстоит благополучно и что всякую минуту они подвергались опасности утонуть. Они плыли, медленно кружась, вниз по бушующей реке. С минуты на минуту фургон мог опрокинуться, и тогда… В это время колесо ударилось о какой-то подводный предмет, и повозка, вздрогнув, мгновенно остановилась. Спустя некоторое время она поплыла дальше, как бы за что-то задевая. «Вот и конец», — подумал Джон, ибо в эту минуту вода начала просачиваться сквозь дно. Затем фургон снова за что-то зацепился и накренился в сторону. В действительности же произошло следующее. Повозка наткнулась на подводный камень. Течением отнесло мертвых лошадей в одну сторону, а фургон — в другую. Таким образом последняя стала качаться на одном месте, причем роль якоря выпала на долю лошадей, канатом же служили вожжи и постромки. Пока вожжи и сбруя оставались целы, наши путники были в сравнительной безопасности, но само собой разумеется, они этого не знали. Вообще они ничего не знали. Они слышали лишь завывание бури и свист ветра, видели вокруг себя кипящие волны, и их немилосердно хлестали струи дождя. Они чувствовали себя жалкими, беспомощными существами, брошенными на произвол бушующих стихий, они знали, что неминуемая смерть сторожит их повсюду. Их кидало из стороны в сторону, а они лишь крепче прижимались друг к другу. Именно в это время последовал громовой удар, поразивший убийц и на мгновение озаривший всю водную поверхность и отмели по обоим берегам реки. Молния осветила и скалу, за которую зацепился фургон, и голову одной из погибших лошадей, и безжизненный труп зулуса Мути, лежащего лицом вниз и свесившего за край повозки руку, как те дети, которые, катаясь в лодке, плещутся и играют водой. Затем все снова погрузилось во мрак. Понемногу буря утихла, из-за туч выглянула луна. Дождь стал ослабевать и наконец совсем прекратился. Грозовые облака пронеслись мимо, и вокруг воцарилась мертвая тишина. Слышался только шум катящихся и бушующих волн. — Джон, — обратилась к нему Джесс, — можем ли мы что-нибудь предпринять для нашего спасения? — Решительно ничего, дорогая. — Как вы думаете, есть ли у нас хоть какая-нибудь надежда? Он помолчал. — Все в руках Божьих, дорогая. Мы в великой опасности. Если фургон перевернется, мы утонем. Умеете ли вы плавать? — Нет, Джон. — Если мы продержимся до рассвета, то, пожалуй, еще сможем как-нибудь спастись. Но ведь эти разбойники дожидаются нас на берегу. Да, наше положение безнадежное. — Джон, вы боитесь смерти? Он видимо колебался с ответом. — Не знаю, милая. Я надеюсь встретить ее, как подобает мужчине. — Скажите мне откровенно, что вы думаете о нашем положении. Существует ли хоть малейшая надежда? Он еще раз помедлил с ответом, мысленно рассуждая, говорить ли ему правду или нет. Наконец он решился. — Никакой, Джесс. Если мы даже не утонем, то наверняка будем убиты. Убийцы дожидаются нас на берегу и ради собственной безопасности не решатся оставить нас в живых. Он не знал того, что двоим из них суждено еще много лет прождать на берегу, а что третий бежал без оглядки. — Дорогая Джесс, — продолжал он, — не стоит лгать. Наша жизнь может прекратиться всякую минуту. Говоря по совести, мы погибнем еще до того, как взойдет солнце. Значение этих слов может понять лишь тот, кто хоть на минуту представит себя в их положении. В самом деле, ужасно во цвете лет и сил встретить смерть лицом к лицу и знать с положительной уверенностью, что еще несколько мгновений — и вас не будет, а там наступит такое состояние, которое может оказаться еще хуже, нежели только что пройденная вами жизнь, уже по одному тому, что это состояние бесконечно. Всякий, кто испытал подобное чувство ожидания, может подтвердить справедливость сказанных слов, и Джон чувствовал, как сжималось его сердце, — ибо смерть весьма могущественна. Но есть чувство, которое сильнее страха смерти, — это чистая любовь женщины. Против нее и смерть бессильна. И когда Она заглянула в душу Джесс своим холодным оком, в глазах девушки засиял какой-то странный, неземной свет. Она не боялась смерти, раз ей суждено встретить ее вместе с любимым человеком. Смерть была для нее исполнением всех надежд и желаний. На земле все для нее было потеряно. Там — или он навсегда будет принадлежать ей, или она найдет вечный покой. Оковы ее теперь разбиты какой-то неведомой, могущественной рукой. Долг остался ненарушенным, надежда ее исполнилась, и она свободна, свободна умереть со своим возлюбленным. Да, любовь ее простиралась за пределы гроба, и теперь она сознавала всю силу этой любви — теперь, когда, казалось, покидала все земное и мыслями возносилась к вечности. — Вы в этом уверены, Джон? — спросила она снова. — Да, дорогая моя, да. Зачем вы заставляете меня это повторять?.. Я не вижу никакого спасения. Она склонилась к нему на грудь и обвила его шею руками, и он чувствовал прикосновение ее нежных вьющихся кудрей и горячее дыхание. И в самом деле они могли разговаривать лишь шепча друг другу на ухо, до такой степени шум воды заглушал их слова. — Затем, что я решилась сказать вам то, чего никогда бы не открыла иначе как перед смертью. Вы об этом догадываетесь уже давно, но я хотела бы высказать это своими устами, прежде нежели умру. Я люблю вас, Джон, я люблю вас всем сердцем и всей душой, и я счастлива, что умираю вместе с вами и вместе с вами уйду в вечность. Он слышал ее признание, и такова была сила ее любви, что страсть, замолкшая было на время, возгорелась в нем с прежней силой. Он также забыл о неминуемой смерти в присутствии любимого существа. Она лежала в его объятиях, как и в то время, когда он старался защитить ее от выстрелов, а он, нагнувшись, безмолвно глядел на ее милые черты. Лучи месяца скользили по ее бледному, трепещущему личику, а в глазах Джесс светилась такая беспредельная любовь, что он не в силах был оторвать от нее своего взгляда. И снова им овладело знакомое ему чувство, как и тогда в белом домике, — чувство полного подчинения ее воле. Но теперь, когда не могло быть места земным помыслам, он уже не колебался, а прижался губами к ее губам и принялся безумно ее целовать. Это была такая дикая и вместе с тем полная радость, какую только может представить жизнь в непосредственной близости смерти. Да, смерть витала над ними и олицетворялась в окоченелом трупе зулуса, лежавшем у их ног и наполовину скрытом водой. Фургон то и дело кидало в стороны, трупы лошадей время от времени выплывали наружу и вновь с шумом опускались на дно реки, поверхность которой была залита лунным сиянием. Над ними блестело синее, усеянное звездами небо, а по сторонам раскинулись кривые очертания берегов и мелей, терявшихся где-то вдали и сливавшихся с темнотой ночи. Они ничего не видели и ничего не слышали. Они знали лишь, что всем сердцем полюбили друг друга и были счастливы, как немногие на земле. Прошлое было забыто, будущее веяло над ними могильным холодом, и для них существовало одно лишь настоящее, а именно любовь, чистая, освященная близостью смерти. В этом всесокрушающем пламени были позабыты и Бесси, и все прочие воспоминания. Можно ли их осуждать за это? Они не нарушили данного слова. Они отрешились от своего я и свято исполнили веления долга и чести. Но личные договоры кончаются со смертью договаривающегося. Никто не может брать на себя посмертных обязательств. Даже сама Церковь отрицает это право. Неужели и теперь, когда всякая надежда на спасение исчезла и жизнь висела на волоске, им следовало во имя какой-то мечты отказаться от счастья, перед тем как удалиться в ту неведомую страну, где, быть может, не существует уже никакихвоспоминаний? Так должно было казаться и им, если только они в это время в состоянии были о чем-либо мыслить. Голова ее покоилась у него на груди, и они сидели таким образом в течение долгих часов с чувством беззаветной любви и глубокого благоговения друг перед другом. Он не мог оторвать от нее глаз и был счастлив, что дожил до этой чудной минуты, хотя минута эта и граничила со смертью. Она же, потрясенная до глубины души, тихо рыдала и, казалось, хотела выплакать все свое наболевшее сердце. Она давала ему самые нежные, дорогие имена и называла его своим, своим навеки.* * *
Таким образом незаметно проходило время, пока наконец в воздухе не повеяло сыростью, свидетельствующей о близости утра. До сих пор еще смерть их щадила, но несомненно вскоре должна была наступить. — Джон, — прошептала она, — они убьют нас? — Да, — отвечал он угрюмо, — они должны так поступить ради собственной безопасности. — Пусть уж эта минута наступит скорее, — воскликнула она. Вдруг она отшатнулась от него в сторону и слегка вскрикнула, отчего фургон едва не опрокинулся. — Я и забыла, — сказала она, — ведь вы умеете плавать, тогда как я нет. Почему бы вам не переплыть на берег и не скрыться, пользуясь темнотой ночи? Здесь ширина не более пятидесяти ярдов, а течение не особенно быстро. Мысль о спасении бегством и оставлении своей спутницы на произвол судьбы не приходила ему в голову и потому показалась до такой степени дикой, что он не мог удержаться от смеха. — Перестаньте говорить глупости, Джесс, — вымолвил он наконец. — Да, да, я этого требую. Ступайте. Вы обязаны это сделать. Обо мне вам беспокоиться нечего. Я знаю, что вы меня любите, и потому могу умереть спокойно. Но я буду ждать вас. О Джон! Что бы со мной ни случилось, где бы я ни находилась, здесь или в ином мире, но если во мне будет тлеть хоть искра жизни, я всегда вас буду помнить и вечно вас буду ожидать. Не забывайте и вы меня. А теперь ступайте! Идите, я этого требую! Вы не смеете меня ослушаться. Если вы будете упорствовать, я брошусь в реку. Боже милосердный! Кажется, фургон опрокидывается! — Держитесь крепче, ради самого Создателя! — крикнул Джон. — Ремни лопнули. Он не ошибся: крепкие ремни порвались от постоянного трения о скалу, и фургон накренился набок. Труп несчастного Мути скатился с него и с плеском исчез в темноте. Это несколько облегчило повозку, и она на минуту вновь приняла устойчивое положение, но, не поддерживаемая более ничем, начала плавно кружиться, постепенно наполняясь водой. Джон понял, что все кончено и что оставаться долее в фургоне — значит обречь себя на неминуемую гибель. А потому, охватив одной рукой Джесс, он бесстрашно кинулся в волны. В это время повозка наполнилась водой до краев и опустилась на дно реки. — Бога ради, лежите смирно, — взмолился он, когда они выплыли на поверхность. При тусклом свете начинающейся зари едва виднелись бледные очертания левого берега Вааля, того самого, с которого они спустились в реку. Берег находился не дальше чем в пятидесяти ярдах от них, но сила течения достигала приблизительно шести узлов в час, и Джон быстро сообразил, что при этих условиях едва ли сможет благополучно добраться до суши со своей ношей. Единственное, что оставалось делать, это как можно дольше стараться держаться на плаву. По счастью, вода была не особенно холодна, а он был отличный пловец. Вскоре течением его отнесло к группе скал, тянувшихся от самого берега вплоть до середины реки. Схватив левой рукой Джесс за волосы, он сделал последнее отчаянное усилие по направлению к берегу. Вода кипела и бурлила между скалами, но, несмотря на все трудности, ему удалось их миновать, и он почувствовал у себя под ногами твердую землю. В следующее мгновение сильным течением его сшибло с ног, и он соскользнул вниз по скале ко дну реки, при этом несколько раз ударившись о подводные выступы. Тем не менее он кое-как сумел выкарабкаться на поверхность. Дважды Нил срывался и дважды снова поднимался на ноги. Последний раз он добрался до самого берега. Вода здесь доходила ему до пояса, а так как спутница была не в силах стоять, то он все время нес ее на руках. Поднимая ее, он почувствовал такую слабость, что, протащившись еще несколько шагов, в изнеможении опустился со своей ношей на скалистый берег. Вслед за тем он потерял сознание. Когда он открыл глаза, то увидел около себя Джесс, которая раньше его пришла в чувство и, стоя над ним, растирала в своих ладонях его руки. Так как солнце было уже высоко, то он догадался, что пролежал в обмороке много часов. Хотя он и с трудом встал на ноги, но, как оказалось, отделался лишь небольшими царапинами. — Не ранены ли вы, Джесс? — с беспокойством в голосе спросил он. Она же стояла перед ним бледная, утомленная и растерянная, без шляпки и с изодранным о подводные камни платьем. Вода так и струилась с нее, и вообще она имела чрезвычайно жалкий и печальный вид. — Нет, — едва слышно произнесла она, — разве только слегка оцарапалась. — Она уселась рядом на скале, чтобы хоть немного согреться на солнце, так как дрожала от холода. — Что же нам теперь делать? — продолжал спрашивать он. — Умереть, — последовал сердитый ответ. — Я хотела умереть, зачем вы помешали мне? Наши взаимные отношения таковы, что только смерть в состоянии их распутать. — Не огорчайтесь, — увещевал он, — ваше желание скоро исполнится: убийцы, по всей вероятности, выслеживают нас. Русло реки и берега еще покрывал утренний туман, редевший по мере того, как поднималось солнце. Скалы, возле которых они выбрались на берег, находились в трехстах ярдах вниз по течению от того места, где погибли оба бура со своими лошадьми. Желая осмотреть окружающую местность и опасаясь возможности самим быть замеченными, Джон настоял на том, чтобы Джесс спряталась вместе с ним за скалу. В это время он заметил двух пасущихся в отдалении лошадей. — А-а, — промолвил он, — я так и думал. Эти черти дожидаются нас. Слава Богу, что револьвер при мне, а патроны непромокаемы. Я намерен как можно дороже продать наши жизни. — Да нет же, Джон! — вскрикнула Джесс, следя взглядом по направлению его протянутой руки. — Это вовсе не лошади буров, это наша передняя пара, которой удалось выбраться из воды. Смотрите, на них еще висит упряжь! — В самом деле, это они. Теперь, если мы только их поймаем и сами останемся незамеченными, то можем считать себя спасенными. — Однако здесь нет ни одного природного возвышения, за которое можно было бы спрятаться, да, впрочем, я не вижу никакого признака присутствия буров. Должно быть, они решили, что мы погибли, и убрались восвояси. Джон оглянулся кругом, и впервые луч надежды блеснул в его сердце. Может быть, им еще и удастся спастись. — Пойдем дальше, здесь неудобно оставаться; надо позаботиться и о пище. Я голоден как собака. Она поднялась, не говоря ни слова, и они под руку оправились вдоль по берегу. Не прошло и нескольких минут, как Джон вскрикнул от радости и бросился к какому-то предмету, застрявшему в камышах. Оказалось, что это корзина с провизией, данная им в дорогу заботливой хозяйкой Хейдельбергской гостиницы. Корзину выбросило из фургона, но так как крышка была привязана, то все содержимое осталось в целости. Открыв ее, Джон обнаружил непочатую бутылку водки, а также яйца, мясо и хлеб, который оказался негодным. Откупорив бутылку, Джон мигом наполнил стакан, находившийся тут же в корзине, и заставил Джесс выпить, после чего она стала меньше походить на мертвеца. Затем он и сам подкрепился и в свою очередь сразу почувствовал в себе приток свежих сил. Спустя некоторое время они с осторожностью отправились дальше. Лошади легко дали себя поймать, и оказалось, что они нисколько не утомлены после перенесенных ночных ужасов, хотя на спине одной из них виднелся след пули. — Там вдали я вижу дерево, на том месте, где берег становится более покатым. Хорошо бы нам дойти туда, чтобы взнуздать лошадей, привести себя в порядок и позавтракать, — сказал Джон, после чего они и направили шаги к этому месту. Вдруг Джон, шедший впереди, невольно вскрикнул от ужаса, и в то же время лошади начали биться и сильно храпеть. Прямо перед ними лежали, раскинувшись, окоченелые трупы обоих буров, уже вспухшие и начавшие разлагаться, как это иногда случается с телами людей, пораженных молнией. В их руках находились изогнутые и сплавившиеся стволы ружей, а одежда была разорвана и разнесена на клочки взрывом патронов, находившихся в патронташах. Страшная картина представилась их глазам, а в связи с их собственным чудесным избавлением от смерти она казалась им сверхъестественной и во всяком случае такой, которая не одного скептика заставила бы сильно задуматься. — И есть еще на свете люди, которые смеют утверждать, что нет Бога и что не существует на земле наказания для злых! — с благоговением произнес Джон.Глава 25
МЕЖДУ ТЕМ
Джон, как, вероятно, помнят читатели, покинул Муифонтейн приблизительно в конце декабря, и вместе с ним из этого мирного уголка скрылись жизнь и веселье. — Милая Бесси, — однажды вечером обратился к племяннице старик Крофт, — у нас стало очень скучно и тоскливо без Джона. С этим замечанием мысленно согласилась и Бесси, тихо плакавшая в сторонке. Несколько дней спустя пришло известие об осаде Претории, но при этом о Джоне не было сказано ни слова. Они узнали лишь то, что он благополучно проехал через Стандертон, но затем оставались в полной неизвестности относительно его дальнейшей судьбы. Дни шли за днями, и о нем все не было ни слуху ни духу. И вот однажды вечером Бесси дошла до состояния, близкого к истерике, и горько разрыдалась. — Ну для чего вы его послали в Преторию? — набросилась она на дядю. — Эго было просто нелепо с вашей стороны. Я отлично знала, что это напрасно. Ведь он все равно был бы не в состоянии помочь Джесс вернуться домой; в лучшем случае они оба оказались запертыми в Претории. А теперь его уже нет на свете — я знаю, что его застрелили буры. И все это из-за вас! Если он только убит, то я никогда больше не буду с вами разговаривать! Старик удалился в свою комнату, несколько смущенный подобным обращением Бесси, что было не в ее характере. «Да, конечно, — рассуждал он сам с собой, — это вполне естественно: женщины превращаются в диких зверей, коль скоро дело идет о мужчине». В его словах была доля правды, но во всяком случае дикий зверь дома — не особенно приятное животное, в чем и убедился старик в течение последующих двух месяцев. Чем больше Бесси вдумывалась в свое положение, тем больше выходила из себя. Она забыла о том, что сама согласилась на отъезд своего жениха. Короче, ее характер до того испортился, что старик даже не осмеливался упоминать при ней имени Джона. Политическое состояние страны также наводило старика на размышления. Начать с того, что на другой день по отъезде Джона двое или трое оставшихся верными присяге буров и один английский торговец с берегов озера Крисси в Новой Шотландии, проезжая мимо Муифонтейна, заехали к Крофту и стали умолять его бежать в Наталь, пока еще есть время. Они уверяли, что буры убьют всякого англичанина, который не сумеет дать им отпор. Но старик и слышать не хотел о бегстве. — Я англичанин, — стоял он на своем, — и не допускаю мысли, чтобы они могли тронуть меня, меня, который прожил среди них более двадцати лет. Во всяком случае я не намерен ни с того ни сего покидать насиженного гнезда из-за какой-то там шайки разбойников. Если они убьют меня, то ответят перед законом, а потому полагаю, что они скорее всего оставят меня в покое. Бесси может ехать, если желает, но я останусь здесь до конца. Бесси тоже наотрез отказалась двинуться куда бы то ни было, и верные короне буры отправились дальше, удивляясь подобной самоуверенности и национальной гордости англичан. Разговор этот происходил во время обеда, а встав из-за стола, старик Крофт решил еще одним способом выказать свое презрение к врагам. Подойдя к шкафу, стоявшему в его спальне, он вытащил оттуда огромных размеров национальный флаг и, держа его в руках, быстро прошел на лужайку перед домом, где высилась мачта, с верхушки которой открывался вид на далекое пространство. На этой мачте старик обычно выкидывал флаг в день рождения королевы, на праздник Рождества Христова и в другие высокоторжественные дни. — Поди-ка сюда, Яньи, — подозвал он слугу, предварительно поклонившись знамени, — подними его как можно выше, а я отдам честь! И как только широкий флаг взвился на мачте, он снял шляпу и своим мощным голосом закричал: «Гип, гип, ура-а-а!» — до такой степени оглушительно, что Бесси как сумасшедшая выбежала из дому посмотреть, в чем дело. Не довольствуясь этим, он велел принести лестницу и закрепить на высоте пятнадцати футов над землей веревку для того, чтобы никто не мог достать до нее с целью спустить флаг. — Ну вот, — промолвил он, — я прикрепил свои убеждения на мачте. Пусть все знают, что здесь живет истый верноподданный англичанин.Лагерь под Преторией, 15 февраля
Дорогая мисс Бесси! Хотя в последнее наше свидание мы поссорились с вами и с вашим добрым дядюшкой, тем не менее я все же беру на себя смелость сообщить вам печальную новость и отправляю письмо с особым нарочным. Вчера со стороны несчастных осажденных, которые успели отощать, как волы перед весной снова была сделана вылазка. Счастье по-прежнему благоприятствовало оружию буров. Роой батьес бежали, оставив в наших руках перевязочный пункт и увозя с собой множество убитых и раненых. Среди убитых был и капитан Нил…При этих словах сдавленный крик вырвался из груди Бесси, письмо выпало из ее рук, она прислонилась к одной из колонн веранды, чтобы не упасть. Туземец оскалил зубы и поднял письмо, которое тут же и вручил ей. Она взяла его и продолжала чтение, уже как бы в забытьи:
…тот самый, что жил на ферме вашего дяди. Яан Анселъ убил его выстрелом из ружья, а Роой Дирк Свиссен и готтентот Каролус видели, как он был поднят и унесен. Сам же я при этом не присутствовал. Весть эта для вас, конечно, будет очень печальна, но что же делать — таковы случайности войны, а он пал как храбрый воин, в честном бою. Передайте мой привет вашему дяде. Мы расстались с ним в ссоре, но я надеюсь доказать ему, что со своей стороны не питаю к нему никакого чувства злобы. Верьте мне, дорогая мисс Бесси.Бесси спрятала письмо в карман, а затем ухватилась за колонну и продолжала стоять в этом положении все время, пока солнце не скрылось за горизонтом и пока сумерки не сгустились над землей. Убит! Убит! Свет ее жизни погас, как погасло дневное сияние, и в ее сердце образовалась пустота. Она не знала, сколько времени простояла таким образом с широко раскрытыми глазами, глядя на заходящее солнце, которого даже не замечала. Она потеряла счет времени; все предметы виделись ей как бы во сне. Единственное, что с поразительной ясностью и отчетливостью представлялось ее уму, — это жгучая мысль, что Джона уже нет на свете! — Мисси, — попробовал нарушить молчание вестник несчастья, устремив свой единственный глаз на бледное и печальное личико Бесси, и при этом зевнул. Ответа не было. — Мисси, — заговорил он опять, — будет ли какой-нибудь ответ? Мне пора идти. Мне необходимо успеть вернуться в лагерь, чтобы видеть, как буры возьмут Преторию. Бесси обратила на него блуждающий взгляд. — Ваше послание не требует ответа, — промолвила она, — что потеряно, того уже не вернешь. Кафр разразился хохотом. — Да, конечно, я не могу передать вашего ответа капитану, — сказал он, — я сам видел, как Яан Ансель застрелил его. Он упал вот так, — с этими словами он повалился на землю, показывая на собственном примере, как падает человек, сраженный пулей. — Нет, я не берусь передавать ему вашего ответа, мисси, — продолжал он, поднимаясь с земли и снова усаживаясь на корточки, — впрочем, не думайте, что я отказываюсь, я доставлю ваше письмо Фрэнку Мюллеру. Живой бур все же лучше мертвого англичанина, а Фрэнк Мюллер славный жених для любой девушки. Если вы закроете глаза, то, пожалуй, не заметите разницы. — Вон! — закричала Бесси задыхающимся голосом и сделала повелительный жест рукой. В этом единственном слове заключалось столько затаенной энергии, что кафр мигом был уже на ногах. Между тем старый пес Стомп, с неодобрительным ворчанием наблюдавший все время за происходившим, принял невольное движение госпожи за сигнал к наступлению и, бросившись на оскорбителя, схватил его за горло. Так как собака была из числа довольно крупных, то легко опрокинула противника за спину. Затем последовала дикая сцена, во время которой человек оглашал воздух проклятьями и ругательствами и напрасно старался ударить врага. Собака же терзала его с таким ожесточением, что едва ли он когда-либо в течение всей своей последующей жизни мог изгладить воспоминание об этой борьбе. Бесси ничего не слышала и не видела из того, что происходило возле нее. Тем временем подошел ее дядя в сопровождении двух кафров, тех самых, за странными движениями которых она наблюдала полчаса тому назад. — Эго что такое? — воскликнул Крофт своим могучим голосом. — Пошел! — прикрикнул он на собаку. И Стомп, повинуясь голосу хозяина и побуждаемый сыпавшимися ударами новоприбывших, выпустил жертву. Кафр тотчас вскочил на ноги, совершенно истерзанный и искусанный, и с минуту стоял, не говоря ни слова. Затем, обратив свое окровавленное лицо к Бесси и свирепо поводя единственным глазом, туземец с дикими проклятиями и ругательствами стал потрясать перед нею кулаками. — Вы поплатитесь за это. Фрэнк Мюллер покажет вам, что значит обижать его слугу. Я… — Убирайся подобру-поздорову, чей бы слуга ты ни был! — заревел старик. — Или, клянусь небом, я снова спущу на тебя собаку! — И он указал на него Стомпу, всеми силами старавшемуся вырваться из рук державших его кафров. Озлобленный туземец замолчал и покосился на рассвирепевшее животное, а затем, еще раз пригрозив кулаком, побежал по аллее, причем в конце ее оглянулся, чтобы удостовериться, не пустилась ли вдогонку за ним собака. Бесси не видела, как удалился вестник печали, как не заметила и только что произошедшей борьбы между животным и человеком. А немного погодя, как бы вспомнив о чем-то, повернулась и вошла в гостиную. — Что все это значит, Бесси? — удивился дядя, вошедший вслед за нею в комнату. — Чего ради этот негодяй упоминал Фрэнка Мюллера? — Эго значит, милый дядя, — произнесла она надорванным голосом, — что я сделалась вдовой, не успев выйти замуж. Джон убит! — Убит! — приложив руку ко лбу, каким-то недоумевающим голосом произнес старик. — Джон убит? — Прочтите сами, — Бесси передала ему письмо Фрэнка Мюллера. Старик взял его и прочел. Рука его так дрожала, что ему стоило большого труда дочитать печальное послание до конца. — Боже милосердный, — промолвил он наконец. — Какой удар! Бедная моя Бесси! — С этими словами он заключил ее в объятия и поцеловал. Но вдруг в нем зародилось сомнение. — А вдруг это не более чем хитрость со стороны Фрэнка Мюллера? Или же ошибка? Бесси не отвечала. Лично она, по крайней мере, уже утратила всякую надежду.Ваш покорный и преданный слуга,Фрэнк Мюллер
Глава 26
НЕМНОГО О ФРЭНКЕ МЮЛЛЕРЕ
Подробное исследование противоположных сторон, составляющих в совокупности характер Фрэнка Мюллера, как бы ни было оно заманчиво, не может являться предметом настоящего повествования. Строго говоря, подобные личности не встретишь ни в одном благоустроенном государстве. Закон не позволил бы такому характеру проявиться в полной мере и сразу задавил бы его своей тяжестью. Но те, кому доводилось проживать в диких странах, встречались с подобными натурами не раз, в особенности там, где небольшая горсть людей высшей расы господствует над тысячами низшей. Чем уединеннее страна, тем больше она способствует развитию резких индивидуальностей. Сообщество людей высокоразвитых, напротив, сглаживает эти резкости. То же наблюдается и в природе. Так, например, дерево, растущее на ровном и открытом месте, гордо вздымает вершину к небесам и свободно раскидывает кругом свои ветви, как повелевает ему природа. В лесу же — наоборот. Там дерево развивается в зависимости от того, есть ли для него достаточно света. Вынужденное в силу обстоятельств приспосабливаться к окружающей среде и не имея над нею власти, оно принимает такую форму и высоту, какую дозволяют ему соседи, и тратит всю энергию на сохранение индивидуальности своей жизни. То же происходит и у нас. Предоставленные самим себе или окруженные лишь подонками человечества, мы делаем исключительно то, что подсказывают нам чувства и страсти, между тем как среди себе подобных, стесняемые обычаями и требованиями закона, а также сдерживаемые общественным мнением, мы становимся более или менее похожими один на другого. Мы напоминаем собой уже не булыжник в поле, а гладко отесанные камни в прекрасном здании цивилизованного общества. Настоящее место человека, подобного Фрэнку Мюллеру, — на грани цивилизации и варварства. Слишком цивилизованный для того, чтобы обладать природными добродетелями диких, и дикарь, чтобы быть в состоянии постичь чувство меры, существующее в образованном обществе, он в одно и то же время имел качества и недостатки тех и других. Он был подвержен безграничному суеверию — отличительной черте характера диких, и совершенно лишен чувства милосердия — высшего проявления духа цивилизации. Если бы он родился в благоустроенном государстве и сумел при помощи воспитания и путем отрицания нравственных начал отделаться от непонятного для него чувства страха перед сверхъестественным и усмирить бушевавшие в нем страсти, то, обладая сильным и недюжинным умом, сумел бы напомнить миру о временах Наполеона. Если бы он был более дик и более удален от влияния цивилизации, то в гневе своем мог бы попрать и стереть с лица земли народы, как Аттила или Чака. А между тем он постоянно находился под суеверным страхом грядущего бедствия, а потому всякий раз останавливался на полдороги, не в состоянии выполнить намеченной задачи. Вот он, например, объятый ужасом, бешено мчится прочь от места ночного злодеяния, хотя сам же его замыслил и привел в исполнение. Вот он летит на вороном коне среди бури, как мрачный дух на крыльях ночи. Он не верит в Бога, а между тем в его душе зарождаются сомнения, перед ним вырастают кровавые призраки, призраки эти принимают определенные очертания и формы, простирают к нему руки и как бы твердят ему: «Мы посланцы грядущей Божьей кары!» Он поднимает глаза к небу. Высоко над ним молния рассекает грозовые тучи, а ему чудится, что она чертит на них Великое Имя, отдающееся в его сердце при каждом ударе грома. В ужасе он закрывает глаза, но и тут его преследует стук копыт лошади, в мерном топоте которых ему слышатся слова: «Есть Бог, есть Бог!» И он мчится все дальше и дальше, не обращая внимания на бурю и мрак ночи, стараясь оставить позади себя то, от чего не в состоянии избавиться ни один человек.* * *
Было около полуночи, когда Фрэнк Мюллер наконец остановился возле хижины, одиноко расположившейся на берегу Вааля. Место было совершенно пустынное, и оттуда не доносилось даже лая собаки. — Если только эта скотина кафр куда-нибудь запропастился, — произнес он вслух, — то я запорю его до смерти. Хендрик, Хендрик! В это время из-под его ног вынырнула какая-то фигура, причем так неожиданно, что испугала лошадь, которая чуть было не сбросила седока. — Что это еще за дьявольщина? — вскричал Фрэнк Мюллер, нервы которого были потрясены до последней степени, вследствие чего он стал пугаться любой неожиданности. — Это я, баас, — сбрасывая с себя плащ, отвечала фигура, оказавшаяся уже знакомым нам кривым знахарем, тем самым, который относил письмо Бесси. Знахарь этот служил уже в течение многих лет Мюллеру в качестве телохранителя. — Чего же ты прячешься от меня? Я ведь знаю твои дьявольские проделки. Смотри у меня, — продолжал он, — как бы я в один прекрасный день не положил конец тебе и твоему чародейству. — Мне очень жаль, баас, что я вас напугал, — плаксиво говорил знахарь, — но еще полчаса назад я знал, что вы едете. Я просто не понимаю, что такое творится в воздухе, но я ясно слышал, как будто двадцать человек гнались за вами. Я отлично различал стук копыт коней, сначала вашей вороной лошади, а затем и остальных. Вот почему я вышел из хижины и улегся на траве, и только когда вы подъехали, лошади остановились одна за другой. Должно быть, это были черти! — Ну тебя с твоими дурацкими рассуждениями, — оборвал его Мюллер, причем зубы его застучали от страха и волнения, — бери лошадь и ступай вычисти и накорми ее. Она устала, а завтра мне снова придется подняться до рассвета. Погоди, куда ты девал свечи и настойку? Если ты ее выпил, я дух из тебя вышибу. — Как войдете в комнату, баас, то тут же налево, на полке, найдете водку, мясо и хлеб. Мюллер соскочил с лошади и вошел в хижину, одним ударом распахнув еле державшуюся на петлях дверь. Отыскав коробку шведских спичек, он принялся чиркать ими о поверхность ящичка и от волнения обломал несколько штук, прежде чем ему удалось зажечь сальную свечу грубой самодельной работы. Возле свечи стояли бутылка персиковой настойки, стакан и кувшин с речной водой. Схватив стакан, он налил в него настойки пополам с водой и залпом выпил все содержимое, затем принялся за мясо и хлеб. Но он был положительно не в состоянии есть от усталости, а потому решил подналечь на настойку. — Да, — промолвил он, — настоечка, кажется, неплоха. Так и обжигает все внутренности. — С этими словами он вынул трубку и закурил ее. Как раз в это время появился Хендрик и объявил, что задал лошади корму и что она может хоть сию же минуту снова отправляться в путь; он хотел еще что-то прибавить, но был остановлен хозяином. Мюллер вообще неохотно вступал с ним в разговоры и делал это тогда, когда хотел с ним посоветоваться или погадать о будущем. В настоящую же минуту его нервы до того расшалились, что он был готов беседовать с кем угодно, хоть с собакой. События ночи привели этого ужасного человека в состояние ребенка, чего-то испугавшегося в темноте. Некоторое время он сидел молча, а кафр между тем расположился перед ним на корточках. Но наконец винные пары взяли свое, и Мюллер пустился в разговор со своим чернокожим приближенным. — Сколько времени ты там пробыл? — спросил он. — Четыре дня, баас. — Отнес мое письмо в усадьбу дядюшки Крофта? — Как же, баас, я передал его в руки мисси. — Ну, а она что? — Она прочла его и затем прислонилась к колонне, вот так, — с этими словами кафр широко раскрыл рот и единственный глаз и постарался придать своей отвратительной физиономии выражение убитого горем личика Бесси, причем схватился за одно из бревен, поддерживавших покосившуюся хижину. — И она поверила? — По всей видимости. — Ну а потом? — Потом она спустила на меня собаку. Глядите! — И он показал незажившие следы зубов Стомпа. Мюллер рассмеялся. — Хотел бы я посмотреть, как он задал тебе таску, чернокожий обманщик. Да, девушка не глупа, нашлась-таки. Ну и что же, ты очень на нее зол и наверное хочешь отомстить? — Конечно. — Как знать! Может быть, тебе и удастся. Завтра утром мы туда отправляемся. — Да, баас! Я знал это раньше, нежели вы сказали. — Мы туда отправляемся и захватим усадьбу. Дядюшку Крофта придется судить военным судом за то, что осмелился выкинуть английский флаг. Если он окажется виновным, мы его расстреляем, Хендрик. — Непременно, баас, — поддакнул кафр, радостно потирая руки, — а он точно будет признан виновным? — Не знаю, — пробормотал Мюллер, поглаживая свою золотистую бороду, — это зависит от того, какой ответ даст мисс и как на это посмотрит суд, — прибавил он, немного помолчав. — Как взглянет на это суд? Ха-ха-ха! — расхохотался злобный туземец. — Как на это посмотрит суд! И баас будет председательствовать на нем. Ха-ха-ха! Да тут не надо и колдовства, чтобы предугадать решение. А если суд признает дядюшку Крофта виновным, кому будет поручено его расстрелять? — Я пока не решил; да собственно и не время еще об этом толковать. Впрочем, не все ли равно, кто бы ни привел в исполнение судебный приговор! — Баас, — жалобно промолвил чернокожий, — я многое для вас сделал. Я в угоду вам не раз отваживался на преступление. Я произносил заклятия, составлял снадобья и выслеживал ваших врагов. Исполните и вы мою просьбу. Позвольте мне застрелить дядюшку Крофта, если только суд признает его виновным. Я давно уже заслужил награду. — За что ты так желаешь ему смерти? — Во-первых, за то, что он ударил меня однажды много лет тому назад за мое колдовство; а во-вторых, за то, что в последний раз выгнал меня из усадьбы. А кроме того, так приятно пристреливать белых людей. Конечно, — продолжал он, причмокивая, — я бы с большим удовольствием пристрелил бы мисси, которая напустила на меня собаку. Я бы… Не успел заболтавшийся кафр оглянуться, как Фрэнк Мюллер схватил его за горло и что было мочи принялся трясти, нанося ему в то же время удары. Грубая выходка негодяя возмутила оставшееся еще в груди Фрэнка Мюллера чувство уважения к женщине, и хотя сам он не отличался высокой нравственностью, но зато был безумно влюблен в Бесси и никому бы не позволил непочтительно о ней отозваться, в особенности человеку, которого, несмотря на его знахарские способности, ставил ниже собаки. Возбужденный до крайности и к тому же полупьяный, Фрэнк Мюллер был просто страшен в эту минуту. — Ах ты, животное! — вскричал он. — Если ты осмелишься еще хоть раз произнести ее имя, я тебя на месте задушу своими руками, не посмотрю на то, что ты колдун! — И он с такой силой швырнул его об стену, что вся хижина затряслась. Кафр упал и некоторое время пролежал неподвижно, а затем встал на четвереньки и выполз из комнаты. Мюллер сидел насупившись и смотрел на лежащего слугу. После ухода кафра он встал, закрыл дверь и горько зарыдал, что, очевидно, следовало приписать совокупному действию многих причин, как то: винных паров, физического утомления, упадка духа и неостывающей страсти, — ибо ее едва ли можно было назвать любовью, — которая, как червь, беспрестанно точила его сердце. — О, Бесси, Бесси! — бессвязно лепетал он. — Я все это совершил ради тебя! Неужели ты будешь зла на меня за то, что я убил их всех, чтобы овладеть твоей любовью? О, моя милая, ненаглядная! Если бы ты только знала, как я люблю тебя! Дорогая моя, дорогая! — И в припадке пьяной страсти он не заметил, как свалился на пол и продолжал плакать до тех пор, пока не заснул. Несмотря на все свои злодейства, Фрэнк Мюллер нисколько не чувствовал себя счастливым, и надо думать, что для того, чтобы сполна наслаждаться незаконным счастьем, человеку недостаточно потерять совесть, но он должен также истребить в себе страсти. Место совести у него занимало суеверие, что же касается страсти, то она до такой степени овладела всем его существом, что одного появления девушки было достаточно, чтобы изменить самое дурное его расположение духа и породить в его сердце такие мучения, о каких она и не подозревала. На рассвете Хендрик осторожно пробрался в хижину и разбудил хозяина, а полчаса спустя оба уже были на том берегу Вааля и мчались по направлению к Ваккерструму. По мере того как рассветало, на душе у Фрэнка Мюллера становилось все светлее и светлее, и когда наконец поднялось солнце и рассеяло ночные тени, он почувствовал, что на сердце у него совсем отлегло. Ему теперь стало ясно, что громовой удар, поразивший обоих буров, следует приписать случайности, случайности исключительно для него счастливой, ибо все равно пришлось бы ему самому их убить, так как не существовало иного способа получить обратно бумагу. Собственно говоря, он сосем и забыл про нее, но это ничего не значит. Никто и не найдет трупов буров и их лошадей на этом пустынном берегу. Они успеют до тех пор сделаться добычей коршунов. Но даже если бы их и нашли, то, всего вероятнее, бумага к тому времени истлеет или же будет унесена ветром, в худшем же случае просто вылиняет от дождя. Что касается его личного участия в преступлении, то кто же может это доказать, раз его сообщников нет на свете. Хендрик будет, напротив, доказывать его алиби. Полезный человек этот Хендрик! Да наконец, кому же придет в голову подозревать в этом случае преднамеренное убийство? Двое буров провожали англичан до реки. По дороге они поссорились. Англичанин выстрелил, а они застрелили англичанина и его спутницу. Затем лошади с испугу бросились в Вааль и опрокинули фургон. Обстоятельства сложились чрезвычайно для него благоприятно. Он находился решительно вне всяких подозрений. После этого он принялся мечтать о плодах своих честных трудов, и лицо его внезапно разгорелось, а глаза зажглись огнем юной страсти. Через два дня — всего только через сорок восемь часов — Бесси будет в его объятиях! Ничто не сможет ему в этом воспрепятствовать. Он там полный хозяин. Так ему уже давно предсказано Хендриком.[463] Завтра Муифонтейн будет взят штурмом, если это нужно, и завтра же старика Крофта и Бесси захватят в плен. А там он уж сам знает, как поступить. Разговор о предании старика суду не был лишь пустой угрозой. Она должна принадлежать ему, иначе старик будет осужден. Ей же все равно не миновать его объятий. Последствий законной ответственности бояться нечего, в особенности теперь, когда британское правительство готово на уступки. Наоборот, он даже заслужит благодарность своего правительства, если казнит бунтовщика. Да, теперь ему открыты все пути.Сколько, однако, потратил он времени для того, чтобы овладеть ею! Три года! Да, он страдает по ней уже в продолжении целых трех лет! Ну что же, зато он вполне заслужил награду. А теперь пора ему подумать и о достижении тех отдаленных честолюбивых замыслов, полное осуществление которых представлялось ему в виде золотого венца.Глава 27
СТАРИК КРОФТ ВЫНУЖДЕН НАКОНЕЦ УСТУПИТЬ
Узнав о постигшем ее несчастье, Бесси была совершенно подавлена горем, но мало-помалу пришла в себя, ибо не в ее характере было долго предаваться отчаянию. Горести действуют на людей по-разному. Иным они вливаются в душу, всасываются ею, как губкой, и отягощают ее до могилы. На иных же действуют лишь поверхностно и скоро забываются. Конечно, Бесси не принадлежала в полной мере ни к той, ни к другой категории, но, как девушка веселая и жизнерадостная, она, казалось, уже самой природой была предназначена цвести в полном сиянии и блеске лучей солнца, а не прозябать где-нибудь в углу под сенью вечной скорби. Женщины, подобные ей, не умирают от любви и не осуждают себя на безбрачие ради призрака милого. Если Номер первый по какой-либо причине навеки удаляется от них, они обязательно проливают о нем потоки горьких слез и невыносимо страдают, а спустя некоторое время бросают нежный взгляд на Номера второго. Со времени ухода кафра в характере Бесси произошла резкая перемена. Она уже не предавалась отчаянию, но бледная и безмолвная, как тень, бродила с тех пор по усадьбе. Вся ее раздражительность исчезла, и она перестала надоедать дяде своими упреками. Действительно, в тот же вечер, едва лишь он заговорил о постигшей их горькой утрате, как она тотчас же остановила его. — Это воля Божья, дядя, — спокойно заметила она. — Вы совершили лишь то, что вам велено было совершить. — С этими словами она склонила на плечо старика свою золотистую головку, сказав при этом, что теперь они одни, совершенно одни на белом свете! Он же старался ее успокоить как умел. Странное дело, всякий раз, когда они таким образом сходились вместе, они совершенно забывали о существовании Джесс. Даже для них Джесс оставалась загадкой. Когда она была с ними, она жила своей собственной жизнью, отдельной от них. Когда же ее с ними не было, и самая память о ней как будто исчезала, точно их разделяла какая-то стена. Само собой разумеется, они ее очень любили, но ведь известно, что простые люди обычно сторонятся того, чего не могут понять, а в этом отношении и они не составляли исключения. Так, например, любовь Бесси к сестре ничего не стоила в сравнении с глубокой, доходящей до самоотвержения любви Джесс к ней. Бесси любила дядю гораздо больше, нежели сестру, и надо сознаться, что и дядя с лихвой платил ей взаимностью, а в эти тяжелые и полные скорби дни они особенно близко сошлись друг с другом. Однако по мере того как шло время, в душу их стала закрадываться надежда. Известие о смерти Джона не подтверждалось. Очень легко могло статься, что вся история не более как выдумка. Они знали, что от Фрэнка Мюллера можно ожидать чего угодно, а при настоящих обстоятельствах не трудно было даже угадать, какая скрывалась цель в этой лжи. Его бешеная страсть ни для кого не составляла тайны, а потому, как вообще ни тяжела неизвестность, но в данном случае она для них была все же лучше положительной уверенности. Однажды в воскресенье, ровно через неделю после получения письма, Бесси отдыхала после обеда на веранде, когда со стороны горной цепи Дракенсберга послышались отдаленные пушечные выстрелы. Она тотчас вышла из дома и стала карабкаться на холм, возвышавшийся позади строений усадьбы. Взобравшись наверх, она окинула взором представившуюся ее глазам цепь грозных вершин. Немного вправо от нее вздымалась каменная громада Маюбы. В этот день, однако, воздух был чист, и Бесси показалось, будто именно со стороны этой-то горы до нее и долетали странные звуки. Но гора имела такой же безжизненный и суровый вид, как и в первый день творения. Грохот же мало-помалу умолк, и Бесси вернулась домой в полной уверенности, что приняла раздававшееся в горах эхо отдаленной бури за гром орудий. На другой день благодаря туземцам стало известно, что слышанные Бесси звуки — не что иное, как выстрелы из огромных орудий по бежавшим со склонов горы Маюба остаткам британской армии. Старик Крофт на этот раз окончательно пал духом. Бегство солдат не полежало ни малейшему сомнению, и его твердая вера в непобедимость английских войск была поколеблена. — Удивительно, как это странно, Бесси! — промолвил он. — Но, даст Бог, все обойдется благополучно. Не признает же наше правительство себя побежденным из-за каких-нибудь двух-трех военных неудач! Затем потянулись четыре долгие недели неизвестности. В стране носились всевозможные слухи, одни из них распространялись туземцами, другие — случайно проезжавшими бурами, на которых старик по-прежнему не обращал никакого внимания. Вскоре, однако, выяснилось более или менее достоверно, что между англичанами и бурами заключено перемирие, но на каких условиях и в каком виде — оставалось неизвестным. Старик Крофт полагал, что буры, узнав о прибывающих из Англии подкреплениях, решили покориться без боя. На это Бесси лишь с сомнением покачивала головой. Как-то раз — это случилось именно в день выезда Джона и Джесс из Претории — один из туземцев принес в Муифонтейн известие о том, что перемирие подходит к концу и что англичане тысячами движутся к Ньюкаслу с целью укрепить его и усилить изнемогавший в осаде гарнизон. Известие это несколько порадовало Бесси. Что же касается ее дяди, то он просто торжествовал. — Кажется, скоро и на нашей улице будет праздник, милая моя, — заметил он, — и мы тогда снова вздохнем свободно. Да, уже пора, давно пора. Довольно с нас этого позора после всех потерь и унижений. Честное слово, в эти два месяца я стыдился даже называться англичанином. Слава Богу, всему этому наступил теперь конец. Я ведь чувствовал, что они никогда от нас не отрекутся и не покинут нас на произвол судьбы. При этих словах старик как-то весь выпрямился, поднял голову, глаза его заблестели, и он стал выглядеть таким молодцом, как будто ему было всего двадцать пять, а не семьдесят лет. Весь день прошел спокойно, как и следующие два. Но на третий день, 23 марта, разразилась буря. Было около одиннадцати часов утра. Бесси занималась по хозяйству, а дядя только успел вернуться с обхода фермы, что делал ежедневно, и стоял в гостиной. В одной руке он держал широкополую мягкую шляпу, а в другой красный фуляровый платок, которым усердно отирал лоб, и в то же время переговаривался с Бесси через полуоткрытую дверь. — Ну что, никаких нет известий о передовом отряде, Бесси? — Никаких, дядя, — отвечала она со вздохом, и ее голубые глаза наполнились слезами, ибо она в это время вспомнила о том, о ком также давно не было известий. — Ничего, ничего. Эти дела требуют времени, в особенности с нашими солдатами, которые обычно передвигаются очень медленно. По всей вероятности, их задержали пушки, или амуниция, или что-нибудь в этом роде. Наверное, мы еще сегодня же вечером о них что-нибудь да услышим. Едва он успел произнести эти слова, как в комнату вбежал испуганный и весь запыхавшийся Яньи. — Буры, баас, буры! — закричал он. — Буры идут прямо к нашему дому с фургоном. Их человек двадцать, если не больше, а впереди Фрэнк Мюллер на своем вороном коне, и Ханс Кетце, и одноглазый знахарь! Я сидел, спрятавшись за деревом, в конце аллеи и увидел их издали. Они хотят захватить нашу усадьбу! — И затем, не говоря больше не слова, он прошмыгнул через все комнаты и скрылся где-то на заднем дворе, ибо Яньи, как и большинство готтентотов, был отъявленный трус. Старик перестал отирать лоб и с недоумением взглянул на Бесси, побледневшую как полотно и дрожавшую от страха у входа в гостиную. В это время послышался топот бегущих ног, и он взглянул в окно, чтобы узнать, в чем дело. Это оказались шестеро кафров, работавших на плантации и теперь бежавших в горы для того, чтобы укрыться от буров. В ту минуту, как они пробегали по аллее, последовал выстрел, и один из беглецов, мальчишка лет двенадцати, бежавший последним, поднял вверх руки, а затем грохнулся оземь, пораженный пулей в плечо. Бесси расслышала восклицание «славный выстрел, славный выстрел!» и последовавший затем взрыв хохота, приветствовавший падение несчастного кафра. Несколько мгновений спустя невдалеке послышался стук лошадиных копыт. — О, дядя! — воскликнула она. — Что нам делать? Старик не отвечал, но снял с гвоздя висевшее на стене ружье системы «уэстли ричардс», затем уселся в кресле перед окном, выходившим на веранду, и подозвал к себе племянницу. — Вот как мы их встретим! — вымолвил он наконец. — Не бойся, моя милая, они не причинят нам никакого вреда, они побоятся тронуть англичанина! В эту минуту перед окнами появилась кавалькада под предводительством, как верно сказал Яньи, самого Фрэнка Мюллера верхом на вороном коне, в сопровождении Ханса Кетце на маленькой, но жирной лошадке и кривого Хендрика. Сзади них толпились пятнадцать или шестнадцать вооруженных буров. Среди них старик Крофт узнал и кое-кого из своих соседей, бок о бок с которыми в мире и согласии прожил много лет. Новоприбывшие остановились перед домом и принялись оглядываться по сторонам. — Мне кажется, племянничек, что птички давно уже улетели! — послышался голос Ханса Кетце. — Они наверняка были предупреждены о вашем приходе… — Во всяком случае они не могут быть далеко, — отвечал Мюллер. — Я расставил стражу и точно знаю, что они никуда не отлучались из усадьбы. Сойдите-ка, дядюшка, с лошади и поищите хорошенько в комнатах. Ступай и ты, Хендрик. Кафр повиновался и соскочил с лошади с ловкостью падающего угольного мешка. Бур же замялся. — Дядюшка Крофт сердитый человек, — заметил он, — чего доброго он еще застрелит меня, если увидит, что я шарю у него по комнатам. — Пожалуйста без возражений, — прикрикнул на него Мюллер, — делайте так, как я вам приказываю. — Что за дьявольский характер у этого человека! — пробормотал Ханс Кетце, медленно сползая с лошади. В это время кривой Хендрик уже забрался на веранду и глядел сквозь окна во внутренность дома. — Они здесь, баас, они здесь! — радостно воскликнул он. — Старый петух со своим цыпленком! — С этими словами он ударил кулаком по оконной раме, вследствие чего окно распахнулось и глазам присутствующих представился старик, сидящий в кресле с ружьем на коленях и держащий за руку племянницу. Фрэнк Мюллер сошел с коня и подошел к веранде, а следом за ним двинулась и вся остальная толпа. — Что вам угодно, Фрэнк Мюллер, и почему это вы являетесь ко мне в дом со всей этой вооруженной силой? — строгим голосом спросил его Крофт, не сходя с места. — Я явился сюда, мистер Крофт, для того, чтобы арестовать вас как изменника страны и бунтовщика против республики, — последовал ответ. — Мне очень жаль, — прибавил он, поклонившись Бесси с которой все время не сводил глаз, — что приходится произвести арест в присутствии дамы, но что же делать, у меня нет другого выхода. — Я не понимаю, что вы хотите этим сказать, — отвечал старик, — я подданный ее величества королевы Виктории и, кроме того, англичанин. Каким же образом я могу быть бунтовщиком против республики? Я повторяю вам, что я англичанин, — продолжал он, все более и более возвышая голос, чтобы его могли слышать все буры, — и поэтому не признаю никакой республики. Эго мой дом, и я приказываю вам сию же минуту его оставить. Я требую уважения к моим правам англичанина… — Здесь, — холодно перебил его Мюллер, — англичане не имеют никаких прав, кроме тех, которые мы сами им предоставим. — Стреляйте в него! — крикнул один из прибывших. — Нет, лучше уж сделайте с ним то же, что Баскес сделал с Ван дер Линденом в Почефструме, — посоветовал второй. — Просто-напросто заставьте его проглотить такую же пилюлю, какую мы дали доктору Барберу, — вставил третий. — Мистер Крофт, намерены ли выедаться? — тем же голосом произнес Мюллер. — Нет! — заревел старик в припадке национальной гордости. — Я не сдамся бунтовщикам. Я застрелю первого, кто до меня дотронется! — при этих словах он поднялся со своего места и взял в руки ружье. — Можно мне стрелять, баас? — спросил одноглазый Хендрик, причмокивая губами и водя пальцами по заржавленному замку своего старого охотничьего ружья. В ответ Мюллер наотмашь ударил его рукой по лицу и проговорил: — Ханс Кетце, идите и арестуйте этого человека! Несчастный дядюшка Кетце переминался на месте. Природа не наградила его особенной храбростью, и вид наведенного на него ружья старинного доброго соседа отнимал у него всякую охоту исполнить приказание своего начальства. Он продолжал стоять на месте и приводить всевозможные предлоги в свое оправдание. — Пойдете ли вы, минеер Кетце, или же прикажете доложить генералу о вашей симпатии к англичанам? — сурово, но не без некоторого коварства спросил Мюллер, ибо знал о трусости старика и любил играть на его слабой струнке. — Да ведь я же и иду. Эго просто у меня слегка закружилась голова — должно быть, от жары, — лепетал бур. — Может быть, кто-нибудь из этих молодых людей присмотрит пока за стариком и будет держать наготове ружье. Он ведь очень сердитый, я его давно знаю, а сердитый человек, да еще с ружьем, это, знаете… — Ну что, идете вы наконец? — еще раз повторил свой вопрос грозный начальник. — Ну разумеется иду. Знаете ли что, дядюшка Крофт, бросьте вы это ружье, с ним ведь шутки опасны. Не глядите же на меня, как разъяренный бык, а выходите-ка лучше к нам и безропотно покоритесь. Вы уже стары, дядюшка Крофт, мы же вовсе не намерены причинить вам зла. Ну идите же сюда, идите. — И он протянул к нему руку, как будто старик был упрямой лошадью, которую во что бы то ни стало надо было поймать. — Ханс Кетце, предатель и лгун! — гневно произнес старик. — Если вы сделаете хоть один шаг, то клянусь Богом, я всажу вам пулю в грудь! — Ну-ка, Ханс! Накиньте на него хомут! Смело хватайте его за хвост! Ударьте его кнутом! Валите старого быка на спину! — поддразнивали его товарищи, толпясь под окном, но сторонясь на всякий случай, чтобы дать дорогу ожидаемой пуле. Хане струхнул не на шутку. В это время Мюллер, единственный из всех неустрашимо продолжавший стоять на своем посту перед окном, схватил его за плечо и со всей силы толкнул к старику Крофту. По известным ему одному причинам он непременно желал, чтобы последний убил кого-либо из буров, находившихся под его начальством, и выбрал для этой цели Ханса Кетце, которого недолюбливал и вообще презирал за трусость. Старик Крофт прицелился и спустил курок, но Бесси, стоявшая до тех пор как бы в оцепенении, мгновенно очнулась и дернула дядю за рукав, не без оснований полагая, что кровопролитие может только ухудшить их и без того незавидное положение. Последовал выстрел, который без вмешательства Бесси наверняка убил бы Ханса, между тем как теперь пуля лишь оцарапала ему ухо и затем вылетела через окно. Комната тотчас наполнилась дымом. Ханс Кетце приложил руку к голове и огласил комнату воем и плачем, а трое или четверо буров, предводительствуемые Хендриком, пользуясь минутой замешательства, бросились к старику, прислонившемуся к стене и обеими руками державшему над головой ружье, которым он отчаянно отбивался от противников. Буры окружили Крофта, но побаивались к нему подступиться, так как старик, несмотря на свой согбенный стан и почтенные годы, обладал огромной физической силой. Один из нападающих попробовал было нанести ему удар, но промахнулся и не успел отбежать в сторону, как старик со всего размаха хватил его прикладом по голове, отчего тот замертво растянулся на полу. Этой минутой воспользовались остальные буры и вплотную обступили старика, который продолжал отчаянно бороться и даже повалил одного из них, стиснув его в своих могучих объятиях. В это время Хендрик подобрался сзади и прикладом ружья нанес Крофту удар по темени. Старик зашатался и упал как подкошенный. К счастью, удар оказался не особенно силен, иначе он проломил бы ему голову. Вся ватага с ожесточением набросилась на упавшего, за исключением Мюллера, молча наблюдавшего за происходившим, и старику пришлось бы плохо, не подоспей на выручку Бесси, обхватившая дядю, как будто намеревалась защитить его от ударов. Фрэнк Мюллер, видя, что свалка принимает серьезный оборот, с криками и ругательствами бросился в середину толпы, которую тотчас и разогнал, так как был очень силен, после чего помог старику подняться на ноги. — Довольно, — прикрикнул он на разъярившихся буров, — выведите его отсюда! Повинуясь его приказанию, толпа с насмешками и проклятиями принялась выталкивать на веранду несчастного Крофта, обливающегося кровью, а затем потащила его во двор, где обессиленный старик наткнулся на труп убитого незадолго перед тем кафра. Потом злодеи поволокли его к мачте, на которой все еще продолжал развеваться национальный флаг. Здесь старик в изнеможении опустился на траву, прислонившись спиной к мачте, и слабым голосом попросил пить. Бесси, горько плакавшая от негодования и обиды, протиснулась сквозь толпу, побежала в комнаты и мигом принесла стакан с водой. Один из буров попытался было вышибить его у нее из рук, но она ловко увернулась и подала стакан дяде. — Благодарю вас, моя милая, — сказал он, напившись, — не бойтесь за меня, я не ранен. Ах, если бы Джон был здесь и мы хотя бы за полчаса знали об этом нашествии, мы устроили бы им совершенно иную встречу! Между тем один из буров, вскочив на плечи другому, отвязал веревку, при помощи которой было прикреплено знамя, и спустил его до земли. Перевернув стяг вверх ногами, буры подняли его до середины мачты и огласили воздух криками в честь республики. — Может быть, дядюшка Крофт еще не знает, что у нас теперь республика? — насмешливо обратился к нему один из них. — Что вы хотите этим сказать? — воскликнул старик. — Трансвааль — британская колония! За этими словами последовал взрыв хохота. — Английское правительство признало себя побежденным, — пояснил бур. — Страна передана в наше управление, и англичане обязаны очистить ее в течение шести месяцев. — Это ложь! — крикнул старик, вскочив на ноги. — Возмутительная ложь! Всякий, кто смеет утверждать, что английское правительство отступило перед несколькими тысячами подобных вам трусов и подлецов и покинуло на произвол судьбы верноподданных королевы и верных им туземцев, — лжец! Тут последовал новый взрыв хохота, и когда он смолк, вперед выступил Фрэнк Мюллер. — Эго не ложь, дядюшка Крофт, — возразил он, — и уж во всяком случае трусы не мы — буры, которые только и делаем, что вас бьем, а ваши солдаты, всякий раз разбегающиеся перед нами, и ваше правительство, следующее примеру своих солдат. Смотрите, — при этих словах он вынул из кармана бумагу, — вам, надеюсь, знакома эта подпись? Это рука одного из членов нашего великого триумвирата. Слушайте же, что он говорит. — И он прочел следующие слова.Любезный минеер Мюллер! Доводим до вашего сведения, что силой оружия, поднятого в защиту народных прав и свободы, а также благодаря трусости британского правительства, его генералов и солдат, мы волей Всевышнего заключили сегодня славный мир с врагом! Британское правительство обязуется исполнить все наши требования и сохраняет за собой лишь номинальную власть. Республика восстановлена, и все английские войска должны покинуть страну в течение шести месяцев. Объявите об этом во всеуслышание и не забудьте возблагодарить Создателя за дарованные нам победы!Буры вновь огласили воздух кликами. Бесси рыдала, стоя поодаль, и в отчаянии ломала руки. Что касается старика, то он оперся о мачту и склонил на грудь свою седую голову. Затем он внезапно выпрямился и, в гневе потрясая сжатыми кулаками, разразился таким потоком проклятий и ругательств, что даже глумившиеся незадолго перед тем буры отступили назад, пораженные величием его горя. Грустно было видеть, как этот добрый и богобоязненный старик с искаженным от злобы лицом, с запекшейся кровью в седых волосах, в беспорядке рассыпавшихся по плечам, и в изодранном платье, метался в разные стороны и проклинал своего Создателя, а также день, в который родился. Тяжело было слышать, как он богохульствовал и проклинал свою милую родину, свою национальность и правительство, покинувшее его. Наконец его силы истощились, он потерял сознание и, как сноп, повалился к подножию мачты, на которой печально болталось опозоренное знамя.
Глава 28
БЕССИ ПОДВЕРГНУТА ЗАКЛЮЧЕНИЮ
Между тем позади дома разыгралась другая сцена. После того как кривой знахарь Хендрик прикладом ружья свалил Крофта на пол, а затем принял участие в истязании несчастного старика, он вдруг пришел к заключению, что не мешает воспользоваться суматохой для того, чтобы извлечь из нее какую-либо пользу и для себя и к несчастьям старика прибавить еще немного горя — уже ради собственной выгоды. А потому, как только Фрэнк Мюллер принялся за чтение манифеста, он шмыгнул в опустевшие комнаты с намерением посмотреть, нельзя ли чем поживиться. Проходя мимо гостиной, он присвоил себе лежавшие на камине золотые часики с цепочкой, подаренные Бесси ее дядей на Рождество. После этого он прошел на кухню, где нашел множество только что вычищенных Бесси серебряных вилок и ложек, которые она незадолго до того разложила на полке, чтобы убрать в шкаф. Серебро это в количестве нескольких дюжин также бесследно исчезло в необъятных карманах изодранной военной куртки кафра. В продолжение этого занятия его сильно беспокоило рычание Стомпа, того самого пса, с которым он несколько недель тому назад впервые познакомился и который случайно оказался привязанным к своей конуре — старой винной бочке, лежавшей во дворе прямо напротив двери, ведшей из кухни во двор. Хендрик выглянул в окно и злобно усмехнулся; затем, убедившись, что собака крепко привязана к бочке, он решил свести с ней счеты. Ружье он бросил на траве возле мачты, но при нем еще оставался ассегай[464], с которым он и вышел через кухонную дверь, остановившись в нескольких шагах от конуры. Собака сразу узнала своего недавнего врага и пришла в неистовое бешенство. Она делала невероятные усилия, чтобы разорвать цепь и броситься на него. Хендрик поддразнивал ее издали и швырял в нее камни, но, опасаясь, как бы вой собаки не привлек чьею-либо внимания, заколол ее, после чего, полагая, что находится в полном одиночестве, уселся на корточки, понюхал табаку и стал наслаждаться зрелищем предсмертных страданий несчастного животного. Между тем в действительности он вовсе не был один, ибо поблизости, скрытый в густой траве между стеной и росшими вдоль нее с внешней стороны кустарником, неслышными шагами пробирался готтентот Яньи. Время от времени он поднимал голову вровень со стеной, и наблюдал за действиями одноглазого знахаря. Яньи видимо колебался, не зная как поступить, а в это время Хендрик уже успел убить собаку. Яньи любил животных. Эта черта, присущая всем готтентотам, весьма значительна, также как и ненависть к ним кафров. К Стомпу же он питал особенную нежность, ибо постоянно выходил гулять с ним — что, впрочем случалось довольно редко, а именно в те дни, когда он считал более безопасным и удобным для себя ходить, как и все люди, а не красться от одного куста к другому подобно пантере или ползти в траве наподобие змеи. Вид убитого животного возбудил в его сердце непреодолимую жалость и жажду мщения, и он стал обдумывать, что же ему лучше всего предпринять. В это время Хендрик поднялся на ноги, оттолкнул ногой собаку, вынул из ее трупа ассегай и вдруг, как бы осененный внезапной мыслью, отвязал ее от цепи, взял на руки и понес в кухню, где и бросил под столом. Затем он вернулся обратно во двор, подошел к стене, сложенной из грубо отесанных камней, отодвинул один из них и в образовавшееся углубление спрятал украденные часы и серебро, после чего положил камень на прежнее место. Вслед затем он принялся уничтожать следы своего преступления и, прежде нежели Яньи мог догадаться в чем дело, зажег спичку и, оглянувшись с целью убедиться, что за ним никто не наблюдает, поднес ее к соломенной крыше дома, которая в этом месте отстояла всего на девять футов от земли. Дождей в Муифонтейне за последнее время не выпадало вовсе, а погода стояла жаркая, вследствие чего крыша была сухой, как трут. Пламя взвилось моментально и быстро охватило всю крышу. Хендрик отступил на несколько шагов назад и оперся о каменную стену, по другую сторону которой притаился Яньи. Затем он стал хихикать и потирать руки от восторга. Это окончательно вывело из терпения Яньи. Обида была слишком велика, да и обстоятельства как нельзя более ему благоприятствовали. При нем находилась толстая палка, на которой он обычно делал свои заметки. Схватив ее обеими руками, он замахнулся и со всей силы хватил по голове одноглазого негодяя. Череп кафра оказался очень крепок, но все же не выдержал удара, и почтенный знахарь замертво грохнулся оземь. Что касается Яньи, то он перескочил через стену, схватил за руку лежавшего без движения врага и потащил его в кухню, где и бросил рядом с убитой собакой. Затем с сердцем, замирающим от радости и страха, выбежал из кухни и запер на ключ входную дверь, после чего крадучись пополз к плантации, находившейся в семидесяти или восьмидесяти ярдах с правой стороны от дома, откуда, притаившись, мог наблюдать за пожаром, а также за тем, что делали буры. Несколько минут спустя Хендрик очнулся и увидел себя окруженным целым морем огня, в котором вскоре и погиб, так как был слишком слаб, чтобы подняться на ноги, а его крики совершенно заглушались ревом пламени. Таков был достойный конец Хендрика. Старик Крофт все еще лежал в обмороке, и Бесси старалась привести его в чувство. Буры же, как и подобает победителям, непринужденно курили, смеялись и шутили. — Неужели никто из вас не поможет мне отнести его в комнаты? — обратилась она к окружающим. — Кажется, вы уже довольно натешились над страданиями старика. Не пошевелился ни один человек, даже Фрэнк Мюллер, насмешливо смотревший на ее покрытое слезами личико. — Это пройдет, мисс Бесси, — заметил он, — это пройдет. Я не раз видел людей в подобном состоянии. Так случается от слишком сильного нервного возбуждения или от излишнего количества выпитого вина. При этих словах он вскрикнул и указал рукой на дом, из-под крыши которого выбивались тонкие синеватые струйки дыма. — Кто поджег дом? — грозно спросил он. — Клянусь небом, я застрелю того, кто осмелился это сделать. Буры встрепенулись и также взглянули в сторону пожара. В это время крыша вспыхнула, и огонь с невероятной быстротой охватил весь дом. Затем поднялся ветер и погнал пламя в их сторону, вследствие чего дым и копоть повалили им в лицо. — Боже мой, Боже мой! Наш дом горит! — воскликнула Бесси, пораженная выпавшим на ее долю новым несчастьем. — Слушайте, — крикнул Мюллер, обращаясь к бессмысленно глазеющим бурам, — идите скорее в дом и посмотрите, нельзя ли что спасти. Фу! Уйдем отсюда. — С этими словами он нагнулся, взял старика Крофта на руки и, сопровождаемый Бесси, понес его к плантации, той самой, в чаше которой скрывался Яньи. Посреди плантации была разбита беседка из молодых апельсиновых деревьев. Он осторожно сложил свою ношу на кучу осыпавшихся листьев, сквозь которые пробивалась молодая травка, и затем, не говоря ни слова, поспешно удалился к месту пожара, где убедился, что к дому уже не подступиться. Через, четверть часа — вот с какой быстротой огонь произвел свою разрушительную работу — все здание представляло собой один сплошной костер, а через полчаса от него не осталось ничего, кроме голых закоптелых стен, над которыми стоял густой столб дыма. Муифонтейн представлял собой груду развалин, и только конюшня да надворные строения, крытые оцинкованным железом, уцелели от огня. Через несколько минут после ухода Фрэнка Мюллера дядя, к великой радости Бесси, открыл наконец глаза. — Что это такое? Что это такое? — спросил он. — Ах да, теперь я припоминаю. Однако что же означает этот запах гари? Неужели они подожгли дом? — Да, дядя, — с рыданием отвечала Бесси. Старик застонал. — Я строил его в течение десяти лет. Каждое бревно и каждый камешек уложены моими руками, и вот теперь все разрушено. Ну что ж! Видно, на то воля Божья! Дай мне руку, Бесси, и проводи меня к источнику. Мне необходимо освежиться. Я очень слаб и плохо себя чувствую. Она исполнила его просьбу, не переставая все время горько плакать. В пятнадцати ярдах от них в скале просачивался источник, подойдя к которому, старик вдоволь напился и обмыл свои раны на голове и лице. — Ну полно, моя милая, — сказал он, — не горюй, я снова отлично себя чувствую. Мне кажется, однако, что я поступил не совсем так, как бы следовало. Я еще не научился с достоинством переносить несчастья и оскорбления, и, как Иов, возроптал на Господа Бога. Но как я уже сказал, да будет Его святая воля! Все же интересно было бы знать, чем все это кончится. Да, впрочем, это нам скоро будет известно — вон, кажется, подходит наш приятель Фрэнк Мюллер. — Я очень рад, что вы наконец пришли в себя, дядюшка, — вежливо обратился к нему Мюллер, — жаль только, что нет никакой возможности спасти ваш дом. Поверьте мне, если бы я знал, я бы застрелил того, кто его поджег. В мои намерения вовсе не входило уничтожать вашу собственность. Старик едва поклонился, но не отвечал ни слова. По-видимому, вся прежняя строптивость оставила его. — Чего же вы от нас хотите, минеер? — промолвила в свою очередь Бесси. — Теперь, когда мы окончательно разорены, я надеюсь, вы позволите нам удалиться в Наталь, который, насколько мне известно, пока еще считается английской колонией? — Совершенно верно, мисс Бесси, Наталь пока еще принадлежит англичанам, но скоро перейдет в руки голландцев. Тем не менее я все же не могу отпустить вас туда. Я имею приказание арестовать вас обоих и судить вашего дядю военным судом. Сарай, — продолжал он, — с двумя маленькими комнатками уцелел от огня. Я велю приготовить их для вас, и как только уменьшится жара, вы тотчас можете в них поместиться. — С этими словами он повернулся к шедшим позади бурам, чтобы отдать кое-какие приказания, после чего двое из них немедленно удалились. Старик продолжал безмолвствовать и не высказывать ни недовольства, ни удивления. Что же касается Бесси, то она была поражена горем и стояла, беспомощно опустив руки, не зная даже, что сказать этому ужасному и бессовестному человеку, так спокойно и безучастно распоряжавшемуся их судьбой. Фрэнк Мюллер некоторое время молча поглаживал бороду и, казалось, что-то обдумывал, а затем обратился к стоявшим возле него бурам. — Смотрите хорошенько за пленником, — велел он, указывая на старика, — и наблюдайте за тем, чтобы никто не смел к нему подходить. Как только помещение в сарае будет готово, вы отведете его в левую комнату. Позаботьтесь о том, чтобы он ни в чем не нуждался. Если он уйдет из-под вашего караула, или будет с кем-нибудь переговариваться, или же, наконец, станет жаловаться на дурное с ним обращение, вы мне ответите за него. Поняли? — Поняли, минеер, — последовал ответ. — Прекрасно! Так не забудьте же моих приказаний. А теперь, мисс Бесси, мне необходимо переговорить с вами наедине… — Нет, — отвечала она, — я останусь с дядей. — Едва ли вам это удастся, — заметил он с холодной улыбкой, — и прошу вас об этом хорошенько подумать. Для вашей же пользы и для пользы вашего дяди я советую вам согласиться на мою просьбу. Бесси замялась. Она ненавидела и в то же время боялась этого человека, на что, впрочем, имела основательные причины, вследствие чего и не решилась остаться с ним наедине. В это время успели вернуться буры, которым было поручено отвести старика, и встали между нею и Мюллером. Последний тотчас отошел в сторону. Она же, не зная, на что решиться, в отчаянии последовала за ним. Дойдя до молодого апельсинового деревца, он остановился. Она со своей стороны также молча ждала, пока он заговорит. Хотя оба они находились на небольшом расстоянии от буров гул пожара полностью заглушал их слова. — Что же вам угодно было мне сказать? — спросила она, прижимая руку к груди, как бы желая остановить сильное биение сердца. Ее женский инстинкт подсказывал ей предмет предстоящего разговора. — Мисс Бесси, — заговорил он, — выслушайте то, о чем я давно хотел с вами переговорить. Уже в течение многих лет я добиваюсь вашей любви и почел бы за счастье на вас жениться. Я еще раз прощу вас согласиться стать моей женой. — Минеер Фрэнк Мюллер, — отвечала она с достоинством, — благодарю вас за ваше лестное предложение, но я еще раз вынуждена отклонить честь быть вашей женой. — Подумайте, — настаивал он, — я люблю вас так, как немногим женщинам удается быть любимыми. Я только и думаю о вас. Я брежу вами во сне и наяву. Чтобы я ни делал, я говорю самому себе: я делаю это ради Бесси Крофт, на которой думаю жениться. Обстоятельства в этой стране переменились. Восстание оказалось удачным. Это я подал решающий голос — только для того, чтобы добиться вашего согласия. Я теперь сделался весьма могущественным, а в один прекрасный день я буду великим человеком. Вы разделите мое величие. Обдумайте хорошенько ваш ответ! — Я уже обдумала и не выйду за вас замуж. Вы осмеливаетесь просить моей руки над дымящимися развалинами моего дома, из которого выволокли меня и моего несчастного дядю. Повторяю вам, что я вас ненавижу и ни за что не соглашусь быть вашей женой! Я скорее выйду замуж за кафра, нежели за вас, Фрэнк Мюллер, как бы велики вы ни были. Он улыбнулся. — Может быть, ваше несогласие объясняется любовью к англичанину Нилу? Но его уже нет в живых. А потому не стоит и думать об умершем. — Жив он или нет, но я люблю его всем сердцем. Если же он убит, то это дело рук вашего народа, и в таком случае пусть его кровь послужит нам вечной преградой. — Его кровь давно поглощена землей. Он умер, и я тому весьма рад. Так это ваше последнее слово? — Да. — Прекрасно. В таком случае я заявляю вам, что или вы выйдете за меня замуж, или… — Или что? — Или ваш дядя, которого вы так любите, умрет. — Что вы хотите этим сказать? — спросила она задыхающимся голосом. — То, что говорю, ни больше ни меньше. Неужели, вы полагаете, я допущу, чтобы жизнь какого-то там старика стояла между мной и моим желанием? Никогда. Если вы не согласитесь выйти за меня замуж, то ваш дядя сейчас же будет предан суду за покушение на убийство и за измену. Через час с небольшим он будет приговорен к смерти, а завтра на рассвете казнен. Мне дана в этом дистрикте неограниченная власть, и, повторяю вам, старик умрет, а в таком случае его кровь несомненно падет на вашу голову. Бесси ухватилась за дерево, чтобы не упасть. — Вы не смеете, — проговорила она, — вы не смеете казнить ни в чем не повинного человека! — Не смеете! — воскликнул он. — Плохо же вы меня знаете, Бесси Крофт, если воображаете, что я не осмелюсь сделать чего-либо ради вас. Нет ничего на свете, — прибавил он дрожащим голосом, — чего бы я не сделал, чтобы только приобрести вашу любовь. Слушайте: обещайте выйти за меня замуж завтра же утром. Я достану священника из Ваккерструма, и ваш дядя будет свободен, как птица, хотя он и изменил стране и покушался убить бура уже после заключения перемирия. Если же вы не согласны, то он умрет. Выбирайте. — Я выбрала, — проговорила она с воодушевлением, — Фрэнк Мюллер, ктятвопреступник и убийца, я не выйду за вас! — Хорошо, хорошо, Бесси, как вам будет угодно. Но прошу вас помнить только одно: не пеняйте потом на меня. Если вы продолжаете упорствовать, то дядюшка Крофт, само собой разумеется, умрет. Однако не думайте, что этим вы отделались от меня. Вы не согласны быть моей женой? Прекрасно, даже в этой стране, где у меня столько власти, я не в состоянии вас к этому принудить. Но я могу заставить вас быть моей женой во всем, кроме названия и помимо брака. И я это сделаю, как только ваш дядя превратится в окоченелый труп. Вы еще можете взять свои слова назад тотчас после суда. Если вы и туг откажетесь, он умрет на другой день утром, и после его смерти я вас возьму силой, а тогда, милая моя, вы сами пожелаете выйти за меня, чтобы только покрыть свой позор! — Вы сущий дьявол, Фрэнк Мюллер, но вы меня этим не запугаете. Я скорее сама наложу на себя руки! Я уповаю единственно на Господа Бога, а с вами просто не желаю иметь никакого дела! — Повторив это, она закрыла руками лицо и горько зарыдала. — Какая вы хорошенькая, когда плачете! — заметил он, смеясь. — Надеюсь, я завтра же смогу осушить ваши слезы своими поцелуями. Итак, как вам угодно. Эй, вы! — крикнул он бурам, стоявшим в отдалении. — Подойдите сюда! Буры повиновались, и он принялся раздавать им приказания, схожие с теми, какие получили буры, сторожившие старика. Распоряжения его состояли в том, чтобы Бесси была отведена в другое свободное помещение сарая и изолирована от всякого общения с внешним миром. При этом он прибавил: — Попросите бюргеров собраться в сарае для суда над англичанином Крофтом, посягнувшим на измену государству и покусившимся на убийство одного из граждан во время исполнения последним приказаниям триумвирата. Буры подошли и схватили Бесси за руки. Совершенно истомленную и обессиленную, ее отвели в другое свободное помещение сарая, служившее, подобно первому, кладовой и наполненное рассыпанным картофелем, а также мешками с мукой. Затем она расслышала, как щелкнул за нею замок. В помещении, в котором была заключена Бесси, не было никаких окон, и свет проникал лишь через дверные щели и отверстие в задней стене. Несчастная девушка в изнеможении опустилась на один из мешков с мукой и принялась размышлять о своем горестном положении. Первой ее мыслью было бежать, то она тотчас рассудила, что это невозможно. Массивная дверь отделяла ее от выхода, а кроме того, там стоял часовой. Она поднялась с места и взглянула в отверстие в задней стене, но и здесь также увидела часового. Тогда она обратила внимание на отверстие в боковой стене, отделявшее ее собственно от сарая. Стена эта была сложена из кирпичей и в одном месте треснула, так что Бесси не только могла слышать, что говорилось на той стороне, но также и видеть, что там происходит. Впрочем, стена эта была слишком толста, чтобы поддаться ее усилиям, которые были бы даже и бесполезны, так как внутри сарая стояли вооруженные люди. Да наконец, разве у нее хватило бы духу бежать и покинуть дядю на произвол судьбы?Глава 29
ПРИГОВОРЕННЫЙ К СМЕРТИ
В пыльном и душном помещении, занимаемом Бесси, на некоторое время водворилась тишина, нарушаемая лишь мерным звуком шагов часовых да шумом изредка падавших со стен сгоревшего здания кирпичей. Вследствие близости пожара, а также по причине накаленной солнцем железной крыши сарая в комнате Бесси стояла нестерпимая жара, от которой она просто изнемогала. Свежий воздух проникал лишь через щель, образовавшуюся в стене, чем и воспользовалась девушка, усевшись прямо против отверстия на сквозняке. С этого места она могла также наблюдать и за тем, что происходило по ту сторону стены. В эту минуту вошли несколько буров и принялись прибирать смежное помещение. Они вытащили из сарая все находящиеся там экипажи, оставив лишь открытую повозку с широкими бортами, окованными железом. Повозку эту они установили вдоль стены, противоположной той, через которую смотрела Бесси. К ее же стене придвинули небольших размеров шотландскую телегу. Все это время они, не переставая, чему-то громко смеялись. Затем откуда-то появилась скамейка, которую они примкнули к наружной стене. Тут только Бесси поняла смысл всех этих приготовлений: стало ясно, что буры устраивали помещение для суда, и принесенная скамейка изображала собой не что иное, как председательское кресло. Очевидно, Фрэнк Мюллер и в самом деле намеревался привести в исполнение свою угрозу. Немного погодя начали поодиночке собираться прочие буры и со смехом и прибаутками усаживаться в два ряда по краям повозки. Среди них находился Ханс Кетце с головой, перевязанной платком. Он был бледен и дрожал всеми членами. Наконец показался и сам Фрэнк Мюллер, бледный как полотно и казавшийся ужаснее, чем когда-либо. При его появлении шутки и разговоры разом смолкли. Мюллер быстрой и решительной походкой вошел в импровизированную залу суда и тотчас же сел на скамейку, держа между коленями ружье. Наступила мертвая тишина, а несколько минут спустя Бесси увидела дядю, ведомого под руки двумя вооруженными бурами. Буры почтительно остановились посреди сарая в двух шагах от скамейки. В это же время Ханс Кетце уселся в шотландскую телегу, а Мюллер вытащил записную книжку и карандаш. — Слушайте! — воскликнул он. — Мы собрались сюда, чтобы судить англичанина Крофта. Он обвиняется в том, что словом и делом, а в особенности постоянно развевавшимся над усадьбой английским флагом, уже после заключения перемирия, явно доказывал всем свою приверженность Англии и измену республике. Обвиняется он также и в том, что совершил покушение на жизнь бюргера при помощи заряженного ружья. Если эти обвинения подтвердятся, то, согласно военным законам, он должен быть подвергнут смертной казни. Обвиняемый, что вы можете сказать в свое оправдание. Старик Крофт, казавшийся совершенно спокойным и вполне владевший собой, взглянул на судью и отвечал: — Я английский под данный. Я защищал свой дом после того, как вы убили одного из моих слуг. Я не признаю вашего суда и отказываюсь отвечать на ваши вопросы. Фрэнк Мюллер сделал какие-то пометки в записной книжке и затем произнес: — Я не могу согласиться с возражением обвиняемого относительно юрисдикции нашего суда. Что же касается отдельных пунктов обвинения, то мы прежде всего должны их подтвердить свидетельскими показаниями. Обвинение по первому пункту едва ли требует доказательств, ибо все мы видели развевающийся флаг. По второму же пункту пусть говорит Ханс Кетце, то есть именно тот бюргер, на жизнь которого было произведено покушение. Ханс Кетце, клянетесь ли вы именем Бога и республики говорить правду и одну только правду? — КлянусьВсемогущим Богом, да! — отвечал Ханс с повозки, на которой величественно восседал. — И да поможет мне в этом Господь! — В таком случае говорите. — Я только собирался войти в комната обвиняемого, чтобы арестовать его согласно приказанию вашей милости, как вдруг обвиняемый навел на меня ружье и выстрелил. Пуля оцарапала мне ухо, причинив жестокую боль и заставив меня потерять много крови. Вот все, что я имею сказать. — Это правда! Это не ложь! — послышались голоса с повозки. — Обвиняемый, не желаете ли вы предложить какой-либо вопрос свидетелю? — Я ни о чем не желаю спрашивать свидетеля; я не признаю вашего суда, — гневно заявил старик. — Обвиняемый отказывается от опроса свидетеля и вновь указывает на неправильность нашей юрисдикции, каковое возражение я отвергаю. Господа, находите ли вы необходимым еще какие-либо доказательства? — Нет, нет! — Значит, вы признаете обвиняемого виновным по обоим пунктам? — Да, да, — послышалось с повозки. Мюллер что-то пометил в своей записной книжке и продолжал: — Если обвиняемый признан вами виновным в измене республике и покушении на жизнь бюргера, то нам остается лишь решить вопрос о наказании, которому следует подвергнуть человека, уличенного в столь тяжких и возмутительных преступлениях. Пусть каждый из вас выскажет свое мнение, взяв в соображение с одной стороны то, что ему повелевает совесть, с другой — то, что ему подскажет сердце. Как начальник и председатель суда, я первым обязан подать свой голос, при этом я считаю долгом предупредить вас, господа, что на мою долю выпала весьма тяжелая ответственность перед Богом и моей родиной. А потому я советую вам не увлекаться моим личным мнением, ибо я, как и каждый из вас, всего лишь человек, а человеку свойственно ошибаться! — Слушайте, слушайте, — пронеслось среди присутствующих, и даже сам Фрэнк Мюллер на несколько мгновений умолк, чтобы насладиться впечатлением, произведенным блестящим началом его речи. — Милостивые государи, граждане республики, лично я склоняюсь… к помилованию! Обвиняемый — старик, проживший среди нас многие годы, и мы все привыкли видеть в нем брата. Хоть он и кровный англичанин, но всегда был одним из лучших представителей и патриархов страны. Неужели у нас хватит духу приговорить его к безвременной могиле, в особенности когда все мы знаем, что на его попечении находятся две племянницы? — Конечно, нет! — воскликнули буры в ответ на искусно построенную речь, имевшую цель затронуть лучшие струны человеческого сердца. — Господа, выражаемые вами чувства делают вам честь! И мне сердце приказывает то же: конечно, нет, каковы бы не были его прегрешения, оставим старика в покое! Но вместе с тем меня берет раздумье. Конечно, обвиняемый стар, но неужели годы не научили его благоразумию? Разве то, что непростительно даже юноше, может быть прощено человеку в старости, умудренному житейским опытом? Разве может человек быть убийцей и изменником только потому, что он стар? — Конечно, нет, — подхватили присутствующие хором. — Затем, позвольте привести еще одно соображение. Он был представителем и патриархом страны. Не должен ли был он поэтому более чем когда-либо ее оберегать, а не предавать в руки жестоких и безбожных англичан? Ибо, господа, не мешает вам припомнить, хоть обстоятельство это и не ставится в вину, по крайней мере теперь, что он был одним из тех немногих, которые в свое время предали страну Шепстону. Не считается ли у нас одним из самых противоестественных и возмутительных преступлений, если отец продает в рабство родного сына или же патриарх страны продает ее свободу иноземцу? В таком случае правосудие перевешивает милость. — Это правда! — с особенным воодушевлением воскликнули буры, большинство из которых сами участвовали в упоминаемом государственном перевороте. — Еще одно слово: у обвиняемого есть племянницы, и на обязанности каждого порядочного человека лежит наблюдение за тем, чтобы молодежь не была лишена средств к существованию и не оставлена без призора. Иначе, выросши, она может оказаться вредным элементом в государстве. Но ведь в настоящем случае дело обстоит совершено иначе, ибо ферма перейдет по наследству к молодым особам; сами же они будут освобождены от влияния зловредного и безбожного старика. А теперь, изложив перед вами свои соображения как в пользу обвинительного, так и оправдательного приговоров и предупредив вас действовать по чистой совести и внутреннему убеждению каждого, я подаю свой голос. А именно, — продолжал он среди гробового молчания, взглянув на старика Крофта, который не дрогнул ни одним мускулом, — я подаю свой голос за смерть! В толпе послышался одобрительный ропот, и несчастная Бесси, наблюдавшая через щель за всем происходящим на суде, застонала от горя и отчаяния. Следующим речь произнес Ханс Кетце. — Оружие пронзило ему душу, — сказал он, указывая на Фрэнка Мюллера, — когда он изрек свой приговор тому, которого любил, как родного брата. Но что же оставалось ему делать? Человек замышлял зло против страны, той возлюбленной страны, которую даровал нам милосердный Господь и которую не раз мы сами и отцы наши обагряли собственной кровью. Чем же иным мы можем обезопасить страну от коварства прочих проклятых англичан, таких же, как и он, предателей и изменников? К сожалению, на это может быть лишь один ответ, хоть он и стоил его давнишнему другу многих искренних слез, и ответ этот — смертная казнь! Затем речей более не произносилось, но каждый из присутствующих, по старшинству, подавал особо свой голос председателю. Вначале произошло небольшое замешательство, ибо некоторые из буров ценили и уважали старика, а потому и не желали ему смерти. Но Фрэнк Мюллер весьма искусно обставил свою игру, и хотя он говорил о чистой совести и внутреннем убеждении, тем не менее буры прекрасно сознавали, что плохо придется смельчаку, который бы вздумал ему противоречить. На этом основании все они без исключения произнесли роковое слово. Когда подача голосов была окончена, Фрэнк Мюллер обратился к старику Крофту: — Обвиняемый, вы слышали приговор суда? Я не стану перечислять ваших преступлений. Суд над вами был честный, открытый и вполне согласный с законами страны. Имеете ли вы что возразить против смертного приговора? Старик Крофт поднял голову, и глаза его засверкали. — Я ничего не имею возразить против приговора! Если вы намерены совершить убийство, то совершайте его! Я бы мог указать вам на свои седые волосы, на моего убитого слугу, на мой дом, стоивший мне столько трудов и теперь разрушенный вами до основания! Я бы мог напомнить вам, что я всегда был честным гражданином и прожил в мире и согласии с соседями более двадцати лет, в продолжении коих сделал немало доброго многим из тех, которые теперь так хладнокровно собираются лишить меня жизни. Но всего этого перечислять вам я не стану. Расстреляйте меня, если желаете, и пусть моя кровь падет на ваши головы. Еще утром я бы, пожалуй, сказал, что мое отечество заступится за меня. Теперь сказать этого я уже не могу, ибо Англия нас бесстыдно покинула на произвол судьбы, и у меня больше нет родины. А потому отомстит за меня Тот, Который не оставляет безнаказанным ни одного злодеяния, хоть иногда и медлит со своей небесной карой. Вас я не боюсь. Убейте меня, если хотите. Я потерял все — честь, дом, родину. Почему же мне не потерять и саму жизнь? Фрэнк Мюллер вперил свой холодный взгляд в взволнованное лицо старика, и на его губах появилась злобная торжествующая улыбка. — Обвиняемый, по долгу присяги и во имя Бога и республики я приговариваю вас к расстрелу завтра же на заре, и да простит вам Всевышний ваши прегрешения и помилует вашу душу! Отведите преступника под стражу и как можно скорее отправьте гонца в покинутый жителями дом, расположенный на горе на недалеком расстоянии от Ваккерструма, тот самый, в котором некогда жил тот самый рыжебородый англичанин. Там посланный найдет священника, которого пусть захватит с собой, так как необходимо напутствовать осужденного перед смертью. Вместе с тем велите двум бурам вырыть могилу для старика позади дома. К Крофту приблизились часовые, положили руки ему на плечи, после чего старик повернулся к выходу и вместе с ними удалился, не говоря ни слова. Бесси с болью в сердце следила за происходящим через отверстие в стене до тех пор, пока обрамленная седыми волосами голова и величественная, но согбенная фигура старца не скрылась из виду. Затем, измученная физически и потрясенная до глубины души всем виденным и слышанным в продолжении дня, она без чувств опустилась на пол. Между тем Мюллер писал смертный приговор на листе, вырванном из записной книжки. В конце он оставил свободное место для своей подписи, которую решил поставить впоследствии, чтобы прежде всего сделать ответственными за убийство всех участвовавших в этой пародии на суд, а потом уже и самого себя. Буры вообще весьма простодушны, но на этот раз не так легко поддались на уловку, вследствие чего и произошла следующая поучительная сцена. Каждый из присутствующих на словах дал согласие на казнь старика, но ни один не пожелал подтвердить своего согласия письменно. Как только буры поняли мысль своего грозного начальника, то, точно сговорившись, стали расходиться под тем предлогом, что у каждого из них накопилось множество спешных дел. Началось что-то вроде всеобщего бегства. Некоторые уже успели спрыгнуть с повозки и под предводительством Ханса направились к выходу, как вдруг Фрэнк Мюллер, поняв их намерения, закричал: — Стойте! Никто не смеет уходить, пока не подпишет смертный приговор! Буры остановились и с невинным выражением лица принялись разговаривать между собой. — Ханс Кетце, подойдите сюда и подпишите, — велел Мюллер. Злосчастный бур с плохо скрываемым чувством досады поспешил исполнить приказание, не переставая втихомолку бранить этого дьявола Фрэнка Мюллера. Затем Мюллер подозвал второго, который тут же принялся извиняться, говоря, что на его образование смолоду не было обращено должного внимания, вследствие чего он совсем не умеет писать. Эта оговорка не принесла ему, однако, существенной пользы, ибо Фрэнк Мюллер сам написал на документе имя бура, заставив его лишь сделать собственноручную отметку. После этого больше уже не возникало никаких недоразумений, и вскоре вся оборотная сторона документа покрылась всевозможными подписями. По уходе буров Фрэнк Мюллер остался один и, сидя на скамейке, о чем-то размышлял, держа в одной руке исписанный лист бумаги, другой же поглаживая бороду. Немного погодя он перестал ее гладить и в продолжение нескольких минут сидел молча и не двигаясь, точно каменное изваяние. К этому времени солнце, пройдя дневной путь скрылось за горой. Наступили сумерки, а сгустившиеся вокруг Мюллера тени окутали его каким-то туманом. Он сделался похож на князя тьмы, ибо зло также имеет своих князей, отмечает их особой печатью и венчает своей особой диадемой. Улыбка торжества играла на его злобно-прекрасном челе, какой-то особенный блеск сверкал в его холодных очах и отливал в золотистой бороде. В эту минуту он был подобен своему великому наставнику — дьяволу. Вдруг он очнулся. — Она моя! — воскликнул он. — Она попала в тиски! Она не вырвется из них! Она не даст умереть старику! Эти дураки сослужили мне знатную службу. С ними так же легко справляться, как со струнами на скрипке, а я не плохой музыкант! Ну, а теперь мы подходим к финалу песни.Глава 30
НАМ НАДО РАССТАТЬСЯ, ДЖОН
Спасшиеся таким чудом путники некоторое время стояли в благоговейном молчании и взирали на посинелые и обезображенные тела пораженных молнией буров. Затем оба направились к растущему на недалеком расстоянии дереву, чтобы привязать к нему лошадей. Последнее, однако, стоило Джону немалых трудов, ибо подозрительные животные все время вздрагивали и храпели от страха, никак не решаясь перешагнуть через трупы. Между тем Джесс вынула из корзины несколько яиц, сваренных вкрутую, и удалилась, предупредив Джона, что намерена снять платье и разложить его для просушки на солнце, пока сама займется завтраком, причем и ему советовала последовать ее примеру. Спрятавшись за скалой, она принялась приводить в исполнение свое намерение, что оказалось далеко не легкой задачей, ибо платье прилипло к телу и стаскивалось с большим трудом. Отдельные части своей одежды она разостлала на плоских прибрежных камнях, достаточно нагревшихся от солнечных лучей. Подойдя к наполненному водой природному бассейну на берегу реки, она смыла с себя песок и ил, а затем, усевшись на камни в тени, падавшей от скалы, принялась за скромную трапезу, не переставая все время размышлять о своем горестном положении. На сердце у нее было очень тяжело, и она искренне сожалела, что не лежит теперь на дне реки, протекавшей перед ней. Она рассчитывала умереть и не умерла, и теперь, быть может, ей суждено прожить еще долгие годы, скрывая в глубине сердца свой позор и горе. Она чувствовала то же, что должен чувствовать человек, видевший себя во сне парящим на крыльях ангелов и вдруг проснувшийся от падения на пол. Порывы великодушия, неземная любовь, благороднейшие помыслы и стремления, проснувшиеся в ней под влиянием неминуемой гибели, отныне представляются не более чем вспышками самой обыденной и пошлой страсти. Но это еще не все. Она сама не только оказалась неверной по отношению к Бесси, но и жениха ее заставила нарушить данное слово. Она его соблазнила, и он пал, а теперь он так же гадок, как и она. Смерть могла бы служить ей оправданием, она ни за что не высказала бы своих чувств, если бы знала, что останется жива. Но смерть ее обманула, и теперь она ясно видит, до какой степени были неуместны чувства и мысли, волновавшие ее душу в то время, как меч висел над ее головой. Их отношения зашли слишком далеко, их следует прекратить раз И навсегда, хоть это и разобьет его и ее сердце. Обстоятельства переменились, и воспоминание о тех минутах, когда среди бушующих волн, на алтаре смерти, они клялись вечной верности и любви друг другу, должно остаться не более чем Воспоминанием. Оно возникло на их жизненном пути, как прекрасный, но вместе с тем тяжелый сон, и, как сновидение, должно исчезнуть. А между тем это все же не сновидение, а горькая действительность, если только можно назвать действительностью самую ее жизнь — загадку, постичь которую было так же трудно, как разглядеть солнечный луч во время тумана. Нет, это не сновидение, это только исчезнувшая в прошедшем часть действительной жизни, это факт, который не может быть признан несуществующим, который невозможно в чем-либо изменить. И вот отныне под видом равнодушия и забвения она должна скрывать в себе чувство, которому никогда не суждено в ней умереть. Это было ей до горечи тяжело! И что только она должна чувствовать, расставаясь теперь с ним и зная наверное, что он вскоре женится на ее родной сестре — женщине, имеющей на него больше прав, нежели она! Каково ей думать о том, что нежная привязанность Бесси постепенно займет ее место в сердце Джона, что постоянная любовь сестры заставит понемногу забыть о ее более глубокой страсти, а вскоре и навеки изгонит из его памяти даже самое воспоминание о ней! А между тем так должно быть. Она решила это бесповоротно. Ах, зачем она не умерла тогда с ощущением его поцелуя на устах? Зачем он не позволил ей умереть? При этом воспоминании несчастная девушка закинула голову, закрыла лицо руками и горько зарыдала, как, может быть, рыдала Ева в ту минуту, когда ее осыпал упреками Адам. Но плачет ли голый человек или одетый, едва ли горю можно пособить слезами. Эго сознавала и Джесс. А потому, отерев слезы волосами, ибо у нее ничего другого под рукой не было, она понемногу принялась надевать на себя полувысохшее платье — операция, способная самую терпеливую и спокойную женщину на свете привести в ярость. Конечно, в том состоянии духа, в котором она находилась тогда, одетая в простреленное и изодранное сырое платье, Джесс имела несколько странный вид. К счастью, у нее нашлась дорожная гребенка, при помощи которой она привела в порядок волосы, насколько то было возможно при отсутствии шпилек или по крайней мере ленточки, чтобы закрепить прическу. Наконец, провозившись с надеванием сырых башмаков, она поднялась на ноги и вернулась на то место, где с час назад оставила своего спутника. Джон был в это время занят оседлыванием лошадей, для чего воспользовался сбруей, снятой с убитых животных. — Ого, Джесс! Какая вы стали хорошенькая! Ну что, высушили свое платье? — спросил он. — Да, — отвечала она. Он посмотрел на нее. — Что с вами, милая моя? Вы как будто плакали? Подойдите сюда поближе. Ну, полно. Хоть наши дела и плохи, но вовсе не настолько, чтобы о них горевать. Уже и то хорошо, что сами-то мы остались живы. — Джон, — обратилась она к нему с твердостью, — нам необходимо все это прекратить раз и навсегда. Обстоятельства изменились. В эту ночь мы оба умерли. Сегодня мы воскресли вновь. А кто знает, — прибавила она, нервно засмеявшись, — может быть, вы завтра же увидите Бесси. Кажется, мы уже достигли предела наших страданий! Лицо Джона внезапно омрачилось, и ему ясно представилась вся фальшь и ненормальность его положения. — Милая Джесс, — с грустью спросил он ее, — что же нам делать? — Я уже сказала вам, — прибавила она с горечью на сердце, — что нам нужно все это прекратить раз и навсегда. О чем же вы думаете? Отныне мы должны быть чужими друг для друга. Я вас не знаю, и вы не должны знать меня. Вы виноваты кругом, вы должны были дать мне умереть. О Джон, Джон! — воскликнула она немного погодя. — Зачем вы не дали мне умереть? Зачем не умерли мы оба? Мы были бы теперь счастливы или покоились бы вечным сном. Нам надо расстаться, Джон, нам непременно надо расстаться! Но что я буду делать без вас? Что я буду делать? Отчаяние ее было велико и до того подействовало на Джона, что он некоторое время стоял молча, не находя ответа на ее слова. — Не лучше ли нам во всем признаться Бесси? — промолвил он наконец. — Я буду всю жизнь считать себя подлецом, но тем не менее у меня есть непреодолимое желание поступить именно так. — Нет, нет, — воскликнула она в сильном волнении, — я не желаю, чтобы вы так поступали. Вы должны мне поклясться, что никогда ни полусловом не намекнете обо всем этом Бесси. Я не хочу разрушать ее счастье. Мы согрешили и должны страдать, но никак не Бесси, которая ни в чем не повинна и берет лишь то, что по праву принадлежит ей. Я обещала матери оберегать и лелеять сестру и никогда не соглашусь поступить предательски по отношению к ней. Вы должны быть ее мужем, я же — удалиться навеки. Другого выхода нет. Джон безмолвно смотрел на нее. Он почувствовал в сердце прилив такой жалости при виде бледного, убитого горем лица Джесс и ее широко раскрытых, наполненных слезами глаз, что ни в силах был оторвать от нее взора. Неужели он будет в состоянии с ней расстаться? Он собирался было привлечь ее в свои объятия, но она с силой его оттолкнула от себя. — Неужели в вас нет чести? — воскликнула она — Разве всего этого для вас еще не достаточно? Зачем же вы меня смущаете? Я повторяю вам, что между нами все кончено. Седлайте же лошадей и отправимся домой. Чем скорее мы отсюда выберемся, тем скорее будем в безопасности, если только снова не попадемся в руки буров и не будем ими убиты, чего лично я искренне желаю. Вы должны твердо помнить, что я для вас свояченица. Если же вы об этом забудете, то я вас тотчас покину, и вам придется продолжать путь одному. Джон не возражал. Ее решение было так же непоколебимо и твердо, как и самая необходимость, подсказывавшая ей эти слова. Рассудок и голос совести говорили ему, что она права, хотя ее решение и противоречило голосу страсти. Когда он снова повернулся к лошадям, то уже почти сожалел о том, что оба они не погибли в волнах. Седла, находившиеся в их распоряжении, принадлежали убитым бурам и явно не годились для Джесс. К счастью, она за время пребывания на ферме отлично выучилась ездить по-дамски на мужских седлах. Как только лошади были готовы, она тотчас вскочила в седло и, вдев ногу в стремя, объявила, что пора ехать. — Не лучше ли вам сесть как-нибудь иначе, — обратился к ней Джон, — хоть это будет и не совсем красиво, но иначе вы того и гляди свалитесь с седла. — А вот увидите, — отвечала она с улыбкой и пустила лошадь вскачь. Джон последовал за ней на другой лошади и, к своему удивлению, заметил, что она сидит верхом так же ловко и свободно, как будто и в дамском седле, лишь иногда инстинктивно наклонялась то в ту, то в другую сторону для того, чтобы поддержать равновесие. Отъехав немного, они остановились, желая сориентироваться. В это время Джесс рукой указала Джону на стаю коршунов, медленно спускавшихся к трупам убийц, оставленных позади. Выяснив расположение местности, они пришли к заключению, что если отправятся вниз по течению реки, то в скором времени достигнут Стандертона, пока еще находящегося во власти англичан. Но из слов проводников они поняли, что Стандертон осажден бурами, а потому оставили эту мысль, зная, что всякая попытка пробраться сквозь неприятельские ряды была бы с их стороны безумием. Правда, в их распоряжении находился пропуск, но после того, что случилось, они имели полное основание не доверять подобного рода документам, а потому решили отправиться вверх по течению и в удобном месте перейти Вааль вброд. К счастью, оба имели довольно верное представление о той местности, где находились, вдобавок у Джона висел на цепочке от часов компас, с помощью которого он всегда мог узнать верное направление, даже если держался в стороне от пути. На дороге они подвергались бы постоянной опасности быть замеченными, тогда как в велде не могли встретить никого, за исключением диких зверей. Если бы даже им и попались на пути жилые дома, то они всегда имели возможность их миновать, да, наконец, в этом и не представилось бы особой возможности, так как все мужское население, по всей вероятности, отправилось на войну. Таким образом они проехали более десяти миль вдоль по берегу, не встретив ни души, как вдруг заметили в реке неглубокое место, которое показалось им проходимым. При более внимательном исследовании оказалось, что тут недавно, приблизительно с неделю тому назад, проехал вброд груженый фургон. — Это довольно удачно, — сказал Джон, — попробуем перейти реку в этом месте, — после чего они погрузились в воду. На средине реки им пришлось бороться с довольно сильным течением, и при этом тут оказалось настолько глубоко, что в продолжение нескольких минут лошади не чувствовали почвы под ногами. Тем не менее они смело двигались вперед и вскоре вновь ступили на твердый грунт, после чего уже спокойно продолжали свой путь. На противоположном берегу Джон с помощью компаса направил лошадей прямо к Муифонтейну. В полдень лошадям был дан часовой отдых, а сами путешественники подкрепились пищей. Затем они пустились дальше, и вскоре их глазам открылся безграничный и ровный велд. Дикая пустыня была населена огромными стадами буйволов, газелей и антилоп, бешено носившимися по степи, подобно эскадронам кавалерии, да стаями коршунов, с пронзительным криком оспаривавших друг у друга добычу. Затем незаметно наступили сумерки. — Что мы будем делать? — спросил Джон, останавливая усталую лошадь. — Через полчаса совсем стемнеет. Джесс соскочила с седла и отвечала: — Кажется, лучше всего слезть с лошадей и лечь спать. Она была права; больше ничего не оставалось делать. На этом основании Джон принялся за работу: стреножил лошадей, для большей безопасности привязав их друг к другу, ибо было бы величайшим несчастьем, если бы они разбежались. К этому времени сумерки сгустились и ночь вступила в свои права, а путники сидели, глядя на окружающие их предметы с чувством, близким к отчаянию. Насколько взор мог проникнуть вдаль, не было видно ничего, кроме необъятной и голой равнины, и лишь ночной ветер колыхал степную траву, вздымая ее наподобие морских волн. Им негде было преклонить голову, и ничто не нарушало однообразия картины, за исключением двух кочек, находившихся на расстоянии пяти шагов одна от другой. Джон уселся на одном из этих возвышений, а Джесс поместилась на другом, и они сидели таким образом безмолвно и неподвижно, как великаны, глядя на потухающие лучи вечерней зари. — Не лучше ли нам сесть рядом, — попробовал нарушить молчание Джон, — тогда нам обоим будет теплее? — Нет, не надо, — вздрогнув, откликнулась Джесс, — я, по крайней мере, себя чувствую отлично. Но это была неправда, ибо несчастная девушка дрожала от холода и зубы ее стучали. Спустя некоторое время оба до такой степени продрогли, что, несмотря на чрезмерную усталость, стали топтаться на одном месте, чтобы хоть как-то восстановить застывшее кровообращение. Часа через полтора ветер стих, в воздухе сделалось теплее, и иззябшие, полуголодные, измученные путники почувствовали некоторое облегчение. В это время взошла луна, а вместе с нею появились гиены, волки и другие дикие звери и своим воем нарушили безмолвие ночи. Тут Джесс не выдержала и сама попросила Джона сесть рядом с ней. Таким образом, дрожа от холода, они просидели, обняв друг друга, в течение всей бесконечной ночи. И в самом деле, если бы не взаимная их теплота, то, может быть, им пришлось бы весьма плохо, ибо хотя дни в это время года стояли жаркие, но ночи уже становились все холоднее и холоднее, это было в особенности заметно в настоящем случае, когда воздух был охлажден из-за недавней грозы. Другое неудобство в их положении заключалось в том, что они ничем не были защищены от росы и промокли до костей. Так прошла ночь, в течение которой, прижимаясь друг к другу, они просидели до тех пор, пока не забрезжило утро, не смыкая глаз, ибо о сне нечего было и думать. И, несмотря на это, они все же не были несчастливы, ибо вместе разделяли это несчастье! Наконец восточная часть неба приняла чуть заметный сероватый оттенок. Джон вскочил на нош, стряхнул с себя капли росы и, чувствуя себя совершенно разбитым, подошел к стоявшим несколько поодаль лошадям, при неясном свете занимавшейся зари казавшимся какими-то исполинскими призраками. К восходу солнца лошади были уже оседланы, и путники отправились дальше. На этот раз, однако, Джон был вынужден помочь Джесс взобраться на седло. Около восьми часов утра они устроили привал и позавтракали остатками пищи, после чего медленно поплелись вперед на измученных, как и сами они, конях. И действительно, им необходимо было беречь силы лошадей, если они хотели еще засветло добраться до Муифонтейна. В полдень они еще раз дали передохнуть лошадям и уже совершенно изможденные отправились в путь, рассчитывая, что находятся не более чем в шестнадцати или семнадцати милях от Муифонтейна. По происшествии двух часов с ними произошла неожиданная катастрофа. На пути им начали встречаться овраги. Спустившись ко дну одного из них, они стали осторожно перебираться через топкое место, а затем подниматься вверх по косогору. Едва они достигли противоположной вершины, как столкнулись лицом к лицу с конным отрядом буров.Глава 31
ДЖЕСС ВСТРЕЧАЕТ ДРУГА
Буры с криком и гиканьем бросились на них, как коршуны на добычу. Джон придержал лошадь и вынул пистолет. — Ради Богане стреляйте! — взмолилась Джесс. — Единственное наше спасение заключается в том, чтобы быть с ними вежливыми! Подумав немного, Джон согласился с ней и, спрятав револьвер, пожелал ехавшему впереди всех буру доброго утра. — Что вы здесь делаете? — осведомился голландец. Джон объяснил, что, имея пропуск, который тут же и предъявил буру, направляется вместе с родственницей в Муифонтейн. — А, к дядюшке Крофту, — как-то загадочно произнес бур, взяв в руки документ, — ну что ж, пожалуй, встретитесь там с похоронной процессией. Этого замечания Джесс в тот момент не поняла и лишь впоследствии разгадала его смысл. Бур принялся подозрительно разглядывать документ и спросил девушку, почему он замочен водой. Джесс боялась сказать правду и ответила, что нечаянно обронила его в лужу. Бур собирался уже возвратить пропуск, как вдруг его взгляд упал на седло, в котором сидела Джесс. — Почему это девушка едет верхом на мужском седле? — снова стал допытываться он. — Мне ваше седло знакомо. Дайте-ка мне взглянуть на него с другой стороны. Да, совершенно верно, лопасть пробита пулей. Седло принадлежит Дирку Сваарту. Каким образом оно попало к вам? — Седло я купила у него, — ничуть не смутившись, объяснила Джесс, — больше мне не на чем было ехать. Бур помотал головой. — В Претории сколько угодно седел, — заметил он, — а теперь не такие времена, чтобы буры стали продавать свои седла англичанам. Э-э! Дай другое седло, кажется, тоже бурское? Англичане, насколько мне известно, не ездят в таких седлах. Пропуск этот неполон, — произнес он в заключение, — он должен быть подписан местным начальником. Я вынужден арестовать вас! Джесс начала было приводить всевозможные доводы, но бур, не переставая, твердил: — Я вынужден вас арестовать! — Затем, повернувшись к своим подчиненным, он отдал им кое-какие приказания. — Мы, кажется, снова попали в беду, — тихо проговорила Джесс, обращаясь к Джону, — и нам остается только покориться. — Я бы ничего не имел против этого, если бы только они дали нам подкрепиться, — со спокойствием философа ответил Джон, — я умираю с голоду. — А я умираю от изнеможения, — тихо вымолвила Джесс и при этом нервно рассмеялась, — я бы хотела, чтобы они скорее покончили с нами. — Ну же, Джесс, ободритесь, — отвечал он, — может быть, счастье нам улыбнется! Она покачала головой с видом человека, уже потерявшего веру во все хорошее. В это время некоторые из молодых буров принялись от нечего делать изощрять свое остроумие насчет несчастной девушки, вид которой, как и следовало ожидать, был в высшей степени жалок и растерян и способен лишь вызвать к ней сочувствие. Представители золотой молодежи этого простого пастушеского народа нашли в ее внешности неиссякаемый источник для шуток. Они начали осыпать ее все возможными вопросами, спрашивая, не желает ли она прокатиться верхом по-мужски, не купила ли она одежду у старой готтентотки, бросившей ее за ненадобностью, и не валялась ли она пьяная на земле, что у нее набралось столько грязи и пыли на платье. Всякий старался воспользоваться великолепным случаем, представлявшим ему возможность потешиться над беспомощным положением убитой горем англичанки. Один из этих весельчаков, по имени Якоб, от словесных шуток вознамерился перейти прямо к делу. Заметив, что Джесс держится в седле единственно помощью равновесия, он решит, что будет очень забавно, если ему удастся столкнуть ее на землю. Поэтому он дал шпоры своему коню и во весь опор подскакал к измученной лошади, на которой ехала Джесс. Удар был настолько силен, что животное едва устояло на ногах. Сама же девушка успела ухватиться за гриву. Джесс промолчала, она вообще ничего не отвечала своим мучителям, а Джон понимал весьма мало из того, что говорили голландцы. Юный бур не унимался и попробовал было на этот раз выбить девушку из седла рукой. Его движение заметил Джон, и вся кровь англичанина вскипела от негодования. Недолго думая, он подскакал к обидчику и, схватив его за горло, со всей силы пригнул к хвосту лошади, отчего тот грохнулся на землю. Поднялась страшная суматоха. Джон вынул револьвер, а буры направили на него ружья. Джесс уже подумала, что всему наступил конец, и закрыла лицо руками, вознаградив сперва Джона долгим, благодарным взглядом. И в самом деле, ему пришлось бы плохо, если бы не вступился начальник отряда. Дело в том, что он видел все от начала до конца и, будучи порядочным человеком, не одобрял в душе поступка своих подчиненных. — Оставьте их в покое и опустите ружья! — закричал он. — И поделом Якобу: он намеревался столкнуть девушку с седла! Господи! Да после этого не удивительно, что англичане называют нас дикими животными, когда вы, молодежь, изо всех сил стараетесь оправдать это название. Опустите ружья, я вам говорю, и пусть один из вас поможет Якобу взобраться на лошадь. Он выглядит точно раненый олень! Толпа отступила, и весельчак Якоб, который действительно имел довольно жалкий вид и дрожал всем телом, с трудом был усажен в седло, после чего продолжал свой путь уже без всякого признака веселости. Немного погодя Джесс рукой указала Джону на плоскую возвышенность, выделяющуюся на горизонте подобно камню на ровном песке. — Глядите, — воскликнула она, — вот и Муифонтейн! — Все же мы до него еще не доехали — с грустью отвечал Джон. Прошло томительных полчаса, и наконец, взобравшись на пригорок, путники завидели вдали жилище Ханса Кетце, расположенное в лощине на берегу пруда. Так вот куда они направили свой путь! Не доезжая сотни ярдов до дома, буры остановились и стали совещаться между собой, за исключением Якоба, отправившегося вперед. Наконец начальник отряда подошел к Джесс и вручил ей пропуск. — Вы можете ехать, — промолвил он, — англичанин же должен остаться с нами впредь до выяснения некоторых подробностей. — Они говорят, что я могу ехать домой, — обратилась она к Джону. — Как же мне быть. Не могу же я оставить вас одного с этими людьми! — Как вам быть? Конечно, поезжайте. Я и сам сумею о себе позаботиться, а уж если я буду не в состоянии себе помочь, то вы и подавно. Может быть, у вас появится возможность выслать мне помощь с фермы. Во всяком случае вы должны ехать. — Ну что, кончили вы ваши разговоры, англичане? — крикнул им бур. — Прощайте, Джесс, — сказал Джон, — да благословит вас Господь! — Прощайте, Джон, — отвечала она, несколько секунд пристально глядя ему в очи, и затем быстро отвернулась, чтобы скрыть слезы, выступившие на ее глазах. Таким образом они расстались. Путь ей был хорошо известен. Ехать по большой дороге она боялась и потому выбрала тропинку, ведущую через поле прямо к горе, возвышавшейся позади дома. Было около пяти часов пополудни, и как она, так и лошадь совершенно изнемогли от усталости и недостатка пищи. Но она обладала железной волей и потому стойко выдерживала испытания, которые давно сгубили бы всякую иную женщину. Джесс решила во что бы то ни стало пробраться к Муифонтейну и была уверена, что добьется своего. Если же ей удастся добраться до дома и выслать помощь своему спутнику, то ей уже будет все равно, чтобы с ней потом ни случилось. Ход лошади становился все тише и тише. Сначала из прекрасной иноходи он обратился в короткую рысь, а затем в медленный шаг. Незадолго до заката, около шести часов, лошадь окончательно выбилась из сил и свалилась. В это время они достигли подошвы холма, на котором возвышался Муифонтейн. Джесс сошла с седла и попробовала было заставить лошадь подняться, но увидела бесполезность попыток. Животное было не в состоянии ступить и шагу. Джесс сняла уздечку и отстегнула пряжку, поддерживавшую подпругу, для того, чтобы седло не обременяло лошадь в том случае, если бы она вздумала встать на нош, после чего стала взбираться на гору. Бедное животное печально провожало ее взглядом, как бы чувствуя, что покинуто. Сначала оно жалобно заржало, затем с отчаянным усилием поднялось на ноги и пробежало за ней около сотни ярдов для того, чтобы снова свалиться. Джесс обернулась, остановилась на мгновение, а затем, как ни была утомлена, бросилась бежать, чтобы только не видеть умоляющего взгляда больших карих глаз, оставшихся позади. В эту ночь шел холодный дождь, и несчастное животное погибло, как зачастую гибнут эти благородные друзья человека! Было почти темно, когда Джесс достигла вершины холма и взглянула вниз. Она хорошо знала расположение усадебных построек и всегда могла сверху разглядеть освященное кухонное окно. Между тем на этот раз огня в доме не было видно. Недоумевая, что бы это могло значить, и чувствуя, как сомнение постепенно закрадывается ей в душу, она начала осторожно спускаться с горы. Дойдя до середины пути, она вдруг заметила сноп искр, поднявшийся с земли из-за упавшего с обгорелой стены камня в покрытую пеплом массу тлеющих угольев. Джесс остановилась еще раз, не понимая, что же такое могло здесь произойти. Решив лично разузнать обо всем, она осторожно продолжала свой путь. Но едва она успела пройти около двадцати ярдов, как почувствовала на плече чью-то руку. Она быстро обернулась и едва не вскрикнула с испугу, но в это время услышала знакомый голос: — Мисси Джесс, мисси Джесс, это вы? Я — Яньи! Она свободно вздохнула, и на сердце у нее отлегло. Наконец она встретила друга. — Я слышал, как вы спускались сверху, хоть вы и очень нежно ступали по земле, — прошептал он, — сначала я никак не мог разобрать, кто идет, потому что вы перепрыгивали со скалы на скалу, а не шли своей обычной походкой. Но мне было ясно, что идет женщина, хоть видеть я не мог, ибо гора объята мраком и по небу носятся тучи. А потому я отошел влево от вашего пути, так как ветер дует с правой стороны, и ожидал, пока вы пройдете мимо, чтобы при помощи ветра почуять ваше присутствие. Тогда я понял, что это вы или мисси Бесси. Но мисси Бесси сидит взаперти, а следовательно, это никак не могла быть она. — Бесси взаперти! — воскликнула Джесс, на которую, по-видимому, рассказ об удивительном чутье готтентота не произвел впечатления. — Что ты хочешь этим сказать? — Сюда, мисси, идите сюда, и я все вам расскажу. — И он повел ее к узкому проходу между скалами, в которых имел обыкновение ночевать. Джесс хорошо знала это место, так как часто гуляла мимо него, хотя ни разу не заходила в убежище готтентота. — Погодите немного, мисси. Я зажгу свечу, у меня есть несколько штук в запасе, а снаружи света совершенно не видно. — С этими словами он исчез. Вскоре он вернулся и, схватив ее за рукав, повел мимо исполинских камней ко входу в пещеру, в которой светился огонек. Опустившись на четвереньки, Яньи прополз вперед, а Джесс последовала за ним. Она очутилась в небольшом помещении площадью в тридцать квадратных футов и высотой в восемь футов, образовавшемся вследствие случайного падения друг на друга нескольких скал. Помещение, освещаемое огарком, воткнутым в землю, содержалось чрезвычайно грязно, что и следовало ожидать от норы готтентота, и в нем находилась целая коллекция самых разнообразных предметов. Когда, отказавшись от предложенного трехногого стула, Джесс опустилась на ворох звериных шкур, лежавших в углу, то взгляд ее случайно упал на собрание редкостей, достойных лавки ветошника. Стены были украшены всевозможными одеждами, начиная от английской военной куртки до изодранных штанов, снятых с трупа бушмена. Все эти предметы находились в более или менее плачевном состоянии и представляли собой плоды многолетних скитаний Яньи. По углам были расставлены палки, два ассегая, лежали какие-то камешки и кости, ручки от столовых ножей, отдельные части механизма ружейных замков и американских часов, а также многие другие сокровища, которые туземец успел собрать в своем убежище. Вообще это было очень странное помещение, и Джесс невольно пришло на ум, что если бы не ветхие платья и не обломки механизма часов, то оно было бы весьма похоже на жилище первобытного человека. — Погоди немного, прежде чем начать, — промолвила Джесс. — Нет ли у тебя чего-либо поесть. Я умираю от голода. Яньи осклабился и, порывшись немного в куче мусора, вытащил тыкву, наполненную простоквашей, которую принесла ему утром женщина из соседнего крааля[465] и которая предназначалась на ужин самому Яньи. Как ни был голоден он сам, ибо с утра еще ничего не ел, он, не задумываясь, отдал свой ужин Джесс вместе с деревянной ложкой и усевшись против от нее на камне, с довольным видом следил за тем, как она утоляла голод. Не подозревая, что объедает голодного человека, Джесс опустошила всю тыкву и была несказанно благодарна готтентоту, когда почувствовала, что сыта. — А теперь, — произнесла она, — рассказывай все, что знаешь. Яньи поведал ей о событиях, произошедших за время ее отсутствия, насколько они были известны ему самому. Когда он дошел до того места, как буры грубо обошлись со стариком и как с ругательством и насмешками выволокли его из дома, глаза Джесс сверкнули гневом при мысли о нанесенной обиде. Что же касается действия, произведенного на нее известием о смертном приговоре, произнесенном над стариком, то оно просто не поддается описанию. О причастности к делу Бесси Яньи ничего не знал и потому лишь сообщил, что Фрэнк Мюллер имел с ней свидание на плантации, после чего она была заключена в кладовую под стражу, где находилась и в настоящее время. Этого было вполне достаточно для Джесс, знавшей характер Мюллера, может быть, лучше, чем кто-либо, и вовсе не заблуждавшейся относительно его истинных намерений насчет Бесси. Несколько минут размышления осветили все оставшееся до поры неясным для нее. Она поняла причину его хлопот о пропуске, его преднамеренного, но неудавшегося убийства, жертвами которого они едва не стали. Она поняла, что смертный приговор, произнесенный над стариком ее дядей, служил лишь средством сломить упорство Бесси. Этот человек был способен даже на такую меру! Да, все представлялось ей теперь ясным как Божий день, и она поклялась в душе, как бы ни была беспомощна сама, найти средство предотвратить его замыслы. Но каким образом это сделать? Ах, если бы только с ней был Джон! Теперь же она вынуждена действовать одна. Сначала она решила спуститься вниз и, встретившись лицом к лицу с Мюллером, объявить его во всеуслышание убийцей, но тотчас отказалась от этой мысли, как в высшей степени непрактичной. Ради собственной безопасности он постарается так или иначе заставить ее замолчать, и в лучшем случае она будет подвернута заключению, а тогда уже, само собой разумеется, лишится всякой возможности защищать себя и других. Если бы ей удалось как-нибудь повидаться с Бесси! Во всяком случае ей необходимо знать, в каком положении находятся дела. Иначе все равно, находится ли она рядом с сестрой или их отделяют друг от друга сотни МИЛЬ. — Яньи, — произнесла она наконец, — скажи мне, где буры? — Некоторые в сарае, мисси, некоторые стоят на часах, а остальные расположились возле привезенной повозки, от которой отпрягли лошадей. Там стоит и фургон со священником, прибывший одновременно с вами. — А где Фрэнк Мюллер? — Не знаю, мисси,но он привез с собой палатку, которую и велел разбить у входа в аллею. — Яньи, мне необходимо спуститься вниз и посмотреть, что там делается. Ты же должен меня сопровождать. — Вас поймают, мисси. Позади сарая стоит часовой, а спереди — двое. Но, — прибавил он в раздумье, — может быть, нам и удастся как-нибудь подойти к сараю. Я выйду и погляжу, какова ночь. Вскоре он вернулся и объявил, что идет дождь и что тучи нависли над землей, из-за чего на дворе стало совсем темно. — В таком случае пойдем, — промолвила Джесс. — Лучше не выходите, мисси, — отвечал готтентот. — Вы промокнете до костей, и вдобавок буры вас изловят. Пошлите лучше меня. Я умею ползать по земле, а если буры и поймают меня, то это не беда. — Ты должен ищи, но и я иду с тобой. Мне необходимо узнать обо всем самой. Готтентот пожал плечами и был вынужден согласиться, после чего, потушив огарок, оба скрылись в ночной темноте.Глава 32
ОН ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ
Ночь была темна и пасмурна. Накрапывал мелкий холодный дождь, весьма обычный дня Ваккерструмского и Новошотландского дистриктов Трансвааля и отчасти напоминающий собой наши северные туманы. Подобная погода как нельзя лучше благоприятствует таинственным предприятиям, и под покровом ночной темноты готтентот и белая девушка благополучно достигли надворных строений усадьбы и уже пробирались к сараю, от которого находились не дальше чем в двенадцати или четырнадцати шагах. Вдруг Яньи, шедший впереди, протянул руку и остановил свою спутницу. В то же мгновение Джесс услышала шаги часового. Минуты две оба простояли в нерешительности, не зная, что предпринять, и в это же самое время из-за угла сарая показался человек с фонарем в руке. При виде фонаря первой мыслью Джесс было бежать, но Яньи подал ей знак, чтобы она не двигалась с места. Новоприбывший приблизился к часовому, держа над головой фонарь, при тусклом свете которого казался каким-то исполинским призраком. Во вновь прибывшем Джесс узнала самого Фрэнка Мюллера. — Идите ужинать, — велел он часовому, — но возвращайтесь назад через полчаса. Ответственность за пленников я беру на себя. Часовой в ответ пробормотал что-то насчет погоды и удалился. Немного погодя оба скрылись за углом сарая. — А теперь вперед, — шепнул Яньи, — в стене сарая есть отверстие, и вы можете через него переговорить с Бесси. Джесс не заставила упрашивать себя вторично и тотчас приблизилась к зданию. Отыскав над фундаментом знакомую щель, через которую они с сестрой когда-то переговаривались, играя в прятки, она собиралась уже окликнуть Бесси, как вдруг дверь с противоположной стороны отворилась и в кладовую вошел Фрэнк Мюллер с фонарем в руке. Он был без шляпы и завернут в темный плащ, который, казалось, еще больше увеличивал ширину его плеч. Глядя сквозь отверстие в стене на его стройный стан и прекрасные черты лица, на его длинную бороду, отливавшую при свете фонаря золотом, она невольно подумала, что за великолепный образчик мужской красоты видит перед собой! Немного погодя Фрэнк Мюллер навел фонарь на лицо Бесси, сидевшей на одном из мешков с отрубями и, по-видимому, дремавшей, ибо она тотчас же широко раскрыла глаза и недоумевающе посмотрела вокруг себя, как будто только-только очнулась от сна. Ее золотистые локоны в беспорядке рассыпались по плечам, бледное лицо носило признаки тревоги и смущения, на глазах еще были видны следы слез. Увидев перед собой Фрэнка Мюллера, она невольно вздрогнула и отшатнулась от него настолько, насколько позволяли мешки с мукой и картофелем. — Что это значит? — спросила она строго. — Я уже дала вам свой ответ. Зачем вы возвращаетесь сюда. Неужели для того, чтобы снова меня мучить? Он подошел к одному из мешков с отрубями и принялся молча устанавливать фонарь. Джесс поняла, что он обдумывает ответ. — Давайте немного побеседуем, — промолвил он наконец своим мягким, бархатистым голосом. — Вот в каком положении наши дела. Я предложил вам сегодня или согласиться выйти за меня замуж завтра утром, или увидеть вашего старого дядю и благодетеля убитым. Далее я объяснил вам, что если вы не согласитесь выйти за меня, старик Крофт все равно будет расстрелян, а вы так или иначе станете моей и без брачных церемоний. Кажется, все верно? Бесси молчала, а он продолжал, пристально глядя ей в лицо и задумчиво поглаживая бороду. — Молчание есть знак согласия. Прежде чем лишить жизни человека, его по закону необходимо предать суду. Суд этот состоялся, и ваш дядя приговорен к смерти. — Я все слышала, убийца и жестокий вы человек! — произнесла наконец Бесси, впервые подняв голову. — В самом деле? Впрочем, я так и думал, что вы все увидите и услышите через щель. Для того-то я и велел заключить вас в кладовой, ибо было бы весьма неудобно заставлять вас лично присутствовать на суде. С этими словами он взял в руки фонарь и осмотрел щель. — Вообще сарай выстроен на удивление скверно, — продолжал он небрежным голосом, — смотрите, вот и другая щель, — при этом он подошел к стене и поднял фонарь вровень со скважиной. Джесс тотчас закрыла глаза, чтобы отражение от них не выдало ее присутствия. Вместе с тем она затаила дыхание и все время стояла не шевелясь. Немного погодя Фрэнк Мюллер отошел назад и поставил фонарь на прежнее место. — Так вы говорите, что все видели? Ну что ж, это должно было доказать вам, что я вовсе не шучу. А какую твердость характера выказал старик! Молодец! Я уважаю его за это. Я думаю, он не дрогнет до конца. Вот что значит английская кровь! Это самая благородная кровь во всем мире, и я горжусь тем, что она также течет в моих жилах! — Нельзя ли прекратить это глумление и сказать прямо, что вам от меня нужно? — перебила его Бесси. — Да я вовсе не издеваюсь над вами, и если вы желаете, то готов приступить прямо к делу. Вот оно. Согласны ли вы выйти за меня замуж завтра до восхода солнца или же прикажете привести в исполнение приговор над стариком дядей? — Нет, я не согласна! Я ненавижу и презираю вас. Мюллер устремил на нее холодный взгляд и, вынув из бокового кармана записную книжку, вытащил карандаш, а также листок, на котором был написан смертный приговор. — Послушайте, Бесси, — сказал он. — Вот смертный приговор вашему дяде. Пока еще он не имеет законной силы, ибо я его не подписал, хотя, как вы сами можете усмотреть, я принял меры, чтобы он был подписан всеми. Если я проставлю на нем свою подпись, то буду уже не в состоянии взять ее обратно, и приговор в таком случае должен быть обязательно приведен в исполнение. Если вы станете упорствовать в своем отказе, то я тут же при вас подпишу этот документ, — с этими словами он положил листок на книжку и взял в правую руку карандаш. — Нет, не может быть, чтобы вы решились на такое злодейство! — воскликнула Бесси, в отчаянии ломая руки. — Уверяю вас, что вы ошибаетесь. Именно может быть, и я на это решился. Я зашел слишком далеко и уже не могу вернуться назад ради какого-то там старика-англичанина. Вникните, пожалуйста, в то, что я вам скажу. Вам известно, что ваш жених Джон Нил умер… Джесс, стоя за стеной, едва не закричала: «Эго ложь!» — но, вспомнив о необходимости полнейшего молчания, вовремя удержалась. — А кроме того, — продолжал Мюллер, — вашей сестры Джесс также больше нет на свете, она умерла два дня тому назад. — Джесс умерла! Джесс умерла! Откуда вам все это известно? — Эго мое дело. Я вам, пожалуй, объясню, когда мы с вами будем мужем и женой. Она умерла, и, кроме дяди, у вас больше нет защитников. Если вы станете упорствовать, он также умрет и его кровь падет на вашу голову, ибо от вашего слова зависит сохранить ему жизнь. — А если я скажу «да», то какая ему от этого будет польза? — дико вскрикнула Бесси. — Он осужден вашим военным судом, вы меня лишь обманете и все равно лишите его жизни. — Нет, честное слово, нет! Перед обрядом венчания я отдам этот документ священнику, и он сожжет его, как только венчание будет окончено. Но, Бесси, разве вы не понимаете, что дураки, судившие вашего дядю, не что иное, как глина в моих руках? Я могу лепить из них все, что мне угодно, и они повторяют за мной лишь то, что я говорю. Они вовсе не желают смерти вашему дяде и будут рады благополучной развязке. Старик Крофт отправится в Наталь или останется здесь, если захочет. Имущество ему будет возвращено в целости, а за сгоревший дом он получит вознаграждение. Клянусь вам в том Всемогущим Богом! Она с сомнением взглянула на него, и он мог видеть, что она склонна ему поверить. — Верно, верно, Бесси! Я сам восстановлю сгоревшее строение, и если найду того, кто его поджег, то велю расстрелять. Подойдите ко мне и будьте рассудительны. Человек, которого вы любите, умер, и никакие воздыхания не могут вернуть его в ваши объятия. Я же люблю вас больше жизни, как только может любить мужчина женщину! Посмотрите на меня, разве я так дурен, что за меня и замуж нельзя выйти, хоть наполовину бур? У меня есть ум, Бесси, ум, который возвеличит нас обоих. Мы созданы друг для друга, я вас уже знаю много, много лет и постепенно, шаг за шагом добиваюсь вашей любви! С этими словами он протянул к ней с мольбой руки. — Милая, — продолжал он задушевным голосом, — любовь и радость моя, согласитесь же наконец! Не заставляйте меня брать на душу нового греха. Я сделаюсь хорошим человеком, ради вас я навсегда отрекусь от кровопролития. Когда вы станете моей женой, я уверен, все злое отойдет от меня навеки. Согласитесь — и никогда еще женщина не будет иметь лучшего мужа. Я сделаю вашу жизнь тихой и приятной. Вы будете иметь все, что могут доставить деньги и власть. Согласитесь ради вашего дяди и моей великой любви к вам! По мере того как Мюллер говорил, он все крепче и крепче охватывал стан девушки, лицо которой приняло задумчивое, полуочарованное выражение. Когда же она ощутила на лице его горячее дыхание, то пришла в себя и попробовала было отстранить его рукой. — Нет, нет, — воскликнула она, — я ненавижу вас, я не могу быть ему неверной, жив он или умер. Я убью себя, я знаю, что убью! Он не отвечал, но заключил ее в свои могучие объятия и привлек к себе, как будто имел дело с ребенком. И в это мгновение силы оставили ее. Это объятие было внешним проявлением его непреклонной и жестокой воли, и она была вынуждена признать себя побежденной. — Выйдете ли вы за меня замуж, милая, выйдете ли замуж? — шептал он на ухо Бесси, причем его губы касались ее золотых локонов. Джесс, стоя снаружи, едва могла расслышать ее ответ: — Мне кажется, что да, но я умру, это убьет меня! Он крепко прижал ее к груди и стал безумно целовать прелестное личико, а в следующую минуту Джесс расслышала шаги часового и увидела, как Мюллер вышел из сарая. Яньи взял ее за руку и быстро оттащил от стены. Некоторое время спустя Джесс карабкалась в гору к жилищу готтентота. Она спускалась вниз только для того, чтобы узнать, как обстоят дела, и узнала все, что ей было нужно. Она была не в силах сдержать кипевшие в ее сердце гнев, негодование и жажду мщения врагу, пытавшемуся погубить ее и ее возлюбленного, а также купить честь ее сестры ценой жизни невинного старика. Всю ее усталость как рукой сняло, она дошла до состояния неистового бешенства от всего виденного и слышанного. Джесс забыла даже о своей страсти и поклялась, что Мюллер ни в коем случае не женится на Бесси, пока она жива. Если бы Джесс была заурядной женщиной, то в этом обстоятельстве усмотрела бы свое счастье, ибо с замужеством Бесси Джон был бы вновь свободен. Между тем эта мысль ни разу не пришла ей в голову. Каковы бы ни были заблуждения этой девушки, но душу она имела самоотверженную, благородную и скорее согласилась бы умереть, нежели воспользоваться данным случаем ради своей личной выгоды. Тем временем они добрались до жилища готтентота. — Зажги свечу, — велела Джесс. Яньи принялся рыться в темноте и зажег спичку. Огарок, при свете которого Джесс незадолго до того беседовала с Яньи, почти весь догорел, а потому пришлось добыть из кучи мусора ящик, наполненный огарками длиной от трех до четырех дюймов. Джесс, находившаяся в том состоянии духа, когда всякая мелочь представляется уму с особой ясностью, вдруг вспомнила, что никогда не могла дать себе отчета в том, куда исчезали огарки, столь необходимые в домашнем быту. Теперь тайна объяснялась сама собой. — А теперь уйди и оставь меня одну. Мне нужно о многом подумать. Готтентот повиновался; она же, усевшись в углу на звериных шкурах и подперев голову рукой, принялась обдумывать свое положение. Для нее было очевидно, что Фрэнк Мюллер не изменит своего решения. Она слишком хорошо его знача, чтобы сомневаться в этом хоть на минуту. Если Бесси не выйдет за него замуж, то он лишит жизни Джона и ее с той лишь разницей, что на этот раз будет действовать на законном основании, и затем насильно овладеет сестрой. Бесси была единственным выкупом, который он согласился бы взять за жизнь старика. Но было бы слишком жестоко решиться на такую жертву. Даже самая мысль об этом представлялась Джесс чудовищной. И неужели нет способа предотвратить несчастье? Ей снова пришло на ум, не спуститься ли вниз, чтобы обвинить Фрэнка Мюллера в присутствии всех в покушении на убийство, и снова мысль эта показалась ей несбыточной. Ну кто ей поверит? А если даже и поверят, то к чему приведет ее заявление? Ее отдадут под стражу, отнимут всякую возможность вредить, а может быть, и просто-напросто лишат жизни. Затем у нее мелькнула мысль повидаться с дядей и Бесси и объявить им, что Джон жив, и тотчас же она вынуждена была сознаться в несбыточности и этой надежды, в особенности теперь, когда часовой вернулся к своему посту. Да наконец, что бы из этого вышло? Известие это, правда, укрепило бы Бесси в ее намерении остаться верной Джону до конца, но единственным последствием стал бы расстрел старика. Тогда она принялась обдумывать, нельзя ли рассчитывать на какую-либо помощь извне? Увы! На это не было никакой надежды. Ей еще могли бы помочь туземцы, но теперь, когда буры восторжествовали, сомнительно, отважатся ли они заступиться за англичан. И наконец, для того, чтобы собрать мало-мальски значительную силу, необходимо по крайней мере двадцать четыре часа времени, и такая помощь все равно пришла бы уже слишком поздно. Не было никакого выхода из этого положения, нигде ни малейшего луча надежды. — Но что, — произнесла она вслух, — что же может остановить такого человека, как Фрэнк Мюллер? И в это мгновение какой-то внутренний голос прошептал ей в ответ: — Смерть! Да, смерть и одна только смерть могла остановить его. С минуту она, казалось, вникала в эту мысль, пока не освоилась с нею окончательно, после чего напала на другую, составлявшую логический вывод из первой. Фрэнк Мюллер должен умереть до рассвета. Нет иного способа развязать Гордиев узел и спасти Бесси и дядю. Если только Мюллер будет устранен, то ненавистный брак не может состояться и неподписанный приговор не может быть приведен в исполнение. Таково единственное верное решение задачи. Да и, наконец, было бы даже вполне справедливо, если бы он умер, ибо разве не был он убийцей? Если кто и заслужил скорую и жестокую кару, то, несомненно, это был не кто иной, как Фрэнк Мюллер. Беззащитная девушка, истерзанная нравственно и физически, нашедшая приют в убогом жилище готтентота, подвергала могущественного предводителя буров суду своей совести и безжалостно изрекала ему смертный приговор. Но кто же приведет этот приговор в исполнение? Страшная мысль мелькнула в ее уме и заставила сердце застыть от ужаса. Глаза Джесс начали блуждать с одного предмета на другой и невольно остановились на ассегаях Яньи и его палках. В эту минуту ею овладело какое-то вдохновение. Исполнить это должен Яньи. Однажды, когда они еще жили в белом домике в Претории, Джон рассказал ей до мельчайших подробностей историю зверского убийства Фрэнком Мюллером родителей Яньи, о чем, впрочем, она и прежде уже кое-что слышала. Разве не будет вполне последовательно, если мщение свершится рукой несчастного, присутствовавшего при казни своих родителей. Подобное убийство явится лишь справедливым возмездием за совершенное злодеяние, а справедливость так редко можно встретить на земле! Но согласится ли он на это — вот в чем вопрос. Она прекрасно знала, что Яньи отъявленный трус, робевший перед любым буром, в особенности же перед Фрэнком Мюллером. — Яньи, — тихо окликнула она его, просунув голову в отверстие пещеры. — Я здесь, мисси, — отвечал голос извне. Минуту спустя перед ней появилось обезьянообразное лицо готтентота, а вслед затем и все его туловище. — Сядь сюда, Яньи. Мне хотелось бы побеседовать с тобой. Он повиновался и при этом осклабился. — О чем же мы будем говорить, мисси? Хотите, я расскажу вам про давние времена, когда звери еще разговаривали друг с другом на том же языке, на котором говорил и я много-много лет тому назад. — Нет, Яньи. Расскажи мне лучше о своей палке — той длинной палке с набалдашником, которая вся испещрена зарубками. Кажется, между нею и баасом Фрэнком Мюллером есть что-то общее? Лицо готтентота сразу приняло злобное выражение. — Да, да, мисси, — воскликнул он и схватился за палку, о которой шла речь. — Глядите: вот эта большая зарубка — мой отец; баас Фрэнк убил его из ружья. Следующая — моя мать; баас Фрэнк убил ее из ружья. А это — мой дядя, дряхлый старичок; баас Фрэнк и его застрелил точно также. Остальные небольшие зарубки — это те удары, которые нанесены мне баасом, а также и другие его обиды. Теперь я хочу сделать еще несколько зарубок: одну за сожжение дома, одну за старика-бааса Крофта, моего собственного бааса, которого он завтра поутру расстреляет, и одну за мисси Бесси. — И он выхватил из-за пояса охотничий нож с белой рукояткой и принялся вырезать на палке какие-то значки. С этим оружием Джесс была знакома уже давно. Оно составляло драгоценнейшее сокровище готтентота, радость и утеху его жизни. Яньи получил его от зулуса в обмен за телегу, которую ему подарил старик Крофт в награду за труды, зулус же, в свою очередь, приобрел его у купца, прибывшего однажды в Муифонтейн с берегов Делагоа[466]. Нож этот отличался внушительной тяжестью, имел в длину около фута, отлит был из туземной мягкой стали и отточен как бритва; рукоятка же была выточена из клыка гиппопотама. — Прекрати на время свою работу, Яньи, и дай мне взглянуть на нож. Он тотчас же передал ей нож в руки. — Ведь этим ножом можно убить человека, — заметила она. — Конечно, — отвечал он, — и без сомнения, он многих уже убил. — А убил бы он фрэнка Мюллера? — спросила она, наклоняясь вперед и пристально глядя ему в глаза. — Разумеется, — промолвил он, отступая назад, — он бы его положил на месте. Ах, если бы в самом деле можно было бы его убить! — воскликнул он, издав при этом какой-то дикий звук. — Он убил твоего отца, Яньи! — Да, да, он убил моего отца, — повторил Яньи, глаза которого налились кровью. — Он убил твою мать! — Да, он убил мою мать, — проскрежетал он в ответ. — И твоего дядю. Баас Фрэнк убил твоего дядю! — Да, и моего дядю! — вскричал он, потрясая кулаками. — Но он умрет насильственной смертью, так предсказала англичанка, его мать, в то время, когда в ней сидел черт, а черти никогда не лгут. Глядите — я черчу на песке его круг жизни — и слушайте! Я произношу известные мне слова, — при этом он стал бормотать себе что-то под нос, — этому меня научил один старый, старый знахарь. Я уже чертил однажды подобный круг, и на пути мне встретился камень, а теперь, видите, этого препятствия больше уже не существует, и концы круга сходятся. Он умрет насильственной смертью, умрет скоро. Я умею читать круги человека! — при этом он яростно заскрипел зубами и вновь сжал кулаки. — Да, ты прав! — отвечала Джесс, пронизывая его своим взглядом насквозь. — Он умрет насильственной смертью, умрет сегодня ночью, и убьешь его ты, Яньи! Готтентот вскочил с места и побледнел. — Как? — промолвил он. — Как? — Наклонись, Яньи, и я объясню тебе, как. — С этими словами она принялась что-то шептать ему на ухо. — Да, да, да! — воскликнул он, когда она кончила. — О! Что значит быть умным, как белые люди! Я убью его сегодня же ночью, после чего смогу смело уничтожить все зарубки, и тогда успокоятся наконец тени отца, матери и дяди, и перестанут тревожить меня по ночам.Глава 33
МЩЕНИЕ
Минуты три или четыре они шепотом совещались между собой, после чего готтентот отправился вниз, чтобы произвести разведку, а также с целью дождаться возвращения фрэнка Мюллера в палатку. Затем он должен был вернуться назад и сообщить обо всем Джесс для того, чтобы обсудить дальнейшие действия. Как только он удалился, Джесс свободно вздохнула. Хотя она и довела Яньи до того состояния духа, при котором его охватила неумолимая жажда мщения, но это усилие воли и ее привело в состояние сильнейшего нервного потрясения. Во всяком случае, дело наполовину уже сделано. Но чем оно закончится — неизвестно. Она сознавала, что в сущности будет главной виновницей преступления, и что рано или поздно ее вина откроется, и тогда вряд ли ей уже можно будет рассчитывать на чье-либо милосердие. Пока совесть ее еще молчала, ибо, в конце концов, Фрэнк Мюллер вполне заслужил наказание. Но когда все уже было оговорено и ей предстояло обагрить свои руки кровью, хотя бы и ради Бесси, ужас невольно запал ей в душу. Положим, Мюллер будет убит, Бесси выйдет замуж за Джона, если только ему удастся вырваться из когтей буров, и будет счастлива — что же тогда случится с ней? Лишенная любви дорогого ей человека и имея на душе тяжкое преступление, что станет делать она, одинокая, в том случае, если ей и удастся избегнуть наказания? Лучше ей умереть теперь и никогда более не видеть Джона, ибо горе и позор таковы, что она не в силах их перенести. Затем все ее мысли устремились исключительно к Джону. Бесси никогда не будет любить его так, как она, в этом Джесс была убеждена, а между тем он будет принадлежать Бесси всю жизнь. Ей же самой придется удалиться навсегда. Иного выхода нет. Прежде всего она убедится, исполнил ли Яньи данное ему поручение, а затем, если только не попадет в руки правосудия, отправится туда, откуда никто никогда о ней больше не услышит. Это будет наиболее благородный поступок с ее стороны. Она закрыла руками лицо, которое горело, несмотря на то что сама она насквозь промокла и дрожала от холода. От всех треволнений, усталости и голода у нее началась горячка. Но сознание не покидало ее ни на минуту, напротив, никогда еще ее мысли не были до такой степени ясны, как теперь. Каждая из них представлялась ее уму настолько живо, что, казалось, стояла совершенно обособленно, а не смешивалась со всеми остальными, как это обычно случается. Ей грезилось, что она уходит куда-то вдаль, одинокая, покинутая всеми, уходит навсегда! И будто где-то далеко, далеко Джон держит Бесси за руку, а на нее смотрит с глубоким сожалением. Ну что ж, она, пожалуй, напишет ему, ибо чему быть, того не миновать, и в письме скажет: «Прости, прости навеки!» Без этого она не сможет уйти. У нее был при себе карандаш, а на груди пропуск, обратная сторона которого, хоть и запачканная, могла заменить собой лист бумаги. Она вынула ненужный уже документ и, повернувшись к свету, положила его на колени.Прощайте, — писала она, — прощайте! Мы уже никогда не увидимся, и будет даже лучше, если мы больше не встретимся в этом мире. Существует ли иной мир — я не знаю. Если да, то я буду вас там ожидать. Если нет — то прощайте навеки! Вспоминайте иногда обо мне, ибо я любила вас безумно, как никогда ни одна женщина не будет вас любить, и останусь ли я в этом мире или перейду в иной, но доколе я существую, я буду любить вас и только вас одного. Не забывайте меня. Я никогда не исчезну насовсем, пока не буду вами позабыта.Затем она быстро начала писать стихами, почти без всяких исправлений. Она это делала иногда и прежде, хотя никому не показывала своих стихов, а теперь ею овладело непреодолимое желание изложить свои мысли именно в этой форме:Джесс
* * *
Она выбежала из палатки с окровавленным ножом в руке и с проклятием отшвырнула его далеко от себя. Этот крик должен был разбудить любого на расстоянии по крайней мере мили. До ее слуха уже начал доноситься неясный говор просыпавшихся буров, спавших возле повозки, в то время как в отдалении слышался звук шагов спасающегося бегством Яньи. Тут она опомнилась и пустилась бежать, куда и зачем? — она и сама не могла дать себе в том отчета. Никто ее не видел и никто не преследовал. Сердце ее отяжелело, голова горела, точно в огне, между тем как перед нею, вокруг нее и позади носились какие-то адские видения и призраки, подобно фуриям никогда не оставляющие убийцу и вечно следующие за ним по пятам. Она бежала без оглядки, как бы желая уйти от самой себя, но видела пред собой все те же образы, и в ушах ее раздавались все те же звуки. И между тем ее влекло все дальше и дальше в скалы, в дождь, в темноту.Глава 34
ТЕТУШКА КЕТЦЕ ВНЕЗАПНО ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
После отъезда Джесс Джону предложили немедленно сойти с лошади, что он и исполнил, стараясь не выказать и тени неудовольствия. Затем он был введен в дом в сопровождении двух буров, все время зорко за ним следивших. Помещение, в которое его ввели, оказалось тем же самым, в котором он уже был однажды, а именно утром в день памятной ему охоты, едва не окончившейся столь плачевным для нею образом. Посреди комнаты находился стол, вокруг — обитые буйволовой кожей кресла и диваны. В самом отдаленном углу восседала тетушка Кетце, рядом с ней стояла глубокая чашка с кофе, сама же она предавалась безделью. В этой же комнате сидели разряженные молодые девицы, жених одной из дочерей хозяйки с вечно сардонической улыбкой на лице и целая толпа юношей с ружьями в руках. Обстановка и общий вид комнаты оставались без изменения. Джон ощутил страстное желание протереть глаза, чтобы убедиться, не во сне ли он все это видит. Единственное, в чем сказалась разница, — это в приеме. Очевидно, теперь он уже не мог ожидать дружеских рукопожатий, и весьма потерял бы во мнении буров тот, кто бы отважился по происшествии всего лишь нескольких дней после битвы при Маюбе протянуть руку английскому роой батье, очутившемуся в положении затравленного буйвола. Во всяком случае, если бы он по причине личных симпатий и захотел это сделать, то удержался бы из уважения к чувствам своих товарищей. На этот раз Джон встретил ледяной прием. Старуха не удостоила его и взгляда, молодежь пожала плечами и отвернулась, как будто увидела что-то крайне неприятное. Лицо жениха хозяйской дочери перекосилось в сардонической улыбке. Джон прошел в самый конец комнаты и остановился перед незанятым стулом. — Надеюсь, фроу, вы разрешите мне сесть на этот стул? — произнес он глухим голосом, глядя на хозяйку. — Владыка Небесный! — воскликнула старуха, обращаясь к соседу. — Что за голос! Точно у буйвола! О чем это он просит? Сосед удовлетворил ее любопытство. — Пол — ют самое подходящее место для англичанина! — промолвила старуха. — Но, в конце концов, он мужчина и, быть может, устал от верховой езды. Англичане всегда устают, когда пробуют ездить верхом! Садитесь! — закричала она басом, подражая голосу Джона, и тут же добавила, как бы в объяснение. — Я хочу доказать вам, что не у одних роой батьес есть голос! Сдержанный смех приветствовал эту шутку, во время которой Джон постарался придать своему лицу самое приятное выражение, на которое только был способен, что ему не вполне, однако, удалось. — Господи! — продолжала она с оттенком юмора в голосе. — Он выглядит каким-то замарашкой. Можно подумать, что несчастный все время валялся в яме муравьеда. Мне, кстати, передавали, будто около Дракенсберга все ямы переполнены англичанами. Должно быть, они решили скорее околеть с голоду, нежели выйти из них, до такой степени они боялись встречи с бурами! Послышалось хихиканье, после чего одна из девушек спросила Джона по-английски: — Вы проголодались, роой батье? Джон кипел гневом, но вместе с тем умирал с голоду, а потому отвечал утвердительно. — Завяжите ему руки за спиной и посмотрите, умеет ли он ловить пищу ртом, как собаки, — посоветовал один из представителей золотой молодежи. — Нет, нет, дайте ему детскую кашку, — запротестовал другой, — я пожалуй, согласен покормить его, если только у вас найдется длинная деревянная ложка. Эта шутка вызвала взрыв хохота со стороны присутствующих, но в конце концов Джону бросили кусок вяленого мяса и хлеба, которые он и принялся есть, стараясь, насколько возможно, скрыть от окружающих чувство томившего его голода. — Каролус, — обратилась старуха к жениху своей дочери, — вам известно, что в британской армии три тысячи человек? — Да, тетя. — В британской армии три тысячи человек, — повторила она, гневно поводя глазами, как будто кто-либо собирался ей возражать. — Брат моего деда был в Капштадге при губернаторе Смите и, лично пересчитав всю британскую армию, убедился, что в ней ровно три тысячи человек. — Это совершенно верно, — промолвил Каролус. — В таком случае зачем вы мне противоречите? — Я не думал, тетушка. — Еще бы, это прогневало бы Создателя, если бы Он услышал, что какой-то там косой мальчишка (Каролус действительно немного косил глазами) осмеливается спорить со своей будущей тещей. Скажите мне, сколько полегло англичан при Лейнгс Нэке? — Девятьсот, — быстро отвечал Каролус. — А при Ингого? — Шестьсот двадцать. — А при горе Маюба? — Тысяча. — Значит, на все про все две тысячи пятьсот человек, остальные же были убиты в Бронкерс Сплинте. Дети, — продолжала она, указывая на Джона, — вот этот роой батье — один из последних представителей британской армии! Большинство присутствовавших приняли ее слова на веру, но Каролуса так и подмывало подразнить тетушку, несмотря на только что полученный урок. — Эго неправда, тетушка, еще много проклятых англичан в Ньюкасле, Претории и Ваккерструме. — А я говорю вам, что это ложь, — настаивала она, возвышая голос, — там остались одни только кафры да добровольцы. В английской армии было три тысячи человек, а теперь все перебиты, и в живых остался один лишь этот роой батье. Как вы смеете спорить с будущей тещей, дерзкий и негодный мальчишка? Вот вам! И прежде, нежели несчастный Каролус успел опомниться, она бросила ему в лицо стоявшую возле нее чашку с кофе. Чашка разбилась о его переносицу, и кофе облило юнца с головы до ног, причем попало в глаза и даже проникло в горло. В этом положении юный насмешник имел довольно жалкий и плачевный вид. — Ага! — воскликнула старуха, весьма довольная результатом своей выходки. — Едва ли вы когда-нибудь впредь осмелитесь мне сказать, что я не смею когда надо швырнуть чашку с кофе. Недаром же я прожила тридцать лет со своим мужем Хансом. А теперь я проучила вас, Каролус. Ступайте же и вымойте лицо, а затем сядем ужинать! Каролус больше не возражал и с позором был уведен невестой в соседнюю комнату, между тем как ее сестра принялась накрывать на стол. Когда стол был накрыт, мужчины уселись, а женщины начали им прислуживать. Джону никто не предложил сесть за стол, но одна из девушек сунула ему в руки кусок вареной говядины, за что он был ей искренне благодарен, а спустя некоторое время — баранью кость и кусок хлеба. По окончании ужина на столе появились бутылки с персиковой настойкой, и мужчины принялись пить. Положение Джона с минуты на минуту становилось все более и более опасным. Некоторые из буров вдруг вспомнили про скинутого с седла товарища. Начались перешептывания о том, что неплохо бы теперь отомстить за него. Дело, несомненно, приняло бы скверный оборот для Джона, если бы не вступился старший бур, командовавший отрядом. Хотя он был пьян, подобно товарищам, но винные пары привели его скорее в благодушное настроение. — Оставьте его в покое, — промолвил он, — завтра же мы отправим его к местному начальнику. Фрэнк Мюллер и сам сумеет с ним распорядиться. От этих слов Джона несколько покоробило. — Что же касается меня, — продолжал бур, икнув, — то я вовсе не питаю к нему неприязненного чувства. Мы победили англичан, они уступили нам страну — стало быть, дело кончено. Господи! Да все понятно. Я вовсе не горд. Если англичанин снимет предо мной шляпу, то я отвечу ему на поклон. Это в какой-то мере удержало прочих буров в границах приличий, но как только защитник Джона зачем-то вышел из комнаты, они вновь принялись за свои злобные шутки. Они схватили ружья и стали прицеливаться в него, делая вид, будто держат пари, чей выстрел окажется наиболее удачным. Джон, видя опасность, отодвинулся вместе со стулом в угол комнаты и вынул револьвер, который, к счастью, находился при нем. — Если кто-нибудь только дотронется до меня, то, клянусь Богом, я выстрелю в него из револьвера, — произнес он чистым английским языком, который, как оказалось, буры прекрасно понимали. Несомненно, если Джон и спас свою жизнь, то исключительно благодаря револьверу и твердой решимости защищаться до последней возможности. Но под конец дело стало принимать весьма плохой оборот, до того плохой, что Джон должен был глядеть, что называется, в оба, чтобы не попасться под выстрел. Дважды он обращался за помощью к старухе, но она продолжала невозмутимо покоиться в своем глубоком кресле с блаженной улыбкой на устах и, по-видимому, ни во что не желала вмешиваться. Ведь не всякий день можно видеть травлю настоящего живого английского роой батьес. В отчаянии Джон уже собрался стрелять направо и налево с тем, чтобы проложить себе дорогу, как вдруг Каролус, все еще находившийся под впечатлением полученного им урока и к тому же сильно пьяный, с ругательствами бросился вперед и вознамерился прикладом ружья нанести жестокий удар Джону. Джон отразил удар, который пришелся по спинке стула и разнес его в щепы, а в следующее мгновение смиренная душа Каролуса наверное отправилась бы в горние обители, если бы старуха, заметив, что дело принимает уже далеко не шуточный характер, не вскочила с кресла и не бросилась разнимать воюющие стороны. — Эй, вы! — кричала она, пробивая себе дорогу кулаками сквозь толпу. — Убирайтесь отсюда вон! Я терпеть не могу подобного гама и шума. Ступайте на конюшню и приглядите за лошадьми, а то они у вас, пожалуй, разбегутся, если вы их доверите кафрам. Каролус, съежившись, отступил назад, прочие последовали его примеру, а спустя некоторое время старуха, к великому удивлению и радости Джона, решительно вытолкала всех присутствующих за дверь. — Слушайте, роой батье, — бодро произнесла она, — вы мне нравитесь, потому что в вас есть храбрость и вы не испугались в то время, когда вас травили. А кроме того, я вовсе не желаю, чтобы у меня в доме творились какие-либо безобразия. Если буры вернутся и застанут вас здесь, они еще более опьянеют и затем убьют вас, а потому советую вам убираться подобру-поздорову, пока еще есть время. — С этими словами она указала ему на дверь. — Я искренне вам признателен, фроу, — отвечал Джон, весьма удивленный, что нашел в старухе столько сердечности. Очевидно, все остальное с ее стороны было всего лишь притворством. — О, если на то пошло, — сухо возразила старуха, — то было бы очень жаль убить последнего английского роой батье британской армии: вас надо сохранить, как редкость. Слушайте. На всякий случай подкрепитесь настойкой: на дворе сыро и холодно. Когда же вы навсегда покинете Трансвааль, то, вспоминая об этой стране, вспомните также и о том, что вы обязаны жизнью тетушке Кетце. Но знайте, я ни за что бы вас не спасла, если бы вы струсили. Я требую, чтобы мужчина был мужчиной, а не тем, чем оказался трусишка Каролус. Ну, ступайте! Джон налил себе стакан настойки и осушил его до дна, а затем вышел из дома и вскоре скрылся в темноте. На дворе ни зги не было видно, так как дождевые тучи заслонили месяц. Всякая попытка искать лошадь не привела бы ни к чему, но могла окончиться для него весьма пагубно, ибо он легко мог вновь попасть в руки буров. Оставалось одно: идти пешком до Муифонтейна. Ему необходимо было сделать десять миль, и с этим приятным сознанием в душе он пустился в далекий путь. По прошествии часа он, к своему ужасу, обнаружил, что сбился с дороги. Остановившись на четверть часа, чтобы определить свое местоположение, и думая, что набрел на верный путь, он вновь храбро зашагал по направлению к возвышающейся вдали темной массе, которую он принял за холм Муифонтейна. Он не ошибся, но вместо того, чтобы взять влево, отчего непременно наткнулся бы на дом или, вернее, на то место, где стоял этот дом, он взял несколько вправо и обошел половину холма, прежде чем заметил ошибку. И то он никогда не открыл бы ее, если бы не очутился в овраге, известном под названием Львиного рва, где несколько месяцев тому назад имел достопамятный разговор с Джесс перед ее отъездом в Преторию. В то время как он, оступаясь на каждом шагу, напрасно искал тропинку в гору, дождь перестал, и около полуночи небо прояснилось. Луна осветила груду исполинских камней, и Джон тотчас распознал место, в котором очутился. Само собой разумеется, что он к этому времени едва стоял на ногах от усталости. В течение почти целой недели он был в дороге, а последние две ночи не только не спал, но, напротив, находился в напряженном состоянии из-за грозящей всякую минуту опасности. Если бы не стакан настойки, которым он подкрепился, он никогда бы не прошел тех пятнадцати миль, которые отделяли его от жилища тетушки Кетце. Теперь он чувствовал себя совершенно изможденным и лишь мечтал о том, как бы укрыться где-нибудь в скалах и заснуть. Тут ему припомнилась небольшая пещера, находившаяся невдалеке от вершины оврага, та самая, в которой некогда укрылась от бури Джесс. Он ходил туда однажды вместе с Бесси, уже после помолвки, и она ему тогда же сообщила, что это одно из самых любимых мест уединения Джесс. О, если бы ему только удалось добраться до пещеры, то он, по крайней мере, мог бы в ней укрыться от холода и сырости! Пещера эта, наверное, не дальше чем в трех сотнях ярдов от него. А потому он снова побрел по сырой траве, через камни, пока не достиг развалин каменной груды, разбитой молнией на глазах у Джесс. Еще тридцать шагов — и он был в пещере. Не помня себя от усталости, он повалился как мертвый на каменное ложе и почти тотчас же уснул глубоким сном.Глава 35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дождь утих, и на небе давно уже сиял месяц, а Джесс все еще продолжала свой безумный и дикий бег. Она не чувствовала усталости, единственной ее мыслью было уйти, уйти куда-нибудь подальше, где бы она могла скрыться и где бы никто не мог ее увидеть. Но вот она подошла к спуску в Львиный ров. Девушка узнала эту местность и начата осторожно спускаться вниз. Она направилась к уединенной пещере, где бы могла спокойно отдохнул, или же умереть и где бы никто ее не потревожил. Перепрыгивая со скалы на скалу, она дважды оступалась. Один раз она даже свалилась в ручей и сильно поранила руку, но тем не менее, казалось, вовсе не замечала боли. Вот она уже и на дне оврага и при бледных лучах месяца пробирается вперед подобно какой-то таинственной тени. Перед ней отверстие пещеры. Но тут силы ей наконец изменили. Сердце ее было разбито, она изнемогла от усталости и чувствовала, что умирает. — О Милосердный Боже, прости мне! Прости мне! — в отчаянии стонала она, лежа на камнях. — Бесси, я согрешила против тебя, но вместе с тем и искупила свой грех. Я сделала это ради тебя, милая Бесси, а никак не ради себя. Ты выйдешь теперь замуж за Джона и никогда, никогда не узнаешь, что я для тебя сделала. Я скоро умру, я уже чувствую, что умираю. О, если бы мне удалось еще раз перед смертью взглянуть на его дорогое лицо! Луна осветила скалу, остававшуюся до сих пор в тени. Луч месяца проник сквозь небольшое отверстие в пещеру и остановился на лице Джона, спящего в двух шагах от нее. Молитва была услышана: возле нее покоился ее милый! Сперва она смутилась, а затем с радостью, но в то же время и с некоторым сомнением взглянула на него. Неужели он умер? Она подползла к нему на четвереньках и стала внимательно прислушиваться, желая убедиться, дышит ли он, все еще не веря, чтобы это был именно он, а не пустой бред ее больного воображения. Наконец она расслышала медленное, но ровное дыхание человека, спящего глубоким сном. Не разбудить ли его? Зачем? Затем, чтобы рассказать ему об убийстве и потом умереть у него на глазах? Ибо она чувствовала, что ей недолго, очень недолго осталось жить. Нет, тысячу раз нет! Она вынула хранившийся на груди пропуск, на обороте которого пропела свою лебединую песнь, и вложила его в руки Джона. Пусть за нее говорит письмо. Затем она склонилась над ним и с бесконечной нежностью стала глядеть на его милые черты, олицетворяя собой живой образ глубокой и безнадежной любви. И в то же время она чувствовала, что постепенно холодеет. Луч месяца погас и скрыл от ее затуманенного взгляда лицо Джона. Тогда она прижалась к нему губами и принялась безумно его целовать. И вот наступил конец. В ее глазах блеснула молния, до слуха как бы донесся рев тысячи морей. Голова Джесс тихо, тихо опустилась на грудь Джона, и ее не стало. Душа ее перешла в иной мир, в тот мир, где царит вечная жизнь и свобода, а быть может, и погрузилась в вечный, непробудный сон. Бедная Джесс! Вот что готовила ей любовь и вот где обрела она свое брачное ложе! Она умерла и унесла с собой в могилу великую тайну своей искупительной жертвы, а ночной ветер, бушуя между скал, пропел ей вечную память! Здесь она впервые ощутила в сердце любовь и здесь же навеки смежила очи! Она могла бы составить себе имя и в то же время остаться доброй и прекрасной женщиной. Она могла бы даже быть счастлива. Но рок сулил ей иное. Женщины, подобные ей, редко бывают счастливы на этом свете. Никогда не следует ставить на карту все свое благополучие! А теперь ее страдания кончились. Вспоминайте о ней с чувством снисхождения, и да мир будет ее праху!* * *
Забрезжил рассвет, а Джон с телом любимой женщины на груди спал глубоким сном. Уже и день наступил, и вся окружающая природа проснулась к обыденной жизни, а Джон все еще находился в забытьи. Лучи солнца проникли в пещеру и осветили мертвенно-бледное лицо и распущенные волосы несчастной девушки, а также могучую грудь спящего человека. Старый павиан заглянул в пещеру, но не выказал никакого удивления, а лишь одно негодование при виде нарушения его державных прав на жилище. Да, вся природа проснулась и ничуть не казалась озабоченной или смущенной из-за того, что Джесс умерла. Так уже ведется исстари. Наконец проснулся и Джон. Он потянулся, зевнул и лишь теперь почувствовал на своей груди тяжесть. Сперва он не мог ничего разобрать, но затем ему вдруг что-то почудилось.* * *
Есть вещи на свете, в которые лучше всего стараться никогда не проникать, и к их числу относится горе мужчины. Счастлив был Джон, что не потерял рассудка в этот ужасный миг печали. Но он твердо выдержал испытание, которое, однако, оставило неизгладимую печать на всей его последующей жизни. Прошло два часа, и с горы, шатаясь, начала спускаться по направлению к Муифонтейну какая-то тощая и бледная фигура, державшая что-то на руках. Всюду сновали и суетились люди. Буры сходились кучками и о чем-то оживленно толковали между собой. Заметив Джона, они бросились к нему с целью взглянуть на его ношу. Увидав ее, они молча расступились и дали ему дорогу. С минуту Джон стоял в нерешительности, не зная, куда идти, так как дома больше не существовало, и повернул в сарай, где и положил дорогую ношу на скамейку, на которой накануне восседал Фрэнк Мюллер в качестве неумолимого судьи невиновного человека. Наконец он нарушил молчание и глухим голосом спросил, где старик. Один из буров указал ему на дверь кладовой. — Отоприте ее! — воскликнул он таким грозным голосом, что буры беспрекословно повиновались. — Джон, Джон! — приветствовал его старик. — Слава Богу, что вы вернулись к нам целы и невредимы! — И, дрожа от радости и волнения, он готов был уже броситься ему на шею. — Тише, — отвечал Джон, — я принес вам покойницу! И он повел его к скамейке.* * *
Мало-помалу буры разошлись по домам и оставили их совершенно одних. Со смертью Фрэнка Мюллера вопрос о казни старика решился сам собой. Приговора не существовало, да если бы он и нашелся, буры все равно не могли бы привести его в исполнение, ибо он остался неподписанным. Поэтому они ограничились производством краткого расследования по поводу кончины своего начальника, после чего и похоронили его на обведенном оградой кладбище позади дома. Не желая утруждать себя выкапыванием новой могилы, они положили его в ту яму, которую он велел вырыть для старика. Кто убил Фрэнка Мюллера, было и осталось для всех тайной и до сего дня. Одно было достоверно: что найденный нож принадлежал готтентоту Яньи, и действительно, кто-то видел бегущего из Муифонтейна готтентота. За ним отправили погоню, которая, однако, ни к чему не привела, и Яньи бесследно скрылся. А потому многие придерживаются того мнения, что убийца он. Другие, наоборот, думают, что убийца не кто иной, как одноглазый кафр Хендрик, слуга Мюллера, также таинственно исчезнувший. Ввиду же того, что и до нынешнего дня не удалось поймать ни того, ни другого, загадка так и осталась невыясненной. Впрочем, никто особенно и не старался расследовать эту тайну. Хотя Фрэнк Мюллер и был одним из выдающихся деятелей страны, он не пользовался популярностью, а тем более любовью сограждан, а посему его загадочная кончина и не могла произвести сильного впечатления среди грубого народа, да притом в столь тяжелые времена. На другой день старик Крофт, Бесси и Джон Нил похоронили дорогую усопшую на том кладбище, где был похоронен и Фрэнк Мюллер, и она покоится там всего лишь в десяти шагах от человека, пораженного ее рукой. Но никто этого не знает и даже не догадывается. Никто и не подозревает, что в эту ужасную ночь Джесс была в Муифонтейне, знает об этом лишь Яньи, но Яньи, преследуемый бурами, удалился за пределы земли, принадлежащей белым, и навсегда скрылся в диких дебрях Центральной Африки. — Джон, — проговорил старик по окончании печального обряда предания земле тела усопшей. — Здесь не место англичанам. Вернемся лучше в Англию. Джон склонил голову в знак согласия. К счастью, они не испытывали недостатка в деньгах, ибо хотя и были наполовину разорены, но сумма в тысячу фунтов стерлингов, вложенная Джоном в дело, вместе с другими двумястами пятьюдесятью фунтами хранилась в неприкосновенности в отделении Государственного банка в Натале. Спустя некоторое время они вернулись на родину. Что еще сказать? Джесс для того, кто внимательно прочел ее грустную повесть, была душой рассказа. А так как ее не стало, то едва ли и стоит продолжать уже безжизненное повествование. Джесс умерла, и ее истории — конец.* * *
Еще несколько слов. Хоть и с некоторыми затруднениями, Джон Нил спустя месяца три по приезде в Англию получил место управляющего большим имением в Ратлендшире и эту должность, с большим знанием дела и пользой для хозяйства, занимает и по сие время. Он женился на милой и влюбленной в него Бесси и имеет вид вполне довольного и счастливого человека. Временами, однако, на него нападает тоска, о которой жена и не подозревает, и тогда он сам не свой. Он никогда не был чувствительным или же мечтательным человеком. Иногда же по окончании дневных занятий, гуляя по саду и глядя на тихий и мирный английский ландшафт, а затем на усеянное звездами небо, он начинает мечтать о том, наступит ли когда-нибудь день, в который он вновь увидит задумчивый взгляд темных очей и услышит милый незабвенный голос. Он и теперь чувствует по отношению к ней ту же любовь, какую питал и в то время, когда она была жива, и твердо верит, что если существует для нас, смертных, жизнь за гробом, то он найдет Джесс ожидающей его у врат рая и приветствующей с улыбкой на устах.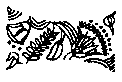
ЗАВЕЩАНИЕ МИСТЕРА МИЗОНА (роман)
Молодая, талантливая, но бедная, писательница Августа Смиссерс и милый юноша Евстас полюбили друг друга с первого взгляда, не отдавая себе в этом отчета. Но судьба разъединяет их не успев соединить. Августа уплывает к своим родственникам в Новою Зеландию. На том же корабле, по делам фирмы, плывет и мистер Мизон — дядя Евстаса, богатый издатель Августы…
Глава 1
ФИРМА «МИЗОН и К°»
Каждый, кому случалось побывать в Бирмингеме, наверняка знает огромное здание, известное под кратким названием «Мизон», — быть может, наиболее замечательное учреждение во всей Европе. В то время когда начинается наш рассказ, в издательскую фирму «Мизон» входили три компаньона: сам Мизон, директор, мистер Аддисон и мистер Роскью. Обитатели Бирмингема уверяли, что были еще и другие компаньоны, также заинтересованные в деле. Как бы то ни было, но фирма «Мизон и К°» была, несомненно, удивительно богатым коммерческим предприятием. Целых два акра[467] земли занимали освещенные электричеством типографии, в которых работало более тысячи человек. Сотни торговых агентов и коммивояжеров фирмы разъезжали с востока на запад, с севера на юг, продавая повсюду книги, выпущенные фирмой «Мизон и К°», — по большей части религиозного содержания. Двадцать пять собственных сочинителей сидели в укромных уголках и строчили, получая за это различное жалованье, и неделя за неделей выпускали целую массу книг с иллюстрациями собственных же художников. Были тут редакторы, начальники отделений, их помощники, секретари, корректоры, управляющие. Никто не знал их имен, потому что все служащие фирмы различались по номерам, личностей и личной ответственности здесь не существовало вовсе. Из опасения, чтобы какой-нибудь «номер» не расчувствовался над чужими несчастьями и денежные интересы фирмы не пострадали от этого, всем, имевшим дело с ней, не позволялось видеть один и тот же «номер» более одного раза. Короче говоря, издательская фирма «Мизон и К°» создавалась ради денег и поклонялась деньгам, и это назойливо бросалось в глаза всем, кто вступал в эту счастливую область коммерции. Неудивительно, что компаньоны мистера Мизона были очень богаты, и их дворцы служили бы предметом удивления, наверное, и в древнем Вавилоне, и среди роскошнейших построек древнего Рима. Где еще можно было видеть таких удивительных лошадей, такие экипажи, такие дивные галереи живописи и скульптуры, коллекции драгоценных камней, как у почтенных компаньонов господ Мизона, Аддисона и Роскью? — Подумайте только! — говорил почтенный мистер Мизон какому-нибудь удивленному бедному автору, которого он желал подавить видом всего этого великолепия. — Подумайте, ведь все это создал мозг человека, подобного вам. Скажу вам, молодой человек, если бы все деньги, уплаченные со времен Елизаветы вам, бумагомарателям, собрать вместе, — из них можно было бы возвести целую колонну. Трудно поверить, что все это сделал простой фокус — религия. Благочестие обогащает нас, особенно в печатном виде! Доверчивый юноша уходил, подавленный всем виденным, с переполненным сердцем, раздумывая о словах главы фирмы, и мало-помалу загорался желанием попасть в горнило мистера Мизона и поучиться там кое-чему. Однажды мистер Мизон сидел в конторе и считал деньги, просматривая счетные книги. Он был в дурном расположении духа, его мохнатые брови грозно нахмурились, так что клерки дрожали, сидя на своих стульях. В Австралии, в Сиднее, существовало отделение фирмы «Мизон». И вдруг случилось неприятное событие. Большая американская издательская фирма открыла свое отделение в Мельбурне, и клиентура ее была обширнее клиентуры Мизона. Едва только фирма «Мизон и К°» выпустила издание одного автора, назначив три пенса за том его сочинений, конкурент издал то же сочинение ценой в два с половиной пенса за том. Когда фирма «Мизон и К°» назначила субсидию одной газете, чтобы поддержать ее, американская фирма выдала субсидию двум газетам, которые начали отчаянно рекламировать ее, и так далее в этом роде. Результат конкуренции сказался очень скоро: финансовый год приходил к концу, и австралийское отделение фирмы выработало нищенский дивиденд — около семи процентов. Понятно, почему мистер Мизон был взбешен и клерки фирмы дрожали на своих местах. — Это нужно проверить, Номер третий! — приказал мистер Мизон, яростно стукнув кулаком по счетной книге. Номер третий был один из редакторов, маленький человек в синих очках. Когда-то он считался многообещающим писателем, но мистер Мизон сделал его своей собственностью и закабалил в фирме. — Совершенно верно, сэр, — скромно ответил он, — это очень скверно, ужасно даже подумать… семь процентов! Семь процентов! — он сжал руки в припадке горя. — Да не стойте же, словно глупая свинья, Номер третий! — сердито вскричал мистер Мизон. — Придумайте что-нибудь! — Слушаю, сэр, — еще смиреннее склонился Номер третий, который страшно боялся своего патрона, — я думаю, что кто-нибудь должен отправиться в Австралию и узнать все на месте! — Я знаю одно, что нужно сделать, — возразил ворчливо мистер Мизон, — все эти дураки там или сами воруют, или всеми кругом обворованы. Я поеду туда сам и разберу все! Так и будет, Номер третий, так и будет! Номер третий ушел, очень довольный, что отделался от патрона. Вместо него явился клерк и подал патрону карточку. — Мисс Августа Смиссерс! — прочитал великий человек и, крякнув, произнес: — Попросить сюда мисс Августу Смиссерс! Мисс Августа вошла в контору. Это была высокая, хорошо сложенная молодая особа двадцати четырех лет от роду, с красивыми золотистыми волосами, глубокими серыми глазами, нежным лицом и маленьким прелестным ртом. Она выглядела очень расстроенной. — Что случилось, мисс Смиссерс? — спросил мистер Мизон. — Я пришла к вам, мистер Мизон, по поводу моей книги! — Вашей книги? Какой? Простите меня, но мы издаем такую массу книг. Ах да, я припоминаю: «Обет Джемимы!» Да. Я полагаю, она имеет успех! — Я видела на книге, что она разошлась тиражом в шестнадцать тысяч экземпляров! — заметила мисс Смиссерс. — Разве? О, тогда вы знаете это лучше меня! Мистер Мизон посмотрел на посетительницу, давая ей понять, что разговор окончен. Мисс Смиссерс встала, потом, сделав над собой усилие, снова села. — Мистер Мизон! — произнесла она. — Я думаю, что… так как моя книга «Обет Джемимы» имела огромный успех, быть может, вы согласитесь добавить мне хотя бы небольшую сумму к тому гонорару, который я получила за нее? Мистер Мизон снова взглянул на посетительницу. Он так сильно нахмурился, что его маленькие острые глазки совсем спрятались под нависшими седыми бровями. — Что такое? — спросил он. — Что такое? В этот момент дверь отворилась, и в контору медленно вошел молодой человек, очень милый с виду, высокий, статный, с прекрасным цветом лица и чудесными голубыми глазами — типичный молодой англичанин, двадцати четырех лет от роду. Он вошел медленно, с веселым и независимым видом, что составляло слишком разительный контраст с подобострастной угодливостью служащих, пресмыкавшихся перед патроном. Молодой человек даже не дал себе труда снять шляпу, сдвинутую на затылок; засунув руки в карманы и что-то насвистывая, он одним толчком открыл дверь в святилище Мизона и предстал перед главой фирмы. — Как поживаете, дядя? — обратился он к мистеру Мизону, как к обыкновенному смертному. — Что с вами? Тут он заметил красивую молодую даму, сидевшую в конторе. Моментально в нем произошла перемена. Руки сами собой убрались из карманов, шляпа слетела с головы; повернувшись к даме, он вежливо поклонился ей. — Что тебе нужно, Юстас? — проворчал мистер Мизон. — Ничего, дядя! Ничего особенного! Не дожидаясь приглашения, молодой человек взял кресло и сел так, чтобы видеть лицо мисс Смиссерс. — Я хотел сказать вам, мисс Смиссерс, — продолжал мистер Мизон, — что не совсем понимаю, чего вы желаете. Извольте припомнить, что вы получили за книгу солидную сумму в пятьдесят фунтов! — Великий Боже! — пробормотал молодой человек. — Что же это такое! — Во время переговоров, — Мизон строго взглянул на посетительницу, — вам было предложено семь процентов с каждой новой книги, которую вы принесете нам, и если бы вы согласились и приняли эти условия, у вас, несомненно, была бы в руках достаточная сумма денег! Мистер Мизон снова нахмурил свои косматые брови и весьма недружелюбно посмотрел на бедную девушку. Августа, хотя ощущала величайшее желание убежать, продолжала оставаться на своем месте, потому что сильно нуждалась в деньгах. — Я не могу поставлять вам книги, получая семь процентов, мистер Мизон! — проговорила она скромно. — Боги! Семь процентов, когда он получает тридцать пять! — снова пробормотал Юстас, продолжая оставаться на заднем плане. — Возможно, мисс Смиссерс, очень возможно! — продолжал великий человек. — Вы должны извинить меня, если я не вполне осведомлен в ваших личных делах! Я знаю по опыту, что у большинства пишущей братии денежные дела всегда плохи! Августа молчала. Мистер Мизон встал, подошел к стоявшему рядом шкафу и извлек оттуда связку документов. Он просматривал их один за другим, пока не нашел того, который был нужен. — Вот договор! — сказал он. — Посмотрим! Ага! Я так и думал. Литературная собственность — пятьдесят фунтов… вот за право перевода — ваша подпись, которой вы согласились за всю свою будущую работу для нас в эти пять лет получать семь процентов или сумму, не превышающую сотни фунтов, за всякую литературную собственность!.. Ну, что вы скажете, мисс Смиссерс? Вы добровольно подписали бумагу. Случилось так, что книга ваша имела успех… Разве я должен докладывать, что мы вернули уплаченную вам сумму? Разве это достаточное основание для вас, чтобы приходить и требовать еще денег, сверх того, что вам угодно было получить по условиям договора? Я никогда не слыхал ничего подобного за всю мою долголетнюю практику, никогда! Он замолчал, сурово смотря на посетительницу. — Во всяком случае, я должна бы что-нибудь получить за право перевода моей книги, я знаю, что она была переведена во Франции и Германии! — возразила Августа неуверенно. — О, несомненно! Юстас, будь так добр, позвони! Молодой человек повиновался. Появился высокий, меланхоличного вида клерк. — Номер восемнадцатый, — проворчал мистер Мизон дружеским тоном, которого старался придерживаться в отношении своих служащих, — напишите счет за перевод книги «Обет Джемимы» и дайте сюда чек для уплаты автору! Номер восемнадцатый исчез, как привидение. — Если вам нужны деньги, мисс Смиссерс, — снова заговорил патрон, — вы лучше бы сделали, если бы написали новую книгу! Я не отрицаю, что ваша работа очень хороша, пожалуй, слишком глубока и не совсем в духе господствующей религии, но хороша! Я сам просматривал книгу, что делаю очень редко, заметил ее большие достоинства и знал, что на нее будет спрос. А в этом я никогда не ошибаюсь! Я полагаю, что книга выдержит много изданий… а вот и счет! Снова появился подобный призраку клерк, положил на конторку перед патроном лист бумаги и неподписанный чек, улыбнулся бледной улыбкой и исчез. Мистер Мизон взглянул на счет, подписал чек и подал их Августе. Августа, увидев счет, скомкала чек в руке. — Насколько я понимаю, мистер Мизон, — сказала она, — вы продали права на перевод моей книги, так как убедили меня предоставить их вам… Мне остается получить три фунта с чем-то? — Да, мисс Смиссерс. Будьте добры подписать свое имя. У меня масса дел сегодня! — Нет, мистер Мизон, — ответила Августа, вставая с места, раздраженная и удивительно красивая в своем гневе, — нет, я не хочу подписаться, я не возьму чека. Более того, я не буду ничего писать для вас, ни одной книги. Вы поймали меня в ловушку! Вы воспользовались моей наивностью и неопытностью и закабалили меня еще на пять лет. Хотя моя книга очень популярна, хотя меня любят и читают в Англии, я вынуждена получать за свою работу сумму, на которую нельзя существовать. Знаете ли вы, что вчера мне предлагали тысячу фунтов за мою книгу? Это большая сумма, но я могу доказать, что говорю правду… у меня есть письмо! Да, у меня осталась рукопись книги. Если бы я могла напечатать ее, то избавилась бы от нужды вместе со своей сестренкой… — У нее вырвалось рыдание. — Но, — продолжала Августа, — я не могу напечатать ее и не отдам вам, потому что не хочу, чтобы меня так эксплуатировали! Скорее я умру с голоду. Я не буду ничего писать и печатать у вас все эти пять лет, я напишу в газетах почему и скажу, что вы меня обманули, мистер Мизон! — Обманул! — загремел великий человек. — Осторожнее, мисс, думайте, что говорите! У меня есть свидетель… Юстас, ты слышишь? Обманул! Я ее обманул! Слышишь, Юстас? — Слышу! — мрачно ответил молодой человек. — Да, мистер Мизон, я сказала, что обманута вами, и повторю это, когда и где вам угодно. Доброго утра! Она поклонилась и вдруг неожиданно разразилась целым потоком слез. В одну секунду молодой человек очутился подле нее. — Не плачьте, мисс Смиссерс! Ради Неба, не плачьте! Я не могу видеть ваших слез! Августа благодарно взглянула на него своими прекрасными, полными слез глазами и пыталась улыбнуться. — Благодарю вас! — произнесла она. — Я смешна, но, право, мне так тяжело! Если бы вы знали… Мне пора идти! Благодарю вас! — Она быстро вышла из комнаты. — Наконец-то, — выдохнул мистер Мизон, сидевший за своей конторкой с открытым от удивления ртом. — Но какая злая женщина! Она вернется к нам! Я видал таких… там сидят двое таких же!.. — Он ткнул пальцем в том направлении, где сидели, словно кролики в норах, закабаленные авторы и с точностью машин писали книги. — Эти так же бесились… Теперь они успокоились и не показывают свой норов! Я знаю, как поступать с ними, — половинная плата и двойная работа… это отличное средство! Каково! Эта девица обойдется нашей фирме в полторы тысячи фунтов в год! Что ты думаешь об этом, юноша? А? — Я думаю, — проговорил племянник, на добродушном лице которого ясно читалось раздражение, — я думаю, что вам должно быть стыдно за себя!Глава 2
ЮСТАС ЛИШАЕТСЯ НАСЛЕДСТВА
Наступила пауза — ужасная пауза. Словно молния сверкнула в грозной туче, хотя грома еще не было слышно. Мистер Мизон тяжело дышал. Схватив чек, брошенный Августой на стол, он гневно комкал его в руке. — Что ты сказал? — произнес он холодным, злым тоном. — Я сказал, что вы должны стыдиться самого себя, — повторил племянник, смело глядя в лицо патрона, — и продолжаю думать это! — Ого! Так будь добр, объясни мне, почему ты это сказал и почему так думаешь? — Я думаю это, — громко и уверенно отвечал племянник, — потому что девушка была права, вы обманули ее и отлично знаете, что это правда! Я просматривал счет за «Обет Джемимы» сегодня утром… Вы нажили на книге более тысячи фунтов барыша. И когда она пришла к вам просить прибавить ей что-нибудь сверх этих жалких пятидесяти фунтов, которые вы ей уплатили, — вы отказываете и предлагаете ей три фунта за право перевода ее книги — три фунта, тогда как вы получили тысячу фунтов. — Продолжай! — прервал его дядя. — Прошу тебя, продолжай! — Хорошо! Я продолжаю. Это еще не все: вы сыграли ловкую шутку и поймали несчастную девушку в ловушку, по условию она — ваша раба на целых пять лет! Заметив в ней талант, вы уверили ее, что издержки на распространение и перевод ее книги так велики, что она не в силах взять их на себя… Она соглашается отдавать вам все, что напишет за пять лет, за половину обычного гонорара, который получает всякий имеющий успех автор! Вы воспользовались ее неопытностью и связали ее условием, отлично зная, что, дав ей вперед денег, вы ее окончательно закабалите, а потом отправите в те норы, где сидят ваши злосчастные авторы, где всякий талант, самобытность, ум подавляются механической работой и где эта девушка обратится в пишущую машину. Фирма «Мизон и К°» — чисто коммерческое предприятие, и вы знаете, что ее продукция далека от гениальности, что она не выносит истинного таланта и гордится своей тупой и нелепой литературой! Это чертовски стыдно, дядя! Молодой человек, голубые глаза которого горели негодующим огнем, — он хорошо знал все дела фирмы, потому что сам немало поработал для нее, — стукнул кулаком по конторке, как бы подтверждая свои слова. — Ты закончил? — спросил его дядя. — Да, я закончил и надеюсь, что изложил все достаточно ясно! — Очень хорошо! Могу я теперь спросить тебя, намерен ли ты придерживаться своих взглядов, своей системы, если допустить, что ты будешь управлять делами нашей фирмы? — Конечно. Никогда и ни за что я не соглашусь поступать бесчестно! — Благодарю. Ты, вероятно, в Оксфорде навострился так красноречиво излагать свои мысли, хотя, по-видимому, ты мало чему научился там! Хорошо. Теперь моя очередь говорить. И я скажу тебе, друг мой, вот что: или ты должен сейчас же извиниться передо мной за твои слова, или ты навсегда покинешь мой дом! — Я не желаю просить извинения за то, что сказал правду! — горячо отвечал Юстас. — Ведь вы никогда не слыхали здесь правды. Все эти бедняги пресмыкаются перед вами и не смеют вымолвить ни слова. Я буду чертовски рад выбраться из вашей лавки. Я ненавижу ее. Здесь требуются большая практика и умение делать деньги всеми нечистыми путями и способами! Мистер Мизон пока сдерживался, по крайней мере внешне. Но последние слова племянника слишком больно задели директора фирмы; до сих пор богатство, деньги защищали великого человека от выслушивания неприятных истин. Лицо мистера Мизона исказилось от злобы, брови грозно нахмурились, бледные губы дрожали от ярости. Несколько секунд он не мог произнести ни единого слова, задыхаясь от волнения. Наконец он заговорил тонким, дрожащим от ярости голосом. — Бесстыжий мерзавец! Неблагодарный найденыш! Не думаешь ли ты, что я спас тебя от голодной смерти и принял в свой дом, когда мой брат предоставил тебе умереть с голоду, — и это было бы самое лучшее для тебя, — для того, чтобы ты нахально являлся ко мне и читал наставления? Нет, юноша! Можешь отправляться вон и вести свои собственные дела, как тебе угодно! Уходи прочь из моего дома и не смей показывать здесь носу, или я прикажу выгнать тебя при первой же попытке явиться сюда! Это еще не все. Мы покончили с тобой, ты никогда не увидишь гроша от меня! Я не могу выносить тебя более… Знаешь ли, что я сделаю еще? Я отправлюсь к старому Тодди, своему адвокату, скажу, чтобы он приготовил новое завещание, и оставлю все свое состояние — около двух миллионов — Аддисону и Роскью. Им это вовсе не нужно, но я это сделаю. Ты не получишь ничего, ни одного фартинга. Теперь, мой милый молодой джентльмен, отправляйтесь вон… Увидим, на что вы будете жить с вашими новыми принципами! — Хорошо, дядя. Я уйду, — спокойно отвечал молодой человек. — Я понимаю, что был причиной нашей ссоры, но не жалею, что сказал вам правду. Мне всегда было тяжело зависеть от вас и вести дела с фирмой «Мизон». Моя мать оставила мне сотню фунтов, и с этими деньгами и с моим образованием я надеюсь как-нибудь прожить. Но мне не хочется расставаться с вами в ссоре, потому что вы были добры ко мне и, как справедливо напомнили сейчас, спасли меня от голодной смерти, когда я осиротел. Я хотел бы пожать вашу руку, прежде чем уйду! — Ага! — усмехнулся дядя. — Вам хотелось бы помириться теперь. Этого не нужно. Уходите! Чтобы ноги вашей не было в моем замке Помпадур! — мистер Мизон сел. — Можете собрать свои вещи и уходите! — Вы не поняли меня! — возразил Юстас с достоинством. — Вероятно, мы никогда больше не увидимся, и мне не хотелось уходить от вас в ссоре. Доброго утра! — Он поклонился и ушел. — Смутился!.. — пробормотал мистер Мизон, когда за племянником закрылась дверь. — Вздумал показывать характер! О, я тоже с норовом и что сказал, то и сделаю! Не дам ему ни одного шиллинга! Пусть убирается ни с чем! Проклятье! Я все же привязан к этому молодцу!.. И все из-за какой-то девчонки Смиссерс! Может быть, он влюблен в нее? Пусть убираются и вместе умирают с голоду! Для нее выгоднее было бы держаться за меня, у нее были бы деньги, — это так же верно, как то, что меня зовут Джонатан Мизон! Она все еще у меня в руках вот по этому контракту, и, если она осмелится где-нибудь напечатать книгу, я раздавлю ее — да, раздавлю, хотя бы это стоило мне пять тысяч! — Он яростно стукнул кулаком по столу. Потом он встал, аккуратно убрал договор с Августой и отправился посетить разные отделения своего заведения, чтобы разнести всех и вся. Клерки фирмы долго вспоминали об этом ужасном дне, затаив дыхание. Ярость Мизона разразилась над подчиненными, подобно злобе кровожадного Гектора против греков, подобно гневу Рамсеса, нещадно давившего своей колесницей полки варваров. В первой комнате он поймал злосчастного клерка, жующего сандвичи. Не задумываясь, он схватил сандвичи и вышвырнул их за окно. — Вы полагаете, я плачу вам за то, чтобы вы приходили сюда есть сандвичи? — резко закричал он. — Можете идти и посмотреть, как они валяются там. И не трудитесь возвращаться, негодный лентяй! Вон! Немедленно! Несчастный ушел. Мизон оглядел других клерков и, предупредив их, чтобы они были осторожнее и усерднее, иначе последуют за выгнанным клерком, пошел дальше своим разрушительным путем. Встретив редактора Номер семь, который нес ему какой-то контракт для подписи, мистер Мизон остановился и взглянул в бумагу. — Зачем вы несете мне это? — спросил он. — Это никуда не годится! — Я написал точно так, как вы мне диктовали вчера, сэр! — возразил редактор. — Как вы смеете противоречить мне? — заревел Мизон. — Смотрите сюда, Номер седьмой. Ни слова! Вам уплатят до конца месяца, и если вам угодно будет оставить должность, я согласен на это! Доброго утра, Номер седьмой, доброго утра! Он пересек дворик, в углу которого наткнулся на маленького мальчика-бродягу, который сладко спал в своем уединении. Хозяин ткнул его своей тростью и затем выгнал вон. Эта дикая охота за жертвами продолжалась еще полчаса, пока мистер Мизон не изнемог. На следующее утро поразительная новость произвела настоящую сенсацию среди служащих: одиннадцать вакансий освободилось в фирме «Мизон». Пара стаканов доброго хереса и несколько сандвичей, которые мистер Мизон проглотил в соседнем ресторане, несколько успокоили его. Затем он уселся в кеб и приказал везти себя к мистеру Тодди. — Дома мистер Тодди? — спросил он клерка, который вышел, низко кланяясь богатейшему из обитателей Бирмингема. — Мистер Тодди освободится через несколько минут! — ответил он. — Не угодно ли газету? — К черту газету! — последовал вежливый ответ. — Я пришел сюда не газеты читать. Скажите мистеру Тодди, что мне нужно видеть его немедленно, или я уйду! — Мне очень жаль, сэр!.. — начал клерк. Мистер Мизон подскочил и схватил шляпу. — Ну-с, — произнес он, — что же дальше? — О, сэр, прошу вас присесть! — отвечал встревоженный управляющий: тяжело было бы упустить из рук дела с фирмой «Мизон». — Я сейчас скажу мистеру Тодди! Он исчез. Сейчас же после его ухода какая-то старая леди выползла из внутренних комнат, держа в руке ридикюль, наполненный бумагами, и громко заявляя, что у нее голова идет кругом. Бедная душа восемнадцать раз меняла свое завещание и чрезмерно утомилась, созерцая почтенного юриста в его конторе. Через минуту мистер Тодди тепло и восторженно приветствовал мистера Мизона. Адвокат был маленьким человечком с нервным лицом, который весь трясся при разговоре и брызгал слюной. — Как поживаете, дорогой сэр?Восхищен, что вижу вас… — начал он с ужимками и внезапно умолк, заметив зловещее выражение лица великого человека. — Уверяю вас, мне очень жаль, что заставил вас ждать, дорогой сэр. Я был занят с превосходным завещателем! Тут он подпрыгнул и попятился, потому что мистер Мизон вдруг закричал свирепым голосом: — К черту ваших завещателей! Я тоже завещатель и не привык ждать в передней, как какой-нибудь клерк или автор! Берегитесь же, Тодди! Смотрите, чтобы впредь этого не было! — Уверяю вас, мне очень досадно… Обстоятельства… — Ну, теперь мне нужно от вас мое завещание! — Ах, завещание! Простите меня… Я несколько смущен всем происшедшим! Вы действуете так… э-э… решительно! Он опять умолк, потому что мистер Мизон устремил на него свой свирепый взгляд и прошел в соседнюю комнату. — Идиот! — бормотал Мизон. — Я его проучу, если он не будет почтительнее! Клянусь Иовом! Я сам не знаю, отчего не заведу себе собственного, постоянного юриста! Я мог бы платить ему триста фунтов в год, между тем как старому Тодди я плачу почти две тысячи фунтов!.. Пусть меня повесят, если я не сделаю этого. Эта маленькая стрекоза подпрыгнет при одном моем заявлении! — Он захохотал при этой мысли. Мистер Тодди вернулся с завещанием, и, прежде чем успел раскрыть рот, Мизон коротко приказал ему прочесть завещание. Адвокат повиновался. Оно было коротким. За исключением нескольких имений, на сумму около двадцати тысяч фунтов, весь капитал и все остальное имущество, включая свой процент в фирме и замок Помпадур, завещатель оставлял своему племяннику Юстасу Мизону. — Хорошо! — сказал великий человек, когда документ был прочитан. — Дайте мне его! Мистер Тодди повиновался и передал документ патрону, который тотчас же разорвал его в клочки своими сильными пальцами и довершил его уничтожение острыми белыми зубами. Сделав это, мистер Мизон скомкал клочки, бросил их на пол и затоптал ногами с такой злобой, что маленький мистер Тодди ужаснулся. — Конец старой привязанности! — мрачно произнес директор фирмы. — Надо составить новое завещание. Берите перо и слушайте! Мистер Тодди послушно взял перо и приготовился писать. Я завещаю все свое состояние, равное двум миллионам, своим компаньонам Альфреду Тому Аддисону и Сесимо Спенсеру Роскью, которые должны разделить его пополам. — Великий Боже! — вскричал мистер Тодди. — Зачем же вы хотите обидеть вашего племянника… и других наследников?; — добавил он, подумав. — Я так хочу! Это касается только моего племянника. Остальные наследники получат свое! — Знаете, — продолжал до крайности изумленный маленький человечек, — это такая постыдная вещь, какой я еще никогда не слыхал! — В самом деле? Позвольте мне спросить вас, мистер Тодди, кому принадлежит мое состояние, вам или мне? Не трудитесь отвечать, подождите! Или вы сейчас же напишите это завещание, или проститесь с двумя тысячами фунтов в год. Выбирайте! Мистер Тодди выбирал недолго. Через час завещание было написано и подписано. — Теперь, — сказал мистер Мизон, обращаясь к мистеру Тодди и главному клерку и взяв перо, чтобы поставить свою подпись, — помните, вы оба, что, составляя завещание, я находился в здравом уме и твердой памяти! Будьте свидетелями! Наступил вечер. Денежный царек Мизон сидел за своим одиноким обедом в столовой замка Помпадур. Обед был подан. Напудренный лакей вышел своей величественной походкой, и главный дворецкий поставил несколько графинов дорогого вина перед своим одиноко сидевшим господином. Обед носил отпечаток меланхолии. Дорогие блюда, стоимость которых могла бы позволить не один месяц кормиться бедной семье, приносились и ставились перед мистером Мизоном, который находил невкусным одно, ковырял вилкой другое и отсылал прочь. В этот вечер у богача не было аппетита. — Джонстон! — подозвал он дворецкого, когда лакей ушел. — Мистер Юстас был здесь? — Да, сэр! — И ушел? — Да, сэр. Он собрал свои вещи, взял кеб и уехал! — Куда? — Я не знаю, сэр. Он велел кучеру ехать в город! — Оставил он записку? — Нет, сэр, но он просил меня передать вам, что не будет беспокоить вас и что очень сожалеет, что расстался с вами в ссоре! — Почему вы не сказали мне этого раньше? — Потому что мистер Юстас приказал мне сказать вам это только в том случае, если вы спросите о нем! — Хорошо… Джонстон! — Что угодно, сэр? — Отдайте приказание, чтобы имя мистера Юстаса никогда не произносилось в моем доме! Тот, кто произнесет его имя, будет немедленно уволен! — Слушаю, сэр! Джонстон ушел. Мистер Мизон посмотрел вокруг себя. Хрусталь, серебро, белоснежная скатерть, дорогие цветы. Он взглянул на стены, увешанные дорогими произведениями искусства, на зеркала, на мраморные камины, в которых горел яркий огонь (шел ноябрь), на нежные, пушистые ковры и задумался. Все это принадлежит ему. Он тяжело вздохнул, и его грубое лицо омрачилось. Зачем нужно ему все это? У него нет семьи, и эта роскошь не доставляет ему удовольствия. Его наслаждение — наживать деньги, но не тратить их. Он чувствовал себя счастливым, когда сидел у себя в конторе, заправляя делами собственной фирмы и прибавляя соверен за совереном к своему богатству. Все сорок лет это была его единственная радость… Его мысли перешли на племянника, единственного сына его родного брата, которого он когда-то любил… Мизон снова вздохнул. Да, он по-своему привязался к мальчику, и ему было тяжело терять его. Но Юстас предал его и, что хуже всего, высказал ему правду, которой он не терпел. Он сам знал, что поступает нечестно, но не мог выносить, чтобы кто-то говорил ему об этом! Мистер Мизон сам по себе вовсе не был дурным человеком. Да и нет людей абсолютно дурных! Он был грубый, вульгарный коммерсант, ожесточившийся в долгой погоне за наживой, в своем поклонении деньгам. В груди его жили человеческие чувства, как у всех людей, но он не мог выносить возражений и всегда старался отомстить за обиду. Сидя теперь в одиночестве за столом, среди окружающей роскоши, он понял, что месть не приносит счастья, но все-таки не хотел переменить своего намерения. Мистер Мизон никогда не менял раз принятого решения. Он был верен самому себе.Глава 3
АВГУСТА СМИССЕРС И ЕЕ СЕСТРЕНКА
Покинув дом Мизона, Августа печально направилась домой. Отец Августы был священник, каких много на свете, не особенно избалованный жизнью. Когда мистер Смиссерс, или, вернее, преподобный Джеймс Смиссерс, умер, после него остались вдова и двое детей, — Августа, четырнадцати лет, и Дженни, четырех лет. Кроме них, было еще два мальчика, но они ушли в страну теней еще раньше отца. К счастью, миссис Смиссерс обладала суммой в семь тысяч фунтов, которая была помещена под хорошие проценты и приносила ей триста пятьдесят фунтов в год. Чтобы как можно лучше поместить свой доход и дать дочерям образование, которое позволяли обстоятельства, миссис Смиссерс после смерти мужа переселилась из деревни, где он в продолжение нескольких лет был викарием, в Бирмингем. Здесь она прожила целых пять лет в полнейшем одиночестве и внезапно умерла, оставив беспомощными сиротами двух дочерей, девятнадцати и девяти лет. Миссис Смиссерс была бережливой женщиной. После ее смерти, по уплате всех долгов, дочерям осталось около шестисот фунтов на прожитие, и больше ничего. Августа, с юных лет обнаружившая большую наклонность к литературе, вскоре после смерти матери напечатала на собственные средства свою первую книгу. Предприятие оказалось неудачным и обошлось ей в пятьдесят два фунта. Спустя некоторое время, оправившись от неудачи, Августа написала книгу «Обет Джемимы», изданную фирмой «Мизон». Книга имела большой успех, но Августа ровно Ничего не выиграла. Три года прошло со дня смерти миссис Смиссерс, и от шестисот фунтов осталось немного, хотя сестры жили очень экономно, в двух маленьких комнатках. Издержки их были огромны из-за серьезной легочной болезни маленькой Дженни. В то самое утро, когда Августа была у мистера Мизона, она видела доктора, лечившего Дженни, который сказал ей, что ребенка надо увезти куда-нибудь в теплый климат, потому что иначе она не переживет зиму… Везти Дженни в теплый климат! С таким же успехом доктор мог ей посоветовать отвезти ее на Луну! У нее нет денег, она не знает, как ей обернуться! Дай Бог никому не видеть любимое существо умирающим, не имея при этом денег, чтобы спасти его! В таких тяжелых обстоятельствах Августа решилась обратиться к Мизону, который нажил сотни на ее книге и заплатил ей всего пятьдесят фунтов. Выйдя из конторы Мизона, Августа вспомнила о своем банкире. Быть может, он выдаст ей вперед какую-нибудь сумму? Это была тяжелая задача, но Августа решила попробовать, отправилась в банк и спросила управляющего. Его не было на месте, он должен было вернуться к трем часам. Августа зашла в ближайший магазин, съела пирожное, выпила стакан молока, подождала некоторое время, потом прогуливалась по улицам до трех часов. В назначенный час она была в банке, в отдельной приемной управляющего. Сухой, неприятного вида человек сидел перед столом. Это был не тот господин, которого Августа видела раньше. Сердце ее сжалось. Она изложила ему свою просьбу. Управляющий вежливо, с выражением сочувствия на лице выслушал ее, после чего заявил, что выдавать отдельные ссуды — не в обычае их банка, и снова учтиво поклонился ей. Было около четырех часов пополудни. Сырой туман повис над улицами Бирмингема. Подобная погода была способна привести в уныние даже счастливейшего из смертных. Августа, мокрая, усталая, чуть не плача добралась до своей квартиры. Она вошла в комнату очень тихо, потому что единственная служанка встретила ее у дверей и сказала, что мисс Дженни после обеда сильно кашляла, а потом заснула. В камине горел небольшой огонек, так как уголь экономили, заменяя его двумя — тремя поленьями, а на письменном столе Августы в отдаленном углу комнаты горела парафиновая лампа. Недалеко от камина, на софе, крытой красным репсом, лежала маленькая девочка; ее тоненькая и воздушная фигурка скорее походила на призрак. Это была спящая Дженни, сестра Августы. Августа украдкой нежно взглянула на нее. Маленькое нежное личико девочки, оттененное длинными ресницами, с красивым носиком и кротко очерченным маленьким ртом, поражало бледностью и худобой. Сон смягчил выражение страдания, и легкая улыбка покоилась на ее лице. Августа посмотрела на сестру и в отчаянии сжала руки, спазм сдавил ей горло, и глубокие серые глаза наполнились слезами. Где достать денег, чтобы спасти сестру? Год тому назад один богатый человек, который был противен ей, предлагал Августе стать его женой. Она ничего не ответила ему. Он уехал, но если бы он был здесь, в Бирмингеме, она непременно вышла бы за него замуж! Да, она сделалась бы женой богатого человека ради его денег, чтобы спасти сестренку! Она не хочет и думать о себе, когда ее дорогая девочка умирает — умирает, потому что у нее нет двухсот фунтов. Дженни проснулась и протянула к сестре свои ручки. — Наконец-то ты вернулась, дорогая! — произнесла она нежным детским голосом. — Мне было скучно без тебя! Какая ты мокрая! Сними скорее свой жакет, Густи, иначе ты заболеешь, как я… — Тяжелейший приступ кашля прервал ее слова. Она кашляла так сильно, что все ее тело содрогалось и трепетало. Августа отвернулась, сняла жакет, села на софу около сестры и взяла ее тоненькую ручку. — Ну, Густи, как ты договорилась с печатным дьяволом? — (так невежливо Дженни прозвала мистера Мизона). — Даст он тебе денег? — Нет, дорогая моя, мы поссорились, и я ушла! — Значит, мы не можем уехать отсюда? Августа была не в силах ответить и только кивнула головой. Дженни уткнула лицо в подушку и зарыдала. — Густи, дорогая моя! — подняла она голову. — Не сердись, мне надо поговорить с тобой! Выслушай меня, Густи, милая, ангел мой! О, Густи, ты не знаешь, как горячо я тебя люблю! Бесполезно бороться с моей болезнью, я должна умереть. Хотя мне только двенадцать лет и ты считаешь меня ребенком, но я все понимаю! Болезнь сделала меня старой! — добавила Дженни после приступа кашля. — Я чувствую себя так, словно мне пятьдесят лет. Я теперь лишнее бремя, лишняя забота для тебя, дорогая моя! — Не говори этого, Дженни, не говори! — вскричала Августа. — Ты убиваешь меня! Дженни положила свою горячую руку на плечо сестры. — Слушай, дорогая Густи! Я знаю, что умру. Отчего ты так боишься этого? Разве мне будет там хуже, чем здесь? Разве я буду так страдать, как страдаю сейчас, когда вижу твое горе, твои слезы? Как нехорошо больным здесь, на земле! Самое лучшее, что было в нашей жизни за все эти годы, — это твоя книга, Густи. Когда я чувствую себя плохо, когда у меня болит грудь, я начинаю думать о твоих сочинениях… У тебя большой талант, Густи, — истинный талант, и когда-нибудь ты станешь знаменитостью. У тебя могут отнять деньги, но никто не отнимет твоего таланта! Да, дорогая моя сестра, я знаю, что ты будешь великой писательницей вопреки всем Мизонам и К°. И когда у тебя будут и слава, и богатство и ты станешь еще красивее, чем теперь, когда все будут преклоняться перед тобой, я знаю, что ты вспомнишь обо мне, потому что твое сердце не может забыть меня, и о том, что я — за много лет вперед — говорила тебе перед своей смертью! Девочка, говорившая все это с удивительной уверенностью и серьезностью для своих лет, снова закашлялась. Августа опустилась на колени перед ней, сжала ее в объятиях и умоляла ее не говорить о смерти. Дженни прижала к своей груди золотоволосую голову сестры. — Хорошо, Густи, я не буду говорить об этом! — сказала она. — Но зачем скрывать правду? Я устала, измучилась здесь… Но мы горячо любили друг друга, и, может быть, мы могли бы… — Доброе маленькое сердечко девочки сжалось от боли. Подавленные предчувствием близкой разлуки, сестры обнялись и горько зарыдали. В дверь постучали. Августа отвернулась, чтобы скрыть свои слезы. Это была служанка, которая принесла чай. Августа выпила немного чаю и съела маленький кусочек хлеба с маслом. События дня лишили ее всякого аппетита. Дженни выпила чашку молока, но есть не стала. Когда служанка убрала чай и ушла, Дженни заговорила снова. — Густи, — попросила она, — мне хочется, чтобы ты уложила меня в постель и прочла мне кусочек из «Обета Джемимы», знаешь, когда бедная Джемима умирает! Это прелесть как хорошо, мне хотелось бы еще послушать! Августа исполнила ее желание, взяла рукопись и начала читать. В самом деле, это была самая сильная и патетическая сцена в книге, способная глубоко растрогать читателя. Августа дочитала последнюю фразу: «И Джемима протянула ему руку и сказала: прощай! Она сдержала свое обещание и, счастливая этим, пошла спать!» — А! — прошептала голубоглазая Дженни, внимательно слушавшая чтение. — Я хочу сделать так же, как Джемима. Хотя я не давала обета, но могу тоже сказать: «Прощай!» — и идти спать! Дженни задремала… Августа с глубокой нежностью смотрела на больную сестру. — Она умрет!.. — прошептала бедная девушка. — Она умрет, потому что я не могу увезти ее отсюда. Как мне достать денег? Как достать? Она закрыла лицо руками и погрузилась в тяжелые думы. Вдруг ей пришла в голову новая мысль. Она может опять пойти к Мизону и продать ему за сто фунтов рукопись новой книги. Конечно, этого мало, путешествие с больной сестрой потребует больших расходов. Она заключит контракт и станет работать, как другие авторы. Мизон, наверное, будет доволен возможностью закабалить ее. Да, конечно, это тяжелое, позорное рабство! Августа вздрогнула при мысли о том, что ее талант погибнет при такой работе, — работе, которая налагает тяжкое клеймо и уничтожает всякую искру оригинальности, которая превращает человека в машину. Да, это ужасно, это разобьет ее сердце, но девушка была готова на все, лишь бы достать двести фунтов и спасти сестру. Мистер Мизон станет торговаться, но, если он согласится заключить с ней контракт на несколько лет, то, вероятно, выдаст ей вперед еще сто фунтов. Таким образом, продав рукопись, она будет иметь в руках желанные две сотни. Решившись принести эту жертву, Августа тяжело вздохнула и легла спать, усталая, с тяжестью на сердце. Она заснула. Когда она спала, какой-то призрак, которого она не могла видеть, стоял у кровати Дженни, и сильный голос призывал к себе из тьмы. Смерть вошла в эту скромную комнату. Еще одна человеческая душа покончила счеты с жизнью и навсегда покинула землю! На рассвете Августа проснулась. Ей показалось, что какое-то холодное дыхание повеяло ей в лицо. Она прислушалась. Кровать Дженни стояла у противоположной стены узкой комнаты, и она могла слышать ясно все ее движения, так как больная девочка спала беспокойно. Теперь она не слышала даже дыхания сестры. Тишина стояла мертвая, подавляющая. Августа соскользнула с постели и зажгла свечу. Она подошла со свечой к белой кроватке сестры. Дженни лежала на боку, бледное лицо ее покоилось на бледной руке. Глаза были широко раскрыты. Когда Августа поднесла свечу к ее лицу, Дженни не шевельнулась, не закрыла глаз. Ее рука, о Боже, ее пальцы были холодны как лед! Августа поняла все. В отчаянии подняв руки, полная ужаса, она громко закричала…Глава 4
РЕШЕНИЕ АВГУСТЫ
На следующий день после смерти маленькой Дженни Смиссерс мистер Юстас Мизон прогуливался по Бирмингему, засунув руки в карманы, с видом нерешительности на приятном, благородном лице. Юстас Мизон был не особенно убит переменой своих жизненных обстоятельств. Это был молодой и довольно беззаботный джентльмен с веселым характером. У него не было ни жены, ни детей, и он хорошо знал, что сумеет как-нибудь прожить со своей сотней фунтов и полученным образованием. Его нимало не смущали разрыв с почтенным дядюшкой и потеря огромного наследства. Забрав свое имущество в замке Помпадур и поселившись в отеле, Юстас больше не хотел и вспоминать о дяде. Зато он много думал о красивых серых глазах Августы Смиссерс, о ее характере, о книге «Обет Джемимы». Эта книга была теперь одним из лучших популярных произведений и пользовалась заслуженным успехом, а Юстас резко отличался от других молодых людей своей начитанностью. В конце концов, постоянно вспоминая о глазах Августы, о ее книге, о слезах, Юстас Мизон начал ощущать что-то вроде любви к ней. Прогуливаясь по улицам Бирмингема, он встретил клерка, которого видел в фирме Мизона и который был уволен в один день с ним, и узнал от него адрес мисс Смиссерс. Юстас продолжал свой путь и добрался до тихой улицы, где жила Августа. Увидев дом, указанный клерком, Юстас позвонил. Служанка отворила дверь и с любопытством посмотрела на него. Мисс Смиссерс была дома, да! Служанка проводила молодого человека до полуоткрытой двери и внезапно исчезла. Юстас заглянул в дверь и заметил Августу, одетую в черное платье, сидевшую на стуле со сложенными руками. Бледное лицо ее казалось каменным, глаза блуждали. Юстас в нерешительности стоял у двери, как вдруг зонтик выскользнул у него из руки и с шумом упал на пол. Августа встала и, увидев молодого человека, сделала несколько шагов ему навстречу, изумленно вглядываясь в его лицо. — Прошу извинения! — пробормотал Юстас. — Я вошел сюда без предупреждения, потому что ваша служанка убежала… Я — Юстас Мизон! Лицо Августы омрачилось. — Если вы пришли ко мне от издательской фирмы «Мизон и К°»… — произнесла она и вдруг умолкла, как будто пораженная новой мыслью. — О нет! — возразил Юстас. — Я не имею ничего общего с «Мизон и К°», кроме имени. Я пришел к вам, чтобы выразить свое сожаление о том, что дядя так дурно поступил с вами. Вспомните, я был тогда в конторе! — Да, да, — ответила Августа, краснея, — вы были так добры ко мне! — Видите ли, — продолжал Юстас, — я поссорился со своим дядюшкой, лишился места и его наследства, так как он обещал не оставить мне ни шиллинга! Вероятно, теперь, — добавил молодой человек задумчиво, — он уже уничтожил свое завещание. — Вы хотите сказать, мистер Мизон, что вы поссорились с дядей из-за меня, из-за моей книги? — Вот именно. Ну, так что же из этого? — пожал плечами Юстас. — Это рыцарский поступок с вашей стороны! — ответила молодая девушка, смотря на него с любопытством. Она была удивлена, встретив рыцаря, способного ломать копья из-за нее. — Мне совестно вспомнить, что я устроила такую сцену в конторе, — произнесла она после минутного молчания, — но мне страшно нужны были деньги… Теперь уже не то, теперь — все кончено! В ее голосе звучали ноты такого безысходного горя! Это еще больше возбудило интерес молодого человека. Зачем ей так нужны были деньги и почему теперь нужда в них отпала? — Мне очень жаль, — сказал он, — но скажите мне, зачем вам нужно было столько денег? Августа взглянула на него. — Если вам угодно, я покажу вам… — тихо произнесла она. Юстас поклонился, ожидая, что будет дальше. Августа подошла к боковой двери, повернула ручку и вошла в маленькую комнату. Молодой человек последовал за ней. Это была спальня сестер. Солнечные лучи озаряли чистенькую бедную комнатку, скромную меблировку, железную кровать и что-то лежащее на ней, покрытое простыней. Августа подошла к кровати, тихо отвернула простыню и открыла окаймленное золотистыми волосами, прелестное личико маленькой Дженни, загадочно улыбавшейся на смертном одре. Юстас отступил назад с громким восклицанием. Он не был подготовлен к такому зрелищу, и видение смерти глубоко поразило его. Августа, уже свыкшаяся с мыслью о смерти Дженни, не подумала, что внезапно подвести живого человека к телу умершего, не предупредив его, — не особенно любезный и тактичный поступок. Вид смерти приводит в ужас каждого живого человека, особенно молодого! Юность и сила — жизнерадостны, но смерть сгоняет улыбку веселья и молодости и напоминает, что все люди смертны! — Прошу извинить меня, — прошептала Августа, поняв свою бестактность, — я забыла… вы ничего не знаете… вас поразило… Простите меня! — Кто эта девочка? — спросил Юстас, с трудом переводя дыхание. — Моя сестра! — отвечала Августа. — Мне нужны были деньги, чтобы спасти ее от смерти! Когда я сказала ей, что не смогла достать денег, она огорчилась и умерла. Ваш дядя убил мою сестренку! Пойдемте! Пораженный до глубины души, Юстас последовал за хозяйкой в гостиную. Несколько опомнившись, он принялся извиняться, что побеспокоил ее в такую тяжелую минуту. — Я рада видеть вас! — проговорила Августа искренне. — Я не видела за эти дни никого, кроме доктора и гробовщика. Ужасно тяжело сидеть постоянно в одиночестве, лицом к лицу со своей тоской и скорбью! Если бы я не была так глупа и не подписала бы контракт с мистером Мизоном, я могла бы продать свою новую книгу и увезти отсюда Дженни. Тогда она, быть может, и поправилась бы. Теперь со всем этим покончено и помочь ничему нельзя! — Если бы я знал! — воскликнул Юстас. — Я одолжил бы вам денег! У меня есть сто пятьдесят фунтов! — Вы очень добры! — тихо отозвалась Августа. — Об этом не стоит и говорить, поздно! Поздно! Юстас встал, раскланялся и ушел. Только на улице он вспомнил, что не спросил Августу, что она намерена предпринять. Вид умершей Дженни так поразил его, что все вылетело у него из головы. Он утешал себя мыслью, что может через неделю, уже после похорон, зайти к ней. Через два дня Августа проводила останки своей любимой сестры к месту вечного успокоения, вернулась домой пешком, села перед камином и задумалась. Что делать ей теперь? Оставаться здесь невозможно! Ей будет невыносимо тяжело смотреть на пустую софу, где постоянно лежала бедная Дженни. Куда ей деться и что предпринять? Она могла бы писать, но контракт с Мизоном — серьезное препятствие, так как обязывает ее отдавать ему всякую литературную работу. Написать об этом в газетах — значило бы еще более раздражить злобную натуру Мизона. Конечно, она может прожить, получая семь процентов с книги, но согласится скорее умереть с голоду, чем дать возможность Мизону эксплуатировать свой труд. Раз и навсегда решив, что не пойдет к Мизону, Августа начала думать, как бы ей устроиться иначе. Перспектива была невеселая! Литературный успех не принес Августе практической выгоды, потому что в Англии на него смотрят иначе, чем в других странах. Британец питает в душе некоторое презрение — если не к литературе, то к авторам. В его понятии литература нераздельна с бедностью и чердаком. Поклоняясь деньгам, англичане презирают литературу. Дерево узнается по плодам! — говорят они. Нельзя сказать, чтобы Англия не ценила таланта. Все человечество преклоняется перед талантом, хотя боится его и завидует ему, и больше думает о мертвом гении, чем о живом. Оно оплакивает мертвеца так, что камни могут растрогаться. Несмотря на огромный успех своей книги, Августе некуда было обратиться за помощью. У нее не было литературных знакомств. Двое писателей из Лондона да несколько незнакомых людей прислали ей благоприятные отзывы на ее книгу. Этим все и ограничилось. Если бы она жила в Лондоне, тогда все было бы иначе, но, к несчастью, она не могла жить там. Чем больше Августа думала, тем мрачнее казалось ей будущее. Но вдруг ее осенило: отчего бы ей совсем не уехать из Англии? Здесь ей нечего делать. В Новой Зеландии у нее есть двоюродный брат-священник, которого она никогда не видела. Он читал ее книгу и по этому поводу прислал ей очень милое письмо. Одну выгоду принесла ей ее книга — она приобрела ей друзей. Этот кузен, наверное, примет ее к себе, хотя бы на короткое время, и она найдет возможность писать и зарабатывать себе кусок хлеба в другой стране, где мистер Мизон не будет властен над ней! Почему бы ей не поехать туда? У нее осталось еще двадцать фунтов, а когда она продаст скудную меблировку и книги, денег вполне хватит для того, чтобы купить билет второго класса и еще оставить себе немного на дорогу. В крайнем случае, если даже все задуманное не осуществится, ей не будет хуже, чем здесь! В этот же вечер она села писать письмо своему двоюродному брату-священнику.Глава 5
НА КОРАБЛЕ «КАНЧАРО»
Во вторник вечером огромный пароход стоял в гавани Темзы, готовый к отплытию. Это был описанный во всех газетах «Канчаро», который поражал силой своих машин, красотой конструкции и чрезвычайной быстротой хода — восемнадцать узлов. «Малыш Канчаро», как насмешливо называли его моряки, представлял собой последнее слово техники и искусства. Все в нем — от электрического освещения до паровых труб — было сделано по новой системе. Этот пароход по роскоши убранства походил на великолепный дворец, а по удобству — на лучший американский отель. Удивительно красивый с виду, он, казалось, собирал теперь всю свою силу и энергию для предстоящего пути. Тысячи и тысячи миль отделяли его от той гавани, где его могучее сердце на время перестанет биться и будет отдыхать! Наконец он двинулся, все скорее и скорее. Винты заработали… Вода забурлила у бортов… Вперед! Выпустив огромный столб дыма, «Канчаро» быстро побежал вперед… Береговая линия Англии слабо виднелась вдали, пока окончательно не исчезла… Высокая, стройная девушка, стоявшая на носу корабля, задумчиво смотрела на воду. Когда берег Англии исчез из виду, Августа повернулась и пошла в каюту. Она была очень печальна. Разумеется, ей нечего было особенно жалеть в Англии. Маленькая могила с белым крестом — это все, что осталось там. Друзей у ней не было, плакать было некому. Невольно вспоминалось ей милое, красивое лицо Юстаса Мизона, его доброта. С тоской Августа думала, что никогда не увидит этого приятного, симпатичного человека. Почему он не пришел еще повидаться с ней? Она хотела бы проститься с ним и сказать ему о своем отъезде. Написать ему? Августа не знала его адреса. И зачем писать? Всему конец. Англия осталась позади. В то время, когда «Канчаро» мчался уже на всех парах, Юстас Мизон стоял у двери дома, в котором до отъезда жила Августа. — Уехала! — повторил он ответ отворившей ему служанки. — Мисс Смиссерс уехала в Новую Зеландию? Ее адрес? — Она не оставила адреса, сэр, — мрачно проговорила служанка, — и уехала два дня тому назад на первом пароходе из Лондона! — Как называется этот пароход? — спросил Юстас в отчаянии. — Кан… Кон… Кончер!.. — ответила служанка и захлопнула дверь перед его носом. Бедный Юстас! Он поехал в Лондон, пытаясь поступить куда-нибудь на службу, и после многих затруднений ему удалось получить место лектора по латинскому, французскому и староанглийскому языкам в одном общественном учреждении с окладом в сто восемьдесят фунтов в год. Затем он помчался обратно в Бирмингем, чтобы повидать мисс Смиссерс, которую глубоко и страстно полюбил. Юстас решил употребить все усилия, чтобы почаще видеть Августу, и, если будет возможно, открыть ей свою любовь. Бедный юноша! Приехать из Лондона в Бирмингем ради красивых серых глаз и узнать, что обладательница этих глаз уехала в Новую Зеландию, не оставив ему ни словечка, ни адреса! Это было очень тяжело! Но что оставалось делать… Юстас снова отправился на вокзал, и всю дорогу до Лондона ворчал и сокрушался. Августа, удаляющаяся на пароходе «Канчаро», совершенно не подозревала о любви Юстаса. Подчиняясь какому-то болезненному ощущению, она спустилась вниз, в каюту. В эту минуту какой-то человек грубоватого вида обратился к ней и сказал, что, если она желает в последний раз увидеть родной Альбион, ей надо выйти на палубу и смотреть в сторону гавани — тогда она увидит береговые огни! Желая побороть приступы морской болезни, Августа послушалась и, выйдя на палубу, долго смотрела на мелькавшие вдали огоньки, посылая им «прости» через громадное водное пространство. Августа стояла, слегка придерживаясь, потому что пароход начало качать. Вдруг она увидела толстого человека, который бежал, шатаясь и держась за перила, очевидно, совершенно больной. Испуганная, она следила за ним глазами. Вдруг человек упал и со слабым стоном покатился в сторону борта. Повинуясь чувству сострадания, молодая девушка бросилась к нему и протянула ему руку. С ее помощью больной поднялся на ноги. В слабом сумеречном свете Августа ясно различила толстое, грубое лицо мистера Мизона. Да, несомненно, это был ее враг, человек, являвшийся причиной смерти ее любимой сестры. С восклицанием ужаса и отвращения Августа отдернула руку. — О-о! Мисс Джемима Смиссерс! — сказал мистер Мизон, пытаясь придать былую важность голосу и манерам. — Что вы тут делаете? — Я еду в Новую Зеландию, мистер Мизон, — отвечала она, — и не ожидала, что буду иметь удовольствие ехать в вашем обществе! — Вы едете в Новую Зеландию? Я тоже еду туда, потом в Австралию! Что ж, вы вздумали бежать от нашего контракта? Это нехорошо, мисс, нехорошо! У нас есть агенты в Новой Зеландии и отделение в Австралии… Если вы хотели поискать что-нибудь лучше фирмы «Мизон»… Пожалуйста!.. О Небо! Я чувствую страшную боль во всех членах! — Не беспокойтесь, мистер Мизон! — продолжала она. — Я не буду теперь печатать книг! — Очень жаль, — возразил он, — потому что на вашу работу есть спрос! Издатель может нажить деньги на ней! Надеюсь, что вы путешествуете во втором классе, мисс Смиссерс, так что мы едва ли еще увидимся! Для человека в моем положении неудобно знакомство с пассажирами второго класса, особенно с молодой дамой-писательницей! — Не бойтесь, мистер Мизон! — заметила Августа. — Я не имею ни малейшего желания рекламировать наше знакомство! И она ушла, не желая видеть своего врага, который начал стонать и охать. Раздумывая об этой странной, неожиданной встрече, она ушла в каюту, где и оставалась, больная и беспомощная, целых три дня. На четвертое утро Августа появилась на палубе, совершенно оправившись и с превосходным аппетитом. Позавтракав, она уселась на первое свободное место. Ей не хотелось встречаться с мистером Мизоном и в то же время хотелось избежать рассказов своей компаньонки по каюте. Эта особа смертельно надоела ей, рассказывая разные скандальные истории о мужчинах и женщинах, которых она знала. Эти рассказы, может быть, и были интересны, но всегда однообразны и злоязычны. Августа сидела и смотрела на белые гребни волн, как вдруг на палубе появился человек в блестящей форме, с книгой в руке. Сначала, по этой блестящей форме, Августа приняла его за капитана, потом разглядела, что это был только его помощник. — Будьте добры, мисс, — произнес он, подходя к девушке и сняв шляпу, — капитан просил меня засвидетельствовать вам свое почтение и узнать, вы ли та молодая дама, которая написала эту книгу? Августа взглянула на книгу. Это был «Обет Джемимы». Она ответила утвердительно, и помощник капитана исчез. В это утро ее ожидал еще один сюрприз. Снова появился помощник капитана, дотронулся до шляпы и сказал, что имеет приказание капитана перенести ее вещи и поселить ее в другой каюте. Сначала Августа отказалась, обладая чисто британским упрямством; она не выносила чужих приказаний и чужого вмешательства. — Приказано капитаном, мисс! — возразил помощник. Молодая девушка согласилась и не пожалела об этом. Она очутилась в прелестной каюте в передней части парохода, недалеко от машин. Вероятно, это была офицерская каюта, потому что над кроватью висело изображение молодой дамы, несколько полок с книгами, было несколько телескопов и других инструментов. — Разве это моя каюта? — спросила Августа. — Да, мисс! Так приказал капитан. Это каюта мистера Джонса, второго офицера. Он поместился с мистером Томасом и уступил каюту вам! — Это очень любезно со стороны мистера Джонса! — пробормотала Августа, недоумевая о причине такой перемены. Но ей суждено было еще удивляться в этот день. Через несколько минут, когда она собиралась уходить из каюты, вошел джентльмен в капитанской форме. За ним следовала красивая, хорошо одетая дама. — Прошу извинения, — произнес он с поклоном, — мисс Смиссерс, не так ли? — Да! — Я — капитан Элтон. Надеюсь, вам понравилась ваша новая каюта? Позвольте мне представить вам леди Холмерст, супругу новозеландского губернатора. Леди Холмерст, вот мисс Смиссерс, сочинение которой вас так заинтересовало! — О, я очень счастлива познакомиться с мисс Смиссерс! — сказала леди. — Капитан Элтон обещал мне, что мы будем сидеть рядом за обедом, и у нас будет время поговорить. Я была очарована вашей книгой! Прочла ее три раза. А ведь это много для светской женщины! — Я думаю, что тут вышло недоразумение, — произнесла Августа робко, с краской на лице. — Я — пассажирка второго класса на пароходе и не могу обедать вместе с вами, леди Холмерст! — Никакого недоразумения, — отвечал капитан, весело смеясь. — Вы — моя гостья, мисс Смиссерс, и, пожалуйста, без возражений! — Когда мы имеем счастье встретиться в жизни с истинным талантом, мы не должны упускать случая выказать ему наше почтение! — добавила леди Холмерст, грациозно наклонив голову. Августа чувствовала искренность комплимента, хотя находила, что он преувеличен. Она покраснела и поклонилась, не зная, что сказать. Вдруг она услышала резкий голос Мизона, смягченный некоторым оттенком почтения. Мистер Мизон разговаривал с лордом Холмерстом, маленьким, коротеньким человечком, у которого были величественные манеры и добродушное лицо. Губернатор английских колоний, лорд Холмерст очень гордился своим саном. Обычно губернаторы колоний не имеют большого значения в глазах англичан. Но здесь, на пароходе, который нес лорда Холмерста к берегам его епархии, он был великой и важной персоной, и он отлично понимал это. Забавно было видеть важную осанку и величественные манеры маленького человечка, который становился все внушительнее по мере того, как пароход уходил от берегов Англии и приближался к Новой Зеландии. — Повторяю вам, сэр, — говорил мистер Мизон, — что наследственность авторского права высоко чтится нашей страной! Мы дальновидны. Одно поколение добывает деньги, следующее — покупает на эти деньги титулы. А ваши титулы? Вы занимаете высокое положение, сэр, но ваш отец был, вероятно, такой же торговец, как я! — Не совсем верно, мистер Мизон! — отвечал ему лорд Холмерст. — Скажите мне лучше, кто эта красивая девушка, с которой беседует моя жена? — Теперь, сэр, — продолжал, не слушая его, Мизон, который, как все буржуа, питал суеверное благоговение перед аристократией, — я делаю хорошие дела… у меня есть капитал… помешает ли моему наследнику, — допустим, что у меня есть наследник, — воспользоваться этим капиталом и с его помощью занять такое же высокое положение, как ваше? — Верно, совершенно верно, мистер Мизон. Прелестная мысль… Простите… Я вижу, моя жена делает мне знак подойти! — он быстро пошел, сопровождаемый Мизоном. — Джон, дорогой мой! — сказала леди Холмерст. — Позволь тебя познакомить с мисс Смиссерс! Это автор чудной книги, которой мы так увлекались! Мисс Смиссерс, мой супруг! Лорд Холмерст, не особенно далекий в делах, очень любил красивых женщин. Он вежливо раскланялся с Августой и любезно заявил ей, что необычайно рад познакомиться с ней. Мистер Мизон застал эту сцену и, удивленный, остановился, соображая, что ему делать. Леди Холмерст, не поняв причины его замешательства, хотела представить его Августе. Когда он двинулся к ней, протянув руку, Августа, твердо решившая не иметь ничего общего с ним, отвернулась. — Я знаю мистера Мизона, леди Холмерст, — произнесла она холодным, твердым тоном, — и не желаю иметь с ним дела. Он дурно поступил по отношению ко мне! — Так! — пробормотал себе под нос лорд Холмерст. — Я не удивляюсь, что он опротивел ей. Умная девица! Леди Холмерст, несколько удивленная, молчала. — О, я вижу, — сказала она, поняв, в чем дело, — мистер Мизон, вероятно, издал «Обет Джемимы»! Я слышу звонок к обеду. Пойдемте, мисс Смиссерс, или мы потеряем места, обещанные нам капитаном! Дамы ушли, оставив мистера Мизона в одиночестве. Как жаль, что на пароходе не было клерков, на которых он мог бы выместить свою злобу! — Теперь, моя дорогая мисс Смиссерс, — обратилась к Августе леди Холмерст, когда они сидели после обеда и болтали при лунном свете, — не скажете ли вы мне, за что вы не любите мистера Мизона, которого я, правду говоря, тоже недолюбливаю? Августа поведала леди Холмерст всю свою печальную историю. Как рада была бедная девушка найти нового, симпатичного друга, которому можно излить все свои горести! — Честное слово, — произнесла леди Холмерст, со слезами на глазах выслушав печальную историю смерти маленькой Дженни, — все, что я услышала от вас об этом ужасном человеке, заставляет меня думать, что он просто негодяй! Я придумала отличный план проучить его и расскажу об этом мужу! Мизон будет горько оплакивать ваш контракт. Это так же верно, как то, что меня зовут Бесси Холмерст! Леди Холмерст кивнула своей красивой головкой с самым хитрым видом.Глава 6
МИСТЕР ТОМБИ ЗАБЕГАЕТ ВПЕРЕД
С этого дня путешествие на пароходе «Канчаро» стало веселым и приятным для Августы. Лорд и леди Холмерст были очень любезны с ней, а за ними и все пассажиры первого класса, так что мисс Смиссерс сделалась весьма популярной особой на пароходе. Ее книга переходила из рук в руки, и Августе в конце концов надоело выслушивать комплименты. Кроме того, она была очень красива, а красивая женщина всегда интересна для всех! В первый раз в жизни благодаря своей молодости, красоте и таланту Августа оказалась настоящей героиней. Леди Холмерст рассказала всем ее историю. Сначала всеобщее поклонение ужаснуло молодую девушку, не видевшую в жизни ничего, кроме горя, бедности и унижения. Но потом она успокоилась и принимала все как должное, подобно страннику, долго бродившему в сырости и темноте ночи и внезапно увидевшему дивный свет и тепло, у которого он мог отогреться и отдохнуть. Торжество Августы было полное: когда все общество, собравшееся на пароходе, узнало ее историю с Мизоном, оно отступилось от богача, и никакие деньги не могли вернуть ему расположение гордых аристократов! Этот делец, обладатель миллионов, хозяин огромного предприятия, был отвергнут всеми. Даже клерк, ехавший попытать счастья в Новой Зеландии, не хотел говорить с ним. Мистер Мизон глубоко чувствовал это общее презрение. Его, богача, смеют презирать люди, которых он мог трижды купить, и все из-за какой-то ничтожной девчонки! Это страшно злило Мизона. Однажды утром лорд Холмерст, в продолжение нескольких дней выказывавший ему крайнюю степень нерасположения, окончательно добил его, не заметив протянутой для приветствия руки и пройдя мимо. — Хорошо, лорд, прекрасно! — бормотал мистер Мизон, когда фигура губернатора исчезла из виду. — Мы еще потягаемся с вами! Я что-нибудь да значу в английской прессе! Те, у кого много денег и большие связи, могут писать что угодно, не боясь даже губернатора колонии! Он гневно погрозил кулаком. — Вы, кажется, сердитесь, мистер Мизон? — раздался чей-то голос около него. — Чем вам не угодил губернатор? Это был плотный молодой человек с добрым лицом и большими усами. — Что он сделал мне, мистер Томби? Он просто уничтожил меня! Он не подал мне руки и прошел мимо, не заметив меня! — А-а! — протянул мистер Томби, богатый новозеландский землевладелец. — Как вы полагаете, почему он это сделал? — Почему?! Я знаю, почему. Все из-за этой девчонки! — Из-за мисс Смиссерс? Вы так думаете? — спросил мистер Томби со странным блеском в своих глубоко посаженных глазах. — Да, из-за мисс Смиссерс. Она написала книгу, за которую я ей заплатил пятьдесят фунтов. Затем она согласилась, чтобы я печатал все, что она напишет в течение пяти лет, за известный процент… Это весьма обыкновенная вещь, когда имеешь дело с идиотами… Случилось так, что книга имела успех, и вдруг девица приходит ко мне и просит еще денег, помимо тех, что уже получила от меня. Когда я отказываю, она сердится и устраивает целую сцену!.. Оказывается, она нуждалась в деньгах, чтобы увезти свою больную сестру, или тетку, или еще кого-то, подальше из Англии. Родственница ее умерла, она отправляется теперь в Новую Зеландию и рассказывает всему свету, что я был причиной этой смерти и ее бедности! — Разумеется, это вам не нравится, мистер Мизон? — Конечно, Томби! Но дело — делом! Если мне и удалоськое-что заработать на книге легкомысленной девицы, что же тут особенного? Она стала опытнее — вот и все, она — не первая и не последняя. Но если она еще будет наговаривать на меня, я начну преследовать ее за клевету! — На законном основании, я полагаю, да… — Проклятая девчонка! — продолжал Мизон, нахмурив седые брови. — Она наделала мне массу беспокойства. Я поссорился из-за нее со своим племянником, а теперь она уронила меня в глазах всех этих людей, и я уверен, что эта история будет известна по всей Новой Зеландии и Австралии! — Да, — ответил мистер Томби, — это неловко для вас! Теперь, с вашего позволения, мистер Мизон, я скажу вам несколько слов. Вам никогда не приходилось слышать правды о вас самих, я вам скажу ее. Если вы не вор, то очень яркая имитация его… Вы берете книгу молодой дамы, наживаете на ней сто на сто и платите ей пятьдесят фунтов. Вы связываете ее договором, для вас, несомненно, выгодным, и когда она приходит к вам просить денег, указываете ей на дверь. И теперь вы удивляетесь, мистер Мизон, что эти почтенные люди не хотят иметь с вами ничего общего. Добавлю, что мое мнение таково: единственно достойное вас общество — это общество трусов и пошляков! Доброго утра! Молодой человек ушел, покручивая свои большие усы, с видом злобы и негодования. Второй раз в жизни мистер Мизон слышал правду из уст молодого человека и, к своему горю, не мог разнести его и прогнать, как поступал с собственными клерками. Мистер Томби, от которого он рассчитывал услышать слово утешения, чуть не проклял его. Разумеется, на то была своя причина. Серые глаза Августы крепко задели сердце мистера Томби, как и Юстаса Мизона. Любовь его с каждым днем становилась все сильнее, так как он постоянно видел Августу и говорил с ней. Во время путешествия зернышко зарождающейся любви дает пышный росток. Страсть разгорается от постоянного общения с объектом почитания. Супружеские узы крепки, пока горячи, и задолго до окончания томительного медового месяца охлаждаются вовсе или бывают едва теплыми. Но в путешествии супружеское счастье прочнее. В этот самый вечер маленькая трогательная сценка с оттенком некоторой меланхолии произошла на «Канчаро». Мистер Томби и мисс Смиссерс стояли, опершись на перила, и наблюдали фосфорическое свечение воды. Мистер Томби нервничал до болезненности, мисс Смиссерс размышляла о том, что усы ее спутника весьма пошли бы какому-нибудь герою ее повести. Мистер Томби взглянул на усеянное звездами небо, на котором ярко сияло созвездие Южного Креста, и перевел взгляд на море. Но вдохновение не шло к нему на помощь. Наконец он сделал над собой отчаянное усилие. — Мисс Смиссерс! — сказал он дрожащим от сильного волнения голосом. — Что вам угодно, мистер Томби? — спокойно спросила Августа. — Мисс Смиссерс, — продолжал он, — мисс Августа, я не знаю, что вы думаете обо мне, но я скажу вам все, я не могу сдерживаться более. Я люблю вас! Августа немного отступила. Мистер Томби, правда, был очень, даже чрезвычайно любезен с ней, и она знала, что нравилась ему. Но объяснения в любви она вовсе не ожидала, и эта неожиданность поразила ее. — Мистер Томби! — произнесла она удивленным тоном. — Вы знаете меня не более двух дней! — Я полюбил вас, как только увидел! — искренне ответил он. — Прошу вас, выслушайте меня! Я знаю, что недостоин вас! Но я горячо люблю вас и буду вам хорошим мужем! У меня есть средства. Если вы не захотите жить в Новой Зеландии, я брошу все и поеду в Англию. Можете ли вы полюбить меня? Если б вы знали, как сильно я люблю вас, вы бы, наверное, согласились! Августа старалась собраться с мыслями. Этот человек, очевидно, любил ее, она не могла сомневаться в искренности его слов. Он нравился ей, этот джентльмен. Если она выйдет за него, то все ее горести и печали окончатся, она может опереться на его сильную руку! Женщина, даже талантливая, не создана для того, чтобы бороться с жизнью самостоятельно. Пока она думала это, доброе лицо Юстаса Мизона встало перед ее глазами, и слабое чувство досады и неприязни к человеку, предложившему ей свою руку, зародилось в ее груди. Юстас Мизон, конечно, ничто для нее. Ни одного слова любви или нежности не было произнесено между ними; вероятнее всего, она никогда больше не увидит его! Но все же, это красивое, симпатичное лицо явилось препятствием между ней и мистером Томби. Много женщин имели в прошлом такое прекрасное видение… Увы! Эти образы нашей миновавшей юности имеют свойство воскресать и появляться из могилы забвения. Августа была женщина умная, с характером и честным, благородным сердцем, она не способна была пожертвовать всем ради стремления к удобствам жизни и богатству. В несколько секунд она уже приняла решение. — Я очень благодарна вам, мистер Томби, — произнесла она, — вы оказали мне большую честь, но я не могу быть вашей женой! — Неужели? — пробормотал несчастный Томби, не ожидавший такого ответа. — И мне не остается никакой надежды? Может быть, вы любите кого-нибудь? — Никого, мистер Томби, мне очень жаль, но я должна сказать вам, что не изменю своего решения. Он закрыл лицо руками, но через минуту снова поднял голову. — Да, жаль, — повторил он за Августой. — Но этому помочь нельзя. Я никогда не любил до вас ни одной женщины, и никогда не полюблю! И такое глубокое чувство, — добавил он с усмешкой, — пропадает даром! Что поделаешь! Прощайте, мисс Смиссерс! Расстанемся мирно! — Разумеется, мы останемся друзьями, — подтвердила она. — О нет, — возразил он, снова усмехнувшись, — дружба между нами невозможна… Или любовь, или равнодушие!.. Вы писательница, мисс Смиссерс! Может быть, когда-нибудь вы напишете книгу и объясните, почему иные люди отдают другим всю любовь, всю нежность своего сердца, когда это никому не нужно… Еще раз прощайте! Мистер Томби взял ее руку, поцеловал, поклонился и исчез. Очевидно, он был незаурядный молодой человек и по-джентльменски перенес отказ. Августа посмотрела ему вслед, глубоко вздохнула и смахнула слезы. Потом она повернулась и пошла к леди Холмерст, которая сидела и болтала с капитаном, наслаждаясь напоенным южными ароматами воздухом. Когда Августа подошла ближе, капитан раскланялся и ушел. Леди Холмерст и Августа остались вдвоем. — Что хорошего, Августа? — спросила леди Холмерст — она уже называла подругу по имени. — О чем вы, леди Холмерст? — переспросила девушка. — На чем вы порешили с молодым человеком, с мистером Томби? — Я полагаю, мистер Томби немного поспешил! — ответила Августа. Они переглянулись и тотчас же поняли друг друга. Леди Холмерст кое-что знала о делах Томби. — Леди Холмерст, — сказала Августа, сразу «схватив быка за рога». — Мистер Томби сказал мне… — И предложил вам руку и сердце… — добавила леди Холмерст, любуясь созвездием Южного Креста. — Вы заметили, что он поспешил! — Он сделал мне предложение, — продолжала Августа, — и я сожалею, что не могла ответить ему согласием. — Ах! Мне очень жаль, что так случилось! — воскликнула леди Холмерст. — Мистер Томби — красивый молодой человек и настоящий джентльмен! Я думаю, что для вас было бы хорошо стать его женой, это очень упростило бы ваши будущие дела! Конечно, пока вы будете в Новой Зеландии, я позабочусь о вас. Понятно, что, пока вы не устроитесь у своего кузена, вы будете жить у нас, в губернаторском доме! — Вы очень добры ко мне, леди Холмерст! — прошептала Августа, подавив рыдания. — Пора бы, моя дорогая, — произнесла леди, положив свою маленькую руку на красивую головку Августы, — забыть «леди Холмерст» и называть меня просто «Бесси»! Это звучит и лучше, и короче! Августа, не сдержавшись, зарыдала, — ее нервы были сильно расстроены. — Вы не знаете, как дорога мне ваша доброта! — всхлипывая, говорила она. — У меня никогда не было друга, и со смерти моей дорогой сестры я была так одинока!..Глава 7
КАТАСТРОФА
Обе красивые женщины долго толковали и строили планы на будущее. Пока они беседовали, небесный голос, управлявший миром, произнес свое грозное слово. На пароходе звучала музыка, слышались веселый смех, нежные голоса и пение… А небо облекалось мраком. Никто не подозревал об опасности. Да и какая могла грозить опасность на огромном пароходе, который несся с быстротой ласточки по волнам? Пассажирам нечего было бояться. Путешествие близилось к концу, и матери убаюкивали детей со спокойным сердцем, как будто находились на земле Англии. Они не предчувствовали грозившего несчастья… И слава Богу, что мы не можем предугадать будущее. Страх будущего отнял бы у человека разум, сделал бы его безрассудным и сумасшедшим! Леди Холмерст встала с кресла и заявила, что идет спать, но до этого ей хочется поцеловать своего маленького сыночка Дика, который занимал со своей няней отдельную каюту. Августа пошла с ней. Они поцеловали спящего ребенка, хорошенького пятилетнего мальчика, и простились, собираясь лечь спать. Через несколько часов Августа проснулась, чувствуя какое-то странное беспокойство. Целый час она пролежала, думая о мистере Томби, прислушиваясь к всплескам воды и к шагам вахтенных матросов. Но странное чувство тревоги все усиливалось. Августа встала, оделась кое-как, потому что едва могла найти в темноте свое платье, связала узлом волосы, накинула ульстер[468], висевший на двери, и прошла на палубу. Близился рассвет, но ночь была очень темна. Августа смутно разглядела очертания парохода, и ей стало легче, когда она вдохнула свежий ночной воздух, прислушалась к дикой песне ветра. Было что-то успокаивающее в быстром движении судна… Августа была одна. Она протянула руки вперед, словно хотела схватить что-то незримое. В сердце ее зарождалось какое-то сладкое чувство. Ей казалось, что в эту минуту она может написать нечто великое, лучшее, чем писала прежде. Чудные мысли, настоящее вдохновение рождались в ее душе под влиянием окружающей тишины и мрака. Ей слышался голос умершей Дженни, воображение рисовало ее витающей, подобно белокрылой птице, над мрачной бездной моря и любовно вглядывающейся в лицо сестры, которую она так горячо любила. От Дженни мысль ее перенеслась на Юстаса Мизона. Что делал он там, в Бирмингеме? Ей пришло в голову, что она интересуется им, и вспомнился один его взгляд, который был ей так понятен. Она пожалела, что не оставила ему записки. Быть может, она напишет ему из Новой Зеландии. Ее размышления были прерваны чьими-то шагами. Она очутилась лицом к лицу с капитаном. — Мисс Смиссерс! — воскликнул он. — Что вы тут делаете в такой час? Сочиняете романы? — Да, — ответила она, засмеявшись, — я не могла спать и пришла сюда! Конечно, это смешно! — Если вам хочется написать что-нибудь, вы бы могли найти место получше, чем здесь! «Канчаро» летит стрелой… Это красиво… Его трудно догнать… Мы идем со скоростью семнадцать узлов. Надеюсь прибыть к острову Кергелен в семь часов по моему хронометру! — Что это такое, остров Кергелен? — спросила Августа. — О, это пустынное местечко, почти необитаемое, где китобойные суда запасаются водой. Я слышал, что несколько лет тому назад сюда была послана астрономическая экспедиция, чтобы наблюдать за прохождением Венеры. Но погода была туманная, никто ничего не увидел. Ну, мне пора! Доброй ночи! Вернее, доброго утра! Едва он успел произнести эти слова, как раздался дикий крик: «Вперед, вперед!» Десятки голосов ответили на это криком: — Держи прямо-о!.. Прямо держи… во имя Неба! Быстрым прыжком капитан бросился на мостик. В ту же минуту паровая машина прекратила свою работу, цепи оглушительно загремели… Снова крик: «Китобойное судно… огней сюда! Огней!» В ответ раздался ужасный вопль откуда-то, что находилось впереди парохода. Треск, шум такой, какого Августа никогда не слыхала, страшный толчок… Она упала на колени и на руки… Огромная масса корабля содрогнулась… Рассекая воду, он шел вперед с ужасающей быстротой, врезался в китобойное судно, разрезал его на две части и прошел над ним… Отчаянные крики неслись во мраке ночи… Августа вскочила на ноги и почувствовала новый толчок, сопровождаемый страшным шумом. «Канчаро» давил остатки злосчастного китобойного судна! Через несколько секунд все было кончено. Августа видела что-то черное, плававшее по воде и потом погрузившееся в бездну… Затем она услышала глухой шум, который все усиливался и разросся до рева… Мужчины, женщины, дети — пассажиры корабля — бежали с криками и стонами, с побелевшими от ужаса лицами, похожие на призраков. Одни — почти раздетые, едва успевшие набросить на себя кое-что, другие в пальто, третьи, закутанные в простыни, держали в руках свое платье. Сотнями заполнили они палубу (пассажиров на «Канчаро» было около тысячи человек) с ужасным ревом, словно грозные духи ада! Волосы вставали дыбом на голове от этих криков. Августа старалась сохранить присутствие духа и не поддаться общей панике. Смелая и хладнокровная по натуре, она поняла, что пароход находится в большой опасности. Ясно, что столкновение дорого обошлось ему… толчок был ужасный! Вероятно, через несколько минут он пойдет ко дну… И через несколько минут она должна умереть! Ее сердце замерло от ужаса, но она еще раз превозможет себя… Конечно, жизнь ее не была веселой, однако она не делала ничего дурного, ей нечего бояться смерти! Вдруг мысли ее обратились к другому. Где леди Холмерст? Где ее мальчик со своей няней? Побуждаемая желанием узнать, что сталось с ними, Августа побежала к салону. Рассвело. Большая часть пассажиров толпилась на палубе, и она с трудом пробралась к каюте, где спал ребенок. В каюте было светло, но няни нигде не было. Она ушла и бросила ребенка, который сладко спал, улыбаясь всем своим маленьким невинным личиком. Толчок разбудил мальчика, но, не имея понятия о кораблекрушениях и опасностях, он снова заснул. — Дик, Дик! — позвала его Августа. Мальчик проснулся и сел, зевая, снова намереваясь заснуть. — Дик будет спать! — пролепетал он. — Дик проснулся, и тетя, — (он называл Августу тетей), — унесет его наверх посмотреть на мамми… — сказала Августа. — Ты будешь послушным мальчиком и пойдешь на палубу? — Да! — доверчиво ответил Дик. Августа посадила его к себе на колени и закутала в то, что было под рукой. Тут, около двери, висел маленький жакет, который мальчик надевал, когда было холодно. Она надела его поверх фланелевой рубашки и блузки и закутала Дика одеялами. В ногах кровати стоял ящик с бисквитами и молоко. Августа набила бисквитами свои карманы, напоила мальчика молоком и сама выпила остатки. Затем, набросив на себя шаль, она взяла ребенка и побежала на палубу. По дороге она встретила самого лорда Холмерста, спешившего к сыну. — Я взяла его! — крикнула Августа. — Нянька убежала. Где ваша жена? — Бог да благословит вас! — произнес он. — Вы добрая девушка! Бесси — там! Я не хотел, чтобы она пришла сюда! Эти люди положительно помешались, их не могут сдержать, они рвутся к лодкам! — Разве мы тонем? — спросила Августа испуганно. — Бог знает! А вот и капитан! Лорд Холмерст указал на капитана, с трудом пробиравшегося сквозь ревущую толпу, и схватил его за руку. — Оставьте меня! — проговорил капитан, пытаясь вырвать руку. — Ах, это вы, лорд Холмерст! — Да, постойте минуту и скажите нам правду. Мы должны знать ее! — Хорошо, лорд Холмерст. Слушайте. Мы налетели на крейсировавшее здесь китобойное судно, не потрудившееся даже зажечь сигнальные огни. Носовая часть парохода с силой врезалась в судно… Образовалась течь. Плотник и его помощники сделали все, что могли, и забили трещины досками, но вода продолжает прибывать, и я боюсь, что может произойти непоправимое. Все насосы пущены в ход, выкачивают воду, но… — Мы должны пойти ко дну? — спокойно произнес лорд Холмерст. — Надо приготовить лодки. Не так ли? Или это еще не все? — Боже мой! Вам этого мало? — спросил капитан, отворачивая свое бледное, страшное лицо. — Если хотите, это еще не все. Наши лодки могут выдержать около трехсот человек. На «Канчаро» до тысячи пассажиров — из них около трех сотен женщин и детей! — Мужчины должны уступить! — сказал лорд спокойно. — Божья воля! — Но для вас, сэр, приготовлена лодка! — сообщил капитан. — Я приказал приготовить ее, и, слава Богу, теперь светло! Поручаю вам, лорд, объяснить все владельцам парохода… Скажите им, что я исполнил свой долг! Лодки пойдут к острову Кергелен, на семьдесят миль к востоку! — Вам придется поручить это кому-нибудь другому, капитан, — ответил лорд Холмерст. — Я останусь здесь и разделю судьбу остальных! Все напускное величие лорда Холмерста исчезло, остался настоящий честный английский джентльмен. — Нет, нет! — возразил капитан. — У вас револьвер с собой? — Да. — Отлично. Держите его под рукой, он понадобится вам. Они все бросятся к лодкам! В это время серый и призрачный свет занимающегося дня озарил ужаснейшую сцену. Вокруг лодок толпились офицеры и пассажиры, собиравшиеся прыгнуть в них. В одной из лодок сидела леди Холмерст, которую насильно втолкнули туда. Она кричала, призывая сына и мужа. Около нее находились кучка женщин и детей, полдюжины матросов и один офицер. Августа сейчас же увидела лицо своей приятельницы. — Бесси! Бесси! Леди Холмерст! — закричала она. — Мальчик у меня… Все хорошо… ребенок со мной! Леди услышала голос и протянула к ней руки. Но лодка отчалила и увезла бедную леди Холмерст. В это время кто-то схватил Августу за руки. Она оглянулась. Это был мистер Томби, который держал в руке револьвер. — Слава Богу! Я нашел вас! — воскликнул он. — В путь, скорее, в путь! — Женщин сюда! — закричал офицер, распоряжавшийся размещением пассажиров. Несколько мужчин бросились к лодке. — Сначала женщины! Женщины сначала! — Я не тороплюсь! — сказала Августа, держа на руках испуганного ребенка; ее слова произвели эффект, мужчины остановились. — Идите в лодку! — приказал мистер Томби, помогая молодой девушке спуститься туда. Ему пришлось чуть не драться с каким-то человеком, который отчаянными усилиями пытался влезть в лодку. Это был мистер Ми-зон. Узнав его, мистер Томби оттолкнул его так сильно, что он опрокинулся навзничь. — Тысяча фунтов за место в лодке! — заревел мистер Мизон. — Десять тысяч фунтов за место в лодке! Он поднялся, вскарабкался на перила и снова был отброшен в сторону. Мистер Томби помог Августе и мальчику усесться в лодку, поцеловал ее в лоб. — Бог да благословит вас, прощайте! — произнес он. В эту минуту корма корабля вдруг высоко поднялась, а передняя часть опустилась. Пронесся страшный крик. — Тонем! Тонем! — донеслось до ушей Августы. Из машинного отделения выбежали люди с почерневшими, закопченными лицами, совсем задыхающиеся, и еще более напугали растерявшуюся толпу. За ними неслись матросы и эмигранты. — В лодки, бросайся в лодки, или мы потонем! — загремел чей-то грубый голос. При этих словах обезумевшая толпа бросилась к лодкам, ругаясь и крича. В один момент женщины и дети были выброшены из одной лодки, и высокий, сурового вида моряк пытался оттолкнуть ее от корабля. Августа увидела мистера Томби, лорда Холмерста и какого-то офицера, прибежавших на шум. Они подняли пистолеты и выстрелили в толпу. — Не надо пистолетов! — закричал кто-то. — Что быть убитым, что потонуть! Для нас нет места в лодках! Мы найдем его себе! Идем! Снова отчаянная попытка влезть в лодки — и трое убитых! — Билл! — крикнул человек, стоявший впереди. — Отведи лодку вправо. Они бросятся и потопят нас! Билл послушался. Лодка отделилась от парохода. Как вдруг какой-то человек отчаянным прыжком очутился в ней, ударился о ее борт и свалился в воду. В испуге одна леди, жена судьи, выронила ребенка из рук. Августа пыталась схватить дитя, но безуспешно. Ребенок утонул. Затем два матроса слетели с парохода, корма которого так высоко поднялась над водой, что можно было видеть руль. С ужасным криком мистер Мизон, у которого было сильно развито чувство самосохранения, бросился с парохода в воду и, часто взмахивая руками, подплыл к лодке, умоляя взять его. — Толкни хорошенько старого мошенника, Билл! — закричал матрос. — Долой его! — Нет, нет! — воскликнула Августа, сжалившись над несчастным. — Здесь, в лодке, много места! — Держись крепче! — сказал матрос по имени Джонни. — Когда мы отплывем подальше, мы возьмем вас! Мистер Мизон держался за лодку изо всех сил. Через некоторое время, когда она отплыла на пятьдесят ярдов, два человека не без труда втащили в нее толстого Мизона. Крики на корабле не утихали, пока судно медленно погружалось в воду. Гудок надрывался не переставая, протяжно и заунывно. В утреннем тумане взвилась ракета… Вокруг приготовленных лодок началась настоящая война. Августа видела людей, которые старались попасть в лодки, переполненные женщинами и детьми. Они цеплялись за их борта, кричали, просили, ругались… Одна лодка опрокинулась, и все находившиеся в ней — около сорока человек — упали в воду. Другая, в которой были только женщины и дети, благополучно спустилась в воду, но не могла отцепить канат и задержалась. Когда через две или три минуты «Канчаро» затонул, ни у кого не оказалось ножа, чтобы перерезать канат, которым была привязана к нему лодка, и она также затонула со всеми пассажирами[469]. Остальные лодки, за исключением той, где находилась леди Холмерст, исчезли и, вероятно, все потонули. Невозможно было противостоять напору обезумевшей толпы, которая, подобно зверю, бросилась на лодки. Несколько человек матросов и офицеров не могли ничего поделать. Каждый лез в лодку, спасая свою жизнь, не щадя других. Через двадцать минут после того как «Канчаро» потопил китобойное судно (все эти события произошли в короткое время), он затонул сам, а с ним — все оставшиеся на нем люди.Глава 8
ОСТРОВ КЕРГЕЛЕН
Как только мистер Мизон, спасшийся благодаря Августе, очутился в лодке и свалился на ее дно, как мертвый, Августа почувствовала страшную слабость. Она опустила голову и прижалась лицом к одеялам, в которые закутала спасенного мальчика. Ребенок, испуганный криком и шумом, озирался кругом с широко раскрытыми глазами. Через несколько секунд молодая девушка, пересиливая себя, подняла голову. Лучи восходящего солнца разогнали туман и озарили тонущий корабль. Его корма высоко вздымалась над водой, качаясь взад и вперед. — Тонет! Клянусь святым Георгием, тонет! — произнес моряк Джонни. Огромный корабль тихо умирал. Медленно, очень медленно, под отчаянные крики людей его корма поднималась все выше и выше, а остальная часть погружалась в воду. Люди кричали и молили о помощи, но Небо не вняло их мольбам! Скоро корабль стоял вертикально в воде, и в ста шагах от него вырос чудовищный вал, а люди, как мухи, полетели прямо в пенящиеся волны. Раздался треск, шум… Взорвалась паровая машина. Среди клубов дыма, с оглушительным шумом корабль погрузился в бездну и исчез в ней. Вода забурлила и закипела на том месте, где затонул «Канчаро»… Пар клубами вырывался из глубины… Люди в лодке застонали и отвернулись. Ребенок сильно испугался. Августа вскрикнула и закрыла лицо руками. — Вернитесь! — пробормотала она. — Вернемся, посмотрим, нельзя ли спасти кого-нибудь! — Нет, нет! — закричал Мизон. — Они потопят нашу лодку! — Без толку! — возразил Джонни. — Все утонули. Между тем матросы успели повернуть лодку и услыхали слабый крик. Но когда они добрались до того места, где затонул «Канчаро», ни одного живого существа там не оказалось. Только волны шумели и пенились кругом. Тяжелый туман повис над водой. Они пробовали кричать — ответа не было. Где-то послышался слабый звук, но когда лодка подплыла к тому месту, откуда он раздался, — ничего и никого… Все люди утонули. Их отчаянные крики не тронули безжалостное Небо… Все было кончено… Ветер, облака и море были свидетелями этой ужасной смерти в бездонной морской пучине. — Боже мой, Боже мой! — вскричала Августа, вытирая слезы. — Одна лодка уцелела, но где же она? — спросил мистер Мизон, весь мокрый и жалкий, вращая вокруг безумными глазами, словно стараясь проникнуть сквозь туман. — Там что-то виднеется! — указал Джонни на круглый, похожий на лодку предмет, появившийся в стороне от них. Это была пустая лодка, та самая, которую не смогли отвязать от корабля, когда он тонул. Освободившись от пассажиров, под давлением воды она всплыла на поверхность. Через несколько дней несчастные утонувшие также всплывут из глубины моря наверх и будут смотреть своими мертвыми очами в небо… Для них все кончено — и навсегда! Матросы повернули свою лодку, и она медленно поплыла среди разного хлама — бревен, щепок, весел, обломков… Люди принялись кричать, надеясь привлечь внимание пассажиров другой лодки, которая, по их мнению, находилась где-то неподалеку. Но все их усилия были тщетны из-за густого тумана, который не позволял видеть дальше чем за двадцать ярдов, ветра и шума воды. В бескрайних просторах океана совсем затерялись две маленькие лодки, и хотя они находились на близком расстоянии друг от друга, но не могли встретиться, потому что каждая плыла своей дорогой, стараясь избежать страшной участи корабля. Лодка, в которой находились леди Холмерст и еще двадцать других пассажиров и шесть матросов, что уцелели от гибели, после крушения «Канчаро» отправилась на остров Кергелен. До наступления ночи ее нагнало китобойное судно и проводило в Олбени, на берег Австралии. Крушение «Канчаро» произвело ужасающее впечатление. Телеграммы сообщили об этом повсюду. Овдовевшая леди Холмерст и другие женщины были доставлены обратно в Англию. А пассажиры маленькой лодки вместе с нашей героиней и мистером Мизоном сидели с бледными, взволнованными лицами и молча поглядывали друг на друга. Наконец Джонни, лицо которого было безобразно из-за расшибленного носа, вдруг сурово проговорил: — Нехорошие были дни! Плохие! На это Билл улыбнулся во всю свою добродушную физиономию и заметил, что ему, Джонни, нечего жаловаться, они только что счастливо избежали опасности. В разговор вмешалась Августа и сказала, что капитан направлялся к острову Кергелен, находившемуся в шестидесяти или семидесяти милях отсюда. На лодке оказался компас. Подняли парус, и лодка побежала на восток под свежим западным ветром. Целый день они плыли по пустынному океану, не встретив ни одного живого существа. Наконец настала ночь. К счастью, в лодке нашлись ящик с бисквитами, вода и ром. Оба матроса, Билл и Джонни, усердно подкреплялись последним. Было холодно. Все озябли в мокрой одежде, но не испытывали ни голода, ни жажды. На восходе солнца стало теплее. Долгая ночь прошла, но Августа не сомкнула глаз. Маленький Дик крепко спал на ее груди, в ее объятиях, прикрытый одеялом от холода и сырости. На дне лодки лежал мистер Мизон, которому Августа из жалости отдала одно одеяло, оставив себе только шаль. Наконец появилось солнце и озарило бескрайнюю гладь моря. Августа долго вглядывалась в туманную даль. — Что это такое? — внезапно спросила она у Билла задрожавшим от волнения голосом, указывая на темную массу впереди. Билл пристально вгляделся. — Земля, там земля! — радостно закричал он. Мистер Мизон приподнялся на коленях — он не мог стоять на ногах — и начал осматриваться вокруг. — Слава Богу! — вскричал он. — Какая это земля? Новая Зеландия? Тогда я останусь тут и никогда больше не поплыву на корабле! — Новая Зеландия! — сердито проворчал матрос. — Вы, должно быть, помешались! Это остров Кергелен — вот что. Здесь вечно идет дождь, и никто не живет! Оставайтесь здесь, коли хотите! Я могу поклясться, что никому не придет в голову приехать сюда за вами! Мистер Мизон угрюмо проворчал что-то. Между тем солнце разогнало туман, и прелестная панорама открылась перед глазами потерпевших кораблекрушение. Рядами тянулись высокие горы с блистающими на солнце белыми снеговыми вершинами. Билл направил лодку к югу. Вода была спокойна. Скоро они увидели устье большого фьорда, окаймленное утесами… Вокруг прибрежных скал шумели и разбивались волны, и далекое эхо вторило их глухому рокоту. Лодка плыла по фьорду, мимо скал, на которых сидели какие-то фантастические чудовища, похожие на морских львов, пока не приблизилась к берегу, поросшему мелкой травой. Здесь, к восхищению спасшихся, они увидели две хижины из строевого леса, одна недалеко от другой, в пятидесяти шагах от воды. — Да тут есть дом, — обрадовался Джонни, — хотя выглядит он не очень красивым! — Причаливайте к берегу… Скорее бы выбраться из этой ужасной лодки! — произнес мистер Мизон. Августа поддержала его просьбу. Убрали парус, пустили в ход весла, и лодка вошла в маленькую, самой природой устроенную гавань. Через десять минут все они ступили на твердую землю. Первой заботой их было пойти осмотреть хижины, но результат осмотра оказался неутешительным. Выстроенные, вероятно, в 1874 году, в то время, когда здесь находилась экспедиция по наблюдению за Венерой, а может, какими-нибудь моряками, хижины стояли сейчас почти разрушенные. Стены и пол поросли мхом, а огромные щели в крыше пропускали дождь, так что внутри хижин стояли целые лужи воды. Однако это все же был кров и хоть какая-то защита от холода и дождя, и путешественники решили этим воспользоваться. Решено было, что в одной хижине, поменьше, поселятся Августа и Дик, а мистер Мизон и оба матроса устроятся в другой. Затем они перенесли сюда все свое скудное имущество, убрали и вымыли хижины и сделали их, насколько было возможно, удобными для жилья, наскоро закрыв парусом сырой пол и прикрыв дыры на крыше камнями и досками, оторванными от днища лодки. Погода, на их счастье, была сухая, и все, за исключением Мизона, совершенно упавшего духом, усердно принялись за работу. Даже маленький Дик бегал взад и вперед за Августой, очень довольный, что оказался на суше. К полудню все было сделано. Развели огонь, и Августа зажарила двух птиц, похожих на кур, которых они поймали; обедали, конечно, стоя, потому что сесть было не на что. После обеда снова возобновились обследования и попытки устроиться возможно лучше. Воды было достаточно, потому что недалеко от хижин протекал быстрый ручей. Кроме того, у них был большой запас бисквитов и бочка рома. Рыбы в ручье водилось в изобилии, если бы они нашли возможность варить ее, а на окрестных утесах оказались массы пингвинов. Очевидно, что им не грозила опасность умереть с голоду. Сейчас же после обеда оба матроса ушли и скоро вернулись, притащив множество птичьих яиц. Едва они успели вернуться, как пошел дождь — характерное отличие этих широт, — и скоро горы оделись густой завесой мокрого тумана. Час за часом дождь лил не переставая, проникая сквозь крышу лачуг, и капал на пол. Августа сидела в своей лачуге, стараясь чем-нибудь занять маленького Дика и рассказывая ему разные истории, чтобы чем-нибудь утешить ребенка и унять его плач, потому что ему было холодно и его маленькое сердечко болезненно ощущало весь ужас положения. Никто не знал, как тяжело было ей придумывать сказки, когда сердце сжималось от тоски. Она рассказывала ему о Робинзоне Крузо и добавила, что они тоже играют в Робинзона, но Дик возразил, что он не хочет так жить и желает видеть свою маму. Становилось все холоднее и темнее. Сырость пронизывала до костей. Наконец стемнело. Ветер и дождь бушевали над лачугами, и дикий крик морских птиц сливался с воем ветра. Мальчик все-таки заснул, укутанный одеялом и парусом. Августа чувствовала себя очень несчастной, одна, подавленная тяжелыми думами, и хотела также последовать примеру ребенка и уснуть, как вдруг раздался стук в доску, заменявшую дверь. — Кто там? — вскрикнула Августа с испугом. — Это я, мистер Мизон! — ответил голос. — Могу я войти? — Да, если вам угодно! — произнесла Августа сурово, хотя, в сущности, была рада его видеть, или, вернее, слышать человеческий голос, потому что в темноте ничего нельзя было разглядеть. Под гнетом горя и несчастья люди быстро забывают былые обиды и ссоры и рады обществу даже своего злейшего врага! — Закройте за собой дверь! — сказала Августа, догадавшись по сильному притоку воздуха, что посетитель вошел в лачугу. Мистер Мизон, ворча и вздыхая, закрыл за собой вход доской. — Оба эти скота пьяны, — сообщил он, — напились рому! Я пришел к вам, потому что не мог более оставаться с ними. Я болен, мисс Смиссерс, очень болен! Вероятно, я умру! Я чувствую, что во мне все застыло… Не можете ли вы помочь мне? — Не знаю, что тут можно сделать! — ответила Августа мягко: сострадание к этому человеку превозмогло в ней отвращение к нему. — Лучше бы вы легли и заснули. — Заснуть! — заворчал он. — Как я могу заснуть? Мое одеяло намокло, и все платье отсырело! Он упал на пол и застонал. — Постарайтесь уснуть! — снова повторила Августа. Он не ответил, но несколько успокоился. Августа положила голову на ящик с бисквитами и забылась. Сон — верный друг юности! Несколько раз она просыпалась и снова засыпала. Когда она окончательно проснулась и открыла глаза, было уже светло, и дождь перестал. Первой заботой Августы было подойти к маленькому Дику. Он проспал всю ночь глубоким сном и выглядел молодцом. Она вынесла его из хижины, вымыла ему лицо и руки в ручье и дала позавтракать бисквитами. Возвращаясь, Августа встретила обоих матросов, совершенно трезвых, хотя лица их носили отпечаток пьянства. Она выпрямилась и сурово посмотрела на них. Они молча прошли мимо. Когда Августа вернулась в хижину, мистер Мизон сидел на полу, и свет из двери падал прямо на его лицо. Молодая девушка испугалась. Щеки его ввалились, под впалыми глазами залегли красные круги, он походил на человека в последней стадии болезни. — Какая ночь! — сказал он. — Господи! Какую ночь я провел! Думал, что не доживу до утра! — Ничего, — возразила Августа. — Поешьте бисквитов, и вам будет легче. Мизон взял кусок бисквита и попытался проглотить его, но не смог. — Бесполезно! — пробормотал он. — Я — конченный человек! Я лежал в лодке, весь мокрый… и это прикончило меня. Августа взглянула на его лицо и не могла не поверить словам Мизона.Глава 9
«ТАТУИРУЙТЕ МЕНЯ!»
После завтрака — Августа съела бисквит и крылышко птицы, сваренной накануне, — Билл и Джонни, оба матроса, принялись за работу по указанию девушки. Они укрепили на утесе большую палку, к концу которой привязали флаг, найденный в лодке. Хотя у них было мало шансов на то, что кто-нибудь увидит флаг в тумане, они сочли необходимым сделать это. К полудню флаг развевался на утесе. И — удивительно! — погода опять была прекрасная, солнце сияло и грело. К радости Августы, одеяла совсем высохли. Она попросила матросов поискать и принести ей птичьих яиц, как накануне. Матросы охотно сделали это, так как были трезвы и стыдились своего поведения. Августа дала Дику бисквит и четыре яйца, которые он с удовольствием съел, и начала убеждать мистера Мизона, лежавшего в хижине и стонавшего, выйти и погреться на солнце. Богач чувствовал себя очень несчастным, был убежден, что умирает, и не мог дотронуться ни до чего. — Мисс Смиссерс! — сказал он, усевшись на камнях. — Я умру в этом ужасном месте, но я не готов к смерти. Подумать только, — продолжал он с прежней важностью, — я умру здесь, как голодная собака, в холоде, один, тогда как у меня двухмиллионное состояние! Я отдал бы все деньги до последнего фартинга, чтобы только очутиться дома, в безопасности! Клянусь Иовом! Я бы обменялся местом с любым несчастным писакой! Я дал бы ему двадцать фунтов в месяц! Понимаете ли вы мое положение, мисс Смиссерс! Он снова застонал от ужаса и отчаяния. Августа взглянула на несчастного богача и вспомнила о том гордеце, которого она знала и который так отвратительно относился к своим клеркам и наводил страх на всех служащих. Она задумалась о превратностях человеческой жизни. Увы! Как изменился мистер Мизон! — Да, — продолжал он, несколько успокоившись, — я умру здесь, в этой дыре, и все мои деньги не могут помочь мне! Проклятье! Аддисон и Роскью получат от меня миллионы, хотя им ничего не нужно. Я бешусь, когда думаю, что девчонки Аддисона будут проматывать мои миллионы, купят себе на них титул и знатных мужей! Я лишил наследства своего племянника, Юстаса, и теперь я многое бы отдал, чтобы изменить это! Мы поссорились с ним из-за вас, мисс Смиссерс, потому что я не хотел вам дать еще денег за вашу книгу. Лучше было бы, если бы я дал вам их тогда! Я скверно поступил с вами, мисс Смиссерс, но коммерция есть коммерция! Я не мог сделать этого из принципа. Не старайтесь отплатить мне, мисс Смиссерс, я болен и беспомощен и, вы понимаете, поступал так из принципа… — Я не имею привычки мстить, мистер Мизон, — с достоинством ответила Августа, — но думаю, что вы поступили очень дурно, лишив наследства племянника, и не удивляюсь, что вы жалеете об этом. Спокойные и правдивые слова Августы затронули совесть мистера Мизона. Он начал изливаться в слезах и сожалениях. — Но чем горевать и убиваться, — возразила Августа, — лучше изменить завещание! Мы все, сколько нас есть, будем свидетелями, и если с вами что-нибудь случится, у вас останутся свидетели завещания! Это была новая мысль, и умирающий человек ухватился за нее. — Конечно, конечно! — сказал он. — Мне не пришло это в голову. Я так и сделаю, и Аддисон и Роскью останутся ни с чем. Юстас получит все. Дайте мне руку! Я пойду и все сделаю! — Погодите минуту! — остановила его Августа. — Как же вы будете писать без пера, карандаша, без бумаги и чернил? Мистер Мизон снова сел с тяжелым стоном… — Вы уверены, что ни у кого нет карандаша и кусочка бумаги? — спросил он. — Надо писать четко и разборчиво! — Я тоже так думаю, — согласилась Августа, — сейчас я узнаю. Она пошла и спросила Билла и Джонни. Ни у кого не было ни карандаша, ни клочка бумаги! Августа вернулась, опечаленная. — Я нашел, нашел! — вскричал мистер Мизон, когда девушка подошла к нему. — Если мы не найдем бумаги и карандаша, мы можем написать кровью на холсте или полотне. Можно сделать перо, ведь здесь много птиц. Я читал где-то о чем-то подобном. Надо будет так и сделать! Августа с радостью ухватилась за эту мысль, но сейчас же задумалась: где же взять холст? — Да, — произнесла она, — если только мы найдем холст или полотно. На вас надета фланелевая рубашка, у матросов — также, и у маленького Дика только фланель! Действительно, случилось так, что у них не было ни куска полотна. Нашелся один носовой платок, и тот весь дырявый. Все вещи Августы утонули вместе с «Канчаро». Они бы много отдали сейчас за полотняный носовой платок! — Да, — сказал мистер Мизон, — у нас ничего нет. У меня не найдется даже ни одного банковского билета, на котором я мог бы написать кровью, хотя и есть с собой сотня золотых соверенов! Простите меня, мисс Смиссерс, за нескромность… нет ли у вас чего из полотна… может быть, вы оторвете кусочек… Вы ничего не потеряете… Я обещаю вам, что уничтожу наш контракт, если буду дома, хотя это едва ли возможно… Я напишу на полотне, что он должен быть уничтожен! Вы получите пять тысяч фунтов, мисс Смиссерс! Может быть, вы оторвете кусочек от сорочки или от чего-нибудь другого? Никто ничего не узнает, а найти этот кусочек так важно! Августа сильно покраснела. — Мне очень жаль, мистер Мизон, но на мне нет ничего подобного! Ничего, кроме фланели, — добавила она. — Я вскочила ночью, было темно, набросила на себя что попало, рассчитывая вернуться и одеться! — Нет и воротничка? Может быть, найдется воротничок или подшивка у юбки? — спросил мистер Мизон, с отчаянием хватаясь за эту надежду. Августа печально покачала головой. — Тогда — кончено! — простонал мистер Мизон. — Юстас не получит моих денег. Бедный мальчик! Бедный! Я дурно поступил с ним! Августа ломала себе голову, — она решила, что Юстас Мизон не должен потерять ни пенни из своего колоссального наследства, если она может помочь ему. Но мистер Мизон мог умереть, а если он умрет, вероятно, они последуют за ним. Тогда никто не узнает о его желании изменить завещание! В это время пришел Билл, возившийся с флагом на утесе и напрасно старавшийся увидеть корабль. Его фланелевая куртка была разорвана на локтях, и Августа пристально разглядывала его мускулистые смуглые руки. Ей пришла в голову новая мысль. — Ничего не видать! — сказал матрос. — И я думаю, ничего и не будет. Мы останемся здесь, пока не умрем. — Я тоже не надеюсь, — согласилась Августа. — Пожалуйста, мистер Билл, скажите, это татуировка на вашей руке? — Да, мисс, это вытатуировано, — сказал Билл, поднеся свою огромную руку к ее носу. Вся рука была испещрена знаками, флагами, кораблями, а в середине их находилась надпись — имя матроса: Билл Джонс. — Кто это сделал вам, мистер Билл? — спросила Августа. — Кто сделал? Я сам. Один товарищ бился со мной об заклад, что я не сумею написать свое имя на руке… Я доказал ему… Августа не сказала более ни слова, пока Билл не ушел. — Теперь вы понимаете, что должны сделать? — обратилась она к Мизону. — Я? Нет, — ответил он, — не понимаю. — Как? Вы можете вытатуировать… заставьте матроса! Это, я думаю, недолго! — Вытатуировать?! Как это и чем? — спросил он с удивлением. — Вы можете вытатуировать свое завещание на спине матроса Джонни, если он позволит… Потом, у нас есть патрон от револьвера, и если порох смешать с водой… я думаю, можно это сделать! — Честное слово, — воскликнул мистер Мизон, — вы удивительная женщина! Кому могла прийти в голову такая мысль! Идите и спросите Джонни, позволит ли он татуировать свою спину? — Я попытаюсь! Взяв маленького Дика за руку, Августа пошла туда, где сидели оба матроса, и, улыбаясь своей милой улыбкой, спросила Билла, не согласится ли он для нее сделать маленькую татуировку? Мистер Билл, всеми силами старавшийся удержаться от искушения глотнуть рому, грациозно согласился исполнить ее просьбу, сказав, что видел поблизости много острых рыбьих костей, так как порох вовсе не годится для этой цели. Казалось, вдохновение сошло на него свыше, и он быстро пошел на берег. Тогда Августа, как только могла любезно и ласково, подошла к Джонни, который сидел спиной к хижине со страдальческим выражением на лице, вероятно, от головной боли после вчерашней попойки. Медленно и с большим трудом, потому что Джонни все воспринимал очень туго, она объяснила ему, что от него требуется. Когда он наконец понял, лицо его приняло странное выражение, он заговорил скорее резко, чем вежливо, ругая мистера Мизона, и отказался наотрез. Августа замолчала, ожидая, пока его гнев утихнет, затем снова приступила к делу. Она была уверена, что мистер Джонни не сомневается в важности этого документа и не откажет ей, если ему придется участвовать только в качестве свидетеля при татуировке и держать за руку Билла, пока тот вытатуирует его подпись. — Хорошо, мисс, — согласился он, — я не могу отказать вам, так как вы просите меня об этом, а не старый мошенник Мизон. Я и пальцем не шевельну ради него, мисс, это верно. — Так вы обещаете? — спросила Августа и вернулась к мистеру Мизону. По дороге она встретила Билла, который нес в руках что-то вроде рыбы, противное на вид, с длинными щупальцами и круглой головой, похожей на голову попугая. — Ну-с, мисс, я нашел этого джентльмена на берегу сегодня утром. Это каракатица… я добуду из нее чернил… отличных чернил!.. Порох здесь не годится! В это время они дошли до мистера Мизона, и здесь все дело, включая и упрямый отказ Джонни, было объяснено Биллу. — Я вижу, что надо теперь сделать… — произнесла наконец Августа. — Очевидно, татуировать придется вас, мистер Мизон! — Меня? — простонал Мизон. — Я буду татуирован, как дикарь, на мне будет татуировано мое собственное завещание! — Простите, иначе ничего не поделаешь! — заметил Билл. — Если вы будете ворчать, как же тогда писать завещание? Мы можем проколоть кожу острым камнем, — добавил он задумчиво, — но у нас нет соли, и вы не выдержите. А если солнце коснется татуировки, кожа сморщится, и никакие суды и законоведы Лондона не разберут ничего! Мистер Мизон громко застонал. — У нас есть здесь ребенок, — продолжал Билл, — кожа у мальчика белая, тонкая, и его легко татуировать, но придется его держать, ведь он начнет реветь! — Да, да — поспешно согласился мистер Мизон, — татуируйте ребенка! Он будет нам полезен! — Я не хочу и не позволю тронуть Дика, — возразила Августа с негодованием, — ребенок перепугается. Кроме того, никто не имеет права заклеймить его на всю жизнь! — Ну, тогда разговор окончен! — сказал Билл. — Деньги этого джентльмена пойдут, куда он назначил их ранее! — Нет, — заметила Августа, внезапно покраснев, — не окончен! Мистер Юстас Мизон был очень добр ко мне, и для того, чтобы он мог получить свои деньги, татуируйте меня! — Я хотел бы расцеловать вас! — вскричал Билл с восторгом. — Вы просто молодец-баба! Если бы я был молодым человеком, то непременно расцеловал бы вас! — Да, — подтвердил мистер Мизон, — это прекрасная мысль! Вы молоды, сильны, с голоду здесь не умрете… проживете долго, может быть, несколько месяцев! Начинайте. Я очень ослабел и не думаю, что переживу эту ночь! Если мы устроим дело и Юстас получит свое наследство, мне будет легче умереть!Глава 10
СМЕРТЬ МИСТЕРА МИЗОНА
Августа отвернулась от старика с жестом нетерпения. Его себялюбие и эгоизм возмущали ее. — Я полагаю, — обратилась она к Биллу, — что вам придется вытатуировать завещание на моей шее! — Да, мисс, это верно! — согласился Билл. — Понятно, мисс, для документа нужно место. Если бы это был корабль или флаг, или изображение молодого человека, я мог бы вытатуировать все это на вашей руке, но, чтобы написать целый документ, надо много места. Я покажу им, как умеет татуировать Билл Джонс! — Хорошо, — произнесла Августа со вздохом. — Я сейчас буду готова. Она ушла в хижину, сняла лиф платья и завернулась во фланель, оставив шею открытой настолько, насколько она бывает открыта в модном вечернем туалете светской дамы. Когда она вышла снова одетой или, вернее, раздетой для операции, Билл приготовил маленькую деревянную палочку, которую очинил, как карандаш, и вставил в нее длинную рыбью кость, потом обмакнул ее в чернила, взятые из каракатицы. — Ну, мистер Билл, я готова! — сказала Августа, садясь на камень и крепко сжав зубы. — Честное слово, мисс, вы — молодец! — повторил матрос, смотря на ее шею глазами художника. — Я никогда не видал такого прекрасного материала для работы. Повесьте меня, если мне не жаль вашу шею! Но хорошая татуировка только украшает человека, даже принцессу… ваше счастье, мисс, что я мастер татуировать! Августа закусила губу, и горькие слезы потекли из ее глаз. Прежде всего она была женщиной, и женские слабости не были чужды ей! Хотя она никогда не надевала платья с глубоким вырезом, но хорошо знала, что у нее очень красивая шея, и гордилась этим. Тяжело было сознание, что она всю жизнь будет носить на шее это смешное завещание, и зачем? Ради молодого человека, который вовсе и не думает о ней! Но сердце подсказало ей, что это неправда. Мистер Юстас Мизон не забыл о ней, он интересовался ею, а она, она должна была сознаться, что любит его. Она поняла это только здесь, в этом ужасном месте, в этом печальном царстве смерти, поняла, что любит его глубокой и нежной любовью. Если бы даже Августа не была по природе великодушной, смелой женщиной, она от всего сердца радовалась бы возможности принести для него эту жертву — довольно тяжелую, — потому что любовь способна на любые жертвы, на любые испытания ради любимого человека. — Начинайте, — произнесла Августа резко, — и, пожалуйста, скорее! — Хорошо, мисс! Что писать, джентльмен? Говорите покороче! — «Оставляю все мое состояние Юстасу Мизону», — кажется, это коротко! — проговорил мистер Мизон. — Я никогда не слыхал, чтобы капитал в два миллиона завещался кому-нибудь в шести словах! Билл приступил к операции. Августа слабо вскрикнула. — Ничего, мисс! — утешал ее Билл. — Вы скоро привыкнете! Августа крепко сжала губы и молчала, хотя ей было очень больно, так как Билл больше заботился о чистоте работы, чем о страданиях своей жертвы. Билл обмакивал рыбью кость в чернила, взятые из каракатицы, и усердно трудился. Целых три часа длилась операция. Наконец все было закончено и написано среднего размера буквами по всей шее до плеч. Августа чувствовала страшную слабость. Билл спросил ее, не оставить ли до завтра подпись под завещанием. Измученная до обморока, Августа решила покончить со всем разом. Она была заклеймена теперь навеки. Отложить подпись документа до завтра — мистер Мизон может умереть, Джонни — изменить свое намерение!.. Августа попросила Билла окончить работу, так как было только два часа ночи. К счастью, мистер Мизон был более или менее знаком с формальностями, необходимыми для составления завещания. Поэтому он решил, что будет достаточно, если он сделает один укол для собственной подписи и затем будет держать свою руку на руке Билла. Он взял рыбью кость и так глубоко запустил ее в тело Августы, что бедная девушка громко вскрикнула, потом положил свою руку на руку матроса, пока его подпись «Дж. Мизон» не была сделана. Настала очередь Джонни, который с любопытством наблюдал за всем происходящим. Так как он не умел татуировать, повторили тот же прием, что с мистером Мизоном. Затем Билл Джонс подписал свое имя как второй свидетель завещания. Начало светать, и документ был готов. Забыли только написать число. Августа встала с камня, на котором сидела, вынося эту пытку, шатаясь, прошла в хижину и упала на пол, чувствуя смертельную слабость. Только благодаря огромному усилию воли она преодолела боль и вытерпела операцию до конца. Она ощущала страшную боль в шее и тогда, когда очнулась и открыла глаза; вокруг царила полная темнота. Ее усталость была так велика, что, ощупав рукой Дика и убедившись, что он крепко спит, девушка опять закрыла глаза и заснула. Когда Августа снова проснулась, свет проникал в сырую лачугу. В дальнем конце ее лежал мистер Мизон. Она встала, чувствуя слабость, разбудила ребенка, повела к ручью и умыла. Стало холодно, так холодно, что Дик начал плакать. Тяжелые дождевые тучи висели над землей. Августа поспешила укрыться в лачуге и позавтракала вместе с Диком бисквитами и яйцами пингвинов. Вероятно, она ослабела от недостатка пищи, потому что долго ничего не ела, а поев немного, почувствовала себя бодрее. Затем она занялась мистером Мизоном. Очевидно, они хорошо сделали, что поспешили написать завещание, так как он был очень плох. Лицо его осунулось, зубы стучали, язык начал изменять ему. Августа пыталась дать ему поесть, но он не мог проглотить ничего, кроме воды. Сделав все, что возможно, для больного, Августа пошла посмотреть, что делают матросы, и встретила их на дороге. Было ясно, что они опять хватили рому, так как Билл шатался, а Джонни еле волочил ноги. Молодая девушка укоризненно посмотрела на них и попросила набрать птичьих яиц. Джонни наотрез отказался собирать их; если мисс нужны яйца пингвинов, она может сама набрать их! Билл взглянул на нее блуждающими глазами, ушел и через час вернулся, неся шесть или семь дюжин свежих, еще теплых яиц. Августа с ребенком на руках сидела в жалкой хижине около больного. Снаружи лил дождь и проникал через крышу лачуги. Она всеми силами старалась спасти от дождя умирающего человека, но это было невозможно. Пока она всячески оберегала его от дождя, который капал через крышу, сырость пронизывала больного с полу, все его платье и одеяло были мокрыми. Сознание вернулось к умирающему вместе с ужасом смерти и угрызениями совести за прошлую жизнь… Увы! Все его миллионы не могли теперь помочь ему! — Я умираю! — простонал мистер Мизон. — Умираю! Я был дрянным человеком, всю свою жизнь я был главой издательской фирмы «Мизон и К°»! Августа мягко заметила ему, что издательская деятельность — дело почтенное и полезное. Он печально покачал головой. — Да, да, — простонал он, — но вы не знаете Мизона… Вы не знаете обычаев фирмы «Мизон и К°»! Августа подумала, что знает эти обычаи больше, чем желала бы знать. — Слушайте, — начал мистер Мизон, делая над собой отчаянное усилие и садясь, — я скажу вам… я должен сказать вам… Августа с ужасом выслушала исповедь и невольно подумала, что участь исповедников очень тяжела. — Довольно, прошу вас! — произнесла она. — Я не могу слышать этого… не в силах. — А! — сказал мистер Мизон, устало откидываясь назад. — Я думал, что, когда вы узнаете наши правила и обычаи, вы поймете, каково мне теперь. Подумай, девушка, подумай, как я страдаю, имея такое прошлое, лицом к лицу с неизвестным будущим! Наступило молчание. — Прочь! Прогоните его прочь! — внезапно закричал мистер Мизон, дико вращая глазами. — Кто? Кого? — Прочь! Прочь! Высокий худой человек с книгой! Я знаю его. Это Номер двадцать пятый, он умер несколько лет тому назад. Слушайте! Он говорит! Разве вы не слышите? О Небо! Смотрите! Они все бегут сюда, из всех углов! Они хотят убить меня! Держите! Держите их! Он ловил руками воздух и стонал. Пораженная этим зрелищем, Августа встала на колени и пыталась успокоить его, но напрасно. Он ловил воздух, хватал кого-то невидимого, наконец упал и умер. Такова была смерть богача Мизона. На что ему теперь — все его издания, его деньги, дворцы, из-за которых он наделал столько зла… — Я рада, что все кончено, — прошептала Августа, — надеюсь, что мне никогда не придется больше быть свидетельницей смерти какого-нибудь директора издательской фирмы. Это ужасно! — Тетя! Тетя! — бросился к ней Дик. — Отчего этот джентльмен так кричал? Августа взяла за руку испуганного ребенка и, несмотря на дождь, пошла в другую хижину, чтобы сказать матросам о том, что произошло. У хижины не было двери, и Августа остановилась у входа. Слабый свет едва проникал в лачугу. Сначала она ничего не могла разглядеть. Когда глаза ее привыкли к темноте, она увидела матросов, сидевших на полу около бочонка с ромом. В руке Билла был черепок, который он наполнял ромом и пил. — Моя очередь! Проклятье! Моя очередь! — кричал Джонни. — Ты выпил семь раз, а я только шесть! — Пусть тебя повесят! — ответил Билл, глотая ром. — Так-то лучше! Теперь я тебе налью, дружище! Он снова наполнил черепок. — Мистер Мизон умер, — сказала Августа, собирая все свое мужество, чтобы прервать оргию. Оба помолчали, пьяные и отупелые. — Где он теперь, мисс? — произнес Джонни, икая. — Где он? Я сомневаюсь, чтобы он попал в лучшее место, чем здесь, и выпью за его благоденствие, потому что раньше не мог сделать этого. Ну, за здоровье умершего! Он выпил залпом весь черепок. — Я разделяю твои чувства! — проговорил Билл. — Джонни, налей мне, и я выпью за здоровье дорогого покойника! Августа отошла от хижины с тяжелым сердцем. Придя к себе, она накрыла труп, чем только могла, и сказала маленькому Дику, что мистер Мизон лег бай-бай. Затем она села в стороне, подальше от мертвого тела. Это было очень тяжело, но Августа утешалась мыслью, что мистер Мизон мертвый не так дурен, как живой. Наступила ночь. Августа помолилась и легла спать, обнимая Дика. Ее разбудили громкие, дикие крики, пьяное пение, брань. Вероятно, матросы сильно напились и вышли подышать ночным воздухом. Крики и проклятия долго звучали в ушах Августы, потом раздался ужасный вопль — и все стихло. «Что там случилось?» — подумала Августа и снова заснула.Глава 11
СПАСЕНЫ!
Августа проснулась на рассвете. Она встала, когда Дик еще спал, и, вспомнив ночной шум, побежала в хижину матросов. Там было пусто. Она повернулась и огляделась. На полу, недалеко от того места, где она стояла, валялся черепок, из которого пьяницы пили ром. Августа подняла его. От черепка шел отвратительный спиртной запах. Вероятно, матросы обронили его во время ночной оргии. Но куда они ушли? Она вышла из хижины. Прямо перед ней возвышался утес, нависавший над водой. Она поднялась туда и увидела на земле шляпы матросов. Ясно было, что они проходили здесь. Поднявшись на самую вершину утеса, Августа наклонилась вперед, взглянула в воду и отступила назад с криком испуга. На песчаном берегу, наполовину в воде, лежали два трупа. То были оба матроса; они держались за руки и казались крепко спящими. Как это случилось, она не знала. Быть может, они поссорились и упали со скалы или оступились, не видя, куда идут. Кто знает! Во всяком случае, они умерли и останутся тут, пока волны не смоют их трупы и не присоединят их к обществу утонувших пассажиров «Канчаро». Августа осталась одна. Грустная вернулась она в сырую лачугу, подавленная своим одиночеством и мыслью, что едва ли она избежит смерти в этом ужасном месте! Ни одного человеческого существа не было около нее, кроме ребенка. Дик проснулся и звал ее. Труп мистера Мизона, закрытый парусом, испугал мальчика. Августа нежно обняла Дика и страстно поцеловала. Она горячо любила этого ребенка, которого спасла. Он один охранял ее от полного одиночества. Девушка увела мальчика в другую, теперь пустую лачугу, потому что ей казалось невозможным оставаться тут, вместе с мертвецом. Посередине этой лачуги стоял бочонок с ромом, почти пустой, так что она легко откатила его в сторону. Затем она прибрала, насколько было возможно, хижину, вернулась к себе забрать ящик с бисквитами и птичьими яйцами, взглянула на труп Мизона и покинула свое старое жилище. Позавтракав, они вместе с Диком пошли собирать яйца. Хотя яиц у них оставалось много, но Августе хотелось занять мальчика. Шел мелкий дождь. Оба взобрались на утес, где развевался флаг, и смотрели на волнующийся океан. Ничего, ничего перед их глазами, кроме бескрайних водных просторов, кроме бушующих, рокочущих волн. Августа долго вглядывалась вдаль, и сердце ее сжала тоска. — Скоро ли мамми приедет на лодке забрать Дика? — спросил ребенок. Молодая девушка залилась слезами. Поплакав, она приласкала мальчика и снова занялась с ним собиранием яиц. Это занятие очень нравилось Дику, несмотря на злобные крики и сопротивление птиц. Скоро они набрали массу яиц, вернулись в хижину, развели огонь и испекли их в золе, потому что варить было не в чем. Часы проходили, ночь спускалась на землю. Августа уложила Дика спать. Она удивлялась, как легко переносил ребенок все неудобства положения, не болел и ничем не страдал. Когда Дик уснул, Августа села, или, вернее, легла, на пол, прислушиваясь к завыванию ветра в горах. Тишина, мрак, одиночество подавляли молодую девушку. Шансов на спасение почти не было. Корабли не часто посещают пустынный, негостеприимный берег, и если какому-то судну придется зайти сюда, оно может пристать к другой оконечности острова и не заметить флага. Тогда наступит конец. Запас яиц истощится, ребенок заболеет и умрет. Она последует за ним. Что, если она умрет раньше его? Какой ужас! Тогда мальчик умрет от голода и страха… Августа тихо заплакала. Завтра — Рождество! Прошлое Рождество она проводила в Бирмингеме с дорогой сестрой. Они пошли утром в церковь, а после обеда она заканчивала корректуру своей книги. Религиозная и верующая, Августа встала на колени и начала горячо молиться, чтобы Бог спас ее от ужасного положения, а если ей суждено погибнуть здесь, то она просила Бога спасти бедного, одинокого ребенка! Так прошла долгая ночь. За два часа до рассвета Августа заснула. Когда она открыла глаза, было светло, и маленький Дик, проснувшийся раньше ее, играл черепком, из которого матросы пили ром. Девушка встала, оправила платье ребенка и велела ему побегать на воздухе, пока она оденется и вытрясет всю одежду и одеяла. Она медленно, не торопясь, занялась этим, раздумывая о том, как долго чувствуется боль в шее от татуировки. Вдруг Дик прибежал к ней, запыхавшись. — Тетя! Тетя! — кричал он в восторге. — Там корабль плывет с парусами… Это мамми и дэдди едут за Диком! Правда? Августа зашаталась, потрясенная известием. Если это корабль — они спасены! Но, может быть, ребенку показалось?! Она набросила на себя платье, — ее длинные волосы, которые она обычно схватывала в узел и закалывала деревянной палочкой за неимением шпильки, рассыпались по плечам, — схватила мальчика за руку и стремглав побежала к утесу. Не успев добежать до скалы, она убедилась, что ребенок сказал правду… С моря прямо к фьорду направлялось парусное судно. Оно находилось в двухстах ярдах от того места, где они стояли, и, очевидно, готовилось бросить якорь. Горячо возблагодарив Бога, Августа поспешила взобраться на вершину утеса и стояла здесь, размахивая шапочкой Дика. Судно шло медленно и плавно… До ее ушей доносились теперь плеск воды, скрип якорной цепи… Затем она услышала человеческие голоса. Ее, очевидно, заметили. Через пять минут от судна отделилась лодка и поплыла к берегу. Вот она уже близко, в десяти шагах. — Объезжайте кругом! — закричала Августа. — Я встречу вас! Пока она успела сбежать с утеса, лодка причалила к берегу. Высокий худой человек заговорил с ней с явным акцентом чистокровного янки. — С вами что-нибудь случилось, мисс? — спросил он. — Да, — ответила Августа, — мы спаслись здесь, потерпев кораблекрушение на «Канчаро», который столкнулся с китобойным судном неделю тому назад! — А! С китобойным судном! — вскричал капитан. — Я догадываюсь… Там находился мой товарищ! Может быть, мисс, вы сообщите мне подробности? Августа кратко рассказала всю ужасную историю кораблекрушения, которая взволновала даже флегматичного янки. Потом она повела капитана в лачугу, где лежал труп Мизона, и показала ему свою хижину. — Я понимаю, мисс, — сказал капитан Томас, — что вам и мальчику страшно хочется избавиться от этих палат. Пожалуйте, я отвезу вас на «Гарпуне» — так называется мое судно — в Соединенные Штаты. На нашей шхуне — неприятный запах сала, но, может быть, вы как-нибудь перенесете это! Моя жена осталась там, на шхуне, она настоящая англичанка, как и вы, и сделает все возможное, чтобы устроить вас поудобнее. И — знаете что? Я от души благодарю Бога, что увидел ваш флаг в подзорную трубу и сейчас же направился сюда, хотя прежде намеревался пристать к другому месту, за двадцать миль отсюда. Теперь, мисс, поезжайте на шхуну, а несколько человек из моего экипажа останутся здесь, чтобы похоронить джентльмена! Августа сердечно поблагодарила капитана, побежала в лачугу, взяла свою шляпу и мешочек с соверенами, который мистер Мизон передал ей, предоставив матросам захватить одеяла. Двое матросов сели в лодку и увезли ее и Дика от этого ужасного берега. Подъехав к «Гарпуну», Августа увидела весь остальной экипаж шхуны. Между ними находилась женщина, которая сердечно приветствовала молодую девушку. Палуба шхуны, на которую Августа взошла, несмотря на отвратительный запах, показалась ей восхитительным местом. Миссис Томас, миловидная и любезная женщина тридцати лет, дочь фермера, эмигрировавшего в Америку, обласкала ее и приняла самым радушным образом. Августа должна была снова рассказать всю свою историю, затем ее повели в капитанскую каюту, которую с этих пор заняли миссис Томас, Августа и маленький Дик. Капитан устроился в другом месте. В первый раз за всю неделю Августа помылась и оделась как следует. Какой роскошью казалось ей чистое белье после всех лишений! Как вкусен был обед! Когда Августа, вздыхая от радости и облегчения, причесывалась, распустив свои великолепные волосы, миссис Томас постучалась в дверь и вошла. — Ах, мисс, какие у вас прекрасные волосы! — воскликнула она с восхищением. — Что это такое у вас на шее? Августа рассказала ей всю историю татуировки. Миссис Томас слушала ее, раскрыв рот от удивления, поражаясь мужеству Августы и жалея ее. — В конце концов, джентльмен, для которого вы принесли такую жертву, должен жениться на вас! — заметила практичная леди. — Пустяки! Вздор! — воскликнула Августа, сильно покраснев и энергично топнув ногой. Она сама не отдавала себе отчета, почему ее так задело невинное замечание миссис Томас. Усадив Дика и Августу завтракать (оба находили каждое блюдо восхитительным), миссис Томас, заинтересованная рассказом о татуировке на шее Августы, не могла сдержать своего любопытства и отправилась на берег, чтобы увидеть лачугу и труп Мизона. Большая часть экипажа отправилась с ней запастись водой для дальнейшего путешествия. Оставшись одна, Августа ушла в каюту, взяв с собой Дика, и с чувством радости и благодарности легла и крепко заснула.Глава 12
САУТХЕМПТОНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Когда Августа проснулась и открыла глаза, то по сильному покачиванию шхуны сейчас же поняла, что они вышли в море. Она встала, пригладила волосы и вышла на палубу. Очевидно, она спала несколько часов, потому что солнце близилось к закату. Молодая девушка, держа Дика за руку, подошла к миссис Томас, поздоровалась с ней и осталась на палубе любоваться закатом солнца. Зрелище было прекрасное. Огромные волны, гонимые западным ветром, который в этих широтах очень силен и дует порывами, нагоняли друг друга, пенились и неслись дальше, разбрасывая соленые брызги. Солнце село, и его прощальные лучи проникли в недра моря, скользнули к западу, озарив бледные облака, и окрасили бесконечную водную гладь багряным отблеском. Они нежно коснулись парусов шхуны, блеснули там и здесь, пока не исчезли на краю горизонта. В нескольких милях позади остался остров Кергелен. В потемневшем небе мрачно высились его суровые утесы в своем вечном уединении. Последний отблеск солнца озарил белоснежные вершины гор. Августа посмотрела на них и вздрогнула. Это был ужасный, кошмарный сон! Мрачная тень ночи окутала горы своим покровом. Они исчезли. Августа потеряла их из виду. Слава Богу, больше она никогда их не увидит! Ночь надвигалась, облака покрыли небо. Потом дивный небесный свод очистился и засиял мириадами золотистых огней. Западный ветер запел дикую песню, паруса хлопали и надувались, шхуна быстро двигалась вперед. Кругом царила величавая, всевластная ночь! Августа долго смотрела в темноту и вздыхала, сама не зная о чем. Юная горячая кровь текла в ее жилах, и она радовалась, что целая жизнь лежит перед ней. Она могла умереть там, на этом ужасном берегу, ее талант погиб бы, не успев заявить о себе миру. Теперь все это прошло, как сон, и близость смерти научила ее еще больше ценить жизнь. Прошло три месяца, три долгих месяца плавания на шхуне, борьбы с волнами и ветром. Все шло хорошо, пока они не добрались до скал Святого Павла, где их задержал на некоторое время встречный ветер. Потом «Гарпун» направился дальше к северу и зашел на Азорские острова запастись водой и провизией. Здесь Августа простилась со своими друзьями, потому что китобойная шхуна, спасшая ей жизнь, отдохнув, снова должна была начать свое бесконечное путешествие. Августа стояла у водопада Понта-Делгада и смотрела, как отправлялся в путь «Гарпун». Команда тепло прощалась с ней, потому что за время путешествия весь экипаж шхуны, до последнего мальчишки, полюбил молодую девушку. Капитан Томас снял шляпу при прощании. Августа долго махала им носовым платком, и глаза ее наполнились слезами. Ей было жаль расставаться с этими людьми, она была счастлива на шхуне, потому что они относились к ней с редкой добротой и лаской; это характерная черта американцев по отношению к несчастным, страдающим людям. И не одна Августа с тоской следила за отплывавшим судном. Маленький Дик, отлично чувствовавший себя во время путешествия, подружился с одним матросом-американцем, подарившим ему на память о спасении его с острова Кергелен огромный китовый зуб, на котором заботливо вырезал какое-то изображение. Мальчик горько оплакивал разлуку со шхуной и со своим другом. Плакала и миссис Томас. Когда шхуна остановилась у острова Святого Михаила, Августа предложила капитану заплатить за себя пятьдесят фунтов, половину суммы, данной ей мистером Мизоном, но капитан Томас категорически отказался взять с нее что-нибудь. Августа настаивала. Тогда пошли на компромисс. Миссис Томас страдала тоской по родине и жаждала побывать в Англии, где родилась и выросла. Но это стоило недешево. Тогда решили, что пятьдесят фунтов пойдут для этой цели и миссис Томас отправится вместе с Августой и Диком на родину. Теперь обе женщины стояли, провожая «Гарпун», и ожидали пакетбот, который должен был доставить их в Саутхемптон. Солнце садилось. Нежные сумерки окутали волшебный остров Святого Михаила, где природа вечно свежа и прекрасна, как юная невеста, не знающая томлений и страданий материнства. В последующие годы Августа часто вспоминала эту дивную природу, чудный запах апельсиновых деревьев, чарующее зрелище ярко-красных гранатов и роскошных пунцовых роз. Это было изумительное время. Английский консул принял их очень любезно и гостеприимно, так как считал необходимым выказать возможное радушие и участие по отношению к потерпевшим кораблекрушение. Удовольствие Августы было несколько отравлено любезностями консула, галантного чиновника с рыжеватыми волосами. Он так заинтересовался ее приключениями, литературной известностью, ее милой особой, что готов был влюбиться в нее. Это не очень понравилось молодой девушке. Но время шло без всяких треволнений, и однажды утром явился человек с известием, что в гавань зашел пакетбот, который направляется в Саутхемптон. Августа ласково простилась с рыжеволосым консулом, который долго вздыхал и смотрел ей вслед. Раздался звонок, винты заработали, и консул остался один. Через короткое время Августа, Дик и миссис Томас очутились на Саутхемптонской набережной, в центре удивленной и восхищенной толпы народа. Капитан пакетбота не преминул рассказать официальным лицам, посетившим корабль, удивительную историю своих пассажиров. Официальные лица, сойдя на берег, оповестили об этом всех, кого встретили… Удивительная новость, что двое пассажиров злосчастного «Канчаро» — трагическая история гибели этого корабля облетела всю Англию и наполнила ужасом весь читающий мир — уцелели и прибыли сюда на вест-индском пакетботе, ходила по городу в разных версиях. Когда Августа, Дик и миссис Томас сошли на берег, их история была уже известна всем. Едва они ступили на набережную, как к ним одним прыжком подскочил дикого вида человек с записной книжкой в руках и закидал их вопросами. Августа нашла невозможным ответить на все эти вопросы и удовлетворилась односложным «да». Потом она с удивлением прочитала в газете трогательное описание кораблекрушения, ее страданий и смерти мистера Мизона. Один интервьюер, небольшого роста человечек, не мог пробиться сквозь толпу, кольцом окружавшую новоприбывших, и набросился на маленького Дика, засыпав его вопросами. Дик, страшно испуганный, с ревом убежал от него. Это нисколько не помешало предприимчивому господину поместить в газете «Рассказ ребенка о гибели корабля». И не одна только непобедимая армия интервьюеров угрожала им! Толпа народа окружила их, маленькие девочки поднесли им букеты, одна старая леди, в голове которой крепко засела мысль, что несчастным пассажирам погибшего корабля нечего надеть на себя, явилась сюда с целым ворохом белья и платья… А высокий джентльмен с красивыми усами сунул в руку Августы клочок бумаги, исписанный карандашом. Когда Августа прочла записку, в ней оказалось предложение руки и сердца! … Наконец они очутились в вагоне первого класса на железнодорожной станции Саутхемптона. Двое репортеров, просунувших головы в окна вагона, отлетели в сторону, высокий джентльмен с красивыми усами нежно улыбался, и в этой улыбке скромность боролась с надеждой; в следующий момент поезд тронулся. Августа со вздохом облегчения откинулась назад и разразилась смехом, вспомнив джентльмена с красивыми усами. Около нее какой-то предусмотрительный человек положил кучу газет. Августа взяла первую попавшуюся под руку газету, перевернула страницу и пробежала репортерские отчеты о разводах и завещаниях, утвержденных высшей инстанцией суда. Один из них гласил следующее: …Высокочтимому президенту[470] было подано заявление по делу покойного Мизона в связи с гибелью «Канчаро» восемнадцатого декабря прошлого года. Как известно, на этом корабле находилось около тысячи человек, из которых спаслись на лодке только двадцать пять… Среди погибших находился мистер Мизон, стоявший во главе известной издательской фирмы в Бирмингеме — «Мизон, Аддисон, Роскью и К°». Он направлялся в Новую Зеландию и Австралию по делам фирмы. Мистер Фиддлстик вместе с мистером Пирлом явились в качестве представителей истцов и заявили, что факт гибели «Канчаро» еще так свеж в памяти его сиятельства господина президента, что нет необходимости рассказывать подробности, хотя у них есть клятвенные показания очевидцев крушения. Милорд, вероятно, припомнит, говорили они, что только несколько человек спаслись в лодке во время этого ужаснейшего кораблекрушения. Среди погибших был и мистер Мизон. Это прошение было от имени его душеприказчиков по поводу завещания от десятого ноября. Состояние покойного Мизона, отказанное в его завещании, очень велико, по словам мистера Фиддлстика — около двух миллионов фунтов стерлингов. Не угодно ли будет милорду судье тщательно изучить дело и утвердить завещание? Президент.Хорошо, но состояние завещателя не имеет ничего общего с принципами, которыми руководствуется суд при рассмотрении его предполагаемой смерти, мистер Фиддлстик! Мистер Фиддлстик.Пусть так, но я полагаю, что милорд удовольствуется моим заявлением, что я не вижу никаких причин неутверждения завещания. Наконец, нет оснований предполагать, что мистер Мизон мог спастись от гибели. Президент.Есть ли у вас клятвенные показания свидетелей, видевших Мизона в воде? Мистер Фиддлстик.Нет, милорд. У меня есть клятвенное показание одного матроса по имени Оукерс, единственного человека, выплывшего из воды при гибели «Канчаро», который утверждает, что видел, как мистер Мизон прыгнул в воду, но о том, что с ним произошло дальше, Оукерс ничего не знает и не хочет дать клятву, что мистер Мизон погиб! Президент.Хорошо. Пусть так. Но суд не может удовлетвориться лишь предположением о смерти завещателя, он должен иметь на руках точные данные… Около четырех месяцев прошло со времени гибели «Канчаро», что делает совершенно невероятным тот факт, чтобы кто-нибудь из пассажиров уцелел; я также полагаю, что мистер Мизон разделил судьбу других пассажиров «Канчаро». Мистер Фиддлстик.Предполагается, что он умер восемнадцатого декабря. Президент.Да, восемнадцатого декабря. Мистер Фиддлстик.Как вам угодно, милорд… Августа бросила газету. Она была здесь, жива и невредима, с настоящим завещанием мистера Мизона, которое вытатуировано на ее шее. «Завещание утверждено» — что это значит? Ведь это не настоящее, последнее завещание покойного Мизона… Она подумала, в своем неведении, что это ее завещание, может быть, неверно составлено, что она бесцельно перенесла жестокую операцию и напрасно заклеймила себя на всю жизнь. Это было уже слишком! Августа схватила номер «Таймса», сердито бросила его в окно и откинулась на спинку сиденья, едва сдерживая накипавшие на глазах слезы…Глава 13
ЮСТАС ПОКУПАЕТ ГАЗЕТУ
Скорый поезд доставил Августу и ее спутников на вокзал Ватерлоо. Поезд шел быстро, но телеграф работал еще быстрее. Все вечерние газеты вышли с приложением, где было описано спасение уцелевших пассажиров «Канчаро» и сообщалось, что они прибудут в Ватерлоо поездом-экспрессом в пять часов вечера. Результатом этого было то, что, когда поезд остановился у платформы, Августа ужаснулась, увидев сплошную массу народа, еле сдерживаемую полицейскими. Едва отворилась дверь вагона и нога Августы ступила на платформу, толпа увидала ее. Раздался громкий приветственный крик сотни голосов. Августа спряталась обратно в вагон. С минуту она стояла в нерешительности. Толпа, разглядев ее красоту (которая стала еще более яркой за время трехмесячного путешествия по морю, значительно укрепившего ее здоровье), разразилась восторженными восклицаниями… Толпа любит красивые лица… Пока Августа стояла на платформе, не зная, что делать, до слуха ее донеслось громкое: «Дайте дорогу, дайте дорогу!» Она увидела, как толпа расступилась перед кучкой официальных лиц, которые сопровождали какую-то даму во вдовьем платье и в трауре. Радостный крик… Красивая леди с бледным лицом бросилась к маленькому Дику, крепко прижала его к себе, плача и смеясь в одно и то же время. — Мальчик мой! Дитя мое! — восклицала леди Холмерст. — Я думала, что вы оба умерли, давно умерли! Она повернулась к Августе и на глазах всей толпы повисла у нее на шее, нежно целовала ее, благословляла и благодарила за спасение своего единственного ребенка. Толпа кричала, плакала вместе с ними, вопила и клялась Небом, что никогда не видела более трогательного зрелища. Среди шума и рева толпы они прошли к коляске, запряженной парой лошадей, и сели в нее, миссис Томас — на переднее место коляски, леди Холмерст и Августа — на заднее. Мальчик приютился на коленях матери. На этом история маленького Дика кончается. Дальнейшая его судьба нам неизвестна. Когда Юстас Мизон приехал в Лондон, он, как известно, получил место лектора. Случилось так, что в этот самый день, после полудня, окончив занятия, он рассеянно бродил по улицам. Юстас заметно побледнел и осунулся. Когда Августа исчезла, он понял, что глубоко и сильно любит ее и что эта любовь никогда не изгладится из его сердца. Подобное глубокое, беззаветное чувство, когда оно всецело овладевает человеком, становится для него или величайшим счастьем в жизни, или роковым проклятием судьбы. Юстас видел Августу два раза, но страсть не требует постоянного присутствия обожаемого существа. Он не жаждал частых свиданий и разговоров с ней, потому что у него были ее книги — ее сочинения. Тем, кому хочется узнать что-либо о писателе, достаточно прочитать его произведения, чтобы составить себе понятие о нем, о его образе мыслей, его характере. Любимый писатель и читатель всегда находятся в тесном душевном соприкосновении. Писатель размышляет на страницах своей книги, и, хотя бы он был беднейший из всех авторов, он обладает способностью воспроизводить образы, которые отражаются в зеркале его сердца. Юстасу, который несколько раз перечитал «Обет Джемимы», казалось, что он близко знаком с автором. Направляясь домой в этот тихий майский вечер, он с тоской размышлял о том, как много потерял с гибелью «Канчаро». Он потерял любимую девушку, дядю и его наследство. Юстас читал в «Таймсе» об утверждении завещания и знал, что лишен наследства. Он потерял наследство по милости Августы, а теперь потерял и Августу. Не без ужаса размышлял он о долгом и невеселом существовании, которое предстояло ему. Со вздохом вышел Юстас на Веллингтон-стрит, одну из бойких улиц благодаря торговцам, снующим взад и вперед. Он остановился, пережидая толкотню, как вдруг к нему подбежал мальчик с кипой газет под мышкой, оглашая воздух пронзительными восклицаниями. — Чудесное спасение леди и ребенка! — кричал он. — Приключения пассажиров «Канчаро» — удивительное спасение, пустынный остров, прибытие в Англию! Юстас подскочил, купил газету и остановился в дверях ювелирной лавочки, торговавшей разными подозрительными драгоценностями, чтобы прочитать ее. «В следующем столбце, — мелькали перед глазами газетные строки, — мы помещаем краткое сообщение, полученное нами по телеграфу из Саутхемптона, о замечательнейших приключениях, о каких мы когда-либо слышали. Спасение мисс Августы Смиссерс и маленького лорда Холмерста — пассажиров злополучного «Канчаро», — их пребывание на острове Кергелен, откуда их взяла американская шхуна, — несомненно, можно отнести к наиболее романтическим приключениям среди анналов ежегодных кораблекрушений. Мисс Смиссерс, известная читающей публике как автор книги «Обет Джемимы», прибудет на станцию Ватерлоо с поездом-экспрессом сегодня…» Юстас не стал читать дальше. Взволнованный до крайности, совершенно обессилев, он прислонился к двери лавки, которая, неожиданно отворившись, толкнула его в спину. В одну секунду молодой человек пришел в себя и с такой быстротой побежал по улице, что лавочник приготовился закричать: «Держи вора!» Было пять часов вечера. Станция Ватерлоо находилась в четверти мили. Юстас вскочил в проезжавший извозчичий кеб. — Ватерлоо, Центральная линия! — крикнул он. — Пожалуйста, поскорее! Кеб быстро покатился по мосту. Через десять минут Юстас очутился на станции, где собралась масса народа, встречавшая поезд. Он отпустил кеб, бросив кебмену полкроны, и устремился вперед, расталкивая толпу, пока не добрался до коляски, которая готовилась уехать. — Стой! — крикнул он изо всех сил кучеру, который придержал лошадей. Юстас увидел прелестное лицо той, которую любил. Она услышала его голос, узнала его, и глаза их встретились. Луч счастья скользнул по ее нежному лицу, которое залилось густым румянцем. Он хотел что-то сказать — и не мог. Дважды пытался он заговорить, но тщетно… — Слава Богу! — пробормотал он наконец. — Слава Богу, вы живы и здоровы! Вместо ответа она протянула ему руку и одарила его нежным, любящим взглядом. Юстас взял ее руку и поцеловал. — Где я увижу вас? — нашел он наконец в себе силы спросить. — У леди Холмерст. Приходите завтра утром, мне надо кое-что сказать вам! — ответила она. Лошади тронулись, и коляска уехала, сопровождаемая приветственными криками толпы. Юстас остался в таком состоянии, которое легче представить себе, чем описать.Глава 14
СВИДАНИЕ
Прежде всего Юстас отправился в клуб и разыскал в книге адрес леди Холмерст. Ее лондонский дом находился на Ганновер-сквер. Вернувшись домой, он наскоро пообедал. Потом какое-то беспокойное чувство овладело им, и он отправился бродить по улицам. Целых три часа молодой человек гулял, что, несомненно, было очень полезно для него, так как он редко совершал моцион. Затем он направился к дому леди Холмерст. Некоторым затруднением для него было найти нужный номер дома. Ночь стояла теплая, окно одного из домов было открыто, и в гостиной виднелся свет. Юстас перешел на другую сторону улицы и, опершись на железную решетку сквера, заглянул в окно. Он был вознагражден за все свои старания и труды, потому что через тонкую шторку различил силуэты двух женщин, сидящих на оттоманке, лицом к окну. Одна из женщин была Августа, которую он сейчас же узнал. Опершись головой на руку, она разговаривала со своей подругой. Ему хотелось позвонить, войти и повидать ее. Зачем он будет ждать до завтра? Но, несмотря на свое желание, он остался на месте и стоял, пока полицейский не заметил его и, сочтя его поведение подозрительным, не попросил уйти. Конечно, смотреть на свою возлюбленную и любоваться ею — приятное занятие, но, если бы Юстас не только видел подруг, но и слышал разговоры в гостиной, он заинтересовался бы еще больше. Августа подробно рассказывала о жизни и происшествиях на острове Кергелен, о татуировке на своей шее. Леди Холмерст слушала, широко раскрыв глаза и уши. — Этот молодой человек придет к вам завтра утром, — сказала леди Холмерст, — как хорошо! Я видела его, он очень красив, у него такие добрые, милые глаза. Право, все это ужасно романтично! — Может быть, и романтично, Бесси, — ответила Августа, — но мне это неприятно! Не говорю о самой операции татуировки на пустынном острове. Но показывать эту татуировку в лондонской гостиной — это совсем другое дело! — Конечно, мистер Юстас должен видеть завещание… — Но, скажите мне, Бесси, как я покажу ему это завещание? Ведь оно написано на моей шее! — Я что-то не замечала, — сухо заметила леди Холмерст, — чтобы молодые девушки любили прятать свою шею. Если вы сомневаетесь в этом, рекомендую вам поехать на первый же лондонский бал! Надо только надеть открытое бальное платье! — Я никогда не надевала открытых платьев! — Вот как? — мрачно удивилась леди Холмерст. — Ну, вам придется привыкать к этому.Конечно, если вам не хочется, тогда лучше ничего не говорить ему о завещании, — добавила она, — хотя это будет уже целым сложным преступлением! — Преступлением! Я не вижу тут никакого преступления! — Разумеется, преступление! Вы украдете завещание — это само по себе уже является преступлением; если вы не покажете его мистеру Юстасу — это удвоит его. В общем — двойное преступление с вашей стороны! — Пустяки! — заявила Августа на такое возражение. — Как я могу украсть свои собственные плечи? Это же невозможно! — О нет, вы не понимаете, какая это интересная вещь! У меня был кузен, который готовился стать адвокатом, я много занималась тогда разными юридическими вопросами. Бедняга! Он срезался на экзамене восемь раз! — Хорошо, значит, я должна надеть открытое платье, но это ужасно, право, ужасно! Вы одолжите мне такое платье, не правда ли? — Дорогая моя! — ответила леди Холмерст, взглянув на свой траурный наряд. — У меня нет теперь таких платьев, но я поищу… Я носила их, пока мой муж был жив! — Глаза ее наполнились слезами. Августа взяла подругу за руку и начала толковать об опасностях и лишениях, которые перенесла, потом свела разговор на маленького Дика. Леди Холмерст улыбнулась при мысли о дорогом мальчике, своем единственном ребенке, который сладко спал в детской кроватке и не утонул, как она полагала, в волнах океана. Она взяла руку Августы, поцеловала ее и снова благодарила за спасение ребенка, пока дворецкий не отворил двери и не доложил, что два джентльмена желают повидать мисс Смиссерс. Августа снова попала в руки интервьюеров. За ними появились представители какой-то пароходной компании, несколько репортеров, художник одного иллюстрированного журнала — и так далее, до глубокой ночи, когда Августа могла наконец запереть дверь и лечь в постель. На следующее утро Августа появилась за завтраком, одетая в чрезвычайно открытое платье, которое леди Холмерст приказала вычистить и подновить. Никогда не приходилось Августе носить такое платье, и, попробовав надеть его в первый раз днем, молодая девушка чувствовала себя так неловко, как трезвый и умеренный человек, который вынужден впервые выпить водки. Делать было нечего. Набросив на плечи шаль, она спустилась вниз. — Дорогая моя, дайте мне взглянуть! — сказала леди Холмерст, когда служанка вышла из комнаты. Августа со вздохом сняла шаль, и леди Холмерст поспешила к ней. На шее молодой девушки было написано завещание. Татуировка была так свежа, словно ее только что сделали, и, несомненно, останется на шее Августы до конца ее жизни. — Я надеюсь, что молодой человек будет глубоко благодарен вам! Мне кажется, что надо действительно горячо любить, — добавила леди Холмерст, значительно посмотрев на Августу, — чтобы решиться на такую жертву! Августа вспыхнула при этом намеке, но ничего не сказала. В десять часов, когда они уже наполовину позавтракали, раздался звонок. — Это он! — воскликнула леди Холмерст, захлопав в ладоши. — Право, это презабавнейшая вещь! Я велела Джону проводить его сюда. Едва она успела произнести эти слова, как дворецкий, торжественный и мрачный в своем траурном одеянии, отворил дверь и возвестил: — Мистер Юстас Мизон! Наступила минутная пауза. Августа приподнялась со своего кресла и снова села в него. Заметив ее замешательство, леди Холмерст лукаво улыбнулась. Вошел Юстас, красивый, возбужденный, прекрасно одетый — в модном сюртуке, с цветком в петлице. — Как вы поживаете? — спросил он Августу, пожимая ее руку, которую она холодно отняла у него. — Как вы поживаете, мистер Мизон? — в свою очередь спросила она. — Позвольте мне представить вас леди Холмерст. Мистер Мизон, леди Холмерст! Юстас поклонился и поставил свою шляпу прямо на тарелку с маслом. — Надеюсь, что я пришел не слишком рано, — сказал он, совершенно сконфуженный своей неловкостью. — Кажется, вы только что кончили завтракать! — О, нет еще, мистер Мизон! — возразила леди Холмерст. — Не угодно ли вам чашку чаю? Августа, дайте мистеру Мизону чашку чаю! Юстас взял чашку с чаем, хотя вовсе не хотел его. Воцарилось молчание. Казалось, никто не знал, как начать разговор. — Вы долго искали наш дом, мистер Мизон? — поинтересовалась наконец леди Холмерст. — Мисс Смиссерс не дала вам адреса, а в Лондоне две леди Холмерст — моя свекровь и я. — Нет, я сейчас же нашел ваш дом, потому что вчера ночью гулял здесь и видел вас обеих у окна. — В самом деле? — удивилась леди Холмерст. — Отчего же вы не зашли? Вы могли бы защитить мисс Смиссерс от репортеров! — Я не знал, — признался Юстас смущенно, — не смел. Кроме того, полицейский нашел мой вид подозрительным и попросил уйти. — Дорогой мистер Мизон! Вы, вероятно, долго любовались нами! Тут в разговор вмешалась Августа, опасаясь, что Юстас скажет какую-нибудь глупость. Молодой человек, способный стоять и целыми часами созерцать дом на Ганновер-сквер, очевидно, способен на многое… — Я была удивлена, когда увидела вас вчера, — произнесла она. — Как вы узнали о нашем приезде? Юстас ответил, что узнал из газет. — Вероятно, вы не так удивились, как я, — произнес он. — Я был уверен, что вы погибли. Когда вы уехали, я ездил в Бирмингем и узнал, что вы исчезли, не оставив даже адреса! Служанка объявила мне, что вы уехали на пароходе, название которого она переврала. Позже я узнал, что это был «Канчаро». Затем, некоторое время тому назад, в газетах появилась телеграмма из Австралии, где в числе спасшихся пассажиров была упомянута леди Холмерст. Там было сказано, что лорд Холмерст и романистка мисс Смиссерс погибли. Это было ужасно, уверяю вас! Обе молодые женщины смотрели на Юстаса и по его лицу видели, что он действительно многое пережил. Он был так рад, так взволнован, что не умел скрыть горячего участия и интереса, с которым относился к молодой девушке, простой знакомой. — Это очень любезно с вашей стороны — не забыть меня, — мягко промолвила Августа. — Я не смела и думать, что вы вспомните обо мне, иначе непременно оставила бы вам записку перед отъездом. — Слава Богу, вы живы и здоровы, — ответил Юстас — и внезапно добавил с оттенком боязни: — Ведь вы не поедете теперь в Новую Зеландию? — Не знаю. Я боюсь теперь моря! — Нет, конечно, — вступила в разговор леди Холмерст, — она будет жить со мной и с Диком. Мисс Смиссерс спасла жизнь моему сыну, когда его нянька убежала и бросила его. А теперь, дорогая моя, вы хорошо сделаете, если скажете мистеру Мизону о завещании. — О каком завещании? — спросил Юстас. — Слушайте и узнаете! Юстас слушал, широко раскрыв глаза, пока Августа, победив свою стыдливость, рассказывала ему о смерти его дяди и о последнем завещании мистера Мизона. — И вы хотите сказать, — произнес Юстас потрясенно, — что позволили вытатуировать на себе это проклятое завещание? — Да, — ответила Августа, — я позволила и думаю, что вы должны быть благодарны мне, потому что это была тяжелая операция! — Я более чем благодарен, — воскликнул Юстас, — я не мог ожидать этого и не знаю, что сказать вам! Я никогда не думал, что женщина способна на такую жертву ради чужого ей человека! Наступила новая томительная пауза. — Мистер Мизон, — вдруг проговорила Августа, вскочив с кресла, — документ принадлежит вам, и вам нужно видеть его!.. Хотя, может быть, он и не нужен вам теперь, потому что я читала, что первое завещание Мизона утверждено судом. — Нет, не думаю, — возразил Юстас. — Я слышал от своего друга-адвоката, мистера Шорта, что завещание не утверждено. — В самом деле? — вскричала Августа. — Я очень рада слышать это. Значит, я не напрасно вытерпела татуировку. Конечно, вам нужно видеть завещание! Полупрезрительным, полустыдливым жестом девушка сбросила с себя шаль и повернулась к нему спиной, чтобы он мог прочесть текст. Юстас уставился на буквы, которые должны были доставить ему двухмиллионное наследство. — Благодарю вас! — сказал он наконец и, взяв шаль, накинул ее на плечи Августы. — Извините, мистер Мизон, я должна уйти на несколько минут, — вмешалась леди Холмерст, — мне надо распорядиться насчет обеда… Она вышла из комнаты. Юстас закрыл за ней дверь и повернулся к Августе, инстинктивно чувствуя, что наступила решительная минута.Глава 15
У АДВОКАТА
Августа облокотилась о мраморную доску камина. Она также чувствовала что-то странное в воздухе и, отвернув голову, стала играть бронзовой статуэткой, стоявшей на камине. «Теперь пора!» — подбадривал себя Юстас, пытаясь преодолеть сильное биение сердца. — Я не знаю, что я должен сказать вам, мисс Смиссерс, — начат он. — Лучше ничего не говорите, — произнесла она спокойно. — Я сделала для вас все, что могла, и очень рада этому. Разве не должна была я предупредить большое зло? Мне вовсе не улыбается мысль идти на суд! Но тут совсем другое дело: вы потеряли наследство из-за меня… следовательно, вполне справедливо, чтобы я вернула его вам! Молодая девушка снова отвернулась, продолжая играть статуэткой, так что Юстас не мог видеть ее лица. Зато она хорошо видела его в зеркале и наблюдала за малейшей переменой в его лице. Бедный Юстас становился все бледнее, пока его красивое лицо не стало похожим на лицо призрака. Удивительно, как иногда волнуются молодые люди при первом объяснении! Потом, с годами практики, приходят к ним и нужные навыки, и умение. — Мисс Смиссерс! Августа! — пробормотал Юстас, бледный как мертвец. — Мне нужно сказать вам кое-что… — Что такое, мистер Мизон? — спросила Августа ласково. — Я должен сказать вам… — он снова умолк. — Вы хотите мне сказать что-нибудь о завещании? — Нет, нет… вовсе не о завещании… пожалуйста, не смейтесь надомной… я… Августа самым невинным образом взглянула на него. У нее было такое милое лицо, и ласковый взгляд ее больших серых глаз сразу рассеял все его страхи. — О, Августа, Августа! — проговорил он. — Разве вы не понимаете? Я люблю вас! Я люблю вас! Ни одну женщину я не любил до сих пор. Когда мы в первый раз встретились с вами в конторе дяди, я полюбил вас и поссорился с ним из-за вас. С тех пор моя любовь к вам все росла и росла. Мысль, что вы погибли, убила меня, и часто, очень часто, я также желал умереть! Августа опустила глаза и вспыхнула до самых волос, грудь ее часто дышала. — Знаете ли вы, мистер Мизон, — сказала она наконец, не смея взглянуть ему в лицо, — что мы видимся сегодня только в четвертый раз?! — Да, я знаю, — ответил он, — но не отказывайте мне по этой причине, вы можете видеться со мной так часто, как захотите! — Это было великодушно со стороны Юстаса Мизона! — И, право, я знаю вас больше, чем вы думаете! Двадцать раз я перечитывал ваши сочинения. Это был очень удачный ход… Как ни мало тщеславия было у Августы, но какая молодая женщина не услышит с удовольствием, что ее сочинения перечитываются двадцать раз! — При чем тут мои книги? — сказала Августа. — Как? Ваши книги составляют часть вас самой, — убежденно произнес Юстас, — по ним я узнал и понял вас лучше, чем если бы видел сотню раз! Августа медленно подняла взгляд и долго смотрела ему в глаза, словно желая проникнуть в его душу. Юстас никогда не мог забыть этого долгого, нежного, глубокого взора… Оба замолчали, медленно приближаясь друг к другу, пока его рука не обвила ее стана и губы их не встретились в горячем и нежном поцелуе. Счастливый молодой человек! Счастливая девушка! Что может быть выше, священнее первого поцелуя искренней и чистой любви! Немного погодя в комнату вошел дворецкий. Августа и Юстас, она — раскрасневшаяся, он — очень бледный, стояли, весьма подозрительно отвернувшись друг от друга. Но дворецкий, в высшей степени выдержанный и опытный человек, многое видел на своем веку, о многом догадывался и глядел невинно, словно новорожденный младенец. За ним пришла леди Холмерст и лукаво взглянула на смущенную парочку. Она, подобно своему дворецкому, была весьма опытной особой. — Не хотите ли пройти в гостиную? — спросила она. Молодые люди повиновались, как во сне. В гостиной Юстас не выдержал и объявил, что они намерены обвенчаться. Хотя молодые люди вовсе не условились о своей свадьбе, но Августа молчала, не возразив ни единым словом. — Я думаю, мистер Мизон, — сказала леди Холмерст, — что вы счастливейший человек, потому что Августа не только красивейшая из девушек, но обладает благородным сердцем и светлым умом! Будьте осмотрительны, мистер Мизон, когда сделаетесь мужем знаменитой Августы Смиссерс! — Я рискну! — отвечал он скромно. — Я знаю, что в одном мизинце Августы больше ума, чем во всей моей голове! Удивляюсь, как это она еще обратила на меня внимание! — Дорогой мой мистер Мизон! Как мы скромны! — воскликнула леди Холмерст. — Впрочем, все мужчины так говорят до свадьбы… Теперь о деле. Поскольку Августа носит на своей шее все ваше состояние, я думаю, что было бы отлично, если бы вы отправились к адвокату и поговорили бы с ним о завещании. Конечно, если вы окончили свой разговор с ней!.. Надеюсь, вы отобедаете с нами, мистер Мизон, и придете к нам еще до шести часов. Наверняка Августе будет интересно узнать о том, что скажет адвокат. А пока — до свидания! Юстас раскланялся и ушел. — Моя дорогая, он очень милый молодой человек! — сказала Августе леди Холмерст, когда за ним закрылась дверь. — Конечно, это смело с его стороны — сделать вам предложение, видев вас только четыре раза. Но, право, эта смелость, граничащая с дерзостью, составляет достоинство мужчин. Кроме того, если ваше завещание утвердят, мистер Мизон будет одним из богатейших людей во всей Англии, и я могу поздравить вас! Я полагаю, что вы уже давно любите друг друга. Нетрудно было догадаться об этом, когда он бежал вчера, как помешанный, к вашему экипажу! Я окончательно убедилась в этом, когда узнала о вашей татуировке. Ни одна девушка не согласится быть татуированной только ради справедливости. О, я знаю все. Теперь я пойду гулять с Диком в парк, а вам советую заняться собой и успокоиться. Она ушла, предоставив Августу самой себе. Но мысли молодой девушки были вовсе не печального свойства… В это время Юстас направился к адвокату. Случилось так, что в том же самом доме, где последние три месяца он снимал меблированную квартиру, жили и два брата Шорт, с которыми у него сложились дружеские отношения. Братья Шорт были близнецы, так что прошел месяц, пока Юстас научился отличать их друг от друга. Отец их умер, когда они обучались в колледже, и оставил им небольшое состояние — каждый из них имел около четырехсот фунтов в год. Близнецы решили заняться чем-нибудь, чтобы увеличить свой доход. Один захотел стать свидетелем, другой — адвокатом. Разумеется, они могли бы достичь таким образом возможного благоденствия, взаимно поддерживая друг друга и помогая друг другу в работе. Джон доставлял бы Джеймсу дела, слава и успехи Джеймса отражались бы на Джоне. Сдав экзамены, Джон снял две комнаты в Сити вместе с другим свидетелем, тогда как Джеймс облюбовал себе отдаленную часть города. На этом все и остановилось, потому что Джон не имел работы и, конечно, не мог доставить ее Джеймсу. Прошло три года, и близнецы нашли, что быть юристами вовсе не выгодно и не весело. Напрасно Джон сидел и вздыхал в Сити. Клиентов почти не было. Напрасно Джеймс, прекрасно одетый и элегантный, бродил, словно злой дух, по судам в поисках работы. Случайно один раз он имел удовольствие принять дело от некоего адвоката, который должен был на время куда-то уехать. Затем один господин, с которым он имел шапочное знакомство, бросился к нему, доверив ему свое дело, прося поддержки. Когда наступил разбор дела, бедный Джеймс напрасно волновался и хлопотал. Судьи изумленно посмотрели на него поверх очков и были «весьма удивлены тем, что нашелся ученый адвокат, который решился у них отнимать время для такого вздорного дела…» Кончилось тем, что знакомый Джеймса должен был уплатить немалую пеню. Юстас Мизон часто слышал имя адвоката Джеймса Шорта по делам о завещаниях и, вполне естественно, обратился к нему. Он немедленно отправился по известному ему адресу. Дверь в небольшую прихожую отворил какой-то маленький мальчик, очевидно, исполнявший обязанности клерка. Он посмотрел на посетителя таким странным, пронзительным взглядом, что Юстас испугался. В этом взоре выразились и беспокойство, и надежда, и радость. Очевидно, он принял его за клиента, которые очень редко появлялись здесь. Но Юстас был один, а всякий клиент являлся со свидетелем… В глазах ребенка надежду сменило разочарование. Юстас постучал и вошел в маленькую, голую комнату, вся меблировка которой состояла из стола, трех стульев и книжного шкафа с книгами и бумагами. На широком подоконнике также лежала кипа бумаг. Мистер Джеймс Шорт был коротенький, коренастый молодой человек с черными глазами, крючковатым носом и лысой головой. Эта лысина была единственным различием между братьями Шорт. В ту минуту, когда Юстас вошел в комнату, мистер Шорт был углублен в чтение газеты, которую смущенно бросил под стол, а перед собой положил том законов, мгновенно схватив его с полки. — Как поживаете, дружище? — приветствовал адвоката Юстас, уловивший быстрое исчезновение газеты. — Успокойтесь, это я! — А-а, это вы, — произнес мистер Джеймс Шорт, когда они обменялись рукопожатием, — я думал, что клиент… Всегда возможно появление клиента, и я должен быть наготове. — Знаете ли, дружище, — сказал Юстас, — случилось так, что я пришел к вам тоже в качестве клиента. Мое дело — два миллиона, — наследство дядюшки! Я хочу спросить вашего совета! Мистер Шорт привскочил со стула, но вдруг, подавленный какой-то мыслью, тяжело опустился назад. — Дорогой Мизон! — заявил он. — Мне очень досадно, но я не могу выслушать ваше дело! — Да? Почему же? — Вы пришли один, без свидетеля! Профессия, к которой я принадлежу, не допускает возможности принять клиента, если его не сопровождает свидетель! — К черту вашу профессию! — Дорогой Мизон! Если вы пришли ко мне как старый друг, я буду счастлив сделать для вас все, что в моей власти, и, смею заверить, я кое-что смыслю в делах! Но вы сами сказали, что пришли как клиент, и в этом случае я обязан отнестись к вам официально. Долг моей профессии обязывает меня заявить вам, что я не имею права выслушивать вас без обязательного присутствия правоспособного свидетеля! — О Господи! — воскликнул Юстас. — Мне и в голову не приходило, что вы так щепетильны, я думал, что вы будете рады клиенту! — Конечно, конечно! Особенно в моем настоящем положении! Я рад всякому делу! Позвольте мне предложить вам пойти и посоветоваться с моим братом Джоном. Я думаю, что он сейчас свободен. Смею сказать, что могу предложить ему прийти с вами сюда, и через час мы уладим дело. Погодите! Я спрошу своего клерка. Роберт! Явился мальчик. — Я не занят сегодня утром, Роберт? — Нет, сэр, — ответил Роберт, подмигнув ему. — Одну минутку, сэр, я справлюсь по книге! Он исчез и вернулся с известием, что мистер Шорт совершенно свободен в этот день. — Отлично, — произнес мистер Шорт, — запиши тогда, что у меня деловое свидание с мистером Джоном Шортом и мистером Мизоном ровно в два часа. — Да, сэр, — сказал Роберт, отправляясь заняться непривычным делом. Как только Юстас отправился к мистеру Джону Шорту, Роберт был послан на верхний этаж к некоему мистеру Томсону, владельцу превосходной библиотеки, которую получил по завещанию. Роберту было приказано попросить взаймы восьмой том законов, где говорилось о завещаниях. Получив книгу, мистер Джеймс Шорт немедленно углубился в изучение этого драгоценного фолианта, поджидая возвращения клиента. В это время Юстас ехал в Сити к мистеру Джону Шорту. Его контора помещалась на седьмом этаже огромнейшего дома. Юстас с бьющимся сердцем поднялся по лестнице, подошел к маленькой двери с надписью «Мистер Джон Шорт, свидетель» и постучал. Дверь отворил маленький мальчик, поразительно похожий на клерка мистера Джеймса Шорта. Позже тайна объяснилась: оба клерка были родными братьями, подобно своим господам. Мистер Джон Шорт был на месте и с виду усердно трудился, так как перед ним лежала кипа бумаг. Но Юстасу показалось, что края бумаги пожелтели от давности и чернила давно высохли.Глава 16
НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ
— Мизон, что такое у вас? Вы пришли ко мне позавтракать? — спросил мистер Джон Шорт. — Знаете, сначала я подумал, что вы явились ко мне как клиент. — Клянусь Иовом, старый дружище, я — ваш клиент! — ответил Юстас. — Я был у вашего брата, он послал меня к вам, заявив, что долг профессии вынуждает его не принимать клиента без свидетеля. — Совершенно верно, совершенно верно! Мой брат прав! Я удивляюсь, что, имея столь малую практику, он так хорошо знаком с теорией судопроизводства. Ну, какое у вас дело? — Знаете, Шорт, ваш брат сказал, что будет ждать нас обоих к себе в два часа. Я думаю, будет лучше всего, если мы отправимся к нему и обсудим дело сообща! — Отлично! Собственно говоря, я не имею обыкновения уезжать из конторы в это время, так как всегда могут подвернуться клиенты. Но для вас, Мизон, я готов сделать исключение. Уильям! — обратился он к мальчику. — Если кто-нибудь спросит меня, пожалуйста, скажи, что я отправился по важному делу к своему брату, мистеру Шорту, и надеюсь вернуться после трех часов. — Слушаю, сэр, — сказал Уильям, запирая за ними дверь. Затем, положив бумаги на полку шкафа, откуда их легко можно было достать при малейшем намеке на клиента, он написал на двери, что сейчас вернется, и весело отправился играть с другими маленькими клерками по соседству. В это время Юстас со своим спутником приехали к мистеру Джеймсу Шорту. Какой гордостью наполнилось сердце адвоката, когда в первый раз за всю свою карьеру он увидел настоящего клиента в сопровождении свидетеля! Теперь все это было на законном основании, и он мог приняться за дело! Конечно, он предпочел бы, чтобы свидетелем был кто-нибудь другой, а не его родной брат, а клиентом — не близкий приятель, но, во всяком случае, какое это было приятное зрелище! — Не угодно ли вам сесть, джентльмены? — произнес он с достоинством. Джентльмены уселись. — Надеюсь, Мизон, вы объяснили моему брату дело, в котором вам понадобился мой совет? — Нет, я ничего не говорил, — ответил Юстас, — я полагал, что могу объяснить все сразу вам обоим. — Э, нет! — сказал Джеймс. — Это неправильно! Согласно этике профессии, к которой я имею честь принадлежать, так делать нельзя. Обычно нужно, чтобы присутствовали представители газет… но я предвижу, что здесь дело важное и экстренное… — Да, это правда, — подтвердил Юстас. — Я пришел к вам по дел у о завещании! — Я знаю, — заметил Джеймс, — но где это завещание? — Оно вытатуировано на шее одной дамы! Братья вскочили с мест с совершенно одинаковым жестом изумления и так забавно посмотрели на него, что Юстас разразился громким смехом. — Надеюсь, Мизон, что это не мистификация? — серьезно заметил Джеймс. — Вы, конечно, знаете, что смеяться и шутить теперь не время и не место! — Конечно, Мизон, — добавил Джон, — вы должны питать должное уважение к закону и его представителям! — Разумеется. Уверяю вас, что говорю правду. Это настоящее завещание! — Да, — заключил Джеймс, — очевидно, это инцидент далеко не обычный! — Вы правы, старый дружище! — согласился Юстас. — А теперь слушайте. — И он спокойно и четко рассказал всю историю завещания. Когда он кончил, братья переглянулись. Ничего подобного им не приходилось слышать. Но Джеймс умел быстро ориентироваться. Он твердо держался аксиомы «Никогда не высказывать затруднения или замешательства в делах». — Это замечательный случай и, могу сказать, довольно редкий! Он совершенно не подходит под общие законы о завещании. Обычно завещание пишется на бумаге или пергаменте, но я не сомневаюсь, что кожа молодой леди — великолепный материал для завещания! Продолжаю. Допустим, — я полагаюсь на слова мистера Мизона, — что завещание было составлено совершенно правильно завещателем или тем лицом, которое производило татуировку в его присутствии, что оно подписано, как следует, и сделано по статуту. Но я подхожу к тому, что мне кажется поистине ужасным! В завещании не помечено даты! Не уничтожается ли оно отсутствием ее? Отвечу: нет! Заметьте: это завещание не могло быть сделано на шее мисс Августы Смиссерс ранее восемнадцатого декабря, когда погиб «Канчаро», и, значит, уже существовало в день Рождества, когда мисс Смиссерс была спасена. Очевидно, завещание было вытатуировано между восемнадцатым и двадцать пятым декабря. — Верно, старый дружище! — заключил Юстас. — Вижу, что вы умеете взяться за дело. Но что следует предпринять сейчас? Я боюсь, что будет поздно! Как будто бы завещание утверждено! — Завещание утверждено! — повторил великий Джеймс с плохо скрываемым презрением. — Разве закон так беспомощен, что может утвердить завещание, несмотря на видимую ошибочность фактов? Конечно, нет! Как только все предварительные формальности будут соблюдены, нужно подать прошение об отмене первого и утверждении позднейшего завещания. Тут нет душеприказчика! Это очень важный пункт. Необходимо потребовать, чтобы суд признал завещание действительным и подтвердил законность документа! — Но как это сделать, если тут замешана мисс Смиссерс? — неуверенно возразил Юстас. — Мне кажется, — сказал Джеймс, обращаясь к брату, — нам придется привести мисс Смиссерс в суд, чтобы она присутствовала при показаниях свидетелей. — Конечно, — подтвердил Джон с таким видом, словно это было самое простое дело. — Как? — поразился Юстас, глазам которого предстала Августа с обнаженной перед судьями шеей. — Разве возможно вести леди… это немыслимо! — Мыслимо или нет, это необходимо сделать прежде всего! Погодите. Я надеюсь, что заседания сессии суда уже начались! Хорошо бы попасть туда завтра. — Да, да, — согласился Джон. — Да, — подтвердил Джеймс, — это все надо сделать поскорее. Поспешите вручить мне все документы и инструкции возможно скорее! Кроме меня, будут у вас еще адвокаты? — О, да, да, — произнес Юстас, — только вот насчет денег… Я не знаю, чем буду платить за все это… У меня есть пятьдесят фунтов сбережений, но с ними далеко не уйдешь! Джеймс мрачно взглянул на брата. Это было ужасно. — Пятидесяти фунтов как раз хватит на первые издержки! — сказал Джеймс, вытирая свою лысину платком. — Возможно, — согласился Джон брюзгливо, — но чем платить за все остальное? Не можете ли вы, — продолжал он, обращаясь к Юстасу, — достать где-нибудь денег? — Пожалуй, — ответил Юстас, — у леди Холмерст! Если она согласится дать… Я предложу ей разделить добычу… — Дорогой мой, — сказал Джон, — ваших денег мало! — Мало! — повторил Джеймс, всплеснув руками. — Это невозможно! Неизвестно, что будет дальше и что может еще случиться! — Право, я не знаю, как быть, — вздохнул Юстас, — я мало смыслю в законах. — Наверное, Джеймс, — повернулся к брату Джон, — это будет очень интересное судебное дело! — Так, Джон, так, но вы хорошо знаете, что моя профессия не позволяет мне вести дело даром. Желудок всего адвокатского сословия, индивидуальный и коллективный, возмущается и бунтует при одной мысли, что кто-то из его членов работает за просто так! — Да, — добавил Юстас, — я знаю, что существуют строгие правила. — Верно, верно, дорогой Джеймс, — подтвердил Джон со сладкой усмешкой, — издержки предстоят большие. Ученый адвокат похож на ящик с сигаретами или новоизобретенную весовую машину на станции: она ничего не сделает для вас, пока вы не опустите туда денег. И эти деньги уже не вернутся к вам обратно. Впрочем, Джеймс, это постоянно практикуется людьми вашей профессии: они ждут, пока накопится пятьсот фунтов, а потом требуют свой заработок. Почему вы не можете сделать то же самое? Если мы выиграем дело, то противная сторона заплатит все издержки; если проиграем, вы все же не будете в убытке. Это лучше и выгоднее всего для вас, мой милый Джеймс! — Отлично, Джон, пусть будет так! — заключил Джеймс. — Ну, а теперь, — произнес Джон, — у меня есть дело с другим клиентом! — И пояснил Юстасу: — Мой баланс не высок! — Я понимаю, — грустно заметил Джеймс, — и сочувствую… Таким образом закончилось совещание ученых адвокатов.Глава 17
ИСПЫТАНИЯ АВГУСТЫ
После полудня Юстас вернулся в дом леди Холмерст, чтобы сказать своей дорогой Августе, что на следующее утро ей необходимо идти в канцелярию суда. Можно себе представить, как горячо протестовала против этого Августа, несмотря на все доводы своего возлюбленного! Ее поддержала и приятельница ее, леди Холмерст, которая вскоре ушла из комнаты, предоставив им вдвоем обсуждать дело. — Это, наконец, ужасно! — сказала Августа, топнув ногой. — После всего, что я перенесла, я должна еще показывать свою несчастную шею разным ученым адвокатам[471] и тащиться Бог знает куда, чтобы увидеть старые, заплесневелые бумаги! — Дорогая моя! — возразил Юстас. — Или надо идти туда, или бросить все дело! Мистер Джон Шорт уверяет, что это необходимо, что документ должен храниться в канцелярии. — Но как же быть? Меня, вероятно, посадят в шкаф или еще куда-нибудь разделять участь других завещаний? — спросила Августа, чувствуя желание плакать. — Я не знаю, — ответил Юстас, — мистер Шорт уверяет, что это обсудят потом. Его личное мнение, что ученый доктор — будь он проклят! — пожелает, чтобы вы сопровождали его всюду, пока дело не выяснится! Но, — продолжал Юстас мрачно, — если ученый доктор захочет, чтобы вы ходили за ним всюду, то пусть и меня таскает с собой! — Зачем? — удивленно спросила Августа? — Затем, что я не могу доверить вас ему — нет!.. Он стар? Да, стар, и, кроме того, этот ученый джентльмен двадцать лет практикует в суде… Ну, скажите, что можно ждать от человека, который двадцать лет только тем и занимался, что разводил да сводил людей! Я знаю, знаю! — убежденно говорил Юстас. — Он влюбится в вас сейчас же… этот старый волокита! — Право, вы забавны, Юстас! — воскликнула Августа, расхохотавшись. — Не знаю, чем я забавен, Августа! Но если вы думаете, что я отпущу вас одну с ученым доктором, вы ошибаетесь! Он непременно влюбится в вас, а может быть, и его клерки! Кто может находиться около вас и не полюбить? — Вы так думаете? — спросила Августа, нежно взглянув на него. — Да! — пылко ответил он. На этом закончился их разговор и не возобновлялся до обеда. На следующее утро, в одиннадцать часов, Юстас явился с мистером Джоном Шортом, чтобы везти Августу и леди Холмерст в суд, на что они в конце концов согласились. Мистер Шорт раскланялся с дамами, на которых произвел впечатление своим ученым и неотразимым видом. Он потребовал взглянуть на завещание, но Августа отказалась, уверяя, что вполне достаточно, если она один раз покажет им свою шею. Вздохнув и покачав головой, мистер Шорт покорился. Затем явился экипаж, и все отправились в суд. Добравшись до места, они миновали бесчисленное множество коридоров и вошли в неуютную комнату с календарем на стене, простым засаленным столом и несколькими стульями; в комнате сидели несколько клерков. Здесь они ждали около получаса или более, к великому ужасу Августы, так как она сделалась предметом исключительного внимания клерков, не сводивших с нее глаз. Тонкий слух помог Августе уловить несколько слов одного из клерков, маленького человечка с желтыми волосами и огромной булавкой в галстуке, напоминавшего собой только что вылупившегося цыпленка. Он сообщил другому клерку, что посетительница — героиня знаменитого дела о наследстве и что о ней говорит теперь весь Лондон. В это время чья-то голова просунулась в дверь. — Шорт и Мизон! — выкрикнул кто-то и исчез. — Леди Холмерст, мисс Смиссерс, прошу вас! — обратился к ним мистер Джон Шорт. — Позвольте мне указать вам дорогу! Пожалуйста! Бедное живое «завещание» очутилось в большой комнате с низким потолком. Повернувшись спиной к окну, за столом сидел приятного вида джентльмен средних лет, который при появлении дам в сопровождении мистера Шорта и Юстаса Мизона вежливо раскланялся и просил их сесть. — Чем могу служить вам? Мистер… мистер… — он усиленно смотрел в свою записную книжку. — Мистер Шорт… Если не ошибаюсь, у вас завещание, и при особых обстоятельствах? — Да, сэр, — вдумчиво ответил мистер Джон Шорт. — Завещание Джонатана Мизона относительно его имущества и двух миллионов капитала. Предполагали, что Мизон утонул вместе с «Канчаро», и президент принял и утвердил его завещание. Между тем Джонатан Мизон погиб на острове Кергелен через несколько дней после гибели «Канчаро» и перед смертью составил новое завещание, которым отписал все своему племяннику Юстасу Мизону, вот этому джентльмену. Мисс Августа Смиссерс… — Как? — перебил ученый регистратор. — Неужели это мисс Смиссерс, о которой мы так много читали, — героиня острова Кергелен? — Да, я мисс Смиссерс! — ответила Августа, краснея. — А это — леди Холмерст. Ее супруг… Она оборвала себя на полуслове и замолчала. — Для меня — огромное удовольствие познакомиться с вами, мисс Смиссерс! — заявил ученый доктор, нежно пожимая ей руки и кланяясь леди Холмерст. Юстас смотрел на него подозрительным взглядом. — Начинается! — бормотал он про себя. — Я так и знал. Оставить Августу ему на хранение? Ни за что! Никогда! — Самое лучшее, что можно сделать, — продолжал мистер Шорт, которому все эти разговоры казались ненужной интермедией, — это предложить вам взглянуть на документ… этот документ несколько необычного вида… Он взглянул на покрасневшую до ушей Августу. — Хорошо, хорошо! — согласился ученый муж. — Завещание у мисс Смиссерс? Да? — Мисс Смиссерс сама и есть завещание, — пояснил мистер Джон Шорт. — Простите, я не совсем понимаю… — Нет ничего проще. Завещание вытатуировано на мисс Смиссерс! — Что такое? — воскликнул ученый муж, вскочив со стула. — Завещание написано на мисс Смиссерс, — продолжал мистер Джон Шорт спокойным тоном. — Мой долг — представить вам документ на рассмотрение… — Документ на рассмотрение!.. — бормотал изумленный доктор. — Как же я буду его рассматривать? — Я объясню вам, сэр, — сказал мистер Шорт, с сочувствием поглядывая на растерянное и изумленное лицо ученого. — Завещание написано на спине леди, и я… Леди Холмерст засмеялась. Что касается ученого доктора, он, совершенно растерявшись, стоял у своего стула, не зная, что делать. — Хорошо! — произнес он наконец. — Надо что-нибудь решить! Я не могу уклониться от своей обязанности! Итак, мисс Смиссерс, я должен побеспокоить вас и взглянуть на это завещание. Там стоит шкаф, — указал он в угол комнаты, — и вы можете… там… приготовиться. — О, этого не нужно, — возразила Августа со вздохом, снимая жакет. Доктор тревожно следил за ее движениями. — Она молодец! — бормотал он про себя. — Но какие странные обычаи на этих пустынных островах! В это время Августа сняла жакет. Она была одета в открытое платье с белым шелковым шарфом, накинутым на плечи. Этот шарф она сбросила с себя. — О-о, я вижу, она в открытом платье… Это — другое дело. Но за всю свою практику я никогда не видал и не слышал ничего подобного. Подписано и засвидетельствовано, но без даты! А может быть, число там… ниже? — Нет, — возразила Августа, — даты нет… я не могла больше выносить татуировки… Когда все было кончено, я упала без чувств! — Я поражен! Это самоотверженный поступок, редкое самообладание! Он грациозно склонился перед Августой. — Ага! — бормотал Юстас. — Начинаются любезности, несносный старый лицемер! — Хорошо, — продолжал между тем ни в чем не повинный объект его подозрений, — разумеется, отсутствие даты не меняет сути дела, это не более как доказательство. Во всяком случае, я не могу ничего сказать тут, это не мое дело! Однако, мисс Смиссерс, так как вы очутились здесь в качестве важного документа, могу я спросить вас, что прикажете с вами делать? Нельзя же запереть вас в шкаф с другими документами, а выпустить завещание отсюда — значит, поступить против правил. На это требуется специальное разрешение. Ясно, что я не имею права посягать на свободу личности и приказать вам остаться здесь. Сознаюсь откровенно, я несколько смущен и не знаю, что мне делать с этим завещанием! — Смею предложить вам, сэр, — вмешался мистер Шорт, — сделать копию с этого завещания. — А-а! — сказал ученый муж, протирая очки. — Вы подали мне блестящую мысль! С согласия мисс Смиссерс мы сделаем не копию, нет, а настоящую фотографию завещания! — Имеете вы что-нибудь возразить на это, моя дорогая? — спросила леди Холмерст. — О нет, — угрюмо ответила Августа, — мне кажется, я стала теперь общественным достоянием! — Отлично! Одну минуту, подождите, пожалуйста. Я сейчас же напишу фотографу, к которому уже не раз обращался в официальных делах! Через несколько минут получили ответ фотографа: он рад служить доктору и явится в три часа. — Итак, — заявил ученый муж, — я не могу отпустить мисс Смиссерс, пока не будет сделана фотография завещания. Сегодня утром я свободен и полностью к вашим услугам. Что вы скажете, если я предложу вам позавтракать? Буду счастлив, если вы доставите мне удовольствие и мы вместе где-нибудь перекусим. Леди Холмерст проголодалась и охотно согласилась, все общество, за исключением мистера Шорта, который уехал, ссылаясь на дела и обещая вернуться в три часа, уселось в коляску леди Холмерст и отправилось в соседний ресторан. Здесь они основательно позавтракали. Доктор был так мил и любезен, что обе леди положительно влюбились в него, даже Юстас вынужден был признать, что среди ученых иногда попадаются очень приятные люди. В конце концов ученый муж ласково взглянул на Августу и Юстаса. — Я слышал от леди Холмерст, — сказал он, — что вы, молодежь, собираетесь повенчаться! Многолетний опыт показал мне, что вступление в брак — рискованное предприятие! Но я могу сказать, основываясь на фактах, что никогда не слышал о таком романтическом и многообещающем союзе. Молодой джентльмен ссорится с дядей из-за молодой леди и лишается огромного наследства. Молодая леди при самых ужасных обстоятельствах принимает героическое решение, чтобы вернуть ему состояние. Что будет дальше, я не знаю, получите ли вы наследство или нет, но у вас есть нечто лучшее — взаимное доверие, уважение, что вернее всякой любви и всегда приносит хороший результат. Мистер Мизон, вы — счастливый человек! В мисс Смиссерс вы нашли красоту, смелость, талант, и если позволите старику дать вам добрый совет — старайтесь беречь свое счастье и помните, что человек, который в юности нашел себе такую подругу жизни, поистине счастливец! «Он любимец богов, ему улыбаются радости жизни!» Закончу свою речь пожеланием вам обоим здоровья, счастья и благоденствия! Доктор выпил стакан вина и так добродушно посмотрел на Августу, что ей захотелось расцеловать его. Даже Юстас крепко пожал ему руку. С этого момента началась их дружба, которая продолжается до сих пор. Затем все вернулись в контору, где их уже ждал фотограф, который был очень удивлен, когда узнал о том, что именно он должен фотографировать. Он сделал своим аппаратом три снимка со спины Августы и ушел, сказав, что через два дня принесет готовые карточки. Тогда доктор распрощался с новыми друзьями, заявив, что не имеет права дольше задерживать Августу. Они отправились домой, очень довольные тем, что так скоро отделались. XVIII. Августа исчезает История Августы возбудила немалое волнение, особенно когда в газетах появились ее портреты, когда все узнали, что она молода и красива. Но общее возбуждение достигло апогея, когда начал циркулировать слух о завещании, вытатуированном на ее шее. В газетах появились всевозможные рассказы и истории об этом завещании. Августа не обращала на них внимания. На четвертый день после того как была сделана фотография завещания, леди Холмерст попросила Августу дойти до магазина на Риджент-стрит и купить ей шнурков для траурного платья. Августа отправилась в магазин в сопровождении служанки. Едва за ними успела закрыться дверь дома леди Холмерст, как Августа заметила двух или трех человек сомнительного вида, бродивших поблизости, которые сейчас же последовали за ними. Не обратив на это внимание, она пошла своей дорогой и когда достигла Риджент-стрит, то заметила, что за ней следовала уже кучка людей, возбужденно перешептывавшихся между собой. На Риджент-стрит первое, что бросилось ей в глаза, — это человек, продававший фотографии; вокруг него собралась толпа, которой он что-то пояснял. Какой-то джентльмен купил карточку и остановился взглянуть на нее, а так как он был низкого роста, то Августа без труда взглянула на фотографию через его плечо и с негодующим восклицанием отступила назад. Это был ее собственный портрет в платье с низким вырезом! Несомненно, это она сама! Завещание на ее шее! Но волнения ее на этом не кончились, так как в эту минуту появился человек с кипой вечерних газет. — Описание и портрет прекрасной героини «Канчаро», — закричал он, — с завещанием, вытатуированным на ней самой! Купите фотографию! Факсимиле! Портрет! — Голубушка! Это ужасно! — обратилась Августа к служанке. — Пойдем домой. Собравшаяся вокруг них толпа окружила их плотным кольцом. Очевидно было, что человек, следовавший за ними от самого дома, узнал Августу и сообщил эту новость другим. — Это она! — прошептал один. — Кто? — Мисс Смиссерс, героиня «Канчаро», татуированная на пустынном острове! Раздались возбужденные восклицания толпы. Несчастную Августу прижали к фонарю вместе со служанкой, которая визжала от страха, и с любопытством разглядывали ее. К счастью, явились два полисмена, которые освободили обеих женщин и посадили их в кеб. Экипаж покатился, сопровождаемый возбужденными криками толпы. Августа была крепкая молодая женщина со здоровыми нервами, но подобные вещи невыносимы! В тот же день она в сопровождении леди Холмерстперебралась в маленький отель на Темзе. После полудня, прогуливаясь по городу, Юстас увидел выставленные в магазинах фотографии, на которых были сняты плечи его возлюбленной; он пришел в неописуемую ярость, бросился к фотографу и принялся упрекать его в неблаговидном поступке. Фотограф ответил ему, что пустил в продажу карточки потому, что не хотел упустить случая заработать несколько сотен фунтов. Юстас направился к братьям Шорт. В результате мистер Джеймс Шорт возбудил дело против фотографа, доказывая, что тот не имел права пускать в продажу карточки, представлявшие собой копию важного документа, и воспроизводить их без разрешения суда. Продажа карточек была немедленно прекращена. Через восемь дней после этого в суд поступило заявление от поверенных мистера Аддисона и мистера Роскью, наследников Мизона согласно его первому завещанию, сделанному в ноябре 1885 года, в котором они требовали, чтобы суд допросил истца и свидетелей под клятвенной присягой и возможно скорее рассмотрел бы и сличил подписи на первом и втором завещаниях. Суд назначил день для рассмотрения завещания. Когда разнесся слух, что живое завещание выходит замуж за истца, все ученые мужи широко раскрыли глаза от удивления. Потом поверенные противной стороны получили разрешение суда возражать на требование истца. Прежде всего они заявили, что второе завещание составлено не так, как того требует закон, добавив, что в этом очевидно влияние Августы Смиссерс, что «завещание было сделано под сильным воздействием ее воли на больной ум завещателя». Время шло своим чередом. Часто, насколько это было возможно, Юстас уезжал из Лондона и устремлялся в маленький отель на берегу реки, где чувствовал себя вполне счастливым. Закон, несомненно, прекрасная вещь, питающая множество народа, дающая немало выгод своим верным слугам, но горе тому, кто сделался жертвой операций законников! Судебный процесс был ложкой дегтя в бочке меда Юстаса. Каждый день приносил ему новые хлопоты и тревоги. Братья Шорт боролись, как герои, стойко сражались за свое дело. Юстасу было тяжело поддерживать их деньгами, которых у него не хватало. Как и следовало ожидать, весь блеск адвокатских талантов и красноречия разбивался о невозможность добыть где-нибудь денег, тогда как противники были богатейшие люди и не стеснялись в расходах. Юстас и Джеймс Шорт, человек по натуре умный и чувствительный, — оба отлично понимали, что для борьбы с противниками, для того, чтобы спасти завещание, нужны большие деньги. Но где их взять? Это было ужасно. Оставалась одна надежда, что само дело, чрезвычайно интересное, из ряда вон выходящее, в то же время очень несложно и не требует большого числа документов.Глава 18
ДЕЛО «МИЗОН, АДДИСОН и К°»
В одно прекрасное утро, когда часы показывали четверть десятого, Августа в сопровождении Юстаса, леди Холмерст, миссис Томас, жены капитана Томаса, которая вернулась в Лондон, навестив своих родных, очутилась у входа в здание нижней палаты суда, готовая отдать пять лет жизни, лишь бы сбежать куда-нибудь из этого учреждения. — Сюда, дорогая моя! — сказал Юстас. — Мистер Джон Шорт обещал встретить нас в зале. Они прошли через арку и увидели на дубовой колонне лист с расписанием дел, которые подлежали рассмотрению в этот день. Августа заглянула в него и прочла, что в десять часов тридцать минут будет разбираться дело «Мизон, Аддисон и К°». Это так подействовало на нее, что она почувствовала себя совсем больной. Они прошли мимо полисмена гигантского роста, стоявшего у дверей, и остановились в узенькой, неуютного вида зале. Справа от входа, около статуи, с бумагами в руках их ждал мистер Джон Шорт. Лицо у него было возбужденное. — Вы здесь! — произнес он. — Я боялся, что вы опоздаете! Наше дело разбирается первым ради удобства генерального атторнея[472]. Вы знаете, он поддерживает противную сторону! — добавил он со вздохом. — Не знаю, как справится бедный Джеймс. У него двадцать человек оппонентов, потому что все поверенные наследников здесь налицо! Во всяком случае, он твердо стоит на своем и прекрасно сведущ в законах. В это время они добрались до маленькой лестницы, взошли по ней и свернули влево. Если и существовали какие-либо сомнения относительно верности пути, то скоро все перестали сомневаться, завидев длинный ряд париков, устремившихся в том же направлении. Августа и ее друзья скоро убедились в том, какой живой интерес возбудил в публике предстоящий разбор дела. Коридор суда кишел белыми париками адвокатов — их было тут около пятисот человек. Они толпились в ожидании, когда отворятся двери. Шесть или восемь сторожей удерживали толпу с помощью деревянного барьера, покрикивая стоящим впереди: «Назад! Назад! Осади назад!» — Господи! Как же мы пройдем? — взмолилась Августа. Мистер Джон Шорт сделал знак сторожу, боровшемуся с напором толпы, и спросил его, как им пройти. — Я сам не знаю, сэр, — отвечал служитель, — здесь вам не пройти! Придется провести вас через другой вход! Пусть меня повесят, — продолжал он, указывая им дорогу, — если все эти адвокаты не задавят нас насмерть. Тут надо отряд кавалерии, чтобы их сдержать! Они голодают, не имеют работы и лезут из кожи вон, чтобы увидать кусочек портрета молодой леди! В это время они прошли через отделение морской юрисдикции, двор и очутились в зале суда. Прежде чем занять место, которое ей указали, Августа осмотрелась вокруг. Зал суда был еще пуст, хотя в судейской ложе уже расположились избранные лица, включая и нескольких дам. Малая галерея постепенно заполнялась нарядными людьми. Что касается адвокатских мест, там сидели множество представителей наследников Мизона и их поверенные, так что бедный Джеймс Шорт, единственный адвокат истца, занял со своими бумагами место в центре третьей скамейки. — Боже праведный! — потрясенно промолвил Юстас, наклоняясь к Августе. — Двадцать адвокатов против нас. Что будет делать несчастный Джеймс? — Не знаю, право, — вздохнула Августа. — Это ужасно, да? — Но что делать, ведь у нас нет денег! Джон Шорт отошел переговорить с братом и вскоре вернулся. Августа занялась изучением типов людей, находившихся перед ее глазами. — Господи, кто это такие? — спросила она. — Вот генеральный атторней вместе с Фиддлстиком, Пирлом и Бином, поверенными Аддисона. Около него главный прокурор с Плейфордом, Миддлстоном, Блоухардом и Россом — это поверенные со стороны Роскью. Дальше Стикон, он любит дела о завещаниях и разводах и вечно пишет книги об этом. Затем репортер газеты «Таймс», он пишет романы, как вы, хотя и не так хорошо, и ворует из чужих сочинений. Дальше… В эту минуту Джон Шорт был прерван каким-то подошедшим добродушного вида человеком с моноклем в правом глазу. Это был мистер Ньюс, глава богатой фирмы, поверенный ответчиков. — Мистер Шорт, надеюсь? — произнес мистер Ньюс, сочувственно взирая на своего молодого оппонента. — Да! — Мистер Шорт! Я советовался со своими клиентами, с атторнеем и прокурором, и все мы пришли к соглашению, что в этом деле есть сомнительные обстоятельства, которые, безусловно, повлияют на решение суда! — Прежде чем говорить об этом, — возразил Джон с достоинством, — я должен посоветоваться со своим адвокатом. — Разумеется! Джеймс встал со своего места и ждал. Он тщательно подготовился к разбору дела. В первый раз в жизни он совещался с атторнеем и прокурором. — Послушайте, Шорт! — сказал атторней, обращаясь к Джеймсу, как к старому знакомому, хотя только что узнал его имя от Фиддлстика. — Как вы думаете, чем мы порешим это странное, курьезное дело? Много фактов говорит против вас, вы знаете об этом? — Я так не считаю! — заметил Джеймс. — Конечно, конечно! Но если вы не обидитесь на меня, почва качается у вас под ногами! Допустим, например, что ваша молодая леди не позволит взглянуть на завещание. Что тогда будет? В это время Фиддлстик что-то написал на листочке бумаги и вручил его атторнею, который покачал головой и передал записку соседу и далее. Когда записка обошла весь круг, мистер Ньюс показал ее своим почтенным клиентам — мистеру Аддисону и мистеру Роскью. Аддисон был полнолицый человек холерического темперамента, Роскью — высокий, с изжелта-бледным лицом и черной бородой. Когда они прочитали записку, Аддисон застонал, как раненый бык, а Роскью вздохнул, и эти вздох и стон показали Августе, которая усердно наблюдала за всеми перипетиями драмы, что наследникам не понравилось то, что в ней было написано. Мистер Ньюс отдал записку Джону Шорту, который передал ее брату, а Юстас прочитал через его плечо. На кусочке бумаги было написано:Предлагаемые условия — все состояние пополам, ответчики платят все судебные издержки!— Ну, Шорт, — спросил Юстас, — что вы скажете? Что делать? Джеймс сдвинул парик и задумчиво потер свою лысину. — Очень трудное положение! — произнес он. — Конечно, миллион — сумма большая, но их два, и оба могут достаться нам! Мое собственное мнение — надо бороться. Правда, предлагаемый миллион — это уже действительность, а ведь результат дела никому не известен! — Я готов согласиться! — заявил Юстас. — Хотя бы ради Августы… мисс Смиссерс… Ей придется опять показывать татуировку, а это неприятно для леди! — О, ей стоит только вспомнить, что здесь она не леди, а лишь законный документ! Спросите ее! — Августа! Как нам быть? — обратился к ней Юстас, объяснив, в чем дело. — Если мы примем условие, то избавимся от многих неприятностей. Решайте скорее, суд сейчас явится! — О нет, нет! — торопливо возразила Августа. — Я привыкла к неприятностям. Нет, будем бороться. Они испугались вас! Я вижу это по лицу ужасного мистера Аддисона. Нет, дорогой мой, надо бороться! — Хорошо! — согласился Юстас, взял карандаш и написал:
Отклоняем с благодарностью.В это время из коридора донесся шум. Двери широко распахнулись, и через минуту целое море адвокатов заполнило зал. Боже! Как они толкались и спешили! Стадо буйволов не могло бы ворваться с большим шумом. «Боже милосердный! — подумала Августа. — Что все они будут тут делать?» Вдруг какой-то старик около нее вскочил и закричал: — Тише! Несмотря на повелительный тон, его голос, однако, не произвел особого впечатления на бушующую толпу. Затем появились члены суда. Все встали, поклонились и сели на свои места.
Глава 19
ДЖЕЙМС ШОРТ ЗАЩИЩАЕТ ДЕЛО
Какой-то совершенно незнакомый Августе чиновник встал и объявил, что будет разбираться дело «Мизон, Аддисон и К°». В ту же минуту несчастный Джеймс Шорт вскочил на ноги. — Имя этого джентльмена? — расслышала Августа вопрос судьи, обращенный к клерку. — Джеймс Шорт! — Вы являетесь единственным поверенным истца? — спросил судья с ударением. — Да! — ответил Джеймс, и когда он произнес это слово, взоры всех присутствовавших обратились на него, и едва заметная улыбка пробежала по лицам судей. — Кто является поверенным ответчиков? — Я и мои ученые друзья, все мы держим сторону ответчиков! — заявил генеральный атторней. — Прекрасно! — подытожил судья. — Явно, что силы неравны, хотя, конечно, нас это не касается. — Если милорд позволит, — сказал Джеймс, — я сумею один постоять за дело, потому что хорошо знаком с ним! — Пожалуйста, мистер Шорт, — ответил судья, взирая на него с сожалением. — Излагайте ваше дело. Наступила тишина. Джеймс раскрыл бумаги и впервые в жизни вдруг впал в такое болезненное, нервное состояние, что начал дрожать, и мозг его совершенно отказывался работать. Бедный Джеймс, неопытный, не привыкший к судебным процессам, смутился. В числе его противников — целых двадцати человек — оказались многие известнейшие лидеры Англии, кроме того, судьями были в большинстве случаев люди его профессии, которые смотрели на него сейчас с любопытством и сожалением. — Милорд! — начал он и остановился. Решительно он не мог говорить. Какие-то дикие, бесформенные мысли блуждали в голове. Воцарилось зловещее молчание. — Прочитайте ваше дело! — шепнул ему адвокат, сидевший рядом. Джеймс ухватился за эту мысль. Действительно, если он не мог говорить, то мог прочитать дело, хотя это не принято в суде. Он начал читать:Истец есть единственный законный наследник Джонатана Мизона, бывшего владельца замка Помпадур, умершего двадцать третьего декабря одна тысяча восемьсот восемьдесят пятого года, согласно его последнему и действительному завещанию, сделанному им двадцать второго декабря одна тысяча восемьсот восемьдесят пятого года…Тут судья поднял брови и откашлялся, потом взял синий карандаш и что-то записал.
Двадцать первого мая одна тысяча восемьсот восемьдесят шестого года по прошению ответчиков было утверждено завещание Джонатана Мизона от десятого ноября одна тысяча восемьсот восемьдесят пятого года. Истец требует: 1. Чтобы суд отменил вышеуказанное завещание Джонатана Мизона от десятого ноября одна тысяча восемьсот восемьдесят пятого года, утвержденное двадцать первого мая одна тысяча восемьсот восемьдесят шестого года. 2. Чтобы суд утвердил завещание Дж. Мизона от двадцать второго декабря одна тысяча восемьсот восемьдесят пятого года и ввел истца во владение наследством.— Не угодно ли вам, милорд, — произнес Джеймс» закончив чтение, — чтобы я изложил дальнейшее… Ответчики заявили, что завещание от двадцать второго декабря составлено не по статуту, что завещатель находился под сильным влиянием Августы Смиссерс. Джеймс остановился. Он вновь не мог преодолеть сильнейшее нервное напряжение. Снова молчание, еще более ужасное, чем в первый раз. Судья что-то записал и откашлялся. Бедный Джеймс молчал. Он готов был лучше умереть, чем выносить подобное унижение перед лицом своих коллег. В голове у него шумело, словно он был пьян. В это время Фиддлстик, с любопытством наблюдавший за своим противником, вдруг понял его состояние. Чувство жалости проникло в его ученую грудь. Быть может, ему вспомнился подобный же случай из собственной практики в далеком прошлом, или он пожалел бедного молодого человека, своей неловкостью губившего дальнейшую карьеру, но он совершил благородный поступок. Случилось так, что он сидел справа в углу, а перед ним на конторке возвышалась огромная кипа судебных книг и бумаг, положенных клерком. По доброте сердца мистер Фиддлстик решил, что нужно отвлечь общее внимание от несчастного Джеймса, наклонился через конторку вперед, положил руку на книги и уронил их. С шумом и грохотом вся громада книг посыпалась на голову и плечи его клиента, мистера Аддисона, который сидел ниже, около конторки. Тяжелые книги больно ударили Аддисона по носу. Этой случайности мистер Фиддлстик, конечно, не предвидел. Судья нахмурился, но скоро улыбка появилась на его губах. Мистер Аддисон не смеялся. Он свалился на пол, потом вскочил на ноги и, сердито швыряя книги и держась за нос, хотел броситься на ученого мужа. — Вы нарочно это сделали! — проревел он, забыв, что находится в зале суда. — Пустите меня, я ему покажу! Вся аудитория разразилась громким смехом. Мистер Фиддлстик смущенно улыбался, а мистер Ньюс и мистер Роскью тащили разъяренного Аддисона на его место и предлагали ему носовые платки, чтобы вытереть разбитый нос. Джеймс также засмеялся, и это спасло его. Вся его нервозность исчезла словно по волшебству. Раздалось энергичное: «Тише, тише!» Джеймс спокойным и ясным голосом начал свою речь. Полностью справившись с волнением, он подробно осветил отношения покойного Мизона со своим родным племянником, Юстасом Мизоном, и с Августой Смиссерс, которая имела несчастье вести дела с фирмой «Мизон и KV Все присутствовавшие, читавшие книгу Августы «Обет Джемимы», не исключая и судей, слушали с глубоким интересом. Затем Джеймс передал сцену между Августой и покойным издателем, рассказал о вмешательстве Юстаса, закончившемся ссорой и лишением наследства, о случайной встрече на корабле Мизона и Августы. Ярко и подробно нарисовал Джеймс Шорт картину кораблекрушения, гибели «Канчаро», спасения Августы и ее возвращения в Англию и закончил свою блестящую речь, заявив суду, что главные герои этой трагедии собираются повенчаться, что, по его мнению, явится прекрасным завершением всей этой романтической истории. (Взрыв аплодисментов.) Наконец он умолк и сел, потом взглянул на часы. Он говорил около двух часов, хотя совершенно не заметил времени. Затем был вызван первый свидетель — Юстас Мизон, который ограничился тем, что сообщил о своих отношениях с покойным Мизоном и с Августой Смиссерс. Юстас говорил спокойно и откровенно, что, казалось, произвело благоприятное впечатление на судей. Мистер Фиддлстик встал и возразил Юстасу, что его поведение вполне оправдывало недружелюбное отношение дяди к нему. Юстас подробно рассказал все, что произошло между ним и его дядей, сознавшись, что наговорил много неприятного, возмущенный отношением последнего к Августе. Мистер Фиддлстик говорил десять минут и сел, нисколько не подвинув дела. После Юстаса была вызвана леди Холмерст. Она заявила, что познакомилась с Августой на корабле «Канчаро», и тогда на ее шее не было и следа татуировки, а в Лондоне она увидела Августу уже с татуировкой на шее. После вызова леди Холмерст судьи отправились завтракать. Когда они вернулись, то вызвали Августу. Ропот оживления пронесся в толпе, когда молодая девушка, с сильно бьющимся сердцем, удивительно красивая, подошла к судьям. Прежде всего встал генеральный атторней. — Прошу вашего позволения, милорд, — обратился он к судье, — лишить эту свидетельницу слова. — На каком основании, мистер атторней? — спросил судья. — На том основании, что она не должна и не может говорить. Если верить всей этой истории, то молодая леди представляет собой завещание Джонатана Мизона. Я полагаю, что на эту свидетельницу мы должны смотреть только как на документ. — Но, мистер атторней, — возразил судья, — документ — это тоже свидетель, и свидетель лучшего сорта! — Несомненно, милорд, но документ не может говорить и давать объяснения. Документ свидетельствует только тем, что на нем написано, но не говорит человеческим языком! Обращаю ваше внимание, милорд, на основные принципы закона по интерпретации писаных документов! — Я хорошо знаю эти принципы, мистер атторней, и не вижу, зачем они нужны вам теперь! — Как вам угодно, милорд. Я настаиваю на том, что мисс Смиссерс есть не что иное как документ, и не имеет права раскрывать рта, так как бумага не обладает даром слова! — Так, — произнес судья, — но это спорный вопрос. Что вы на это скажете, мистер Шорт? Все глаза обратились на Джеймса, который чувствовал, что если он промолчит, то дело будет проиграно. — Вот по этому поводу я обращаюсь к вам, мистер Шорт, — продолжал ученый судья, — действительно ли личность мисс Смиссерс совершенно подавлена и уничтожена тем обстоятельством, что она представляет собой документ, и отнимает ли у нее эта документальность, если можно так выразиться, право предстать перед судом как обыкновенный свидетель и подтвердить все сказанное? — Если милорд позволит, — сказал Джеймс, — я утверждаю, что это неправильно. Конечно, документ остается документом, но мисс Смиссерс также остается молодой леди. Ведь это абсурд — утверждать, что человек, на котором вытатуирован документ, перестает быть человеком и теряет свою правоспособность говорить и свидетельствовать истину. Можно ли лишить человека его естественных прав? Нет, это неправильная постановка вопроса! — Да, это курьезный пункт, — отметил судья, — и единственный в своем роде. Поразмыслив и выслушав мистера Шорта, я убедился, что на это можно возразить. (Юстас облегченно вздохнул) Ответчики утверждают, что мисс Смиссерс есть не что иное как документ и что она не может говорить. Полагаю, что мистер атторней не обдумал вопроса, когда пришел к такому заключению. Как обстоит дело? Завещание вытатуировано на части кожи молодой леди, но разве эта кожа представляет собой всю ее особу? Где же интеллект, индивидуальность? Постараюсь выразиться яснее… Допустим, что истец убедил свидетельницу позволить содрать с себя вытатуированную часть кожи (тут Августа подпрыгнула на месте), что она вынесла операцию и предстала перед судом как свидетельница. Неужели суд откажется принять ее свидетельство? Документ на человеческой коже был бы в руках судей, и особа, которой принадлежала эта кожа, тоже стояла бы перед судом. Возможно ли отделить такой документ от человеческой личности? По моему мнению, нельзя. Возьмем другое положение и допустим, что завещание вытатуировано на ноге этой особы и что эта нога при известных обстоятельствах отрезана и представлена на суд. Неужели свидетельница, у которой отрезана нога, не имеет права дать показания на суде в силу того, что ее нога является документом? Я думаю, что она имеет полное право давать показания! 466 — Позволите ли вы, милорд, записать ваше решение/ — спросил мистер атторней, думая об апелляции. — Конечно, мистер атторней! Приведите свидетелей к присяге!Джеймс Шорт
Глава 20
ИСК ПОДЛЕЖИТ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ
Августа также была приведена к присяге, и Юстас заметил, что, когда она подняла вуаль, чтобы поцеловать Библию, ее красивое лицо произвело сильное впечатление на публику. Тогда Джеймс начал свой допрос; медленно, шаг за шагом, руководил он ответами Августы и заставил ее рассказать всю свою историю, включая и татуировку завещания на острове Кергелен. Очевидно, рассказ заинтересовал всех присутствовавших, и общее возбуждение достигло апогея, когда Августа начала рассказывать о татуировке. — Расскажите, пожалуйста, подробнее, каким образом случилось, что завещание мистера Мизона было вытатуировано на вашей коже, — попросил ее Джеймс Шорт. Выразительно, яркими красками Августа описала каждую подробность с той минуты, когда покойный Мизон сообщил ей о своих терзаниях из-за того, что лишил наследства своего племянника, затем описала всю операцию татуировки, которую сделал матрос на ее шее. — Теперь, мисс Смиссерс, — заявил Джеймс, когда Августа закончила рассказ, — мне очень жаль, но я должен побеспокоить вас и попросить показать документ суду. Бедная Августа покраснела до ушей. Глаза ее наполнились слезами, пока она снимала темный плащ, скрывавший ее плечи (конечно, она была в платье с глубоким вырезом). Судья, взглянув на нее, заметил ее огорчение. — Если вы желаете, мисс Смиссерс, — произнес он любезно, — я прикажу выйти всем, исключая лиц, заинтересованных в деле непосредственно. При этих словах ропот недовольства пробежал среди присутствовавших. Это было жестоко — лишить их возможности видеть завещание! С отчаянием уставились они на Августу, ожидая ее ответа. — Благодарю вас, милорд, — ответила она с легким поклоном, — но мне это безразлично! Надеюсь, что каждый из присутствующих войдет в мое положение… — Отлично, — произнес судья. Без дальнейших слов Августа сбросила плащ и шелковый платок и встала, смущенная и покрасневшая, в своем открытом платье. — Простите, но мне придется попросить вас подойти ко мне! — сказал президент. Августа обошла кругом, взошла на возвышение и повернулась спиной к судье, чтобы он мог видеть завещание. Судья стал очень тщательно рассматривать написанное с помощью увеличительного стекла. — Благодарю вас, — произнес он наконец, — я увидел. Боюсь, что ученый совет также пожелает увидеть завещание. Августа спустилась вниз и медленно прошла по рядам ученых мужей, останавливаясь перед каждым для обозрения завещания, в то время как сотни глаз были устремлены отовсюду на ее несчастную шею. Наконец пытка кончилась. — Довольно, мисс Смиссерс, — заявил судья, — вы можете надеть свой плащ. — Документ, который вы показали суду, мисс Смиссерс, — спросил Джеймс, — тот самый, который составлен на острове Кергелен двадцать второго декабря прошлого года? — Да. — Документ этот был вытатуирован в присутствии завещателя и двух свидетелей? — Да. — Во время составления завещания был ли завещатель в здравом уме и твердой памяти? — Несомненно. — Пытались ли вы оказать на него давление, заставляя его составить завещание? — Нет, не пыталась. — Можете вы поклясться в этом? — Клянусь. Затем Джеймс перешел к истории смерти обоих моряков, которые были свидетелями завещания, к спасению Августы и закончил свой допрос только в четыре часа. Заседание было отложено до следующего дня. Без сомнения, все заинтересованные в деле лица провели тревожную ночь и были очень довольны, когда снова очутились в зале суда. Народу собралось еще больше, каждый жаждал узнать, чем закончится дело. Как только вошли члены суда, Августа заняла свое место на скамье свидетелей, и мистер атторней начал допрос. — Вы сказали, мисс Смиссерс, что хотите повенчаться с истцом, мистером Мизоном. Мне очень жаль, но я должен задать вам щекотливый вопрос: были ли вы влюблены в мистера Мизона во время татуировки завещания? Это было неожиданное нападение, и бедная Августа покраснела до ушей, но скоро природный ум выручил ее из беды. — Если вы объясните мне, сэр, что значит быть влюбленной, то я с удовольствием отвечу на ваш вопрос! — произнесла она. Все присутствовавшие, включая и судью, улыбнулись. Генеральный атторней смутился. — Хорошо, — заговорил он, помолчав, — намеревались ли вы выйти замуж за мистера Мизона? — Очень может быть, мистер атторней, — вмешался судья, — но что же из этого следует? — Преклоняюсь перед вашей опытностью, милорд, — сухо заметил атторней, — быть может, мне следовало иначе поставить вопрос. Скажите, свидетельница, вы рассчитывали в то время на брак с мистером Мизоном? — Не думала даже. — Согласились вы на татуировку — довольно мучительную операцию, — имея виды на истца? — Конечно, нет. Могу прибавить, — сказала Августа с некоторым колебанием, — что, решившись обезобразить себя, я не рассчитывала понравиться кому-либо! — Пожалуйста, отвечайте на мои вопросы, мисс Смиссерс, и не комментируйте их. Как могли вы решиться на подобную операцию? — Я решилась на нее потому, что считала это делом справедливости, так как под рукой у меня не было никаких средств, чтобы облегчить смерть покойного Мизона. Я… Она умолкла. — Продолжайте! — Я знала мистера Юстаса Мизона, знала, что он лишился наследства вследствие спора с дядей из-за меня! — Ага! Наконец-то мы договорились. Следовательно, вы решились на татуировку ради истца, а не в интересах правосудия? — Да, конечно. — Но, мистер атторней, — опять вмешался судья, — что вы хотите этим сказать? — Мне хочется доказать вам, милорд, что эта молодая леди действовала вовсе не беспристрастно в этом деле. Ее поступки имели слишком явную побудительную причину. — Весьма понятно, — сухо заметил судья, — но из этого вовсе не следует, что мотив поступков может быть нечестным! Ученый джентльмен продолжал допрос, вооружившись всей своей ловкостью и опытностью, чтоб заставить Августу сознаться, что завещатель действовал под ее влиянием и был болен во время составления завещания. Но все его усилия были тщетны, и, когда он сел на свое место, Джеймс Шорт понял, что дело его еще не проиграно. После нескольких вопросов, предложенных Августе другими судьями, встал Джеймс Шорт и попросил девушку подробно рассказать все то, в чем исповедовался ей мистер Мизон на острове Кергелен. Надо было видеть ярость и ужас мистера Аддисона и мистера Роскью, когда самые сокровенные тайны их фирмы выплыли наружу и система, практиковавшаяся Мизоном, раскрылась всем присутствовавшим на суде. Дюжина репортерских карандашей поспешила записать все слышанное. Затем была вызвана миссис Томас, жена капитана Томаса. Она подтвердила, что Августа находилась на острове Кергелен, что она сама видела там шляпу одного из моряков, бочку рома и черепок, из которого матросы пили ром. Всего важнее было ее показание о том, что она видела на острове труп мистера Мизона, которого она тотчас же опознала на предъявленной ей фотографии. Она поклялась, что, когда Августа взошла на их шхуну, следы татуировки на ее шее еще не зажили. Затем мистер атторней вызвал двух своих свидетелей, мистера Тодди, стряпчего, который составлял завещание Мизона от десятого ноября, и его клерка. При допросе оба свидетеля подтвердили, что завещатель был страшно раздражен при составлении первого завещания. Затем генеральный атторней выступил от лица ответчиков. Он заявил, что суду предстоит разрешить два вопроса: во-первых, можно ли считать татуировку на шее леди за действительное, законное завещание, во-вторых, где доказательства того, что завещатель был вполне здоров, составляя свое завещание, и не подчинился чужому влиянию? Очень тонко и умело представил он всю странность и романтичность истории по свидетельским показаниям Августы Смиссерс. Принимая во внимание отношения свидетельницы к истцу, мог ли суд отнестись с полным доверием к ее показаниям? Быть может, молодая леди подчинила своему влиянию слабого, умирающего старика и заставила его составить завещание в пользу любимого человека! После атторнея говорили главный прокурор и мистер Фиддлстик. Потом встал Джеймс Шорт, чтобы внести возражение со стороны истца. Наступило молчание, пока он разбирал свои бумаги. — Благодарю вас, мистер Шорт, — проговорил судья, не дав ему даже раскрыть рта, — я не буду беспокоить вас больше! Джеймс сел, радостно вздохнув, чувствуя, что дело его выиграно. Судья начал свою блестящую речь и, мастерски суммировав все факты, заключил ее следующими словами: — Таковы подробности этого замечательного процесса, о подобном которому мне не приходилось слышать за всю мою долголетнюю практику. Мистер генеральный атторней справедливо сказал, что все дело заключается в двух пунктах: 1. Может ли документ, вытатуированный на шее Августы Смиссерс, считаться настоящим завещанием покойного Мизона? 2. Возможно ли допустить вероятность всей этой истории? Что понимает закон под словом «завещание»? Несомненно, завещание — это последняя воля или желание какого-либо лица, изложенные письменно, относительно его имущества и собственности после смерти. Завещание должно быть обставлено некоторыми формальностями, как важный и законный документ. Первый пункт, который я должен обсудить: представляет ли собой эта татуировка на спине молодой леди подлинное и настоящее завещание Мизона? Я отвечаю на этот вопрос в утвердительном смысле. Конечно, факт татуировки документа на человеческой коже — вещь редкая и необычная, но из этого вовсе не следует, что документ теряет свои ценность и значение. Я думаю, что документ остается документом, на чем бы он ни был написан. Завещатель вовсе не был эксцентричной особой, а оказался поставленным в безвыходное положение. Весьма естественно, что на пороге смерти, согласно словам мисс Смиссерс, он осознал свою несправедливость к племяннику и жаждал исправить ее. В своем ужасном положении на пустынном острове он не имел под рукой ничего, чтобы выразить свою последнюю волю. Понятно, что он с радостью ухватился за мысль вытатуировать завещание на теле молодого и сильного существа. Можно ли отрицать законность этого документа только потому, что он составлен не по всем требованиям формалистики? Я полагаю, что он может считаться настоящим и действительным документом, законным завещанием покойного Мизона. Перехожу ко второму пункту. Можно ли верить показаниям мисс Смиссерс? Леди Холмерст показала, что на корабле «Канчаро» мисс Смиссерс не имела на себе никаких признаков татуировки. Миссис Томас заявляет, что, когда мисс Смиссерс была спасена шхуной ее мужа, капитана Томаса, то шея ее была уже татуирована и сильно болела. Татуировка не могла быть сделана ею самой или ребенком, ее единственным компаньоном на острове. Кроме того, миссис Томас видела на острове труп Мизона, которого она сейчас же опознала, когда ей показали его фотографию, и шляпу одного из матросов. Я подхожу к решению этого второго вопроса с некоторой нерешительностью. Конечно, не так легко, в самом деле, совершенно отменить формально составленное завещание от десятого ноября и присудить истцу громадное состояние только в силу свидетельского показания единственной свидетельницы. Но я лично убежден в том, что мисс Смиссерс говорила правду. Мне кажется, что мой многолетний опыт научил меня отличать правду от лжи, и я не могу не верить всему, что рассказала мисс Смиссерс. (Оживление в зале.) Я следил и наблюдал за ней при перекрестных допросах и уверен, что она сказала правду. Относительно предположения, высказанного мистером атторнеем, что свидетельница во время составления завещания рассчитывала на брак с истцом, я не могу высказаться определенно. Может быть, это предположение верно, может быть — нет! Допуская его правдоподобность, мы должны установить тот факт, что мисс Смиссерс, оставляя Англию, вероятно, не имела определенного намерения вступить в брак с истцом, но истец всегда готов был сделать ее своей женой, — и это обстоятельство, по моему мнению, говорит не против него, а скорее в его пользу. Я должен заметить, что молодая леди совершила героический поступок, тем более что он имеет и свою оборотную сторону. Она перенесла операцию, которая была мучительна и нанесла немалый ущерб ее красоте. Соглашаясь с мистером атторнеем, что она принесла эту жертву, имея серьезный мотив — чувство справедливости, благодарность или более теплое чувство к истцу, я не нахожу тут ничего дурного и не имею причины не верить показаниям мисс Смиссерс. Остается еще последний вопрос: был ли завещатель во время составления завещания в здравом уме и твердой памяти? Указывает ли что-нибудь на то, что он был ненормален? Я не вижу ничего подобного. Мисс Смиссерс утверждала и приняла присягу, что не заметила в нем ничего подобного. Она рассказала, между прочим, что незадолго до смерти он начал бредить и кричал, преследуемый галлюцинациями. Что же удивительного в том, что умирающий галлюцинировал и видел тех несчастных, кого он обижал и обманывал в своей жизни? Я вполне понимаю, что, чувствуя приближение смерти, Мизон хотел загладить свою несправедливость и отдать все свое состояние племяннику, вся вина которого заключалась в том, что он сказал дяде правду в глаза. Мне это кажется весьма естественным и вполне согласующимся с основными свойствами человеческой природы. Вся же история носит романтический характер и только подтверждает поговорку: истина причудливее всякой выдумки! Я вполне допускаю тот факт, что покойный Мизон позаботился вытатуировать свое последнее завещание, составленное в пользу его близкого родственника Юстаса Мизона, на плечах Августы Смиссерс двадцать второго декабря 1885 года. Установив этот факт, я отменяю завещание Мизона от десятого ноября и утверждаю завещание, представленное истцом. Иск по суду считать удовлетворенным. — А судебные издержки, милорд? — спросил Джеймс, вставая. — Так как тяжба возникла по вине самого завещателя, то пусть его наследник заплатит судебные издержки. — Как вам угодно, милорд! — ответил Джеймс и сел на свое место. — Мистер Шорт! — заговорил судья, откашлявшись. — Я редко говорю комплименты, но сегодня считаю своим долгом поздравить вас с успехом и сказать вам, что изумлялся тому мужеству, ловкости и умению, с которыми вы вели это необычное дело, имея противниками целый ряд ученых джентльменов. Для подобного процесса нужен огромный многолетний опыт. Факт сам по себе беспрецедентный… Джеймс вспыхнул и почувствовал себя на седьмом небе: карьера сделана, — и если теперь благоденствие его не упрочится, то это будет исключительно его собственной виной.Глава 21
СВАДЬБА
Суд кончился. Августа заметила, что ученые мужи, изо всех сил бившиеся, чтобы выиграть дело своих клиентов, вовсе не казались особенно расстроенными, потерпев поражение, и быстро удирали из зала, словно торопясь отрясти его прах от ног своих. Она не знала, что сердца их бились ровно, потому что они уже получили свой заработок и не чувствовали себя виноватыми в том, что суд решил иначе. Другое дело — мистер Аддисон и мистер Роскью, у которых миллионы выскользнули из рук. Конечно, они были богаты, но люди, обладающие деньгами, всегда желают иметь их еще больше. Мистер Аддисон побагровел от ярости, а мистер Роскью закрыл лицо руками и застонал. Генеральный атторней встал, подошел к Джеймсу Шорту и искренне пожал ему руку. — Позвольте мне поздравить вас, дорогой коллега! — сказал он. — Я никогда не видел такого умелого ведения дела и очень рад, что судья сказал вам комплимент, что, кстати, совсем не в его обычае. Могу добавить, что надеюсь в скором будущем видеть вас в качестве своего помощника. Если у вас нет впереди ничего лучшего, не угодно ли вам зайти ко мне завтра около двенадцати часов? Мистер Аддисон, слышавший эти слова, одним прыжком очутился между собеседниками. — Теперь я все понимаю! — произнес он дрожащим голосом. — Меня предали, я сделался жертвой заговора. Вы получили кучу денег от меня, будьте вы прокляты! — завопил он, поднося кулак к лицу ученого мужа. — А теперь поздравляете этого человека! Вы обманули меня, сэр! Вы — негодяй и мошенник! Тут ученый генеральный атторней, позабыв собственный сан и величие, возмутился и был готов тоже пустить в дело кулаки. Не будь поблизости мистера Ньюса, который оттащил назад своего разъяренного клиента, разыгрался бы ужасающий скандал. — Ну, а теперь, господа, — заявила леди Холмерст, — я полагаю, что лучше всего отправиться домой и пообедать! Я приказала подать обед в семь часов, а сейчас около пяти. Надеюсь, мистер Шорт, вы приедете ко мне и привезете с собой вашего брата: право, вы оба вполне заслужили свой обед! Все ушли. Это был веселый и приятный обед, по окончании которого братья Шорт уехали, сияя, как звезды, от счастья и выпитого шампанского. Леди Холмерст ушла к себе, оставив молодых людей наедине. — Жизнь — странная вещь! Сегодня утром я был бедняком, а сейчас — один из богатейших людей в Англии! — сказал Юстас. — Да, дорогой мой! — подтвердила Августа. — Весь мир будет у ваших ног, потому что жизнь легка и приятна для богатых людей. Перед вами прекрасное будущее, Юстас, право, мне даже совестно выходить замуж за такого богача! — Ненаглядная моя! — воскликнул Юстас, обнимая молодую девушку. — Всем этим я обязан вам. Знаете ли, чего я боюсь, если мы в самом деле окажемся богачами? Я опасаюсь, что вас затянет шумная жизнь, то, что люди называют обязанностями светской женщины, разные развлечения, и вы забудете о своем литературном призвании. Многие женщины поступают так… Хоть они и уверяют, что не имеют свободного времени, но, в сущности, просто не желают найти его для занятий. — Да, — ответила Августа, — если они не любят своего дела. Тот, кто любит его всем сердцем и душой, никогда не откажется от него. Конечно, замужество несет с собой определенные заботы и отвлекает от занятий, но в то же время, если оно счастливо, работается легко и спокойно. Вам нечего бояться, Юстас, я постараюсь доказать миру, что вы женились не на глупой женщине. Если же я не сделаю ничего, то, значит, я — бестолковая тупица. — Приятно слышать это от автора «Обета Джемимы», — саркастически усмехнулся Юстас, — в самом деле, моя дорогая, ваша известность как писательницы, героини кораблекрушения и процесса о завещании смущает меня. Мне придется оставаться всегда позади, меня будут знать только как супруга прекрасной, талантливой миссис Мизон… — О нет, не бойтесь, — возразила Августа, — никому не пригрезится во сне отозваться так о богаче, обладателе двух миллионов. — Не злите вы меня этими деньгами! — с досадой воскликнул Юстас. — Мы еще не получили их. Августа, мне надо кое о чем спросить у вас. — А мне пора идти спать! — заявила Августа. — Глупости! — отозвался Юстас. — Вы не пойдете. — Он схватил ее за руку. — Оставьте меня, сэр! — вскричала Августа с достоинством. — Что вам еще нужно, глупый мальчишка? — Я хочу знать, повенчаемся ли мы с вами на будущей неделе? — На будущей неделе? Боже милостивый! Нет, нет, конечно, — ответила Августа. — Мое приданое еще не готово, и я, право, не знаю, откуда взять мне денег, чтобы заплатить за него. — Тряпки! — изрек Юстас с презрением. — Вы умели обходиться на острове Кергелен без всего, и я не вижу, почему вы не можете обвенчаться без ваших тряпок, тем более что я достану вам все нужное в течение шести часов. Что может быть глупее этих тряпок! Слушайте, дорогая моя! Ради Неба, давайте поженимся и успокоимся. Смею вас уверить, что если вы не последуете моему совету, жизнь ваша будет отравлена. За вами будут охотиться, как за редкой дичью, интервьюировать, рисовать — словом, замучат до смерти. Если вы выйдете замуж. — это будет лучше и спокойнее для нас обоих. — Ваши слова, пожалуй, справедливы, — заметила Августа. — Но допустим, что ответчики подадут на апелляцию, и дело примет другой оборот, что тогда? — Тогда мы оба будем работать, больше ничего. Вы — писать и выпускать ваши книги, а я — работать, как умею и могу. — Хорошо, я поговорю с Бесси об этом, — согласилась Августа. — Конечно, леди Холмерст найдет, что возразить, — мрачно заметил Юстас, — она нежно позаботится о ваших тряпках. — Это все, что я могу сделать для вас, сэр, — решительно ответила Августа. — Спокойной ночи. Она грациозно присела и исчезла. — Кто может узнать мысли женщины! — размышлял Юстас, пока дворецкий не принес ему шляпу. — Она всегда сделает, что захочет, но чего она хочет? Через десять дней после этого разговора небольшое, но избранное общество собралось в доме леди Холмерст на Ганновер-сквер. Свадьба держалась в секрете, чтобы не привлечь толпы любопытных. Так как у Августы не было родных, она просила ученого доктора, с которымсостояла в большой дружбе, заменить ей отца. Хотя за всю свою долголетнюю практику старому джентльмену чаще приходилось разрывать брачные узы, чем связывать их, он не мог отказать Августе в ее просьбе. — Мне придется на время пренебречь своими обязанностями, дорогая леди, — сказал он, пожимая руку Августе. — Это очень дурно, очень дурно, потому что я должен быть в канцелярии. Но, может быть, я как-нибудь устроюсь, хотя это очень, очень нехорошо с моей стороны! Думаю, что буду просить суд, то есть пастора, подождать меня немного… И в назначенный знаменательный день почтенный муж покинул свою канцелярию и присоединился к обществу. Леди Холмерст выглядела необычайно изящной и красивой в своем вдовьем одеянии, ее мальчик Дик, очень веселый, сиял здоровьем и изумлялся торжественному виду своей «тети». В арьергарде находились братья Шорт. Августа была прелестна в своем подвенечном наряде, и, любуясь ею, ученый доктор готов был сам влюбиться в нее. Но на прекрасном лице девушки лежала тень печали: сегодня Августа была счастлива, как может быть счастлива любящая и любимая женщина, но великая радость всегда является к нам вместе с нашими былыми печалями. Величайшее счастье имеет свойство напоминать нам прошедшее горе, потому что радость и печаль вытекают из одного источника. Так было и с Августой. Ей вспомнилась дорогая сестричка, ее предсказание о счастливом будущем. Теперь счастье и успех сопутствуют ей, и рядом с ней стоит ее возлюбленный, но ее счастье омрачено воспоминанием о дорогом личике сестры, о маленькой могилке… Потом Августе вспомнился бедный мистер Томби… Он давно погиб в волнах океана, а она живет, и перед ней — блестящая карьера… Бедный мистер Томби! Ей вспомнились его последние слова, когда он усаживал ее в лодку. Пожалуй, для него и лучше, что он умер. — Теперь, мисс Смиссерс, — прервал доктор ее мысли, — больше никто не будет называть вас так! — возьмите мою руку, судья, то есть, я хочу сказать, пастор, пришел!Церемония окончилась. Юстас и Августа стали мужем и женой. Все общество вернулось на Ганновер-сквер. Первым, кто их приветствовал при входе, был маленький клерк Джона Шорта, явившийся сюда в сопровождении своего брата, клерка, служившего у Джеймса. Мальчик держал в руке официальное письмо. — Помечено «немедленно», сэр! Я подумал, что надо поскорее доставить его вам! Он подал письмо Джону. — Что это такое? — спросил Юстас нервно. Он смертельно боялся теперь всех этих официальных писем. — Вероятно, уведомление об апелляции! — заметил Джон. — Откройте его скорее и читайте! Джон прочитал следующее:
Джону Шорту, эсквайру Дорогой сэр! После совещания с нашими клиентами, мистером Аддисоном и мистером Роскью, мы уполномочены сделать вам следующее предложение. Пусть истец не требует отчета о прибылях, полученных фирмой…— Неверный термин! — сказал Джеймс раздраженно. — Странно, что свидетель мог допустить такое выражение! — Определение достаточно верное! — возразил его брат. — Термин «прибыли» обозначает здесь доход со всего капитала. — Ради Бога, не препирайтесь, — воскликнул Юстас. — Разве вы не видите, что я терзаюсь? …и мои клиенты готовы отказаться от апелляции по делу «Мизон, Аддисон и К°». Если же истец будет настаивать на отчете, то мы передадим дело в высшую инстанцию суда. С почтением, НьюсP.S. Весьма обяжете немедленным ответом. — Ну, Мизон, что вы на это скажете? — спросил Джон. — Простите, я забыл: может быть, вы хотите посоветоваться с ним? — он указал на Джеймса, который с негодованием потирал свою лысину. — Нет, нет, я уже решил, — возразил Юстас. — Пусть остаются со своими прибылями и доходами, они мне не нужны! Пошлите Ньюсу телеграмму. — Я согласен с вашим взглядом на дело, — начал Джеймс торжественно, — и очень рад, что мы сходимся во мнениях, хотя, мне кажется, есть спорные пункты, на которые я хочу указать вам… — Ради Бога, не сейчас! — прервала его леди Холмерст. Адвокат со вздохом покорился. Ньюсу послали телеграмму, и все сели за свадебный завтрак, который прошел очень оживленно. Леди Холмерст в первый раз со смерти мужа была веселой и оживленной, как прежде, и так прелестна, что Джеймс забыл свою ученость, свою профессию и не отходил от нее. Он дошел до того, что сказал ей какой-то громоздкий комплимент, который состоял из трех длинных фраз и разделялся на пункты. В конце завтрака встал ученый доктор и произнес тост за здоровье новобрачных. Его речь была прекрасна и переполнена классическими цитатами. — Мне приходилось слышать, — закончил он, — что есть люди — настоящие любимцы и баловни судьбы. Я не верил этому, но теперь убедился в истине данного изречения. Мистер Юстас Мизон, бесспорно, прекрасный молодой человек, очень милый и красивый, но позвольте спросить, что он совершил, чем заслужил свое необыкновенное счастье? Почему он избран из сотни других молодых джентльменов, чтобы обладать двумя миллионами капитала и жениться на прелестнейшей, талантливой и великодушной молодой леди? В красоте молодой леди заключается еще целое состояние, не говоря уже о ее уме и таланте. Сэр! — он поклонился Юстасу. — Приветствую вас, так как все люди должны приветствовать счастливого избранника судьбы! Смиренно преклоняюсь перед вами, смиренно желаю, чтобы вы долго наслаждались тем несравненным счастьем, которым Провидению угодно было наградить вас! Затем встал Юстас и произнес маленький спич. Он припомнил, как с первого взгляда полюбил Августу, увидев ее в конторе своего дяди в Бирмингеме, как тяжело ему было, когда, вернувшись из Лондона, он узнал, что любимая девушка исчезла. Сколько он перестрадал, когда до него дошли слухи, что она утонула вместе с «Канчаро»! — Доктор сказал, что я счастливый избранник судьбы, — закончил Юстас, — и я согласен с ним. В самом деле, я счастлив выше меры, выше моих заслуг, так счастлив, что даже пугаюсь. Когда я вижу свою возлюбленную жену рядом со мной, мне кажется, что я брежу, что все это сон — я проснусь и не найду никого около себя! Это колоссальное богатство, которым я обязан ей, — оно меня просто пугает. Я надеюсь, если Небу будет угодно, сделать много хорошего с этими деньгами, помня постоянно, что в моих руках великая сила, что мой долг — распорядиться по разуму и совести! Моя жена, неоценимое сокровище, мой лучший друг и советник, конечно, поможет мне. Помолчав немного, Юстас предложил тост за здоровье братьев Шорт, которые сумели выиграть дело, не побоявшись целого сонма ученых мужей. После Юстаса встал Джеймс и начал говорить удивительно цветисто и красноречиво и говорил бы бесконечно долго, если бы леди Холмерст не пришла в отчаяние и не дернула его за рукав, заявив, что он может предложить тост за ее здоровье. Джеймс сделал это с величайшим удовольствием, причем намекнул на то, что хотя леди Холмерст считается вдовой, но «находится» в беспомощном положении, обладая всеми правами и ответственностью одинокой женщины. Все общество разразилось смехом, включая бедную, смущенную леди Холмерст. Джеймс уселся на свое место, негодуя, что безрассудные люди не умеют оценить меткости его определения. После завтрака Августа пошла переменить платье. Началось шумное прощание. Новобрачные уселись в прекрасный кеб и уехали, сопровождаемые оглушительными криками и пожеланиями.
Глава 22
НОВАЯ ФИРМА «МИЗОН и К°»
Прошел месяц — месяц чудных летних дней, безоблачного счастья. Юстас и Августа были счастливы, проводя свой медовый месяц под солнечным небом одного из прелестнейших островков близ континента. Между тем у мистера Джона Шорта состоялось совещание с поверенными ответчиков Аддисона и Роскью, в результате которого оба джентльмена отказались быть далее компаньонами издательской фирмы и Юстас Мизон таким образом становился единственным владельцем обширного предприятия и должен был принять его в свое непосредственное ведение. Сопровождаемый мистером Джоном Шортом, которого он назначил своим главным поверенным, и Августой, Юстас явился, чтобы формально вступить во владение фирмой. Номер первый, державший все хозяйство в своих руках, несколько сердито вручил документы Юстасу. Ему вовсе не нравилась простота манер нового молодого владельца. Юстас перелистывал бумаги, и его счастливая молодая жена стояла около него, думая об удивительной перемене обстоятельств. Год тому назад она стояла в этой конторе, как нищая, вымаливая у Мизона несколько лишних фунтов, чтобы спасти жизнь сестры, а теперь… Вдруг Юстас вытащил из пачки один документ и просмотрел его. Это был контракт Августы с Мизоном относительно книги «Обет Джемимы», связавший ее на целых пять лет. — Это подарок для тебя, моя дорогая! — обратился Юстас к жене. — Возьми его! Августа взяла документ, взглянула на него и вздохнула. Он напомнил ей много тяжелого. — Что же мне делать с ним? — спросила она. — Разорвать? — Да, — ответил Юстас. — Нет, погоди! Он взял у жены документ, написал на нем крупными буквами «похерен», подписался и поставил число. — Теперь надо вставить его в рамку и вывесить в конторе для поучения! — сказал Юстас. Номер первый с ужасом взглянул на молодого Мизона. — Что дальше? — Собрались ли джентльмены в зале? — спросил Юстас, отложив в сторону остальные документы. Номер первый заявил, что все в сборе, в большом зале собрались все издатели, управляющие различными отделениями фирмы, клерки, служащие, авторы и художники, которых он выстроил в одну линию. Когда Юстас, его жена и Джон Шорт вошли в зал, где были приготовлены места, вся толпа поклонилась им. Юстас попросил их сесть. — Джентльмены! — произнес он. — Прежде всего, позвольте вам представить мою жену, миссис Мизон, которая хорошо знакома с обычаями нашей фирмы, так как ее лучшие произведения печатались у нас… (кто-то из толпы громко выразил одобрение, Августа покраснела и смешалась) и которая, как я надеюсь, напишет еще много прекрасных книг, и мы будем иметь честь издать их… (Аплодисменты.) Затем, джентльмены, позвольте мне представить вам мистера Джона Шорта, моего поверенного, который с помощью своего брата выиграл мое дело в суде… Затем объявляю вам, что я один состою собственником фирмы, так как купил паи компаньонов Аддисона и Роскью. (Голос в толпе: «Вот так штука!») Я надеюсь, что мы будем работать все вместе для нашего общего благополучия. Да будет также известно вам, что я хочу полностью преобразовать наше дело… (оживление в толпе) и с помощью мистера Шорта поведу его иначе. Мне известно, что в среднем чистый доход фирмы равнялся за последние десять лет сорока семи процентам. Теперь я желаю поставить дело так: десять процентов будет получать автор книги, и десять — наша фирма… (Сильнейшее оживление, в особенности среди авторов.) Допустим, что книга заработала сто на сто, следовательно, я возьму себе десять процентов, служащие — двадцать шесть, а автор получит шестьдесят процентов. Номер первый прервал речь Юстаса. — Это невозможно! — возразил он. — Невероятно! Фирма «Мизон» удовлетворится десятью процентами, несмотря на свои издержки, а автор, жалкий автор, получит шестьдесят процентов?! Это постыдно, постыдно! — Я вас не заставляю служить у меня, — резко возразил Юстас, — но советую вам подумать… Джентльмены! — продолжал он. — Вижу, что такая перемена поражает вас, но уверяю вас, что я делаю это вовсе не из филантропии. Я желаю только, чтобы труд ваш хорошо оплачивался, и никогда не возьму на себя дела, которое может принести убытки! Все мы будем работать вместе, и я надеюсь, что лучшие писатели Англии будут печататься у нас, а все вы будете чувствовать себя намного лучше, чем теперь. (Одобрительные возгласы.) Авторам будут отведены отдельные комнаты, заработок их значительно увеличится. (Общие восторженные восклицания.) Затем я раз и навсегда желаю уничтожить эту ужасную систему называть людей «номерами»… С этого дня каждый служащий фирмы «Мизон» будет называться своим именем. (Громкие крики одобрения.) Еще одно слово: надеюсь видеть вас всех за обедом в моем доме на следующей неделе, когда мы отпразднуем появление новой фирмы, которая будет именоваться «Фирма Мизон и К°», так как все мы будем заинтересованы в предприятии и станем компаньонами! Надеюсь, что наша фирма будет богатой, честной, уважаемой фирмой, в настоящем смысле этого слова! Затем среди оглушительных приветствий и одобрений своих служащих Юстас и его жена раскланялись и направились к ожидавшему их экипажу. Через полчаса они входили в ворота замка Помпадур, откуда год тому назад Юстас ушел, поссорившись с дядей. У подъезда вытянулись в струнку напудренные, расфранченные слуги во главе с толстым дворецким Джонстоном, тем самым, который передал прощальный привет Юстаса его дяде. — Боже милостивый! — воскликнула Августа. — Здесь шесть огромных лакеев… Что я буду делать с ними? — Прогони их! — ответил Юстас. — Один их вид нагоняет на меня тоску. Молодые хозяева поклонились и под взглядами многочисленной прислуги направились, стараясь сохранить свое достоинство, переодеться к обеду. Скоро они очутились за обедом. Что это был за обед! Он продолжался час с лишним, и в продолжение этого времени шесть лакеев приносили и уносили серебряные блюда. Никогда со времени своей свадьбы Юстас и Августа не чувствовали себя так скверно! — Но мне вовсе не нравится такое богатство! — произнесла Августа, вставая с места и подходя к мужу, когда дворецкий ушел и закрыл за собой дверь. — Это просто подавляет меня. — И меня также! — согласился с ней Юстас. — И знаешь, что я скажу тебе, Густи, — добавил он, обняв жену, — я прогоню всех этих чертовых лакеев, продам этот дом, и мы найдем себе местечко поудобнее. В эту минуту их беседа была прервана самым неприятным образом. Неожиданно двери в столовую отворились, и два огромных лакея внесли кофе, сливки, за ними Джонстон и другое напудренное чудовище внесли коньяк и ликеры. Августа и Юстас, обнимавший ее, остались, словно парализованные, на месте. Потом Августа отскочила от мужа, Юстас нахмурился и закусил губу, а эти великолепные выдержанные лакеи не выказали ни малейшего смущения, не повернули даже головы и продолжали торжественно шествовать вперед со спокойным видом. — Право, я не могу выносить этого, — тихо произнесла Августа, когда лакеи исчезли, — я пойду спать, я чувствую себя нехорошо. — Да, — поддержал ее Юстас, — это самое лучшее, что мы можем сделать. Проклятье! Этот добрый Шорт, почему он не пришел к нам обедать? Пожалуй, здесь нельзя и покурить сигару… Эти черти будут презирать меня за подобное преступление! При моем дяде здесь не позволялось курить, и я курил в комнате буфетчика. Не могу же я теперь пойти туда! — Почему ты не хочешь курить здесь? — спросила Августа. — Комната огромная, и запаха не будет. — О, повесить бы их всех! — взорвался Юстас. — Подумай только… дорогие бархатные портьеры! Здесь курить невозможно! Я пойду вниз и покурю там… Он ушел.Рано, очень рано, когда Юстас еще крепко спал, Августа проснулась, встала и оделась. Свет проникал в комнату сквозь богатые занавеси из золотистого шелка, озарял прекрасную резьбу кровати, убранной дорогими кружевами и шелком, драгоценную обстановку комнаты и весело играл на лицах купидонов, изображенных на фресках потолка. Августа посмотрела на окружающую ее роскошь и подумала, что хозяин всего этого великолепия лежит мертвый в убогой могиле на острове Кергелен. Какая насмешка судьбы! — Юстас! Юстас! — произнесла Августа, подходя к спящему мужу. — Проснись! Мне надо кое-что сказать тебе! — А? Что случилось? — спросил Юстас, зевая. — Юстас! Мы слишком богаты, мы должны что-нибудь сделать с этими деньгами! — Верно, — ответил Юстас, — прекрасная идея. Что же надо сделать? — Я хотела бы отдать хорошую сумму — хотя бы двести тысяч, это вовсе не так много для нас — на основание убежища для непризнанных авторов. — Отлично! — произнес Юстас. — Но надо это обдумать, нельзя же рубить сплеча! Кстати, — добавил он, — ты помнишь, что сказал тебе старик, когда умирал? Я полагаю, что голодные авторы, которых эксплуатировал Мизон, имеют полное право на наши деньги… — Конечно! — ответила Августа и отошла к письменному столу, чтобы разработать свой проект на бумаге. — Густи! — вдруг сказал ее муж. — Густи, я видел сон! — Да? — отозвалась она резко, занятая своим делом. — Какой сон? — Я видел во сне, что Джеймс Шорт зарабатывает большие деньги и женился на леди Холмерст! — Я нисколько не удивлюсь, если этот сон превратится в действительность! — отвечала Августа, кусая кончик пера. Последовало молчание. — Густи, — произнес Юстас сонным голосом, — счастлива ли ты? — Конечно! — Удивительно! — Почему? — Потому (зевок)… что я никогда не думал (зевок)… что женщина может быть счастлива (зевок)… если она не имеет возможности бывать на суде… Он снова уснул. Августа продолжала писать.

КЛЕОПАТРА (роман)
Повесть о крушении надежд и мести потомка египетских фараонов Гармахиса, написанная его собственной рукой
В романе «Клеопатра» Хаггард создает еще одну легенду о знаменитой царице Клеопатре VII, повелительнице независимого Египта. Роман повествует о заговоре верховных жрецов, решивших сбросить с трона ненавистную царицу Клеопатру, которая отдала Египет во власть Риму.
Посвящение
Дорогая мама, я давно мечтал посвятить Вам какой-нибудь из моих романов и наконец остановил свой выбор на этом опусе в надежде, что, несмотря на все его несовершенства и самую суровую критику, которую он, возможно, вызовет у Вас и у всей публики, Вы его примете. Желаю, чтобы мой роман «Клеопатра» доставил Вам хотя бы часть той радости, которую испытывал я, когда трудился над ним, и чтобы, читая его, Вы увидели конечно же неполную, но все же достоверную картину жизни таинственного Древнего Египта, чьей славной историей Вы так горячо интересуетесь.Ваш любящий и преданный сын,Г. Райдер Хаггард21 января 1889 г.
От автора
Многие историки, изучающие этот период античности, считают гибель Антония и Клеопатры одним из самых загадочных среди трагических эпизодов прошлого. Какие злые силы, чья тайная ненависть постоянно отравляли их благоденствие и ослепляли разум? Почему Клеопатра бежала во время битвы при мысе Акциум и почему Антоний кинулся за ней, бросив свой флот и войско, которое Октавиан разбил и уничтожил? Сколько вопросов, сколько загадок, — кто знает, быть может, в этом романе мне удалось хоть часть их разгадать. Однако я прошу читатель не забывать, что повествование ведется не устами нашего с вами современника, а как бы от лица древнего египтянина, потомка фараонов, который пламенно любил свою отчизну и пережил крушение всех своих надежд; не простодушного невежды, который наивно обожествлял животных, но образованнейшего жреца, посвященного в сокровенные глубины тайных знаний, свято верившего, что боги Кемета воистину существуют, что человек может вступать с ними в общение, и что мы живем вечно, переходя в загробное царство, где нас осуждают за содеянное зло или оправдывают, если мы его не совершали; ученым, для которого туманная и порой примитивная символика, связанная с культом Осириса, была всего лишь пеленой, специально сотканной, чтобы скрыть тайны Священной Сущности. Мы не знаем, какую долю истины постигали в своих духовных исканиях жаждущие ее, — быть может, истина и вовсе не давалась им, но о стремящихся к ней, как стремился царевич Гармахис, рассказывается в истории всех крупных религий, и, как свидетельствуют священные тексты на стенах древних гробниц, дворцов и храмов, их было немало и среди тех, кто поклонялся египетским богам, в особенности Исиде. Как ни досадно, но чтобы написать роман о той эпохе, пришлось хотя бы бегло набросать фон происходящих в нем событий, ибо лишь с его помощью оживет перед глазами читателя давно умершее прошлое, явится во всем блеске, прорвавшись сквозь мрак тысячелетий, и даст ему возможность прикоснуться к забытым тайнам. Тем же, кого не интересуют верования, символы и обряды религии Древнего Египта, этой праматери многих современных религий и европейской цивилизации, а увлекает лишь сюжет, я в должным пониманием рекомендую воспользоваться испытанным приемом — пропустить первую часть романа и начать сразу со второй. Что касается смерти Клеопатры, мне кажется наиболее убедительной та версия, согласно которой она принимает яд. Плутарх пишет, что не сохранилось достоверных сведений о том, каким именно способом она лишила себя жизни, хотя молва приписывала ее смерть укусу гадюки. Но ведь она, насколько нам известно, покинула этот мир, доверившись искусству своего врача Олимпия, этой таинственнейшей личности, а чтобы врач избрал столь экзотическое и ненадежное средство для человека, который решил умереть, — нет, это более чем сомнительно. Вероятно, следует упомянуть, что даже во времена царствования Птолемея Эпифана на египетский трон посягали потомки египетских фараонов, одного из которых звали Гармахис. Более того, у многих жрецов имелась книга пророчеств, где утверждалось, что после владычества греков бог Харсефи сотворит «царя, который придет и будет править». Поэтому вы, надеюсь, согласитесь, что описанная мною повесть о великом заговоре, участники которого хотели уничтожить династию Македонских Лагидов и посадить на трон Гармахиса, не так уж невероятна, хотя исторических подтверждений у нее нет. Зато есть все основания предполагать, что за долгие века, пока Египет угнетали чужеземные властители, его патриоты не раз составляли такие заговоры. Но история древнего мира рассказывает нам очень мало о борьбе и поражениях порабощенного народа. Песнопения Исиды и песнь Клеопатры, которые вы встретите на страницах этого романа, автор записал прозой, а стихами переложил мистер Эндрю Ланг, он же перевел с греческого плач по умершим сирийца Мелеагра, который поет Хармиана.Вступление
Недавно в одной из расщелин голого скалистого плато в Ливийской пустыне, за абидосским храмом, где, по преданию, похоронен бог Осирис, была обнаружена гробница, и среди прочей утвари в ней оказались свитки папируса, на которых изложены эти события. Гробница огромная, но больше ничего примечательного в ней нет, если не считать глубокой вертикальной шахты, которая ведет из вырубленной в толще скалы молельни для родственников и друзей усопших в погребальную камеру. Глубина этой шахты футов девяносто, не меньше. Внизу, в погребальной камере, было найдено всего три саркофага, хотя там могло бы поместиться еще несколько. Два из этих саркофагов, в которых, вероятно, покоились останки верховного жреца Аменемхета и его жены — отца и матери героя этого повествования, Гармахиса, — мародеры-арабы, нашедшие гробницу, взломали. Они не только взломали саркофаги — варвары растерзали и сами мумии. Руки этих осквернителей праха разорвали на части земную оболочку божественного Амснемхета и той, чьими устами, как свидетельствуют надписи на стенах, вещала богиня Хатхор, — разобрали по костям скелеты, ища сокровища, быть может спрятанные в них, — и, кто знает, наверно, даже продали эти кости, по распространенному у них обычаю, за несколько пиастров какому-нибудь дикарю-туристу, который обязательно должен чем-нибудь поживиться, пусть даже ради этого совершится святотатство. Ведь в Египте несчастные живые находят себе пропитание, разоряя гробницы великих, живших прежде них. Так случилось, что немного времени спустя в Абидос приплыл один из добрых друзей автора, врач по профессии, и встретил там арабов, ограбивших гробницу. Они открыли ему по секрету, где она находится, и рассказали, что один саркофаг так и стоит нераспечатанным. Судя по всему, в нем похоронен какой-то бедняк, объяснили они, вот они ни не стали вскрывать гроб, тем более что и времени было в обрез. Мой друг загорелся желанием осмотреть внутренние помещения усыпальницы, в которую еще не хлынули праздные бездельники туристы, он дал арабам денег, и они согласились провести его туда. Что было дальше, расскажет он сам, в своем письме ко мне, которое я привожу слово в слово: «Ту ночь мы провели возле храма Сети и еще до рассвета тронулись в путь. Меня сопровождал косоглазый разбойник по имени Али — я прозвал его Али-Баба (это у него я купил перстень, который посылаю Вам) — и несколько его коллег-воров, — весьма избранное общество. Примерно через час после того, как поднялось солнце, мы достигли долины, где находится гробница. Это пустынное, заброшенное место, здесь целый день палит безжалостное солнце, раскаляя разбросанные по долине огромные рыжие скалы, так что до них невозможно дотронуться, а песок так просто обжигает ноги. Идти по такой жаре стало невозможно, поэтому мы сели на ослов и двинулись дальше верхом по пустыне, где единственным живым существом кроме нас был стервятник, парящий высоко в синеве. Наконец мы приблизились к гигантскому утесу, стены которого тысячелетие за тысячелетием раскаляло солнце и шлифовал песок. Здесь Али остановился и объявил, что гробница находится под утесом. Мы спешились и, поручив ослов попечению паренька-феллаха, подошли к подножию утеса. У самого его основания чернела небольшая нора, в которую человек мог лишь с трудом протиснуться, да и то ползком. Оно и неудивительно — лаз прорыли шакалы, потому что не только вход в гробницу, но и значительная часть вырубленного в скале помещения были занесены песком, и этот-то шакалий лаз и помог арабам обнаружить усыпальницу. Али опустился на четвереньки и вполз в нору, я за ним и вскоре оказался в помещении, где после путешествия в удушающей жаре под слепящим солнцем было темно хоть глаз выколи и холодно. Мы зажгли свечи, и, дожидаясь, пока внутрь вползет все изысканное общество грабителей могил, я стал осматривать подземелье. Оно было просторное и напоминало зал, вырубленный внутри скалы, причем в дальнем его конце почти не было песка. На стенах — рисунки, изображающие культовые церемонии и явно относящиеся к временам Птолемеев, среди действующих лиц сразу привлекает к себе внимание величественный старец с длинной седой бородой, он сидит в резном кресле, сжимая в руке жезл[473]. Перед ним проходит процессия жрецов со священными предметами. В правом дальнем углу зала шахта, ведущая в погребальную камеру, — квадратный колодец, пробитый в черной базальтовой скале. Мы привезли с собой крепкое бревно и теперь положили его поперек устья колодца и привязали к нему веревку. После чего Али — он хоть и мошенник, но смелости ему не занимать, нужно отдать ему должное, — сунул в карман на груди несколько свечей, взялся за веревку и, упираясь босыми ногами в гладкую стенку колодца, стал с удивительной скоростью спускаться вниз. Несколько мгновений — и он канул в черноту, только веревка подрагивала, удостоверяя, что он благополучно движется. Наконец веревка перестала дергаться, и из глубины шахты до нас еле слышным всплеском долетел голос Али, возвестившего, что все в порядке, он спустился. Потом далеко внизу засветилась крошечная звездочка. Это он зажег свечу, и свет вспугнул сотни летучих мышей, они взметнулись вверх и нескончаемой стаей понеслись мимо нас, бесшумные, как духи. Веревку вытянули наверх, настал мой черед, но я не рискнул спускаться по ней на руках, я обвязал конец веревки вокруг пояса, и меня начали медленно погружать в священные глубины. Надо признаться, чувствовал я себя во время путешествия не слишком приятно, ибо жизнь моя была в буквальном смысле в руках грабителей, оставшихся наверху: одно их неверное движение — и от меня костей не соберешь. К тому же в лицо мне то и дело тыкались летучие мыши, вцеплялись в волосы, а я летучих мышей терпеть не могу. Я вздрагивал и дергался, но через несколько минут ноги мои все-таки коснулись пола, и я оказался в узком проходе рядом с героическим Али, мокрый от пота, сплошь облепленный летучими мышами, с ободранными коленками и руками. Потом к нам ловко, как матрос, спустился по веревке еще один из наших спутников; остальные, как мы условились, должны были ждать наверху. Теперь можно было трогаться в путь. Али со свечой — конечно, у всех у нас были свечи — повел нас по длинному, высотой футов пять, проходу. Но вот проход расширился, и мы вступили в погребальную камеру — жара здесь была как в преисподней, нас обняла глухая, зловещая тишина, я в жизни ничего подобного не испытывал. Дышать было нечем. Камера представляет собой квадратную комнату, вырубленную в скале, без росписей, без рельефов, без единой статуи. Я поднял свечу и стал рассматривать комнату. На полу валялись крышки гробов, взломанных арабами, и то, что осталось от двух растерзанных мумий. Рисунки на этих крышках саркофагов были удивительной красоты, мне это сразу бросилось в глаза, но я не знаю иероглифов и потому не смог прочесть надписей. Вокруг останков мужчины и женщины — я догадался, что это именно мужчина и женщина[474], — были разбросаны бусины и пропитанные благовонными маслами полосы полотняных пелен, в которые когда-то завернули мумии. Голова мужчины была оторвана от туловища. Я поднял ее и стал рассматривать. Лицо было тщательно выбрито — насколько я могу судить, его брили уже после смерти, — золотая маска изуродовала черты, плоть ссохлась, и все равно лицо поражало величественной красотой. Это было лицо старика с таким спокойным и торжественным выражением смерти, вселяющее такой благоговейный ужас, что мне стало не по себе, хотя, как Вы знаете, я давно привык к покойникам, и я поспешил положить голову на пол. С головы другой мумии бинты сорвали не полностью, но я не стал ее освобождать от обрывков, мне и без того было ясно, что когда-то это была статная красивая женщина. — А вот третий мумия, — сказал Али, указывая на большой массивный саркофаг в углу, который, казалось, туда просто бросили, потому что он лежал на боку. Я подошел к саркофагу и стал его рассматривать. Сделан он был добротно, но из простого кедра, и ни единой подписи на нем, ни одного изображения божества. — Никогда такой не видал, — заметил Али. — Скорей, скорей хоронить. Нет мафиш[475], нет финиш[476]. Я глядел на простой, без украшений саркофаг и чувствовал, как во мне разгорается неудержимый интерес. Меня так потряс вид поруганных останков, что я решил не трогать третий гроб, но сейчас желание узнать, что тут произошло, взяло верх, и мы принялись за дело. Али прихватил с собой молоток и долото и, поставив саркофаг как положено, принялся вскрывать его с ловкостью опытного грабителя древних гробниц. Через несколько минут он обратил мое внимание на еще одну неожиданную особенность. Обычно в крышке саркофага делают четыре деревянных шипа, по два с каждой стороны: когда крышку опускают, они входят в специальные отверстия, высверленные в нижней части, и там их закрепляют намертво шпеньками из дерева твердых пород. Но у этого саркофага было восемь таких шипов. Видимо, кто-то решил, что этот саркофаг надо запереть особенно надежно. Наконец мы с великим трудом сняли массивную крышку, толщиной не меньше трех дюймов, и увидели мумию, залитую чуть не до половины благовонными маслами, — довольно странная деталь. Али уставился на мумию, выпучив глаза, да и неудивительно. Я тоже в жизни не видел ничего подобного. Обычно мумии покоятся на спине, прямые и вытянутые, точно деревянные скульптуры, а эта лежала на боку, и, несмотря на пелены, в которые она была завернута, ее колени были слегка согнуты. Но это еще не все: золотая маска, которую, по обычаю тех времен, положили на ее лицо, была сброшена и буквально придавлена традиционным головным убором. Сам собой напрашивался неумолимый вывод: лежащая перед нами мумия отчаянно билась в саркофаге после того, как ее туда положили. — Чудная мумия. Когда покойника хоронили, он был живой, — сказал Али. — Что за чепуха! — возразил я. — Как это мумия может быть живой? Мы извлекли тело из саркофага, чуть не задохнувшись от поднявшейся тысячелетней пыли, и увидели какой-то предмет, наполовину залитый благовониями, — нашу первую находку. Это оказался свиток папируса, небрежно свернутый и обмотанный полотняным бинтом, в какие была запеленута мумия, — судя по всему, свиток сунули в саркофаг в последнюю минуту пред тем, как закрыть его крышкой[477]. При виде папируса глаза Али алчно сверкнули, но я схватил его и положил в карман, потому что мы заранее договорили: все, что мы найдем в гробнице, принадлежит мне. Потом мы принялись распеленывать мумию. Бинты обматывали ее толстым слоем, — необычно широкие полосы прочного грубого полотна, кое-как сшитые одна с другой, иногда даже просто связанные узлом, и складывалось впечатление, что трудились над мумией в страшной спешке и с большим напряжением сил. Над лицом выступал высокий бугор. Но вот мы освободили голову от бинтов и увидели второй свиток папируса. Я хотел взять его, но не тут-то было. Видимо, папирус приклеился к плотному, без единого шва савану, в который покойного сунули с головой, точно в мешок, и под ногами завязали, как крестьяне завязывают мешки. Саван этот, тоже густо пропитанный благовонными маслами, по сути и был мешок, только сотканный в виде платья. Я поднес свечу поближе к папирусу и понял, почему он не отстает от савана. Благовонные масла загустели и намертво схватили свиток. Вынуть его из гроба было невозможно, пришлось оторвать наружные листы[478]. Наконец мне удалось извлечь свиток, и я положил его в карман, туда же, где был первый. Мы молча продолжали нашу зловещую работу. С великой осторожностью разрезали саван-мешок, и нам открылась мумия лежащего в саркофаге мужчины. Между его коленями был зажат третий свиток исписанных листов папируса. Я схватил его и спрятал, потом осветил свечой мумию и стал внимательно рассматривать. Любой врач с одного взгляда определил бы, какой смертью умер этот человек. Мумия не слишком ссохлась. Ее, без сомнения, не выдерживали положенные семьдесят дней в соляном растворе, и потому лицо изменилось не так сильно, как у других мумий, даже выражение сохранилось. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь одно: не приведи Бог еще когда-нибудь увидать ту муку, которая застыла в чертах покойного. Даже арабы в ужасе отшатнулись и забормотали молитвы. И еще деталь: разреза на левой стороне живота, через который бальзамировщики вынимают внутренности, не было; лицо тонкое, породистое, вовсе не старое, хотя волосы седые; сложение могучее, плечи необычайно широкие, — видимо, человек этот обладал огромной физической силой. Но рассмотреть его как следует мне не удалось, потому что под действием воздуха ненабальзамированный труп, с которого сняли погребальные пелены, начал на глазах обращаться в прах, и через несколько минут от него остался лишь череп, похожие на паклю волосы да несколько самых крупных костей скелета. Я заметил, что на берцовой кости — не помню, правой или левой ноги — был перелом, очень неудачно вправленный. Эта нога была короче другой, наверное, на целый дюйм. Больше ни на какие находки надеяться не приходилось, я немного успокоился и тут только почувствовал, что едва жив от усталости после пережитого волнения и вот-вот задохнусь в этой жаре от запаха рассыпавшейся в прах мумии и благовоний. Мне трудно писать, корабль наш качает. Письмо это я, конечно, пошлю почтой, а сам поплыву морем, однако я надеюсь прибыть в Лондон не позже чем через десять дней после того, как Вы его получите. Когда мы встретимся, я расскажу Вам о восхитительных ощущениях, которые я испытал, поднимаясь из погребальной камеры по шахте, о том, как этот мошенник из мошенников Али-Баба и его доблестные помощники пытались отнять у меня свитки и как я их перехитрил. Папирусы, конечно, мы отдадим расшифровать. Вряд ли в них содержится что-то интересное, наверняка очередной вариант «Книги мертвых», но чем черт не шутит. Как Вы догадываетесь, в Египте я не стал распространяться об этой моей небольшой экспедиции, дабы не привлекать к своей особе интереса сотрудников Булакского музея. До свидания, мафиш-финиш, — это любимое словечко моего доблестного Али-Бабы». В скором времени после того, как я получил это письмо, его автор сам прибыл в Лондон, и на следующий же день мы с ним нанесли визит нашему другу, известному египтологу, который хорошо знал и иероглифическое, и демотическое письмо. Можете себе представить, с каким волнением мы наблюдали, как он искусно увлажняет и развертывает листы папируса и потом вглядывается и загадочные письмена сквозь очки в золотой оправе. — Хм, — наконец произнес он, — что это — пока не знаю, во всяком случае, не «Книга мертвых». Подождите, подождите! Кле… Клео… Клеопатра… Господа, господа, клянусь жизнью, здесь рассказывается о человеке, который жил во времена Клеопатры, той самой роковой вершительнице судеб, потому что рядом с ее именем я вижу имя Антония, вот оно! О, да тут работы на целые полгода, может быть, даже больше! — Эта заманчивая перспектива так вдохновила его, что он забыл обо всем на свете и, как мальчишка, принялся радостно скакать по комнате, то и дело пожимал нам руки и твердил: — Я расшифрую папирус, непременно расшифрую, буду трудиться день и ночь! И мы опубликуем повесть, и клянусь бессмертным Осирисом: все египтологи Европы умрут от зависти! Какая благословенная находка! Какой дивный подарок судьбы!И так оно все и случилось, о вы, чьи глаза читают эти строки: наш друг расшифровал папирусы, перевод напечатали, и вот он лежит перед вами — неведомая страна, зовущая вас совершить по ней путешествие! Гармахис обращается к вам из своей забытой всеми гробницы. Воздвигнутые временем стены рушатся, и перед вами возникают, сверкая яркими красками, картины жизни далекого прошлого в темной раме тысячелетий. Он показывает вам два разных Египта, на которые еще в далекой древности взирали безмолвные пирамиды, — Египет, который покорился грекам и римлянам и позволил сесть на свой трон Птолемеям, и тот, другой Египет, который пережил свою славу, но свято продолжал хранить верность традициям седой древности и посвящать верховных жрецов в сокровенные тайны магических знаний, Египет, окутанный загадочными легендами и все еще помнящий свое былое величие. Он рассказывает нам, каким жарким пламенем вспыхнула в этом Египте, прежде чем навсегда погаснуть, тлеющая под спудом любовь к стране Кемет и как отчаянно старая, освященная самим Временем, вера предков боролась против неотвратимо наступавших перемен, которые несла новая эпоха, накатившая на страну, точно воды разлившегося Нила, и погребла в своей пучине древних богов Египта. Здесь, на этих страницах, вам поведают о всемогуществе Исиды — богини многих обличий, исполнительнице повелений Непостижимого. Пред вами явится и Клеопатра — эта «душа страсти и пламени», женщина, чья всепобеждающая красота созидала и рушила царства. Вы прочтете здесь, как дух Хармианы погиб от меча, который выковала ее жажда мести. Здесь обреченный смерти царевич Гармахис приветствует вас в последние мгновенья своей жизни и зовет проследовать за ним путем, который прошел он сам. В событиях его так рано оборвавшейся жизни, в его судьбе вы, может быть, увидите что-то общее со своей. Взывая к нам из глубины мрачного Аменти[479], где его душа по сей день искупает великие земные преступления, он убеждает нас, что постигшая его участь ожидает всякого, кто искренне пытался устоять, но пал и предал своих богов, свою честь и свою отчизну.
Часть I. ИСКУС ГАРМАХИСА
Глава 1
Повествующая о рождении Гармахиса, о пророчестве Хатхор и об убийстве сына кормилицы, которого солдаты приняли за царевича.Клянусь Осирисом, который спит в своей священной могиле в Абидосе, все, о чем я здесь рассказываю, — святая правда. Я, Гармахис, по праву рождения верховный жрец храма, который воздвиг божественный Сети — фараон Египта, воссоединившийся после смерти с Осирисом и ставший правителем Аменти; я, Гармахис, потомок божественных фараонов, единственный законный владыка Двойной Короны и царь Верхнего и Нижнего Египта; я, Гармахис, изменник, растоптавший едва распустившийся цветок нашей надежды, безумец, отринувший величие и славу, забывший глас богини и с трепетом внимавший голосу земной женщины; я, Гармахис, преступник, павший на самое дно, перенесший столько страданий, что душа моя высохла, как колодец в пустыне, навлекший на себя величайший позор, предатель, которого предали, властитель, который отказался от могущества и тем самым навеки лишил могущества свою родину; я, Гармахис, узник, приговоренный к смерти, — я пишу эту повесть и клянусь тем, кто спит в своей священной могиле в Абидосе, что каждое слово этой повести — правда. О мой Египет! О дорогая сердцу страна Кемет, чья черная земля так щедро питала своими плодами мою смертную оболочку, — я тебя предал! О Осирис! Исида! Гор! Вы, боги Египта, и вас всех я предал! О храмы, пилоны которых возносятся к небесам, хранители веры, которую я тоже предал! О царственная кровь древних фараонов, которая течет в этих иссохших жилах, — я оказался недостойным тебя! О непостижимая сущность пронизывающего мироздание блага! О судьба, поручившая мне решить, каким будет ход истории! Я призываю вас в извечные свидетели: вы подтвердите, что все, написанное мною, — правда. Подняв взгляд от своего папируса, я вижу в окно зеленые поля, за ними Нил катит свои воды, красные, как кровь. Солнце ярко освещает далекие скалы Аравийской пустыни, заливает светом дома и улицы Абидоса. В его храмах, где меня предали проклятью, жрецы по-прежнему возносят моления, совершают жертвенные приношения, к гулким сводам каменных потолковлетят голоса молящихся. Из моей одинокой камеры в башне, куда я заточен, я, чье имя стало олицетворением позора, смотрю на твои яркие флаги, о Абидос, — как весело они полощутся на пилонах у входа в храмовый двор, я слышу песнопения процессии, которая обходит одно святилище за другим. Абидос, обреченный Абидос, мое сердце разрывается от любви к тебе и от горя! Ибо скоро, скоро твои молельни и часовни погребут пески пустыни. Твои боги будут преданы забвенью, о Абидос! Здесь воцарится иная вера, и все твои святыни будут поруганы, на стенах твоей крепости будут перекликаться центурионы. Я плачу, плачу кровавыми слезами: ведь это я совершил преступление, которое обрушит на тебя все эти беды, и мой позор во веки веков неискупим. Читайте же, что я совершил. Я родился здесь, в Абидосе, — я, пишущий эти строки Гармахис. Отец мой, соединившийся ныне с Осирисом, был верховный жрец храма Сети. В тот самый день когда я родился, родилась и царица Египта Клеопатра. Детство я провел среди этих полей, смотрел, как трудятся на них простые люди — земледельцы, бродил, когда мне вздумается, по огромным дворам храма. Мать свою я не помню, она умерла, когда я еще был младенцем. Но наша старая служанка Атуа рассказывала мне, что, перед тем как умереть — а было это во времена правления царя Птолемея Авлета, и это прозвище означает «флейтист», — она взяла из шкатулки слоновой кости золотого урея, — символ власти египетских фараонов, и возложила его мне на лоб. И все, кто это видел, решили, что она впала в транс и повинуется воле богов и этот ее пророческий жест означает, что скоро наступит конец царствованию Македонских Лагидов и скипетр фараонов вернется к истинным, законным правителям Египта. В это время домой вернулся мой отец, верховный жрец Аменемхет, чьим единственным ребенком я был, ибо ту, которая была его женой, чудовище Секхет, не знаю за какое злое деяние, долгие годы карало бесплодием, — так вот, когда пришел отец и увидел, что сделала умирающая, он воздел руки к небу и возблагодарил Непостижимого за то знамение, которое он ему явил. И пока он молился, богиня Хатхор[480] вдохнула силы в умирающую, так что та поднялась со своего ложа и трижды простерлась перед колыбелью, в которой я спал с золотым уреем на лбу, и стала вещать устами моей матери: — Славься в веках, плод моего лона! Славься в веках, царственный младенец! Славься в веках, будущий фараон Египта! Хвала и слава тебе, бог, который освободит нашу страну от чужеземцев, слава тебе, божественное семя Нектанеба, потомок вечноживущей Исиды! Храни чистоту души, и ты будешь править Египтом, ты восстановишь истинную веру, и ничто тебя не сломит. Но если ты не выдержишь посланных тебе испытаний, то да падет на тебя проклятье всех богов Египта и всех твоих венценосных предков, кто правил страной со времен Гора и сейчас вкушает покой в Аменти, на полях Иалу. Да будет тогда жизнь твоя адом, а когда ты умрешь и предстанешь пред судом Осириса, пусть он и все сорок два судьи Аменти признают тебя виновным и Сет и Секхет терзают тебя до тех пор, пока ты не искупишь своего преступления и в храмах Египта вновь не воцарятся наши истинные боги, хотя их имена будут произносить наши далекие потомки; пока жезл власти не будет вырван из рук самозванцев и сломлен и все до единого угнетатели не будут изгнаны навек из нашей земли — пока кто-то другой не совершит этот великий подвиг, ибо ты в своей слабости оказался недостойным его. Лишь только мать произнесла эти слова, пророческое вдохновение тотчас же оставило ее, и она рухнула мертвая на колыбель, в которой я спал. Я проснулся и заплакал. Отец мой, верховный жрец Аменемхет, задрожал, объятый ужасом, — его потрясло прорицание Хатхор, которое она вложила в уста моей матери, к тому же в словах этих содержался призыв к преступлению против Птолемеев — к государственной измене. Ему ли было не знать, что если слух о происшедшем дойдет до Птолемеев, фараон тотчас же пошлет своих стражей убить ребенка, которому напророчили столь выдающуюся судьбу. И мой отец затворил двери и заставил всех, кто находился в комнате, поклясться священным символом своего сана, Божественной Триадой, и душой той, которая лежала бездыханная на каменных плитах пола, что никогда и никому они не расскажут о том, чему сейчас оказались свидетелями. Среди присутствующих была кормилица моей матери, которая любила ее, как родную дочь, — старуха по имени Атуа, а женщины такой народ, что даже самая страшная клятва не удержит их язык за зубами — не знаю, может быть, раньше они были иначе устроены, может быть, в будущем смогут укротить свою болтливость. И вот недолгое время спустя, когда Атуа свыклась с мыслью, что мне уготован великий жребий, и страх ее отступил, она рассказала о пророчестве своей дочери, которая после смерти матери стала моей кормилицей. Они в это время шли вдвоем по дорожке в пустыне и несли обед мужу дочери, скульптору, который ваял статуи богов и богинь в скальных гробницах, — так вот, посвящая дочь в тайну, Атуа заклинала ее свято беречь и любить дитя, которому суждено стать фараоном и изгнать Птолемеев из Египта. Дочь Атуа, моя кормилица, была ошеломлена этой вестью; конечно же, она не смогла сохранить ее в тайне, она разбудила ночью мужа и шепотом ему все рассказала и этим обрекла на гибель и себя, и своего сына — моего молочного брата. Муж рассказал своему приятелю, а приятель был Птолемеев доносчик и сразу же сообщил обо всем фараону. Фараон сильно встревожился, ибо хоть он и глумился, напившись, над египетскими богами и клялся, что единственный бог, перед которым он преклоняет колени, — это римский Сенат, но в глубине его души жил неодолимый страх перед собственным кощунством, мне рассказал об этом его врач. Оставаясь ночью один, он в отчаянии принимался вопить, взывая к великому Серапису, который на самом деле вовсе не истинный бог, а лжебог, к другим богам, терзаемый ужасом, что его убьют и его душе придется нескончаемо мучиться в загробном царстве. Но это еще не все: когда трон под ним начинал шататься, он посылал в храмы щедрые дары, советовался с оракулами, из которых особенно чтил оракула с острова Филе. Поэтому, когда до него дошел слух, что жене верховного жреца великого древнего храма в Абидосе открылось перед смертью будущее и богиня Хатхор предрекла ее устами, что сын ее станет фараоном, он смертельно перетрусил и призвал к себе самых доверенных лиц из своей охраны: его телохранители были греки и не боялись совершить святотатство, поэтому Авлет приказал им плыть в Абидос, отрубить сыну верховного жреца голову и привезти ему эту голову в корзине. Однако Нил в это время года сильно мелеет, а у барки, в которой плыли солдаты, была слишком глубокая осадка, и так случилось, что она села на мель неподалеку от того места, где начинается дорога, ведущая через скалистое нагорье в Абидос, а тут еще разыгрался такой сильный северный ветер, что барка могла в любую минуту опрокинуться и утонуть. Солдаты фараона принялись звать крестьян, которые трудились на берегу, поднимая наверх воду, просили подъехать к ним на лодках и снять с барки, но крестьяне увидели, что это греки из Александрии, и пальцем не шевельнули, чтобы их спасти, — ведь египтяне ненавидят греков. Тогда солдаты стали кричать, что прибыли по приказу фараона, но крестьяне продолжали заниматься своим делом, спросили только, что это за приказ. Тогда приплывший с солдатами евнух, который от страха напился до полной потери разума, прокричал в ответ, что им приказано убить сына верховного жреца Аменемхета, которому напророчили, что он станет фараоном и изгонит из Египта греков. Крестьяне поняли, что медлить больше нельзя, и стали спускать лодки, хотя и не могли взять в толк, какое фараону дело до сына Аменемхета и почему он должен стать фараоном. Но один из них, тоже земледелец и к тому же смотритель каналов, был родственник моей матери и, когда она произносила перед смертью свои пророческие слова, находился рядом с ней, в ее покое, и потому сейчас он со всех ног бросился к нам, и не прошло и часу, как он вбежал в наш дом у северной стены великого храма, где я спал в отведенном мне покое в колыбели. Отец мой в это время был в священной области захоронений, которая находится по левую сторону от большой крепости, а фараоновы солдаты быстро приближались верхом на ослах. Наш родственник, задыхаясь, прохрипел старой Атуа, чей длинный язык навлек на нас такое несчастье, что вот-вот в дом ворвутся солдаты и убьют меня. Атуа и наш родственник в растерянности уставились друг на друга: что делать? Спрятать меня? Солдаты перевернуть все вверх дном и рано или поздно найдут. И тут наш родственник увидел в раскрытую дверь играющего во дворе ребенка. — Женщина, спросил он, — чей это ребенок? — Это мой внук, — ответила Атуа, — молочный брат царевича Гармахиса, сын моей дочери, которая обрушила на нас это горе. — Женщина, — произнес он, — ты знаешь, что тебе велит твой долг, выполняй же его! — И указал ей на ребенка: — Я повелеваю тебе священным именем Осириса! Атуа задрожала и едва не лишилась чувств — ведь мальчик был плоть от ее плоти, и все-таки она овладела собой, вышла во двор, взяла ребенка, вымыла его, облачила в шелковые одежды и положила в мою колыбель. А меня раздела, измазала всего в пыли, так что моя светлая кожа стала совсем темной, и посадила во дворе на землю, чему я несказанно обрадовался. Родственник удалился в храм, и очень скоро к дому подъехали солдаты-греки и спросили старую Атуа, здесь ли живет верховный жрец Аменемхет. Она сказала, что да, здесь, пригласила их войти и подала им молока и меда утолить жажду. Они все выпили, и тогда евнух, который тоже приехал с солдатами, спросил Атуа, кто там лежит в колыбели, не сын ли Аменемхета, и она ответила: «Да, это его сын», и принялась рассказывать солдатам, что мальчика ожидает великое будущее, ему предсказали, что он возвысится над всеми и будет править державой. Но солдаты-греки захохотали, а один из них схватил младенца и отсек ему голову мечом, евнух же вытащил печать фараона, чьим именем было совершено злодейство, и показал ее старой Атуа, велев передать верховному жрецу, что без головы даже царю править державой затруднительно. Солдаты вышли во двор, и тут один из них заметил меня и крикнул товарищам: «Эй, глядите-ка, у этого чумазого плебея куда более аристократический вид, чем у царевича Гармахиса», солдаты остановились, раздумывая, не прикончить ли заодно и меня, но им претило убивать детей, и они ушли, унося с собой голову моего молочного брата. Немного погодя с базара вернулась мать убиенного младенца, и когда она и ее муж увидели его труп, они бросились на старую Атуа и хотели ее убить, а меня отдать солдатам фараона. Но тут появился мой отец, ему все рассказали, и он повелел схватить мою кормилицу и ее мужа и ночью тайно заточить в одну из темниц храма. Больше их никто никогда не видел. Как я сейчас скорблю, что волею богов остался жив, а меч фараонова палача казнил ни в чем не повинное дитя. Людям было сказано, что я — приемный сын верховного жреца Аменемхета, он усыновил меня после того, как фараон приказал умертвить его возлюбленного сына Гармахиса.
Глава 2
Повествующая о том, как Гармахис нарушил запрет отца, как он победил льва и как старая Атуа рассеяла подозрения фараонова соглядатая.После этого Птолемей по прозвищу Флейтист оставил нас в покое и больше не посылал в Абидос солдат искать ребенка, которому предсказано восшествие на царский престол: ведь принес же евнух голову моего молочного брата в его мраморный дворец в Александрии и открыл корзину, чтобы показать ее, когда фараон, упившись кипрским вином, играл на флейте в окружении своих танцовщиц. Птолемей захотел рассмотреть голову получше и приказал евнуху поднять ее за волосы и поднести к нему. Фараон захохотал и ударил ее по щеке сандалией, а одной из девушек повелел увенчать новоявленного фараона цветами. Сам, же кривляясь, преклонил колено и стал глумиться над головой несчастного младенца. Но острая на язык девушка не могла вынести такого святотатства и сказала Птолемею — я обо всем этом узнал через много лет, — что он поступил правильно, преклонив колено, ибо это дитя — истинный фараон, величайший из всех царивших когда-либо фараонов, и имя его — Осирис, а трон его — в царстве мертвых, Аменти. Услыхав эту отповедь, Птолемей Флейтист затрясся от страха, ибо совершил много зла и безумно страшился предстать пред судьями Аменти. Ответ девушки был, несомненно, дурным предзнаменованием, и он приказал казнить дерзкую — пусть отныне служит тому владыке, чье имя она только что произнесла. Прогнал всех остальных девиц и больше не играл, взял флейту в руки только утром, когда снова напился. Жители Александрии сочинили об этом эпизоде песню, ее и по сей день народ распевает на улицах. Вот два первых куплета:
Глава 3
Повествующая о неудовольствии Аменемхета о молитве Гармахиса и о знамении, которое явили ему всемогущие боги.Сначала сок растений, которые старая Атуа приложила к моим ранам, жег их, будто огнем, но мало-помалу боль утихла. Это были поистине чудодейственные травы, потому что через два дня раны зажили, а очень скоро исчезли и следы от шрамов. Но сейчас меня не оставляла мысль, что я нарушил слово, данное верховному жрецу Аменемхету, которого я называл отцом. Я ведь еще не знал, что он и в самом деле мой отец, мне столько раз рассказывали, как его родного сына убили — я уже писал об этом здесь — и как он с благословения богов усыновил меня и с любовью воспитал, чтобы я, когда настанет срок, стал одним из жрецов храма. Я весь извелся от угрызений совести, и я боялся старого Аменемхета, — он был ужасен в гневе, а речь его, когда он отворял уста, была суровым, беспощадным гласом мудрости. И все равно я решился пойти к нему, признаться в своем проступке и принять кару, которой ему будет угодно меня подвергнуть. И вот, держа в руке окровавленное копье, с кровоточащими ранами на груди, я прошел по двору огромного храма к покоям, в которых жил верховный жрец. Это просторное помещение, уставленное величественными статуями богов, днем свет проникает сюда сквозь отверстие, сделанное в массивной каменной крыше, ночью его освещает висячий бронзовый светильник. Я бесшумно вошел в этот зал, ибо дверь была лишь притворена, и, откинув тяжелый занавес, замер, не смея шевельнуться. В висках гулко стучало. Светильник уже горел, потому что наступила темнота, и в его свете я увидел старого жреца, который сидел в кресле из слоновой кости и эбенового дерева, а на мраморном столе перед ним лежали свитки с мистическими текстами «Книги мертвых». Но он их не читал, он спал, его длинная белая борода лежала на столешнице — казалось, он умер. Неяркий свет висячего светильника выхватывал из темноты его лицо, свиток папируса, золотой перстень на его руке с выгравированными символами Непостижимого, все остальное растворялось в сумраке. Свет падал на его бритую голову, на белое одеяние, кедровый посох — знак власти верховного жреца, на кресло из слоновой кости с ножками в виде лап льва. Какой могучий лоб у моего приемного отца, какие царственные черты, как темны глазницы глубоко посаженных глаз под белыми бровями. Я смотрел на него и вдруг почувствовал, что весь дрожу, ибо от него исходило сверхчеловеческое величие. Он так долго жил среди богов, столько времени провел в их обществе и так проникся их божественной мудростью, так глубоко постиг тайны, о существовании которых мы, простые смертные, лишь едва догадываемся, что уже сейчас, не перейдя черты, отделяющей эту жизнь от загробной, он почти возвысился до всеблагости Осириса, а у людей это вызывает великий страх. Я стоял, не в силах отвести от него взгляда, а он вдруг открыл свои черные глаза, но на меня не посмотрел, даже головы в мою сторону не повернул, однако же увидел, что я здесь, и произнес: — Почему ты ослушался меня, мой сын? — спросил он. — Как случилось, что ты пошел охотиться на льва? Ведь я запретил тебе. — Как ты узнал, отец, что я охотился на льва? — в страхе прошептал я. — Как я узнал? Ты что же, думаешь, все нужно видеть собственными глазами или слышать от других и нет иных путей познания? Эх, невежественное дитя! Разве не был мой дух с тобой, когда лев прыгнул на твоего спутника? Разве не молился я тем, кто защищает тебя, чтобы твое копье пронзило горло льва, когда ты поднял его и метнул? Так почему же все-таки, мой сын, ты нарушил мою волю? — Этот хвастун дразнил меня, — ответил я, — вот я и решил доказать, что не трус. — Да, мой Гармахис, знаю; и я прощаю тебя, потому что ты молод, а молодая кровь горяча. Но теперь выслушай меня, и пусть твое сердце впитает каждое мое слово, как жаждущий песок впитывает воды Сихора, когда на небосклоне загорается Сириус[482]. Так слушай же. Этот задира был послан тебе судьбой, как искус, дабы испытать силу твоего духа, и видишь — ты не выдержал испытания. И посему назначенный тебе срок отодвигается. Прояви ты сегодня твердость, которой от тебя ждали, и ты бы уже знал, какой путь тебе предначертан. Но ты оказался не готов, — стало быть, время твое еще не настало. — Отец мой, я ничего не понимаю, — проговорил я. — Ты помнишь, что говорила тебе Атуа на берегу канала? Я повторил Аменемхету старухины слова. — И ты поверил ей, мой сын Гармахис? — Конечно, нет! — воскликнул я. — Как можно верить таким бредням? Она была просто не в себе. Ее все считают помешанной. И тут он в первый раз посмотрел на меня, стоящего у занавеса в темноте. — О нет! — вскричал он. — О нет, мой сын, ты ошибаешься. Она не сумасшедшая, и говорила с тобой у канала не она, говорил голос Той, которая никогда не лжет. Наша Атуа — правдиворечивая прорицательница. Узнай же, мой сын, для какой миссии избрали тебя боги Египта, и горе тебе, если ты по слабодушию не выполнишь их предначертания! Итак, внимай же мне: ты вовсе не дитя простолюдинов, которого я якобы усыновил и хочу сделать жрецом нашего храма, ты — мой родной сын, и жизнь твою спасла наша Атуа, та самая старуха, которую ты назвал безумной. Но это еще не все, Гармахис: мы с тобой последние потомки царской династии Египта, единственные законные наследники того самого фараона Нектанеба, которого персидский царь Ох изгнал из Египта. Но персы пришли и ушли, их место заняли македонцы, и вот уже почти триста лет эти узурпаторы Лагиды носят нашу корону, оскверняют нашу прекрасную страну Кемет, глумятся над нашими богами. Но слушай же, слушай дальше: две недели назад наш Птолемей Авлет, этот жалкий музыкантишка, прозванный Флейтистом, который хотел убить тебя, умер; а евнух Потин, тот самый, что приплыл когда-то сюда с палачами, чтобы они отсекли тебе голову, нарушил волю покойного царя и возвел на трон его сына, Птолемея Нового Диониса. Поэтому его сестра Клеопатра, прославившаяся необычайной красотой и необузданностью нрава, бежала в Сирию, где она, если я не ошибаюсь, надеется собрать войско и пойти войной на своего брата, потому что, согласно воле отца, они должны были стать со-правителями. А тем временем, мой сын, на наш богатый, но неспособный защитить себя Египет зарится Рим, он словно коршун, который высмотрел на высоте добычу и выжидает, когда можно будет кинуться на жертву и вонзить в нее когти. И вот еще что ты должен помнить: египетский народ не желает больше терпеть иго чужеземцев, людям ненавистно воспоминание о персах, в их сердцах клокочет ярость, когда в Александрии на базарах их называют македонцами. Страна волнуется и бурлит, она уже не может жить под пятой греков и нависшей тенью Рима. Разве Лагиды не превратили нас в рабов? Разве не убивают они наших детей, не отнимают в своей ненасытной алчности все, что вырастили на полях крестьяне? Разве не пришли в упадок наши храмы? Разве не надругались эти греческие святотатцы над нашими великими извечными богами, не извратили изначальную сущность истины, не отняли у Владыки Вечности его подлинное имя, не осквернили его, назвав Сераписом и нарушив связь с Непостижимым? Разве не взывает Египет о свободе? Неужели он будет взывать напрасно? О нет, мой сын, ибо у него есть избавитель, и этот избавитель — ты. Я уже стар, и потому передаю мое право на трон тебе. Твое имя уже произносят шепотом в святилищах по всей стране, жрецы и простой народ клянутся в верности нашими священными символами тому, кто будет им явлен. Но время еще не настало, ты пока недостаточно силен — такой жестокий ураган ломает хрупкие ростки. Не далее как сегодня тебе было послано испытание, и ты его не выдержал. Тот, кто решил посвятить себя служению богам, Гармахис, должен восторжествовать над слабостями плоти. Его не должны задевать оскорбления, не должны привлекать никакие земные соблазны. Тебе уготован высокий жребий, но ты должен понять его смысл. Если же ты не поймешь, то не сможешь выполнить свое назначение, и тогда на тебя падет мое проклятье, проклятие нашего Египта, проклятие наших поверженных и оскверненных богов! Знай: в переплетении событий, из которых складывается история мира, бессмертные боги порой прибегают к помощи простых смертных, которые повинуются их воле, как меч повинуется искусной руке воина. Но позор мечу, если он сломается в разгар битвы, — его выбросят ржаветь, и он рассыплется в прах, или переплавят в огне, чтобы выковать новый. И потому ты должен очиститься сердцем, ты должен возвыситься и укрепиться духом, ибо ты избранник судьбы, Гармахис, и все радости простых смертных для тебя презренная суета. Твой путь — путь триумфатора, если ты победишь, путь славы, которая переживет века. Если же ты потерпишь поражение — горе, горе тебе! Он умолк и склонил голову, потом снова заговорил: — Обо всем этом ты в подробностях узнаешь позже. Сейчас же тебе предстоит многое постичь. Завтра я дам тебе письмо, и ты поплывешь по Нилу, мимо белостенного Мемфиса в Ана. Там, под сенью хранящих свои тайны пирамид, в храмах которых ты тоже по праву рождения должен стать верховным жрецом, ты проживешь несколько лет и глубже проникнешь в сокровищницу нашей древней мудрости. А я останусь здесь, ибо срок мой еще не исполнился, и с помощью богов буду плести паутину, в которую ты поймаешь гадючье отродье Лагидов и покончишь с ним. Подойти ко мне, мой сын, подойди и поцелуй меня в лоб, ибо ты — моя надежда, надежда всего Египта. Будь тверд, и судьба вознесет тебя к орлиным высотам славы, где ты пребудешь вовек. Но если ты изменишь своему долгу, если обманешь наш порыв к свободе, то я отрекусь от тебя, страна Кемет предаст тебя проклятью, и твоя душа будет терпеть жесточайшие муки, пока в медленном течении времени зло снова не обратится в добро и Египет не станет наконец-то свободным. Я приблизился к отцу, дрожа, и поцеловал его в лоб. — О отец, пусть все кары богов обрушатся на меня, если я тебя предам! — воскликнул я. — Нет, ты предашь не меня! — загремел его голос. — Ты предашь тех, чьи повеления я исполняю. А теперь ступай, мой сын; вникни в мои слова, пусть они достигнут сокровенных глубин твоего сердца; вбери в себя все, что тебе будет явлено, обогатись сокровищами мудрости, чтобы приготовиться к битве, которая тебе предстоит. Не страшись за себя — ты надежно огражден от всего внешнего зла; единственный враг, который может нанести тебе вред, это ты сам. Я все сказал, ступай. И я ушел, переполненный волнением. Ночь, казалось, застыла в неподвижности, в дворах храма не было ни единого служителя, ни единого молящегося. Я быстро миновал их и оказался у подножия пилона, что возвышается возле наружного входа. Жаждая одиночества и словно бы стремясь приблизиться к небу, я стал подниматься по лестнице массивного пилона, двести ступеней — и вот я на площадке наверху. Положил руки на парапет и огляделся вокруг. В этот миг над Аравийскими горами показался красный край полной луны, ее лучи упали на башню, где я стоял, на стены храма, осветили каменные изваяния богов. Потом холодный свет стал заливать возделанные поля, где уже поспевала пшеница, небесный светильник Исиды поднимался из-за гор, медленно озаряя долину, по которой катит свои воды отец земли Кемет — Сихор. Вот яркие лучи коснулись поцелуем легких волн, и те заулыбались в ответ, еще миг — и вся долина, река, храм, город, скалистое нагорье засияли в белом свете, ибо выплыла в небо великая матерь Исида и набросила на землю свой лучезарный покров. Картина была прекрасна, как волшебное видение, и бесконечно торжественна, точно я уже был в потустороннем царстве. Как горделиво возносились в ночь храмы Абидоса! Никогда еще они не казались мне столь величественными — эти бессмертные святыни, над которыми не властно само Время. И мне предстоит царствовать в этой залитой лунным светом стране, на меня возложен долг оберегать эти дорогие сердцу святыни, благоговейно чтить их богов; я избран сокрушить Птолемеев и освободить Египет от чужеземного ига! В моих жилах течет кровь великих фараонов, которые спят в своих гробницах в Долине Царей в Фивах, ожидая дня, когда их душа воссоединится с телом! Какая высокая судьба, не снится ли мне это? Меня захлестывала радость, я сложил перед собой руки и, стоя на верхней башне, стал с неведомым доселе пылом молиться многоимённому и многоликому. — О Амон, — взвывал я, — царь всех богов, владыка вечности, властитель истины, творец всего сущего, расточитель благ, судья над сильными и убогими, ты, кому поклоняются все боги и богини и весь сонм небесных сил, ты, сотворивший сам себя до сотворения времен, дабы пребыть во веки веков, — внемли мне![483] О Амон-Осирис, принесенный в жертву, дабы оправдать нас в царстве смерти и принять в свое сияние; всемудрый и всеблагой, повелитель ветров, времени и царства мертвых на западе, верховный правитель Аменти, — внемли мне! О Исида, великая праматерь-богиня, мать Гора, госпожа волхвований, небесная мать, сестра, супруга, внемли мне! Если я поистине избран вами, извечные боги, дабы исполнить вашу волю, явите мне знамение, и пусть оно свяжет мою жизнь с жизнью горней. Прострите ко мне руки, о премудрые, могущественные, позвольте мне увидеть ваши сияющие лики. Услышьте, о услышьте меня! — И я упал на колени и поднял глаза к небу. И в этот миг луну скрыло облако, ночь сразу стала темной, все звуки смолкли, даже собаки далеко внизу, в городе, перестали лаять, мир окутала вязкая тишина, она все сгущалась, давя смертельной тяжестью. Душу мне наполнил священный ужас, я чувствовал, что волосы на голове шевелятся. Вдруг мощная башня словно бы дрогнула и закачалась у меня под ногами, в лицо ударил порыв ветра, и голос, исходящий, казалось, из глубин моего сердца, произнес: — Ты просил явить тебе знамение, Гармахис? Не пугайся — вот оно. Лишь только голос умолк, моей руки коснулась прохладная рука и вложила в нее какой-то предмет. Лунный лик выглянул из-за облака, ветер стих, башня перестала качаться, и ночь вновь засияла во всем своем великолепии. Я посмотрел на то, что лежало в моей руке. Это был полураскрывшийся бутон священного цветка — лотоса, от него исходило кружащее голову благоухание. Я в изумлении глядел на бутон, а он вдруг — о, чудо! — поднялся с моей ладони и растворился в воздухе.
Глава 4
Повествующая о том, как Гармахис отправился в Ана и встретился со своим дядей, тамошним верховным жрецом Сепа; о его жизни в Ана и о том, что поведал ему Сепа.На рассвете меня разбудил один из жрецов храма и велел готовиться к путешествию, о котором вчера говорил отец, потому что как раз сегодня в Ана, который греки переименовали в Гелиополис, отплывает барка. Я поплыву на ней с жрецами мемфисского храма Птаха, которыепривезли к нам, в Абидос, мумию одного из знатнейших горожан Гелиополиса и похоронили в усыпальнице, сооруженной неподалеку от могилы благодетельного Осириса. Я стал готовиться и вечером, получив от отца письма и сердечно простившись с ним и со всеми жрецами и служителями нашего храма, кто был мне дорог, дошел до берега Сихора, спустился к пристани и сел на судно. Дул попутный южный ветер. Стоящий на носу кормчий с шестом в руках приказал морякам отвязать от деревянных тумб канаты, которые удерживали барку у причала, и тут я увидел старую Атуа, она, задыхаясь, бежала к барке со своей корзиной целебных трав, наконец доковыляла и, крикнув: «Прощай, сынок, да пребудет с тобою милость богов!» — кинула в меня сандалию — на счастье; я поймал ее и хранил потом долгие годы. Барка отчалила. Нам предстояло шесть дней плыть по прекраснейшей в мире реке, останавливаясь на ночлег в каком-нибудь удобном месте. Но когда мы отдалились от пристани, когда из глаз скрылся пейзаж, который я видел каждый день с тех пор, как появился на свет, когда я оказался один среди совершенно незнакомых лиц, сердце мое сдавила такая тоска, что я готов был заплакать, и только стыд помог мне удержаться от слез. Не буду здесь описывать чудеса, которые довелось мне увидеть по пути, ведь это только я смотрел на них впервые, всем остальным они известны с тех времен, когда Египтом правили его истинные боги. Однако жрецы, с которыми я плыл, относились ко мне очень почтительно и подробно рассказывали обо всем, что нам встречалось. На седьмой день утром мы приплыли в Мемфис — Город Белых Стен. Там я три дня отдыхал после путешествия, и жрецы красивейшего в мире храма, посвященного творцу всего сущего — Птаху, развлекали меня и показывали этот дивный, сказочно прекрасный город. Верховный жрец и двое его приближенных тайно отвели меня в священное обиталище бога Аписа — быка, в обличье которого всемогущий Птах живет среди людей. Бык был черный, с белой квадратной звездочкой на лбу, на крупе белая отметина, формой напоминающая орла, во рту под языком выпуклость, очень похожая на скарабея, кисточка на конце хвоста черно-белая, между рогами пластинка из чистого золота. Я вступил в святилище и совершил обряд поклонения богу, а верховный жрец и его приближенные стояли в стороне и внимательно наблюдали. Когда я закончил ритуал и произнес слова, которые мне было велено произнести, бог опустился на колени и лег возле меня. Верховный жрец и двое его спутников, которые, как я потом узнал, были знатнейшие вельможи Верхнего Египта, приблизились ко мне и склонились в низком поклоне, ошеломленные знамением. Да, много, много удивительного видел я в Мемфисе, но, увы, мне не отпущено времени все это описать. На четвертый день приехали несколько жрецов из Ана, чтобы отвести меня к моему дяде Сепа, который был верховным жрецом тамошнего храма. Я попрощался со всеми, кто был так добр ко мне в Мемфисе, мы переправились на другой берег, сели на ослов и двинулись в путь. Сколько нам встретилось по дороге нищих селений, разоренных сборщиками налогов. Но видел я не только эти селения, передо мной впервые в жизни возникло это величайшее из чудес света — пирамиды, а перед пирамидами изображение Хор-эм-ахета, тот самый сфинкс, кого греки называют Гармахисом, храмы божественной праматери Исиды, расточительницы здравия и радости, Осириса, владыки праведности и царства мертвых на западе, божественного Менкаура, храмы, в которых я, Гармахис, согласно священному праву рождения, должен стать верховным жрецом. Я смотрел на пирамиды, и дух захватывало от их величия; как искусно были вырезаны рельефы на белом песчанике, как ослепительно сверкал красный сиенский гранит[484], посылая лучи солнца обратно в небо. В те времена я еще ничего не знал о сокровищах, которые скрыты в третьей по величине из этих пирамид — о, если бы мне никогда не знать этой страшной тайны! День начал клониться к вечеру, и тут впереди показался Ана. После Мемфиса меня поразило, что город такой маленький. Он стоит на возвышении, в ожерелье озер, питаемых каналом. Дальше, за городом, — храм бога Ра посреди огромной площади, окруженной стенами. У ворот мы спешились, и под сводами колоннады нас встретил мужчина невысокого роста, но благородной наружности, с бритой головой и темными глазами, которые мерцали, точно далекие звезды. — Приветствую тебя! — воскликнул он голосом густым и зычным, который никак не вязался с его тщедушным обликом. — Приветствую тебя, о путник! Я — Сепа, отворяющий уста богов. — А я — Гармахис, — ответил я, — сын Аменемхета, верховного жреца и правителя священного города Абидоса. Я привез тебе письма от отца, о Сепа. — Входи, — промолвил он. — Входи же! — Его мерцающие глаза внимательно меня разглядывали. — Добро пожаловать, мой сын! — И он повел меня в один из покоев во внутреннем помещении храма, затворил дверь, пробежал глазами письма, которые я ему отдал, и вдруг бросился мне на шею и крепко обнял. — Будь благословен, — воскликнул он, — будь благословен, сын моей сестры, надежда Кемета! Наконец-то боги услышали мои молитвы и даровали мне счастье узреть твое лицо. Теперь я передам тебе мудрость, которой из всех египтян владею, быть может, один лишь я. Мне дозволено посвящать в нее только избранных. Но тебе предназначена великая судьба, и твои уши услышат изреченное богами. Он снова обнял меня, потом сказал, что сейчас мне нужно пойти совершить омовение и подкрепиться едой, а завтра утром мы продолжим беседу. И мы ее не только продолжили, — мы подолгу беседовали чуть не каждый день все годы, пока я жил в Ана, так что пожелай я записать все сказанное дядей Сепа, во всем Египте не нашлось бы столько папируса. Я должен еще так много поведать вам, а времени у меня осталось так мало, поэтому я опущу события нескольких последующих лет. Жизнь моя шла установленной чередой. Вставал я на рассвете, шел в храм на богослужение и потом весь день до вечера посвящал занятиям. Я изучил все религиозные ритуалы и постиг их смысл, узнал, как появились боги и богини, как возник потусторонний мир. Мне стали понятны тайны движения звезд, путь, который проходит среди них земля. Меня посвятили в древние знания, которые называются волхованиями, в науку толкования снов, я овладел искусством приближаться духом к Всемудрому. Мне объяснили язык священных символов, связь их внешних очертаний и сокровенной сути. Я познал извечные законы добра и зла, тайну, которую несет в себе человек. И еще я постиг тайны пирамид — о, если бы мне никогда их не знать! Я прочел летописи, в которых рассказывалось о делах и днях всех фараонов, начиная с первых царей, правящих после Гора; я овладел искусством врачевания, изучил все тонкости и хитрости дипломатии, историю стран мира, и в первую очередь Греции и Рима. Я достиг совершенства во владении греческим языком и латынью — когда я приехал в Ана, я уже немного знал их, — и все то время, что я там прожил, все долгие пять лет, и руки мои, и помыслы были чисты, ни люди, ни боги не могли бы обвинить меня в том, что я совершил что-то дурное или лелею в душе зло; я без устали трудился, чтобы вобрать в себя все эти знания и стать достойным судьбы, которую мне предначертали. Два раза в год отец мой Аменемхет присылал мне письма, полные заботы и любви, и дважды в год я отвечал ему, неизменно спрашивая, не считает ли он, что настало время завершить мои труды? Но срок ученичества все длился, длился, и я начал тяготиться этой жизнью, меня охватывало нетерпение, ведь я уже был взрослый мужчина, и не просто по годам — я был ученый муж и, конечно, жаждал деятельности, которой должна быть наполнена жизнь мужчины. Я даже порой сомневался, что мне и вправду предсказано стать венценосцем, — не досужие ли это выдумки мечтателей, принимающих желаемое за действительность? Да, в моих жилах течет кровь фараонов, я это знал, ибо мой дядя Сепа, жрец храма, показал мне хранящуюся ото всех в тайне пластину из сиенского гранита, на которой мистическими символами были выгравированы все до единого имена царей в той последовательности, как они правили. Но что толку от того, что я — законный наследник царского престола, когда моя держава, мой Египет обращен в раба и, постыдно пресмыкается перед погрязшими в роскоши Македонскими Лагидами, пресмыкается так давно, что, может быть, ему уже не хватит сил стереть с лица угодливую улыбку, расправить плечи и, сбросив ненавистное иго, гордо посмотреть в глаза миру со счастливой улыбкой свободного человека? Вспоминал я и о том, как молился на крыше пилона в Абидосском храме, как боги ответили на мой призыв, и снова меня охватывали сомнения — во сне то было или наяву? Однажды вечером, устав от занятий, я пошел прогуляться в священную рощу, что находится среди садов храма, и там, погруженный в глубокую задумчивость, чуть не столкнулся со своим дядей Сепа, который тоже медленно шел и о чем-то размышлял. — Это ты, Гармахис? — крикнул он своим зычным голосом. — Почему так печально твое лицо? Не смог решить задачу, которую я тебе задал? — Нет, милый дядя, — отвечал я, — задачу я как раз решил, она оказалась совсем не трудной, но ты прав: я в самом деле опечален. Такая тяжесть на сердце, я истомился в этом уединении, мне кажется, меня вот-вот раздавит груз знаний, которые я постиг. Что пользы копить силы, если их нельзя применить? — Как ты нетерпелив, Гармахис, — ответил он, — это все неразумие юности. Ты жаждешь изведать вкус битвы; тебе наскучило смотреть, как волны набегают на берег, — тебя манит броситься в кипящее бурное море и помериться силами с разъяренной стихией. Значит, ты хочешь покинуть нас, Гармахис? Все карнизы нашего храма залеплены ласточкиными гнездами, и когда птенцы выросли, они улетают, — так и ты, мой Гармахис. Что ж, пусть будет по-твоему: твое время настало, лети. Я научил тебя всему, что знаю сам, и, мне кажется, ученик превзошел учителя. — Он умолк и вытер свои черные блестящие глаза — так огорчила его предстоящая разлука. — А куда же я направлюсь, о мой дядя? — радостно спросил я. — Вернусь в Абидос, где меня посвятят в таинства богов? — Да, ты вернешься в Абидос, а из Абидоса поедешь в Алесандрию. В Александрии, о Гармахис, ты займешь трон твоих предков. Слушай же, как обстоят сейчас дела в стране. Ты знаешь, конечно, что когда этот предатель, евнух Потин, нарушил волю покойного Авлета и сделал единоличным правителем Египта его сына Птолемея Диониса, его сестра, царица Клеопатра, бежала в Сирию. Ведомо тебе и то, что она вернулась, как и подобает царице, с огромным войском и заняла Пелузий, а как раз в это время могущественный Цезарь, великий из великих, избранник судьбы, плыл с небольшим флотом к нам, в Александрию, преследуя Помпея, которого разбил в кровавом сражении при Фарсале. Но когда Цезарь приплыл в Александрию, Помпей уже был мертв, его подло лишили жизни по приказу Птолемея Диониса военачальник Ахилл и командующий римскими легионами в Египте Луций Септимий; когда он прибыл, в Александрии страшно перепугались, хотели даже перебить его ликторов. Но Цезарь, как ты знаешь, захватил юного царя Птолемея Нового Диониса Двенадцатого и его сестру Арсиною и объявил, что распускает войска Клеопатры и войско Птолемея, которым командовал Ахилл, — они расположились друг против друга близ Пелузия и готовились к сражению. Но Ахилл презрел приказ Цезаря и двинулся на Александрию, осадил ее центральные кварталы с царским дворцом и гаванью — цитадель Бруцеум, и долгое время никто не знал, кто же будет править в Египте. Наконец Клеопатра решила, что надо действовать и придумала план — нужно признаться, весьма дерзкий. Оставив свои войска в Пелузии, она подплыла вечером в лодке к Александрии и вдвоем с сицилийцем Аполлодором сошла на берег. Аполлодор завернул ее в драгоценные сирийские ковры и велел отнести ковры в подарок Цезарю. Когда во дворце развернули рулон, внутри оказалась прекраснейшая в мире молодая женщина, к тому же на редкость умная и образованная. И эта юная красавица покорила великого Цезаря — даже горькая мудрость прожитых лет не смогла защитить его от ее чар, и это безумство едва не стоило ему жизни, едва не отняло славу, добытую в бесчисленных войнах. — Глупец! — прервал я дядю Сепа. — Презренный глупец! Ты называешь его великим — да разве истинно великий человек поддастся уловкам коварной женщины? И это Цезарь, одно слово которого изменяло ход истории! Цезарь, который мановением руки посылал в бой сорок легионов и покорял народы и страны! Цезарь, с его холодным, ясным умом, с его проницательностью, этот прославленный герой попался в сети вероломной женщины! Нет, теперь я знаю: римлянин, которым ты так восхищаешься, был вылеплен из того же теста, что и все смертные, он был ничтожен и слаб! Сепа внимательно поглядел на меня и покачал головой. — Не суди так поспешно, Гармахис, умерь свою запальчивость и гордыню. Ведь ты же знаешь: все воинские доспехи скрепляются ремнями, и горе воину, если меч врага их рассечет. Запомни навсегда: нет силы более могущественной, чем женщина во всей ее слабости. Она — высшая повелительница. Она является нам в самых разных обличьях и не гнушается никакими хитростями, чтобы найти путь к нашему сердцу; она мгновенно проницает все и вся, но терпеливо ждет своего часа; она не отдается во власть страсти, как мужчина, но искусно управляет ею, как опытный наездник конем: если надо — натянет поводья, если можно — отпустит. Как для талантливого полководца нет неприступной крепости, так для нее нет сердца, которое бы она не заполонила. Ты молод, твоя кровь пылает огнем? Она будет неутомима в любви, ласки ее не иссякнут. Ты честолюбив? Она подстегнет твою жажду власти и укажет дорогу к вершинам славы. Ты устал, твои силы на исходе? Она даст тебе отдохновение. Ты споткнулся, упал? Она поднимет тебя и утешит, представив поражение блистательной победой. Да, Гармахис, все это подвластно женщине, ибо всегда и во всем Природа — ее верная союзница, а женщина, лаская, поддерживая и утешая тебя, часто лишь играет роль, преследуя свою собственную тайную цель, к которой ты не имеешь никакого отношения. Вот так-то, милый Гармахис: женщина правит миром. Ради нее ведутся войны; ради нее мужчина расточает свои силы, дабы одарить ее богатствами; ради нее он совершает подвиги и преступления, ради нее добивается славы и власти, а женщина рассеянно отворачивается и уходит к другому — ты ей больше не нужен. Она смотрит на тебя и улыбается, как Сфинкс, и ни один-единственный мужчина не разгадал загадку этой улыбки, не проник в тайну ее души. Напрасно ты смеешься над моими словами, Гармахис: поистине велик тот, кто способен противостоять чарам женщины, которая незаметно обволакивает нас и торжествует победу, когда мы и не подозреваем, что повержены. Я расхохотался. — Как вдохновенно ты произнес свою проповедь, мой несравненный дядя Сепа, — можно подумать, и тебя опалял огонь этих неодолимых искушений. Нет, за меня ты можешь быть спокоен, мне не страшны женщины со всем их коварством; они не влекут меня, я не желаю даже думать о них, и что бы ты ни говорил, я утверждаю: Цезарь был глупец. Я бы на его месте мгновенно укротил эту распутницу — приказал бы снова закатать ее в ковры и сбросил по дворцовой лестнице прямо в море. — Молчи! Молю тебя, молчи! — закричал он. — Не искушай судьбу! Да отвратят от тебя боги беду, которую ты накликал на себя, и да сберегут твердость духа и неуязвимость, которыми ты похваляешься. Эх, дорогое мое дитя, ты еще совсем не знаешь жизни, — да, ты красив, как бог, кто сравнится с тобой в силе и ловкости, кто проник в такие глубины знаний, у кого такой дар красноречия, и все равно ты — всего лишь дитя. Мир, в который тебе предстоит вступить, отнюдь не святилище божественной Исиды. Но его можно изменить! Моли богов, чтобы твое ледяное сердце никогда не растаяло, и ты обретешь славу и счастье, а Египет — освобождение. А теперь позволь мне продолжить мой рассказ, — видишь, Гармахис, даже в столь важных поворотах истории решающую роль играет женщина. Брат Клеопатры, Птолемей Дионис, которого Цезарь освободил, предательски восстал против него. Но Цезарь с Митридатом разбили его войска, а сам Птолемей бежал. Он хотел переправиться на тот берег Нила, однако его собственные солдаты, бежавшие вместе с ним, стали цепляться за борта, пытались влезть в лодку и, конечно же, перевернули ее, и Птолемея постиг бесславный конец. Когда война кончилась, Цезарь объявил младшего сына Птолемея Авлета, Нового Диониса Тринадцатого, соправителем Клеопатры и ее официальным мужем, хотя она только что родила ему сына, Цезариона, а сам отправился в Рим, увез с собой сестру Клеопатры, прекрасную царевну Арсиною, которая должна была идти в цепях за его колесницей во время триумфального шествия по улицам Рима. Но великий Цезарь умер. Он убивал — и его тоже убили, и, умирая, он проявил поистине царственное величие духа. Слушай же дальше. Наша царица, Клеопатра, если дошедшие до меня слухи не лгут, отравила своего брата и супруга, а маленького сына Цезариона посадила рядом с собой на трон, который удерживает с помощью римских легионов и, как говорят люди, Секста Помпея Младшего, занявшего в ее душе и постели место Цезаря. Но в стране кипит недовольство, зреет гнев против нее. По всем городам жители Кемета говорят об избавителе, который должен прийти. Этот избавитель ты, Гармахис. Грядет твой час. Скоро, скоро исполнятся сроки. Возвращайся в Абидос, постигни последние тайны, в которые посвятили нас боги, предстань перед теми, по чьему сигналу грянет гроза. И вот тогда действуй, Гармахис, — отомсти за наш Кемет, освободи страну от римлян и греков и займи принадлежащий тебе по закону трон твоих божественных предков, стань нашим фараоном. Вот для какой доли ты рожден, о царевич!
Глава 5
Повествующая о возвращении Гармахиса в Абидос; о церемонии Мистерий, посвященных смерти и воскресению Осириса; о призываниях Исиды и о напутствии Аменемхета.На следующий день я обнял моего доброго дядю Сепа и покинул Ана; меня сжигало нетерпение — скорее бы вернуться в Абидос. Не буду описывать свое путешествие, скажу только, что в положенный срок я без приключений вернулся туда, где не был пять лет и один месяц, вернулся не зеленым юнцом, каким его покинул, а зрелым мужем, который постиг науки, созданные людьми, и проник в тайны древней мудрости Египта, дарованной нам богами. Наконец-то я снова увидел родной край, увидел знакомые лица, хотя, увы, многих, кого я ожидал встретить, не было — их души отлетели в царство Осириса. Вокруг расстилались поля, среди которых прошло мое детство, мы приближались к храму, вот и его пилоны, из ворот уже вышли жрецы приветствовать меня, собралась целая толпа народу, впереди стояла старая Атуа, она почти не изменилась за долгие пять лет, прошедшие с того дня, когда она кинула мне вслед сандалию на счастье, только время провело своим резцом еще несколько морщин на ее лбу. — Гармахис, мой дорогой Гармахис! — воскликнула она. — Наконец-то ты вернулся, наконец мы тебя дождались! До чего же ты красив, еще красивей, чем прежде! И какой сильный, мужественный! Какие могучие плечи, какое благородное лицо! И я когда-то нянчила тебя — как не гордиться старухе! Но ты что-то бледный, эти жрецы в Ана наверняка морили тебя голодом. Забудь их наставления: богам не угодны ходячие скелеты. Как говорят в Александрии: «На пустой желудок ни одна умная мысль в голову не придет». Ах, кукую радость подарили нам боги, какое счастье. Добро пожаловать в свой дом, добро пожаловать! — И, едва я слез с осла, бросилась меня обнимать. Но я отстранил ее. — Где отец? Где мой отец? — вскричал я. — Почему его нет здесь? — Не тревожься о нем, любимый внучек, — отвечала она, — его святейшество здоров; он ожидает тебя в своих покоях. Идем же к нему. О, благословенный день! Ликуй, Абидос! И я пошел, вернее, побежал к покоям, которые уже описывал, и за столом увидел моего отца Аменемхета, он сидел в той же позе, что и в вечер нашей последней встречи, но как же он постарел! Я приблизился к нему, опустился на колени и поцеловал его руку, а он благословил меня. — Посмотри на меня, сын мой, — сказал он, — позволь моим старым глазам вглядеться в твое лицо и прочесть твои мысли. Я поднял к нему голову, и он долго не отрывал от меня внимательного взгляда. — Да, я проник в твою душу, — наконец произнес он, — твои помыслы чисты и твоя мудрость глубока; ты не обманул моих надежд. О, каким одиночеством были наполнены для меня эти годы, но я не напрасно посылал тебя в Ана. Расскажи же мне о своей тамошней жизни, твои письма были так скупы, а сердцу отца драгоценно все, что касается сына, тебе это пока неведомо. И я начал свой рассказ; уже давно настала ночь, а мы все не могли наговориться. Перед тем как проститься, он мне сказал, что теперь я должен готовиться к посвящению в последние таинства, которые открываются лишь избранникам богов. И целые три месяца я готовился к великому событию, как того требуют веками чтимые обычаи. Я не ел мяса. Все дни проводил в святилищах, постигая тайны Великого Жертвоприношения и скорбь Благословенной Матери. Во время ночных бдений я молился перед алтарями. Мой дух возносился к Богу, я чувствовал, что между мною и Непостижимым установилась связь, земля и все земные радости стали казаться пустой, ничтожной суетой. Я больше не жаждал славы среди людей, мое сердце парило высоко над этим желанием, точно раскинувший крылья орел, оно было глухо к воплям страждущих, а красота земли не наполняла его восторгом. Ибо надо мной простирался бездонный небесный свод, по которому начертанным им путем движутся извечные звезды, определяя судьбы людей, где на своих огненных тронах восседают великие божества, наблюдая, как по сферам мироздания катится колесница Провидения. О блаженные часы медитации! Может ли тот, кто хоть раз изведал счастье, которое вы дарите, желать возврата на землю, где мы пресмыкаемся во прахе? О низменная плоть, как властно ты влечешь нас в бездну! Почему мне не удалось избавиться от тебя тогда, чтобы моя освобожденная душа устремилась к Осирису! Три месяца искуса даже не пролетели, а промчались; близился день, когда я воистину соединюсь с Матерью Всего Сущего. Как жаждал я увидеть твой светлый лик, о Исида, — трепетнее, чем Ночь ждет встречи с Рассветом, пламеннее чем влюбленный томится по своей прекрасной невесте. И даже сейчас, после того, как я тебя предал, когда ты недосягаемо далеко от меня, о божественная, душа моя рвется к тебе и я знаю, что ты по-прежнему… Но мне запрещено приподнимать завесу и рассказывать о том, что хранилось в тайне с сотворения мира, и потому позвольте мне продолжить мое повествование и с благоговением описать события того священного утра. Семь дней продолжалось великое празднество, семь дней разыгрывались мистерии, посвященные тому, как олицетворение тьмы и зла Сет преследовал и наконец предательски умертвил Владыку Праведности Осириса, как Великая Матерь Исида оплакивала мужа, как ликовал мир, когда родился сын Осириса, божественный младенец Гор, который отомстил за отца и занял свое место среди сонма богов. Мистерии разыгрывались в строгом соответствии с древними канонами. По священному озеру плавали лодки, жрецы стегали себя плетьми перед святилищами, ночью по улицам носили изображения богов. И вот на седьмой день, когда солнце опустилось к горизонту, в храмовом дворе снова собралась огромная процессия, и хор стал петь о горе Исиды и о том, как зло было отомщено. Потом мы молча вышли из ворот и двинулись по улицам города. Служители храма прокладывали нам путь в толпе; впереди шествовал мой отец Аменемхет в парадном одеянии верховного жреца и с посохом из кедрового дерева в руке. Шагах в десяти от него в полном одиночестве шагал я, облаченный в одежды из чистого льна, как подобает тому, кто готовится принять посвящение; далее следовали жрецы в белых балахонах, с флагами на шестах и священными символами. За главными жрецами выступали младшие жрецы, они несли священную барку, потом следовали певцы и плакальщицы, а дальше извивалась нескончаемая траурная процессия, все были в черном, потому что Осирис умер. Мы в молчании прошли по улицам города и вернулись к храму. Когда отец мой, верховный жрец Аменемхет, вступил в храмовый двор через главный вход между пилонами, мелодичный женский голос запел священное песнопение:
Глава 6
Повествующая о посвящении Гармахиса; о явленных ему видениях; о пребывании в городе, который находится в царстве мертвых; об откровениях Исиды — Вестницы Непостижимого.Безмолвно вступили мы в святилище Исиды. Зал был темен и пуст, дрожащий огонек светильника тускло освещал рельефы на стенах — бесчисленные изображения Небесной Матери Исиды, кормящей грудью младенца Гора. Жрец затворил двери и запер их. — В последний раз вопрошаю тебя, — произнес он, — воистину ли ты готов, Гармахис? — Воистину, — ответил я, — воистину готов. Больше он ничего не сказал, он лишь воздел к небу руки в молитве, потом отвел меня в центр святилища и, быстро дунув на светильник, погасил пламя. — Смотри же, о Гармахис! — воскликнул он, и голос его отозвался гулким эхом в мрачном зале. Я стал всматриваться в темноту, но ничего не увидел. Однако из ниши высоко в стене, где, скрытый от взоров, находится священный символ богини, лицезреть который дозволено лишь избранным, послышались звуки, словно бы кто-то играл на систре[486]. Я слушал мелодичные переливы, пораженный благоговейным ужасом, и вдруг — о, чудо! — увидел самый символ, очертания которого как бы горели в плотной черноте. Он парил надо мной, и из него лился нежный перезвон. Потом символ повернулся, и я ясно увидел вырезанное на одной стороне пластины лицо Благотворящей Матери Исиды, которая воплощает вечное рождение жизни, а на другой стороне — лицо ее небесной сестры Нефтиды, которая олицетворяет возвращение всего рожденного в смерть. Пластина медленно изгибалась и раскачивалась надо мной, как будто высоко в воздухе танцевало мистическое существо. Но вот огонь, очерчивающий контуры символа, погас, треньканье смолкло. И тут дальний конец зала ярко озарился, и в этом ослепительном свете передо мной стали одна за другой разворачиваться удивительные картины. Я увидел древний Нил, несущий свои воды через пустыни к морю. На его берегах не было людей, не было ни одного возделанного поля, не было храмов, воздвигнутых в честь богов. Только вольные птицы безмятежно плавали по зеркальной поверхности Сихора, да странные чудища плюхались с берегов в воду и неуклюже барахтались, поднимая тучи брызг. Над Ливийской пустыней величественно опускалось к горизонту солнце, окрашивая реку в кроваво-красный цвет; в безмолвное небо возносились горы; но ни в горах, ни в пустыне, ни на реке не чувствовалось присутствия человека. И тогда я понял, что вижу мир таким, каков он был до появления людей, и душу мне пронзило одиночество этого мира. Видение исчезло, на его месте появилось другое. Снова я увидел берега Сихора, и на них стаи волосатых существ, больше похожие на обезьян, чем на людей: они дрались и убивали друг друга. Пылали подожженные тростниковые хижины, мародеры тащили из них пожитки своих врагов. Вольные птицы в испуге поднялись в воздух и улетели. Эти существа крали, зверствовали, грабили, истребляли друг друга, раскалывали детям головы каменным топором, так что разлетались мозги. И хотя жрец ничего не объяснял мне, я понял, что вижу человека таким, каким он был десятки тысяч лет назад, когда лишь появился на земле. Вот возникла новая картина. Слова передо мной были берега Сихора, но теперь на них стояли города, прекрасные, как в сказке. Вокруг раскинулись бескрайние возделанные поля. В ворота городов свободно входили люди и так же свободно выходили. Не было ни стражей, ни солдат, ни оружия. Здесь царили мудрость, благоденствие, мир. И пока я с восхищением глядел на это чудо, послышалась музыка и из святилища вышел удивительной красоты мужчина в сияющих одеждах и, окруженный неизвестно откуда звучащей музыкой, двинулся на рыночную площадь, которая была расположена на самом берегу, и там сел на трон из слоновой кости лицом к воде; лишь только край солнца коснулся горизонта, он призвал огромную толпу к молитве. Все благоговейно склонились, и стройно понеслись слова молитвы, точно их произносил один человек. И я понял, что в этой картине мне явлены времена, когда на земле царили боги, а было это задолго до правления фараона Менеса. Но вот картина стала меняться. Тот же самый прекрасный город, но люди уже другие — их лица искажены алчностью и злобой, сердца переполняет ненависть к добру и благочестию, их неудержимо влечет к себе порок. Настал вечер; прекрасный светозарный бог взошел на трон и призвал к молитве, но ни единый человек в толпе не склонился, никто не сотворил ее. — Ты надоел нам! — закричали голоса в толпе. — Посадим на трон Зло! Убьем его! Убьем! Освободим томящееся в оковах Зло! Пусть оно правит нами! Да здравствует Зло! Прекрасный бог встал и долго смотрел кротким взглядом на беснующуюся толпу. — Вы сами не ведаете, чего пожелали, — наконец произнес он, — но пусть ваше желание исполнится, раз уж оно так сильно. Ибо даже если я умру, вы все равно после долгих мук снова найдете с моей помощью путь в Царство Добра! И едва он произнес эти слова, как на него набросилось отвратительное чудовище и, изрыгая проклятья, убило бога и зверски растерзало, разорвало на части прекрасное светозарное тело, а потом под ликующие вопли толпы село на трон и стало править. Но с неба на радужных крыльях спустилась тень, лицо которой было скрыто покрывалом, и, рыдая, стала собирать растерзанные останки светозарного бога. Потом пала на них, но немного погодя подняла голову и воздела к небу руки, обливаясь слезами. Слезы ее лились и лились, и вдруг возле нее возник воин в полном боевом снаряжении, и лицо его было подобно лику всеиспепельяющего Ра в полдень. Божественный мститель с кличем устремился к чудовищу, которое заняло трон, они сплелись, пытаясь одолеть друг друга, и так, в вечном нерасторжимом объятии борьбы унеслись в небеса. Быстрее замелькали картины. Я видел царей и народы, менялись их одежды, по-разному звучали языки, на которых они говорили. Сколько их было — не счесть, и каждый любил, ненавидел, боролся, страдал, умирал… Несколько счастливых лиц, несколько лиц, отмеченных печатью глубочайшей скорби, но и счастье, и скорбь встречались так редко, на всех остальных бесчисленных миллионах лиц застыла тупая покорность. Сменялись поколения, а высоко в небе Мститель по-прежнему сражался с Владыкой Зла, и победа склонялась то в сторону одного, то в сторону другого. Но ни один так и не одержал верх, и мне не дано узнать, чем кончится их битва. Я понял, что видения, которые мне были явлены, рассказывают о великой борьбе сил Добра и Зла. Я понял, что человек был сотворен жестоким и порочным, но высшие силы исполнились к нему сострадания и снизошли на землю, желая сделать его добрым и счастливым, ибо доброта и есть счастье. Но человек не мог одолеть свою злобную натуру, и светлый дух Добра, которого мы называем Осирисом, хотя у него бесконечное множество имен, принес себя в жертву во имя искупления жестокости тех, кто отринул его. Потом от него и от Божественной Матери, животворящей всю природу, родился еще один бог, который охраняет нас на земле, как Осирис защищает нас в Аменти. Вот она, разгадка таинства Осириса. Эта истина вдруг открылась мне, когда я глядел на проплывающие передо мной видения. Суть посвященных Осирису мистерий обнажилась, точно мумия, с которой сорвали погребальные пелены, и мне стал внятен смысл нашей религии: ее основа — Искупительная Жертва. Видения исчезли, и снова жрец, приведший меня сюда, спросил: — Проник ли ты, о Гармахис, в значение того, что тебе было позволено увидеть! — Проник, — ответил я. — Стало быть, обряд посвящения завершен? — О нет, он только начался. Тебе предстоит долгий путь, и ты пойдешь по нему один. Сейчас я оставлю тебя и вернусь, когда встанет солнце. Но я еще раз хочу остеречь тебя: лишь немногие могут выдержать то, что тебе начертано увидеть, и остаться в живых. За всю мою жизнь только три смельчака отважились подвергнуться этому страшному испытанию, и пережил его лишь один, двое других лежали мертвые, когда я приходил за ними утром. Сам я не решился подняться по этой тропе. Такая высота не для меня. — Ступай, — ответствовал я. — Душа моя жаждет знания. Ничто меня не остановит. Он возложил мне руку на голову, благословил и пошел прочь. Я слышал, как он закрыл за собой дверь, как потом долго замирало эхо его неторопливых шагов. И вот я почувствовал, что остался один, один в святилище, наполненном присутствием неземных существ. Все окутала тишина, глубокая и черная, как царящий в храме мрак. Тишина наползала, сгущалась, как то облако, что скрыло лик луны, когда я еще юношей молился ночью на площадке пилона. Вязкая, тягучая, она проникла в мое сердце и там закричала: ведь голос полного безмолвия страшнее леденящего кровь вопля. Я произнес какие-то слова, но эхо отлетело от стен — оглушенный, я чуть не упал. Нет, безмолвие было легче вынести, чем такое эхо. Что мне предстоит увидеть? Неужели я сейчас умру, умру в расцвете молодости и сил? Недаром и меня столько раз предупреждали, что испытание будет ужасным. Страх сковал меня, в сознании билась одна только мысль — бежать, бежать! Бежать… но куда? Двери храма заперты, я в ловушке. Я наедине с богами, наедине с небесными силами, которые я вызвал. Нет, нет, мое сердце чисто, в нем нет ни крупицы зла. Пусть я умру, но я выдержу, выдержу предстоящий мне ужас. — Исида, БлагостнаяПраматерь, Небесная Супруга, — начал я молиться, — снизойди ко мне, поддержи меня, вдохни в меня силы, побудь со мной. И вдруг я почувствовал, что что-то произошло. Воздух вокруг меня с шумом всколыхнулся, словно рассекаемый взмахами орлиных крыльев, ожил. В меня впились горящие глаза, душа содрогалась от страшных шорохов. Тьму пронзили лучи света. Лучи мерцали и переливались, они наплывали друг на друга, сплетались в мистические знаки, смысла которых я не понимал. Лучи кружились и плясали все быстрее и быстрее, мистические знаки сближались, соединялись, наливались огнем, гасли, снова вспыхивали, и, наконец, все слилось в бешеном вихре, глаза уже не могли различить форм и оттенков. Я плыл по светозарному океану, волны взлетали, низвергались, меня то возносило ввысь, потом швыряло в бездну. Свет, сияющий беспредельный свет, и я в экстазе ликования парю в нем! Но мало-помалу кипящие волны воздушного океана начали меркнуть. По поверхности побежали огромные тени, снизу поднималась чернота, тени и мрак слились, и только я горел огненной вспышкой, точно звезда на челе безбрежной ночи. Где-то вдалеке раздались грозовые раскаты музыки. Они приближались, пронизывая мрак, и он сначала отзывался на них легким трепетом. Но музыка неотвратимо надвигалась, накатывала, как прибой, грозная, могучая, оглушающая, и вдруг хлынула, налетела на меня, словно обрушив плеск крыльев огромной стаи птиц, все ревело и дрожало вокруг меня, и душа готова была разорваться от ужаса и восторга. Но вот все проплыло мимо, раскаты слышались все тише и наконец замерли где-то в далеких пространствах. Еще несколько раз я окунался в стихию музыки, и всякий раз она была разной. То словно бы бряцали тысячи систр; то раздавался рев бесчисленных медных труб; то овевало пение нежных, неземных голосов; то мир медленно наливался громом мириадов барабанов. Но вот все звуки отзвучали; замерло эхо, и снова на меня навалилось и стало душить безмолвие. Я чувствовал, что силы мои слабеют, жизнь иссякает во мне. Приближалась смерть, и смерть эта была — Безмолвие. Она вошла в мое сердце и наполнила его цепенящим холодом, но мысль моя была еще жива, я все ясно осознавал. Я знал, что медленно приближаюсь к черте, отделяющей царство живых от царства мертвых. Медленно? Нет, меня стремительно несет к ней, и, о боги, как же мне страшно! Молиться, нужно молиться, но поздно, уже нет времени для молитвы. Миг отчаянной борьбы, потом в мое сознание влилось успокоение. Ужас исчез, сон, тяжкий, как каменная глыба, расплющил меня. Я умираю, мелькнуло в последнем проблеске сознания, вот она, смерть… и меня поглотило ничто. Я умер! Но что это? Жизнь возвращается ко мне, хотя между той, прежней жизнью и этой, новой — пропасть, она совсем другая. Я снова стою в темноте храма, но тьма больше не слепит меня. Она прозрачная, как свет дня, хотя и черная. Да, я стоял, я был жив, и все же это был не совсем я, это была моя душа, ибо рядом на полу лежала моя мертвая земная оболочка. Лежала тихо, недвижимо, и на лице, в которое я вглядывался, застыло страшное последнее спокойствие. Не знаю, сколько я так стоял и в изумлении разглядывал сам себя, но вдруг и меня подхватили огненные крылья и понесли прочь, так быстро, что за нами не угнаться самой молнии. Я падал вниз в бездонные пространства пустых миров, где лишь переливались венцы созвездий. Мы пронзали бесконечность, и, казалось, полет наш будет длиться вечно, но вот он наконец замедлился, и я увидел, что парю в куполе мягкого тихого света, разлитого над храмами, дворцами и домами волшебной красоты, такие никогда не снились людям на земле даже в самых чудесных снах. Они были сотворены из пламени и мрака. Их шпили возносились головокружительно высоко, вокруг цвели пышные сады. Я парил в невесомости, а картина беспрерывно изменялась перед моими глазами: пламя обращалось в тьму, тьма вспыхивала пламенем. Сверкали и переливались, точно драгоценные камни, радуги, затмевая свет, который заливает Царство Мертвых. Я видел деревья, и шелест их листьев был отраден, как музыка; меня овевал ветерок, и его дуновение, казалось, приносит нежную песнь. Ко мне устремились существа прекрасные, таинственные, с зыбкими, текучими очертаниями, и опустили меня вниз, и я словно бы встал на землю, только не на ту, прежнюю, а на какую-то другую. — Кто явился к нам? — вопросил глас божества, приводящий в священный трепет. — Гармахис, — отвечали существа с зыбкими, текучими очертаниями. — Тот самый Гармахис, которого вызвали с Земли, чтобы он взглянул в лицо Той, что вечно была, есть и будет. Явился сын Земли Гармахис! — Откройте же ворота и распахните двери! — повелел глас божества. — А потом замкните ему уста немотой, дабы его голос не нарушил небесную гармонию; отнимите у него зрение, дабы он не увидел того, что не предназначено для очей смертных, и отведите туда, где пребывает Единый. Ступай, сын Земли; но, прежде чем идти, взгляни наверх, и ты поймешь, как далеко сейчас от тебя твоя Земля. Я поднял голову. За ореолом немеркнущего света, который сиял над городом, простиралась черная ночь, и высоко в этом черном небе мигала маленькая звезда. — Се мир, который ты оставил, — произнес глас, — взирай и трепещи. Чьи-то руки коснулись моих уст, и их сковала немота, коснулись глаз — и я ослеп. Ворота отворились, двери распахнулись во всю ширь, и меня внесли в город, который находится в Царстве Мертвых. Мы двигались очень быстро, куда — не знаю, но скоро я почувствовал, что стою на ногах. И снова глас божества повелел: — Снимите с его глаз черное покрывало, разомкните ему уста, и пусть к сыну Земли, Гармахису, вернуться зрение и слух и ясность мысли, пусть он благоговейно падет ниц в святилище Той, что вечно была, есть и будет. К моим устам и векам снова прикоснулись, и я вновь обрел зрения и речь. О, чудо! Я стоял в зале из чернейшего мрамора, таком высоком, что даже в розоватом свеете, что освещал его, мои глаза едва различали могучие своды потолка. Звучала тихая торжественная музыка, вдоль стен стояли длинные, вытянутые во всю их высоту, крылатые духи, сотканные из бушующего пламени, и пламя это так слепило глаза, что смотреть на них было невозможно. В центре зала был алтарь, маленький, квадратный, пустой, и я стоял перед ним. Снова раздался глас: — О Ты, которая всегда была, есть и будешь; Ты, Многоимённая, истинного имени которой назвать нельзя; Ты, Измерительница Времени, Посланница Богов, Охранительница миров и всех существ, что их населяют; Матерь вселенной, до которой было лишь Ничто; Ты, Творящая, но Несотворённая; Светозарная Жизнь, не заключенная в форму; Живая Форма, не облеченная в материю; Исполнительница Воли Непостижимого; Дитя порядка, рожденного из хаоса; Держащая в своих руках весы и меч Судьбы; Сосуд Жизни, через который протекает вся жизнь, дабы вновь в него вернуться; Ведущая Запись всему, что совершается в истории; Исполнительница предначертанного Провидением, ВНЕМЛИ МНЕ! Египтянин Гармахис, вызванный твоею волей с Земли, ожидает перед твоим алтарем, глаза его обрели зрение, уши — слух, сердце открыто. Внемли мне и слети к нам! Явись, о Многоликая! Яви свое сияние! Дай нам услышать тебя! Пусть дух твой осенит нас. Услышь меня и предстань пред нами! Призывания смолкли, настала тишина. Потом в тишине словно бы зарокотало море. Но вот рокот стих, и я, повинуясь неведомой мне силе, опустил руки, которыми закрывал лицо, и посмотрел вверх: над алтарем клубилось маленькое темное облачко, и из него то вдруг появлялся огненный змей, то исчезал внутри. И тогда все божества и духи, облаченные в свет, пали на мраморный пол и стали громко молиться; но я не понимал ни единого слова из того, что они произносили. Темное облачко — о, чудо! — опустилось на алтарь, огненный змей потянулся ко мне, лизнул мой лоб своим раздвоенным язычком и скрылся. Из облачка послышался небесно нежный голос, тихий и царственный: — Удалитесь, мои служители, оставьте меня с сыном Земли, которого я призвала к себе. И точно стрелы, выпущенные из лука, облаченные в пламя духи и божества улетели прочь. — Не бойся, о Гармахис, — произнес голос. — Я — Та, которую ты знаешь под именем Исиды, это имя мне дали египтяне; не пытайся узнать обо мне что-то еще — это тебе недоступно. Ибо я — все сущее. Жизнь — моя душа, Природа — облачение. Я — смех ребенка, я — любовь юной девушки, я — поцелуй матери. Я — дитя и служанка Непостижимого, который есть Бог, или Великий Закон Мироздания, или Судьба, хотя сама я и не Богиня, и не Судьба, и не Закон. Это мой голос ты слышишь, когда на земле дуют ветры и ревут океаны; когда ты глядишь на звездную твердь, ты видишь мой лик; когда весной все покрывается цветами, это я улыбаюсь, о Гармахис. Ибо я — сущность Природы, и все, что она созидает, есть я. Все живое одухотворено моим дыханием. Я рождаюсь и умираю, когда рождается и умирает луна; я поднимаюсь с волнами прилива и вместе с ними опадаю; я встаю на небе, когда встает солнце; я сверкаю в молнии и грохочу в раскатах грома. Я все великое и грозное, что царствует и повелевает, я все малое и смиренное, что прозябает в ничтожестве. Я в тебе, Гармахис, а ты — во мне. То, что вызвало из небытия тебя, вызвало и меня. И потому хоть велико мое могущество, а тебе подвластно так мало, — не бойся. Ибо нас связывает общая нить жизни — той жизни, что течет по этой нити через просторы вселенной к солнцам и звездам, к божествам и душам людей, объединяя всю природу в единое целое, вечно меняющееся и во веки веков неизменное. Я склонил голову — говорить я не мог, меня сковывал страх. — Ты верно служишь мне, о сын мой, — продолжал тихий нежный голос, — велико было твое желание встретиться со мною здесь, в Аменти, и ты проявил воистину великое мужество и выполнил его. Ибо освободиться от своей смертной оболочки раньше срока, назначенного тебе Судьбой, и воплотиться в ипостаси духа, хотя бы на единый час, — подвиг, на который способны лишь избранные. И я, о мой слуга и сын мой, я тоже страстно желала увидеть тебя здесь, в этом Царстве Мертвых. Ведь боги любят тех, кто любит их, но любовь богов глубже и сильнее, а я, исполняющая волю Того, кто так же далек от меня, как я — от тебя, простого смертного, я — повелительница всех богов. И потому, Гармахис, я повелела, чтоб ты предстал здесь предо мной; и потому я говорю с тобою, и хочу, чтоб ты открыл мне свою душу, как в ту ночь на башне храмовых ворот в Абидосе. Ведь я была тогда с тобой, Гармахис, как была в тот же самый миг в мириадах других миров. И это я вложила в твою ладонь цветок лотоса — знак, о котором ты молил. Ибо в твоих жилах течет царственная кровь моих детей, которые служили мне тысячелетие за тысячелетием. И если ты восторжествуешь над врагами, ты сядешь на древний трон царей, ты очистишь мои оскверненные храмы, и Египет будет поклоняться мне, как встарь, со всей беззаветностью веры. Но если ты потерпишь поражение, тогда вечноживущий дух, Исида, превратится для египтян всего лишь в воспоминание. Голос умолк, и я, наконец-то собрав все свои силы, спросил: — Скажи мне, о дарующая благодать, значит я обречен на поражение? — Не спрашивай меня, — ответил голос, — не спрашивай о том, что мне не должно говорить тебе. Быть может, мне дано предугадать, что уготовано тебе; быть может, я не хочу предсказывать твою судьбу. Владыка Вечности взирает, как все в мире развивается своим чередом, — так разве станет он торопить цветок расцвести, когда семя растения едва успело лечь в лоно земли? Придет срок, и бутоны раскроются сами. Знай, Гармахис: не я творю будущее — его творишь ты, оно рождается Великим Законом Мироздания и волей Непостижимого. А ты — тебе дана свобода выбирать, и победишь ты или потерпишь поражение, зависит от того, насколько ты силен и чист сердцем. Вся тяжесть ляжет на тебя, Гармахис, — и бремя славы, и бремя позора. Что мне за дело до того, что будет? Ведь я лишь исполняю предначертанное. А теперь слушай меня, мой сын: я всегда буду охранять тебя, ибо, подарив кому-то свою любовь, я дарю ее навек и не отнимаю дара, хотя бы ты и совершил что-то дурное и тебе порой будет казаться, что ты утратил ее. Так помни же: коль победишь — тебя ждет великая награда; проиграешь — поистине страшная кара падет на тебя и там, на Земле, и здесь, в стране, которую вы называете Аменти. Но я хочу тебя утешить: муки и позор не будут длиться вечно. Как бы низко ни пал праведный, если в его сердце живет раскаяние, он может найти путь — путь тернистый, горький, — и снова подняться к прежним высотам. Да не допустят высшие силы, чтобы тебе пришлось искать этот путь, о Гармахис! И вот что я еще тебе скажу, мой милый сын: ты так преданно любишь меня, и, пытаясь выбраться из лабиринта лжи на земле, в котором гибнет столько людей, ибо они принимают оболочку за дух, а алтарь за бога, ты нашел ниточку Многоликой Истины; и я тоже люблю тебя и надеюсь, что настанет день, когда ты благословленный Осирисом, вступишь в мое сияние и будешь служить мне; и потому, Гармахис, тебе будет дано услышать Слово, которым те, кто говорил со мной, могут вызвать меня из горнего мира и увидеть лик Исиды, даже взглянуть в глаза Вестнице Непостижимого — и это значит, что ты спасен от уничтожения в смерти. Смотри же! Неземной голос умолк; темное облачко над алтарем заклубилось, стало менять очертания, вот оно вытянулось, посветлело, засветилось, и передо мной возникла фигура женщины в покрывале. Из ее сердца снова выполз золотой змей и живым венцом обвил туманное чело. И тогда глас изрёк Божественное Слово, и все покровы спали и растворились в воздухе, моим глазам предстало сияние такой непереносимой красоты, что даже вспоминая ее я едва не лишаюсь чувств. Но мне не позволено открывать людям то, что я видел. Да, много времени прошло с тех пор, однако и сейчас я не могу нарушить запрет, хоть мне и было велено поведать о событиях, которых я был участником и свидетелем, в надежде, что моя летопись, быть может, сохраниться для грядущих поколений. Итак, мне было явлено то, что невозможно и вообразить, ибо есть в мире высшая красота и высшее величие, которые недоступны человеческому воображению. Я их увидел и не выдержал этого зрелища, я пал ниц, чувствуя, что этот образ навеки врезался в мою память, зная, что Великое Слово будет нестихающим эхом вечно звучать в моей душе. И когда я падал, мне показалось, что огромный зал словно бы раскололся и обломки свились огненными языками вокруг меня. Потом налетел могучий ураган, раздался космический гул, мелькнула мысль: это гул миров, несущихся в потоке Времени… и все исчезло, меня не стало.
Глава 7
Повествующая о пробуждении Гармахиса, о его коронации венцом Верхнего и Нижнего Египта и о совершенных ему приношениях.Я проснулся и увидел, что лежу, простертый, на каменном полу святилища Исиды в Абидосском храме. Надо мной стоял старик-жрец, руководивший моим посвящением, в руке у него был светильник. Он нагнулся ко мне, внимательно вглядываясь в лицо. — Уже день, Гармахис, — день твоего второго рождения, ты прошел таинство посвящения и родился заново! — произнес он наконец. — Благодарение богам! Встань, царственный Гармахис… нет, не рассказывай мне ничего о том, что с тобой происходило. Встань, возлюбленный сын Всеблагой Матери. Идем же, о проникший сквозь огонь и увидевший, что лежит за океаном тьмы, — идем, рожденный заново! Я поднялся и, с трудом превозмогая слабость, ошеломленный, потрясенный, двинулся за ним из темноты святилища на яркий утренний свет. Я сразу же ушел в комнату, где жил, лег и заснул, и никакие видения не тревожили на этот раз мой сон. И ни единый человек не спросил меня потом, что же я видел в ту страшную ночь и как я разговаривал с богиней, — даже мой отец. После всего того, о чем я рассказал, я попросил у жрецов позволения больше молиться Великой Матери Исиде и глубже изучить ритуалы таинств, к которым у меня уже был ключ. Более того, меня посвятили в тонкости и хитросплетения политики, ибо со всех концов Египта к нам в Абидос тайно приезжали встретиться со мной знатнейшие вельможи и сановники, и все рассказывали, как яростно народ ненавидит царицу Клеопатру и о событиях, которые происходят в стране. Срок приближался; прошло уже три месяца и десть дней с той ночи, когда мой дух покинул на недолгое время тело и, продолжая жить, перенесся в иные миры и предстал перед Исидой, после чего было решено возвести меня на трон с соблюдением всех предписанных и освященных веками обрядов, хотя и в величайшей тайне, и короновать венцом владыки Верхнего и Нижнего Египта. К торжественной церемонии в Абидос съехались знатнейшие и влиятельнейшие из граждан, жаждавших освобождения и возрождения Египта, — всего их оказалось тридцать семь человек: по одному из каждого нома и по одному от самого крупного города в номе. Кем только они ни переодевались для путешествия — кто жрецом, кто паломником, кто нищим. Приехал также мой дядя Сепа — он хоть и путешествовал под видом бродячего лекаря, но зычный голос выдавал его, как ни старался он его укротить. Я, например, еще издали узнал дядю, встретив на берегу канала, где я прогуливался, хотя уже наступили сумерки и лицо его было скрыто огромным капюшоном, который он, как и положено людям этой профессии, накинул себе на голову. — Пусть поразят тебя все хвори и болячки, какие только есть на свете! — прогремел мощный голос, когда я, приветствуя дядю, назвал его по имени. — Неужто человек не может изменить свое обличье, неужто обман сразу же открывается? Знал бы ты, сколько я трудов положил, чтобы меня приняли за лекаря — и вот, пожалуйста: ты узнал меня даже в темноте! И принялся повествовать все так же громогласно, что шел сюда пешком, дабы не попасться в лапы соглядатаев, которые так и шныряют по Нилу. Но обратно ему все равно придется плыть, со вздохом заключил он, или же переодеться кем-то другим, потому что едва люди увидят бродячего лекаря, сейчас же обращаются за помощью, а он в искусстве врачевания не сведущ и сильно опасается, что немало народу между Ана и Абидосом оказались жертвами его невежества[487]. Он оглушительно захохотал и обнял меня, забыв напрочь о своей роли. Не давалось ему лицедейство, слишком он был искренен и не мог пересилить себя, так что мне даже пришлось укорить его за неосторожность, иначе он так бы и вошел в Абидос, обняв меня за плечи. Наконец съехались все, кого ждали. Настала ночь торжественной церемонии. Ворота храма заперли. Внутри остались лишь тридцать семь знатнейших граждан Египта, мой отец — верховный жрец Аменемхет; старик жрец, который сопровождал меня в святилище Исиды; моя нянька, старая Атуа, которая, согласно древнему обычаю, должна была подготовить меня к обряду помазания; еще пять или шесть жрецов, поклявшихся священной клятвой хранить тайну. Все они собрались во втором зале великого храма; меня же, облаченного в белые одеяние, оставили одного в галерее, на стенах которой выбиты имена семидесяти шести фараонов Древнего Египта, царствовавших до божественного Сети. Я спокойно сидел в темноте, и вот ко мне вошел мой отец Аменемхет с зажженной лампадой, низко склонился передо мной, взял за руку и повел в огромный зал. Среди его величественных колонн горело несколько светильников, они тускло освещали скульптуры и рельефы на стенах и длинный рад людей — знатнейших вельмож, царевичей — потомков боковых ветвей царского рода, верховных жрецов, сидящих в резных креслах и молча ждущих моего появления. Прямо против этих тридцати семи, спинкой к семи святилищам, был установлен трон, его окружали жрецы с штандартами и священными символами. Лишь только я вступил в торжественный сумрак величественного зала, все вельможи встали и в полном молчании склонились предо мной; отец подвел меня к ступенькам трона и шепотом приказал встать перед ним. Потом заговорил: — О, вы, собравшиеся здесь по моему зову, вельможи, верховные жрецы, потомки древних царских родов страны Кемет, знатнейшие граждане Верхнего и Нижнего Египта, внемлите мне! Перед вами — царевич Гармахис, по праву крови и рождения наследник фараонов нашей многострадальной родины, я привел его сюда к вам в суровой простоте, повинуясь обстоятельствам. Он — жрец, посвященный в сокровенные глубины таинств божественной Исиды, распорядитель мистерий, по праву рождения верховный жрец всех храмов при пирамидах близ Мемфиса, искушенный в знании священных ритуалов, совершаемых в честь расточителя всех благ Осириса. Есть ли у кого-нибудь из вас, присутствующих здесь, сомнения, что он истинный потомок фараонов по прямой линии? Отец умолк, и дядя Сепа, встав с кресла, ответствовал: — Нет, у нас нет сомнений, Аменемхет: мы тщательно проследили всю линию его предков и установили, что в его жилах действительно течет кровь наших фараонов, он их законный наследник. — Есть ли у кого-нибудь из вас, присутствующих здесь, сомнения, — продолжал мой отец, — что волею самих богов царевич Гармахис был перенесен в царство Осириса и предстал перед божественной Исидой, что он прошел искус и был посвящен в сан верховного жреца пирамид, что близ Мемфиса, и поминальных храмов при этих пирамидах? Тут поднялся жрец, который был со мной в святилище Великой Матери всего сущего той ночью, и произнес: — Нет, Аменемхет, у нас нет сомнений; я сам проводил его посвящение. И снова мой отец заговорил: — Есть ли среди вас, собравшихся здесь, кто-нибудь, кто может бросить обвинение царевичу Гармахису в неправедных деяниях или в нечистых помыслах, в коварстве или в лжи, и воспрепятствовать нам короновать его венцом владыки Верхнего и Нижнего Египта? Поднялся старец из Мемфиса, в чьих жилах тоже текла кровь фараонов, и изрек: — Мы знаем все о Гармахисе, в нем нет ни одного из этих пороков, о Аменемхет. — Что ж, быть по сему, — ответил мой отец, — мы коронуем его, раз царевич Гармахис, потомок Нектанеба, воссиявшего в Осирисе, достоин царской короны. Пусть приблизится к нам Атуа и поведает всем о том, что изрекла над колыбелью царевича Гармахиса моя жена в час своей смерти, когда ее устами вещала богиня Хатхор. Старая Атуа медленно выступила из тени колонн и с волнением пересказал все, что я уже описал. — Вот, вы все слышали, — сказал мой отец, — верите ли вы, что устами женщины, которая была моей женой, прорицала богиня? — Верим, о Аменемхет, — ответили собравшиеся. Потом поднялся мой дядя Сепа и заговорил, обращаясь ко мне: — Ты слышал все, о царственный Гармахис. Теперь ты знаешь, что мы собрались здесь, чтобы короновать тебя царем Верхнего и Нижнего Египта, ибо твой благородный отец Аменемхет отказался от своих прав на престол ради тебя. Увы, эта церемония совершится без пышности и великолепия, какие подобают столь великому событию, мы вынуждены провести ее в величайшей тайне, иначе всем нам придется заплатить за нее жизнью, но самое страшное — мы погубим дело, которое для нас дороже жизни, но все же, насколько это сейчас доступно, выполним все древние священные обряды. Узнай же, что мы задумали, и если, узнав, ты одобришь задуманное, тогда взойди на трон свой, о фараон, и принеси нам клятву! Сколько столетий жители Кемета стонут под пятой греческих завоевателей, сколько столетий содрогаются при виде копья римлян; сколько столетий наши древние боги страдают от кощунственного пренебрежения, сколько столетий мы влачим жалкое существование рабов. Но мы верим: час избавления близок, и именем многострадального Египта, именем его богов, которым ты, именно ты избран служить, мы все с мольбою взываем к тебе, о царевич: возьми меч и возглавь наших освободителей! Слушай же! Двадцать тысяч бесстрашных мужей, пламенно любящих Комет, принесли клятву верности нашему делу и ждут лишь твоего согласия; как только ты подашь сигнал, они поднимутся все, как один, и перебьют греков, а потом на их крови воздвигнут твой трон, и трон этот будет стоять на земле Кемет так же незыблемо, как наши извечные пирамиды, все легионы римлян не смогут поколебать его. А сигналом будет смерть этой наглой непотребной девки Клеопатры. Ты убьешь ее, Гармахис, выполняя приказ, который тебе будет передан, и ее кровью освятишь трон фараонов Египта. О наша надежда, неужели ты скажешь нам нет? Неужели твою душу не переполняет святая любовь к отечеству? Неужели ты швырнешь оземь поднесенную к твоим устам чашу с вином свободы и предпочтешь умирать от жажды, как обреченный на муки раб? Да, риск огромен, быть может, наш дерзкий заговор не удастся, и тогда и ты, и все мы заплатим за свою дерзость жизнью. Но стоит ли о том жалеть, Гармахис? Разве жизнь так уж прекрасна? Разве лелеет она нас и оберегает от падений и ударов? Разве горе и беды не перевешивают тысячекратно крупицу радости, что иногда блеснет нам? Разве здесь, на земле, мы вдыхаем то благоухание, которое разлито в воздухе потустороннего мира, и разве так уж страшно вовсе перестать дышать? Что у нас есть здесь, кроме надежд и воспоминаний? Что мы здесь видим? Одни только тени. Так почему чистый сердцем должен страшиться перехода туда, где нас ждет успокоение, где воспоминания тонут в событиях, их породивших, а тени растворяются в свете, который их очертил? Знай же, Гармахис: истинно велик лишь тот муж, кто увенчал свою жизнь блеском славы, не меркнущей в веках. Да, смерть дарит букеты маков всем детям земли, но счастлив тот, кому судьба позволила сплести себе из этих маков венок героя. И нет для человека смерти более прекрасной, чем смерть борца, освободившего свою отчизну — пусть она теперь выпрямится, расправит плечи, вскинет голову, и, гордая, свободная, могучая, как прежде, швырнет в лицо тиранам порванные цепи: теперь уж никогда ни один поработитель не выжжет на ее челе клеймо раба. Гармахис, Кемет призывает тебя. Откликнись на его зов, о избавитель! Кинься на врагов, как Гор на Сета, размечи их, освободи отечество и правь им — великий фараон на древнем троне… — Довольно, довольно! — вскричал я, и голос мой потонул в шуме рукоплесканий, прокатившемся гулким эхом среди могучих стен и колонн. — Неужели меня нужно просить, заклинать? Да будь у меня сто жизней, разве не счел бы я высочайшим счастьем отдать их все за наш Египет? — Достойный ответ! — произнес Сепа. — Теперь ты должен удалиться с этой женщиной, она омоет твои руки, дабы ты мог принять священные символы власти, и оботрет благовониями твой лоб, на который мы наденем венец фараона. Я пошел со старой Атуа в один из храмовых покоев. Там, шепча молитвы, она взяла золотой кувшин и омыла мои руки чистейшей водой над золотой чашей, потом смочила кусок тончайшей ткани в благовонном масле и приложила к моему лбу. — Ликуй, Египет! Ликуй, счастливейший царевич, ты будешь нашим властелином! — восторженно восклицала она. — О царственный красавец! Ты слишком царственен и слишком красив, тебе нельзя быть жрецом, все хорошенькие женщины это скажут; но, надеюсь, ради тебя смягчат суровые законы, предписывающие жрецам воздержание, иначе род фараонов заглохнет, а этого допустить нельзя. Какое счастье послали мне боги, ведь я вынянчила, вырастила тебя, я отдала ради твоего спасения жизнь собственного внука! О царственный, блистательный Гармахис, ты рожден для славы, для счастья, для любви! — Перестань, Атуа, — с досадой прервал я ее, — не называй меня счастливейшим, ведь мое будущее тебе неведомо, и не сули мне любви, любовь неотделима от печали, знай: мне суждено иное, более высокое предназначение. — Можешь говорить, что хочешь, но радостей любви тебе не миновать, да, да, поверь мне! И не отмахивайся от любви с таким высокомерием, ведь благодаря ей ты и появился на свет. Знаешь пословицу, которую любят повторять в Александрии? «Летит гусь — смеется над крокодилом, а опустился на воду и заснул — тут уж хохочет крокодил». Вот так-то. А женщины почище крокодилов будут. Крокодилам поклоняются в Атрибисе — его сейчас называют Крокодилополь, — но женщинам, мой мальчик, поклоняются во всем мире! Ой, я все болтаю и болтаю, а тебя ждут короновать на царство. Разве я тебе это не предсказывала? Ну вот, владыка Верхнего и Нижнего Египта, ты готов. Ступай же! Я вышел из покоя, но глупые слова старухи засели в голове, и если говорить правду, не так уж она была глупа, хоть и болтлива — не остановишь. Когда я вступил в зал, вельможи снова встали и склонились передо мной. Тотчас же ко мне приблизился отец, вложил мне в руки золотое изображение богини Истины Маат, золотые венцы бога Амона-Ра и его супруги Мут, символ божественного Хонса и торжественно вопросил: — Клянешься ли ты величием животворящей Маат, могуществом Амона-Ра, Мут и Хонса? — Клянусь, — ответил я. — Клянешься ли священной землей Кемет, разливами Сихора, храмами наших богов и вечными пирамидами? — Клянусь. — Клянешься ли, помня о страшной судьбе, которая тебя ожидает, если ты не выполнишь свой долг, — клянешься ли править Египтом в согласии с его древними законами, клянешься ли чтить его истинных богов, быть справедливым со всеми и во всем, не угнетать свою страну и свой народ, не предавать, не вступать в сговор с римлянами и греками, клянешься ли низвергнуть всех чужеземных идолов и посвятить жизнь процветанию свободного Кемета? — Клянусь. — Хорошо. Теперь взойди на трон, и я в присутствии твоих подданных провозглашу тебя фараоном Египта. Я опустился на трон, осененный распростертыми крыльями богини Маат, и поставил ноги на скамеечку в виде мраморного сфинкса. Аменемхет снова приблизился ко мне и надел на голову полосатый клафт, а поверх него пшент — двойную корону, накинул на плечи царское облачение и вложил в руки скипетр и плеть. — Богоподобный Гармахис! — воскликнул он. — Этими эмблемами и символами я, верховный жрец абидосского храма Ра-Мен-Маат, венчаю тебя на царство. Отныне ты — фараон Верхнего и Нижнего Египта. Царствуй и процветай, о надежда Кемета! — Царствуй и процветай, о фараон! — эхом отозвались вельможи, низко склоняясь передо мной. Потом все они, сколько их было, стали один за другим приносить мне клятву верности. Когда прозвучала последняя клятва, отец взял меня за руку, и во главе торжественной процессии мы обошли все семь святилищ храма Ра-Мен-Маат, и в каждом я клал приношения на алтарь, кадил благовониями и служил литургию, как подобает жрецу. В своем парадном царском одеянии я совершил приношения в святилище Гора, в Святилище Исиды, Осириса, Амона-Ра, Хор-эм-ахета, Птаха, и наконец мы вступили в святилище, что расположено в покоях фараона. Там все совершили приношение мне, своему божественному фараону, и ушли, оставив меня одного. Я был без сил от усталости — венчанный на царство владыка Египта. (На этом первый, самый маленький свиток папируса кончается.)
Часть II. ПАДЕНИЕ ГАРМАХИСА
Глава 8
Повествующая о прощании Аменемхета с Гармахисом; о прибытии Гармахиса в Александрию; о предостережении Сепа; о процессии, в которой Клеопатра проехала по улицам города в одеждах Исиды, и о победе Гармахиса над знаменитым гладиатором.Итак, долгая пора искуса миновала, приспело время действовать. Я прошел все ступени посвящения, был коронован на царство, и хотя простой народ меня не знал, а для жителей Абидоса я был всего лишь жрец Исиды, тысячи египтян в сердце своем чтили меня как фараона. Да, время свершений приближалось, меня сжигало нетерпение. Скорее бы свергнуть чужеземную самозванку, освободить Египет, взойти на трон, который принадлежит мне по праву, скорее бы очистить от скверны храмы моих богов. Меня переполняла жажда борьбы, и я ни на минуту не сомневался в своем торжестве. Я смотрел на себя в зеркало и видел, что это чело — чело триумфатора. Будущее простиралось передо мной широкой дорогой славы, сверкающей, как Сихор на солнце. Я мысленно беседовал с моей божественной матерью Исидой; я подолгу сидел в моих покоях, я мысленно возводил новые грандиозные храмы; обдумывал великие законы, которые принесут моему народу благоденствие; и в ушах моих звучали восторженные клики благодарной толпы, приветствующей фараона-победителя, завоевавшего древний трон своей династии, мне было велено, пока мои черные, как вороново крыло, волосы, которые мне сбрили, вновь отрастут до нужной длины, а чтобы время не проходило впустую, совершенствовался во всех упражнениях, которые развивают у мужчины силу и ловкость, а также в искусстве владения разными видами оружия. Кроме того, я углублял свои познания древних тайн египетского волхвования — для какой цели, станет ясно позднее, — и старался постичь последние тонкости астрологии, хотя и без того был достаточно сведущ в этих науках. Вот какой мы наметили план. Мой дядя Сепа оставил на время храм в Ана, сославшись на нездоровье, и переехал в Александрию, где он купил дом, в надежде, как он объяснил всем, что ему поможет морской воздух, а чудеса знаменитого на весь мир Мусейона и блеск двора Клеопатры отвлекут от печальных мыслей. Туда-то я к нему и приеду, потому что в Александрии было самое сердце заговора. И когда наконец дядя Сепа прислал весть, что все готово к моему приезду, я быстро собрался и, прежде чем отправиться в путешествие, пошел к отцу принять его благословение. Он сидел в своих покоях за столом, в той же позе, что и в тот вечер, когда я убил льва и он укорял меня за легкомыслие, его длинная седая борода лежала на мраморной столешнице, в руках он держал свитки со священными текстами. Увидев меня, он встал, воскликнул: «Приветствую тебя, о фараон!» — и хотел опуститься на колени, но я удержал его за руку. — Не подобает тебе, отец, преклонять передо мной колена, — сказал я. — Нет, подобает, — возразил он, — я должен отдавать почести моему повелителю, но если ты не хочешь, я исполню твою волю. Итак, Гармахис, ты уезжаешь. Да пребудет с тобою мое благословение, сын мой. Пусть те, кому я служу, даруют моим старым глазам счастье увидеть тебя на троне. Я много трудов потратил, пытаясь прочесть грядущее, узнать, что тебя ждет, но вся моя мудрость не помогла мне проникнуть сквозь завесу тайны. Предначертания ускользают от меня, и порой я погружаюсь в отчаяние. Но ты должен знать, что на твоем пути тебя подстерегает опасность, и эта опасность — женщина. Мне это открылось давно, и потому ты был призван служить всеблагой владычице Исиде, которая отвращает помыслы своих жрецов от женщин до тех пор, пока ей не будет угодно снять запрет. Ах, сын мой, зачем ты так красив, так великолепно сложен и могуч, в Египте нет равных тебе, да, ты поистине царь, твоя сила и красота как раз и могут завлечь тебя в западню. Поэтому держись подальше от александрийских обольстительниц, — кто-то из них может вползти в твое сердце, как змея, и выведать твою тайну. — Ты зря тревожишься, отец, — ответил я с досадой, — алые губки и томные взгляды меня не занимают, главное для меня — выполнить мой долг. — Достойный ответ, — сказал он, — да будет так и впредь. А теперь прощай. Да сбудется мое желание и да увижу я тебя в нашу следующую встречу на троне, в тот радостный день, когда я, вместе со всеми жрецами Верхней Земли, приеду поклониться нашему законному фараону. Я обнял его и пошел прочь. Увы, если бы я знал, какую встречу нам уготовала судьба! И вот я снова плыву вниз по Нилу — путешественник с весьма скромными средствами. Любопытствующим попутчикам я объяснял, что я — приемный сын верховного жреца из Абидоса, готовился принять жреческий сан, но понял, что служение богам меня не привлекает, и вот решил попытать счастья в Александрии, — благо все, за исключением немногих посвященных, считали меня внуком старой Атуа. Ветер дул попутный, и на десятый день вечером впереди показалась величественная Александрия — город тысячи огней. Над огнями возвышался беломраморный маяк Фароса, это величайшее чудо света, и на его верху сиял такой яркий свет, что казалось, это солнце заливает порт и указывает путь кормчим далеко в море. Наше судно осторожно причалило к берегу, ибо было темно, я сошел на набережную и остановился, пораженный зрелищем огромных зданий и оглушенный гомоном многоязыкой толпы. Казалось, здесь собрались представители всех народов мира и каждый громко говорит на своем языке. Так я стоял в полной растерянности, но тут ко мне подошел какой-то юноша, тронул за плечо и спросил, не из Абидоса ли я приплыл и не Гармахис ли мое имя. Я ответил — да, и тогда он, приблизив губы к моему уху, тихо прошептал тайный пароль, потом подозвал взмахом руки двух рабов и приказал им снести с барки на берег мои вещи. Они повиновались, пробившись сквозь толпу носильщиков, настойчиво предлагавших свои услуги. Я двинулся за юношей по набережной, сплошь застроенной винными лавками, и во всех было много мужчин самого разного обличья, они пили вино и смотрели на танцующих женщин — едва прикрытых чем-то прозрачным или вовсе раздетых. Но вот набережная с освещенными лавками кончилась, мы повернули направо и пошли по широкой вымощенной гранитом улице, между большими каменными домами с крытой аркадой вдоль фасада — я таких никогда не видел. Свернув еще раз направо, мы оказались в более тихом квартале, где улицы были почти пустынны, лишь изредка встречались компании подгулявших бражников. Наконец мой провожатый остановился возле дома из белого камня. Мы вошли в ворота, пересекли дворик и вступили в освещенное светильником помещение. Навстречу мне бросился дядя Сепа, радуясь моему благополучному прибытию. Когда я вымылся и поел, он рассказал мне, что дела пока идут хорошо и при дворе никто о заговоре не подозревает. Далее я узнал, что дядя был во дворце у Клеопатры, — царице сообщили, что в Александрии живет верховный жрец из Ана, и она тотчас же послала за ним и долго расспрашивала — вовсе не о наших замыслах, ей и в голову не приходило, что кто-то может покуситься на ее власть, просто до нее дошли слухи, будто в Великой пирамиде близ Ана спрятаны сокровища. Она ведь безмерно расточительна, ей вечно нужны деньги, деньги, деньги, и вот сейчас она задумала ограбить пирамиду. Но дядя Сепа посмеялся над ней, он сказал, что пирамида — место упокоения божественного Хуфу, что же касается ее тайн, то дяде Сепа ничего о них не известно. Услышав эти слова, Клеопатра разгневалась и поклялась своим троном, что прикажет разобрать пирамиду камень за камнем и найдет скрытые в ней сокровища. Он опять рассмеялся и ответил пословицей, которую часто повторяют жители Александрии: «Царь живет несколько десятков лет, а горы — вечно». Она улыбнулась, ибо ей понравилась его находчивость, и мирно с ним простилась. Потом дядя Сепа сказал, что утром я увижу эту самую Клеопатру. Ведь завтра — день ее рождения (кстати, и мой тоже), и она, облачившись в наряд богини Исиды, торжественно проследует от своего дворца на мысе Лохиас к Серапеуму, дабы принести в его святилище жертву лжебогу, которому посвящен храм. Посмотрим процессию, а потом будем искать способ, как мне проникнуть во дворец царицы и приблизиться к ней. Я едва держался на ногах от усталости, и меня уложили спать, но непривычная обстановка, шум на улице, мысли о завтрашнем дне гнали сон. Лишь небо начало сереть, я оделся, поднялся по лестнице на крышу и стал ждать рассвета. Наконец из-за горизонта брызнули солнечные лучи и осветили беломраморное чудо — фаросский маяк, и в тот же самый миг огонь его померк и стал невидим, точно солнце его погасило. Потом свет подкрался к дворцам на мысе Лохиас, где почивала Клеопатра, и затопил их — они засверкали, точно драгоценности, украшающие темную, прохладную грудь моря. Дальше полился свет, нежно поцеловал купол мавзолея, где покоится великий Александр, озарил башни и крыши множества дворцов и храмов, хлынул в колоннады знаменитого Мусейона, который возвышался совсем недалеко от нашей улицы, окатил волной величественное здание святилища, где хранится вырезанное из слоновой кости изображение лжебога Сераписа, и наконец, словно истощив себя, уполз в огромный мрачный Некрополь. День разгорался, гоня последние тени ночи и заполняя все улицы, улочки и переулки Александрии — в этот утренний час она казалась алой, как царская мантия, да и раскинулась по-царски пышно и торжественно. С севера подул ветер, унес с моря туман, и я увидел голубую воду гавани и качающиеся на ней тысячи судов. Увидел гигантский мол Гептастадиум, лабиринт улиц, бесчисленное множество домов — роскошную, великолепную Александрию, эту царицу, как бы восседающую на троне среди своих владений — океана и озера Мариотис, — и грудь мне стеснил восторг. Этот город, вместе с другими городами и странами, принадлежит мне! Что ж, за него стоит бороться! Вдосталь налюбовавшись этим сказочным великолепием, я помолился благодетельной Исиде и сошел с крыши. В комнате внизу был дядя Сепа. Я рассказал ему, что смотрел, как над Александрией поднималось солнце. — Вот как! — бросил он и пристально поглядел на меня из-под своих косматых бровей. — Ну и что, понравилась тебе Александрия? — Понравилась ли? Да я подумал, что здесь, в этом городе как раз и живут боги! — Вот именно! — гневно воскликнул он. — Ты угадал — здесь живут боги, но это все боги зла! Говоришь, город! Нет, это вертеп, где все погрязли в распутстве, зловонная постыдная язва, рассадник ложной веры, рожденной извращением ума! О, как я жажду, чтобы от нее не осталось камня на камне, чтобы все ее богатства были погребены в пучине вод! Пусть чайки с криками носятся над тем проклятым местом, где она некогда стояла, пусть ветер, чистый, не отравленный тлетворным дыханием греков, свободно веет над ее руинами на всем пространстве между океаном и озером Мариотис! О царственный Гармахис, не допусти, чтоб роскошь и красота Александрии совращали твою душу, яд, который они источают, губит истинную веру, не дает древней религии расправить свои божественные крылья. Когда настанет срок и ты будешь править страной, разрушь этот проклятый город, Гармахис, и утверди свой трон там, где он стоял при твоих предках — среди белых стен Мемфиса. Запомни навсегда: Александрия — роскошные ворота, в которые входит погибель Египта. Пока они стоят, они открыты для всего мира — врывайся кто хочешь и грабь нашу страну, насаждай любую ложную веру, топчи египетских богов. Что я мог ему ответить? Он был прав. И все же, и все же город казался мне дивно прекрасным! Мы позавтракали, и дядя сказал, что пора идти смотреть, как Клеопатра с торжественной процессией прошествует к храму Сераписа. Выход состоится еще не скоро, часов в десять, бездельники александрийцы так падки на зрелища, что если мы не поспешим, то нам нипочем не пробиться сквозь плотные толпы зевак, которыеуже собираются на улицах по пути следования царицы. И мы отправились, чтобы занять места на деревянном помосте, который сколотили вдоль широченной улицы, прорезающей весь город до самых Канопских ворот. Дядя заранее позаботился купить для нас там места и заплатил за них недешево. Народ уже запрудил улицы, и нам пришлось основательно поработать локтями, продираясь к деревянному помосту, защищенному полотняной крышей и задрапированному ярко-красными тканями. Мы уселись на скамью и стали ждать, разглядывая многотысячную роящуюся толпу, которая галдела, пела и громко разговаривала на разных языках. Прошло несколько часов. Наконец появились солдаты, одетые на манер римских легионеров в кольчугу, и стали расчищать путь. За ними выступили глашатаи, и, призвав народ к тишине (в ответ толпа лишь пуще зашумела, а те, кто пел, и вовсе оглушили нас), возвестили, что грядет царица Клеопатра. Потом по улице торжественным маршем прошла тысяча сицилийских стрелков, за ней тысяча фракийцев, тысяча македонцев, тысяча галлов, все в боевых доспехах, какие носят воины их стран, и соответственно вооружение. За ними выступали пятьсот всадников — те самые, которых называют неуязвимыми, потому что кольчугой сплошь покрыты не только люди, но и лошади. Неуязвимых сменили юноши и девушки в роскошных развевающихся одеждах, в золотых венцах — они изображали день, утро, вечер, ночь, землю и небо. Дальше следовало множество красавиц, они лили на землю благовония и усыпали ее пышно распустившимися цветами. Вдруг по толпе прокатился крик: «Клеопатра! Клеопатра!», у меня перехватило дыхание, и я устремился вперед, чтобы увидеть ту, которая посмела надеть на себя наряд Исиды. Толпа заколыхалась, люди напирали друг на друга в густой плотной массе и совершенно загородили от меня улицу. Этого я уже не мог вынести, я перескочил через ограду помоста и пробился сквозь толпу в самый первый ряд — при моей силе и ловкости мне это ничего не стоило. И тут я увидел, что по улице бегут рабы-нубийцы в венках из плюща и увесистыми дубинками теснят народ ближе к домам. Один из них мне сразу бросился в глаза: гигант могучего сложения, нагло кичащийся своей силой, он без разбору наносил удары направо и налево, — истинный хам, которому вдруг дали власть. Рядом с мной стояла женщина с ребенком на руках, судя по внешности — египтянка, и нубиец, увидев, что она слаба и беззащитна, стукнул ее дубинкой по голове, и она молча рухнула на землю. Народ зароптал. А я — кровь так и вскипела во мне, гнев ослепил разум. В руке у меня был жезл из кипрского оливкового дерева, и когда черное чудовище захохотало над женщиной, которая корчилась на земле от боли, и над ее плачущим ребенком я размахнулся и обрушил жезл не его спину. Я вложил в удар всю свою ярость, и крепкое дерево сломалось, из раны на плече гиганта брызнула кровь, листья плюща сразу стали красными. Взревев от бешенства и боли — еще бы, ведь мучители не выносят мук, — он метнулся ко мне. Народ раздался, только женщина осталась лежать, и вокруг нас образовалось небольшое свободное пространство. Нубиец зверем кинулся на меня, но я вонзил ему кулак в переносицу — другого оружия у меня не было, — и он зашатался, точно жертвенный бык, которому жрец нанес первый удар топором. Толпа разразилась одобрительными криками, она ведь любит глазеть на драки, а нубиец был знаменитый гладиатор, он всегда всех побеждал. Негодяй собрал все свои силы и начал наступать, изрыгая проклятья и вертя над головой дубинку, потом изловчился и обрушил ее на меня с таким остервенением, что, не отскочи я в сторону с кошачьим проворством, он размозжил бы мне череп. Но вся сила удара пришлась по земле, дубинка разлетелась в щепы. Толпа разразилась криками, а великан снова ринулся на меня, он обезумел от жажды крови и ничего не соображал, ему надо было как можно скорее прикончить, убить, растерзать врага. Но я с воплем схватил его за горло — он был так могуч, настолько превосходил меня силой, что только так я мог попытаться его одолеть, — схватил и сжал мертвой хваткой. Он молотил меня своими огромными кулачищами, а я все упорнее стискивал и стискивал ему горло, вдавливая большие пальцы в кадык. Он кружил по площадке, потом упал на землю, надеясь хоть так оторвать меня от себя. Мы принялись кататься, но я не ослаблял хватки, и наконец он захрипел, задыхаясь, и потерял сознание. Он лежал внизу, подо мной, а я уперся коленом ему в грудь и готовился прикончить его, но дядя и еще несколько человек оторвали меня от нубийца и оттащили прочь. И, конечно же, я не заметил, что к нам тем временем приблизилась колесница с царицей, впереди которой шагали слоны, а сзади вели львов, и что суматоха, вызванная дракой, вынудила процессию остановиться. Я поднял голову и, разгоряченный дракой, с трудом переводя дух, весь в крови, ибо кровь, которая лилась из носа и изо рта великана нубийца, запятнала мои белые одежды, в первый раз увидел живую Клеопатру. Колесница царицы была из чистого золота, ее влекли молочно-белые жеребцы. Возле Клеопатры в колеснице стояли две очень красивые девушки в греческих платьях, одна справа, другая слева, и овевали ее сверкающими опахалами. Ее голову венчал убор Исиды — золотые изогнутые рога и между ними крупный диск полной луны с троном Осириса, дважды обвитый уреем. Это сооружение держалось на золотой шапочке в виде сокола с крыльями синей эмали, глаза сокола были из драгоценных камней, а из-под шапочки лились ее черные длинные, до пят, волосы. На плечах вокруг стройной нежной шеи лежало широкое золотое ожерелье с изумрудами и кораллами. На запястьях и выше локтей — золотые браслеты, тоже с изумрудами и кораллами, в одной руке священный ключ жизни тау, выточенный из горного хрусталя, в другой — золотой царский жезл. Торс под обнаженной грудью обтянут сверкающей, как чешуя змеи, тканью, сплошь расшитой драгоценными камнями. Под этим сверкающим одеянием была сотканная из золотых нитей юбка с драпировкой из прозрачного вышитого шелка с острова Кос, она пышными складками падала к ее маленьким белым ножкам в сандалиях с застежками из огромных жемчужин. Мне было довольно одного-единственного взгляда, чтобы все это разглядеть. Потом я посмотрел на ее лицо — лицо, которое пленило Цезаря, погубило Египет и в будущем должно было сделать Октавиана властелином мира — посмотрел и увидел безупречно прекрасную гречанку: округлый подбородок, пухлые изогнутые губы, точеные ноздри, тонкие, как раковина, совершенной формы уши; широкий низкий лоб, гладкий, как мрамор, темные кудрявые волосы, падающие тяжелыми волнами и блестящие на солнце; плавные дуги бровей, длинные загнутые ресницы. Она явилась мне в апофеозе своей царственной красоты и величия. Сияли ее изумительные глаза, лиловые, как кипрские фиалки, — глаза, в которых, казалось, спит ночь со всеми ее тайнами, непостижимыми, как пустыня, но и живые, как ночь, которая то темнее, то светлее, то вдруг озаряется вспышками света, рожденного в звездной пропасти неба. Да, я увидел это чудо, хотя и не умею описать его. И сразу же, тогда еще, я понял, что могущество чар этой женщины заключается не только в ее несравненной красоте. Покоряет то ликование, тот свет, которые переполняют ее необузданную, страстную душу и прорываются к нам сквозь телесную оболочку. Ибо эта женщина — порыв и пламя, подобной ей никогда в мире не было и не будет. Огонь ее пылкого сердца озарял ее, даже когда она погружалась в задумчивость. Но стоило ей стряхнуть печаль, и глаза ее вспыхивали, точно два солнца, голос журчал нежной вкрадчивой музыкой — есть ли на свете человек, способный рассказать, какой бывала Клеопатра в такие минуты? Ей было даровано непобедимое обаяние, которым так влечет нас женщина, ей был дарован глубочайший ум, за который мужчина так долго сражался с небом. И с этим обаянием, с этим умом уживалось зло, то поистине демоническое зло, которое не ведает страха и, глумясь над людскими законами, захватывает ради забавы империи и с улыбкой смотрит, как льются ей в угоду реки крови. И все это сплелось в ее душе, создав ту Клеопатру, покорить которую не может ни один мужчина, и ни один мужчина не может позабыть, если хоть раз ее увидел, величественную, как гроза, ослепительную, как молния, беспощадную, как чума, и все же с сердцем женщины. Все знают, что она совершила. Горе миру, когда на него еще раз падет такое же проклятье! Клеопатра равнодушно повернула голову взглянуть, почему волнуется толпа, и на миг наши глаза встретились. Ее глаза были темные и как бы обращены в себя, словно она и видит, что происходит, но все это скользит мимо сознания. Потом глаза вдруг ожили, и даже цвет их изменился, как меняется цвет моря, когда налетит ветер. Сначала в них мелькнул гнев, потом рассеянный интерес; когда же она увидела распростертое на земле тело гиганта нубийца, которого я готовился убить, и узнала в нем того самого непобедимого гладиатора, в глазах появилось что-то весьма похожее на удивление. И, наконец, они смягчились, хотя выражение ее лица ничуть не изменилось. Но тому, кто хотел прочесть мысли Клеопатры, нужно было смотреть ей в глаза, потому что в лице было мало игры. Обернувшись, она что-то сказала своим телохранителям. Они выступили вперед и подвели меня к ней. Народ в мертвом молчании ждал, что вот сейчас меня казнят. Я стоял перед ней, скрестив на груди руки. Да, я был ошеломлен ее ослепительной красотой, но в моем сердце кипела ненависть к ней, этой смертной женщине, посмевшей надеть на себя наряд Исиды, к этой самозванке, отнявшей у меня трон, к этой блуднице, расточающей богатства Египта на золотые колесницы и благовония. Она оглядела меня с ног до головы и спросила своим звучным грудным голосом на языке Кемета, которым она великолепно владела, единственная из всех Лагидов: — Кто ты такой, египтянин, — а ты египтянин, я вижу, — кто ты такой, что осмелился избить моего раба, который расчищал мне путь по улицам моего города? — Кто я? Меня зовут Гармахис, — смело ответил я. — Я астролог, приемный сын верховного жреца храма Сети и правителя Абидоса, приехал сюда в поисках судьбы. А раба твоего я избил, о царица, потому что он ударил дубинкой эту женщину, без всякой вины с ее стороны. Спроси народ, лгу я или говорю правду. — Гармахис… — произнесла она задумчиво. — У тебя благородное имя и внешность и манеры аристократа. Потом обратилась к стражу, который видел, что произошло, и велела ему все рассказать. Он не погрешил против правды, ибо почувствовал ко мне расположение, когда я одолел в драке нубийца. Выслушав стража, Клеопатра что-то сказала девушке с опахалом, которая стояла возле нее, — девушка была очень красивая, с роскошными кудрявыми волосами и темными застенчивыми глазами. Девушка прошептала какие-то слова в ответ. Тогда Клеопатра приказала подвести к себе раба; стражи подняли нубийца, к которому вернулось сознание, и подвели к ней вместе с женщиной, которую он сбил дубинкой на землю. — Собака, трус! — бросила она все тем же звучным грудным голосом. — Ты кичишься своей силой и потому ударил слабую женщину, но этот юноша оказался сильнее, и ты сдался, презренный. Ну что ж, сейчас ты получишь хороший урок. Отныне если тебе вздумается ударить женщину, ты сможешь бить ее только левой рукой. Эй, стражи, отрубить этой черной твари правую руку. Отдав этот приказ, она откинулась на сиденье своей колесницы, и ее глаза словно бы опять погрузились в сон. Гигант вопил и молил о пощаде, но стражи схватили его и отрубили мечом руку на полу нашей трибуны, а потом унесли прочь под его громкие стоны. Процессия двинулась дальше. Когда колесница миновала нас, красавица с опахалом обернулась, поймала мой взгляд и с улыбкой кивнула, словно чему-то радуясь, чем меня немало озадачила. Народ вокруг тоже весело шумел, все поздравляли меня, шутили, что теперь меня пригласят во дворец и я стану придворным астрологом. Но мы с дядей при первой же возможности постарались ускользнуть и двинулись домой. Всю дорогу он возмущался моим безрассудством, но дома обнял меня и признался, как он счастлив и как гордится мной, что я так легко победил этого силача нубийца и не навлек на себя беды.
Глава 9
Повествующая о приходе Хармианы и о гневе Сепа.Вечером того же дня, когда мы ужинали, в дом постучали. Дверь открыли, и в комнату вошла женщина, с ног до головы закутанная в темное покрывало, даже лица ее не было видно. Дядя встал, и женщина тотчас же произнесла пароль. — Я все-таки пришла, отец мой, — заговорила она нежным, мелодичным голосом, — хотя, признаюсь, очень нелегко сбежать с празднества, когда во дворце такое торжество. Но я убедила царицу, что от жары и уличного шума у меня разболелась голова, и она позволила мне уйти. — Что ж, хорошо, — ответил он. — Сбрось покрывало, здесь ты в безопасности. С легким усталым вздохом она расстегнула застежку, выскользнула из покрывала, и я увидел ту очаровательную девушку, что стояла в колеснице возле Клеопатры и овевала ее опахалом. Да, она была удивительно хороша, а пеплум так изысканно обрисовывал ее хрупкое, стройное тело и юную маленькую грудь. Из-под золотого обруча падал каскад локонов, в которые свились ее буйные кудри, пряжки на сандалиях тоже были из золота. Ее щеки с ямочками алели, как раскрывшийся лотос, темные бархатные глаза были потуплены словно бы в смущении, но на губах порхала легкая улыбка, готовая ослепительно вспыхнуть. Увидев ее наряд, дядя нахмурился. — Почему ты пришла сюда в греческом платье, Хармиана? — сурово спросил он. — Разве одежда, которую носила твоя мать, недостаточно хороша для тебя? Забудь о женском кокетстве, не то сейчас время. Ты пришла сюда не покорять сердца мужчин, а выполнять повеления. — Ах, отец мой, зачем ты гневаешься на меня, — вкрадчиво заворковала она, — разве ты не знаешь, что та, которой я служу, не позволяет носить при дворе нашу, египетскую одежду, мы должны одеваться модно. Если бы я ее надела, то вызвала бы подозрения, и к тому же я очень спешила, — говорила она, а сама то и дело тайком бросала на меня взгляды из-под длинных, мохнатых, скромно опущенных ресниц. — Да, да, все так, — отрывисто проговорил он, впиваясь в ее лицо своим пронзительным взглядом, — конечно, Хармиана, ты права. Каждую минуту своей жизни ты должна помнить клятву, которую дала, и дело, которому себя посвятила. Я требую: забудь обо всем суетном, забудь о красоте, которой тебя прокляла судьба. Но никогда не забывай о мести, которая тебя постигнет, если ты хоть в самой малой малости предашь нас, — о мести людей и богов! Не забывай о той великой роли, которую ты рождена сыграть, — его могучий голос гремел в маленькой комнате, оглушая нас, потому что он все больше и больше распалялся в своем гневе, — не забывай, как важна цель, ради которой тебя научили всему, что ты знаешь, и поместили туда, где ты находишься, чтобы заслужить доверие распутницы, которой, как все считают, ты служишь. Не забывай ни на единый миг! Не допусти, чтоб роскошь царского двора соблазнила тебя, Хармиана, чтобы она замутила чистоту твоей души и увела от твоего предназначения. — Его глаза сверкали, маленький и тщедушный, он вдруг словно вырос, стал величественным, я даже почувствовал благоговейный трепет. — Я признаюсь тебе, Хармиана, — продолжал он, подходя к девушке и грозно уставляя в нее перст, — я признаюсь, что порой сомневаюсь в тебе. Два дня назад мне приснился сон: ты стояла среди пустыни, воздев руки к небу, и смеялась, а с неба лился кровавый дождь; потом небо опустилось на страну Кемет и закрыло его, точно саван. Почему мне привиделся этот сон, дочь моя, и что он означает? Пока что ты не совершила ничего дурного, но берегись: если я что-то узнаю, я забуду, что ты моя племянница и что я люблю тебя — ты в тот же миг умрешь, и это пленительное лицо, это прекрасное тело, которыми ты так тщеславишься, расклюют стервятники, растерзают шакалы, а душу твою боги подвергнут самым страшным пыткам! Ты останешься лежать поверх земли непогребённой, и твоя осуждённая загробными судьями душа никогда не воссоединится с телом, но будет вечно скитаться в Аменти! Запомни — вечно! Он умолк, его неожиданно вспыхнувший гнев иссяк. Но эта вспышка яснее всех его слов и поступков доказала мне, какие глубокие страсти таятся в сердце этого казалось бы добродушного шутника, и с какой фанатичной одержимостью стремится он к своей цели. А девушка — она в ужасе отпрянула от него и, закрыв свое прелестное лицо руками, разрыдалась. — Не говори так, отец мой, пощади меня! — молила она, задыхаясь от слез. — Чем я провинилась? Тебе снятся дурные сны, но разве это я посылаю их тебе? И я не прорицательница, я не умею их толковать. Я свято выполняю все твои повеления. Разве я хоть на миг забыла эту страшную клятву? — Она содрогнулась. — Разве не играю роль соглядатая при дворе и не сообщаю тебе обо всем до последней мелочи? Разве я не завоевала расположение царицы, которая любит меня как сестру и ни в чем не отказывает? Мало того, разве я не стала любимицей всех, кто ее окружает? Зачем же ты меня пугаешь и грозишь такими карами? — И она снова зарыдала еще более прекрасная в слезах, чем была с улыбкой. — Ну довольно, довольно, — отрезал он, — я знаю, что я делаю, и не зря предупредил тебя. Впредь никогда не оскорбляй наших глаз зрелищем этого платья, пригодного лишь для развратницы. Думаешь, мы будем любоваться твоими точеными руками — мы, решившие вернуть себе Египет и посвятившие себя служению его истинным богам? Хармиана, перед тобой твой двоюродный брат и твой царь! Она перестала плакать, вытерла глаза полой хитона, и я увидел, что от слез они стали еще нежнее. — Мне кажется, о царственный Гармахис и мой любимый брат, — сказала она, склоняясь предо мной, — мне кажется, мы уже видели друг друга. — Да, видели, сестра, — ответил я, заливаясь краской смущения, ибо никогда еще мне не доводилось беседовать с такой красивой девушкой, — ведь это ты была сегодня в колеснице Клеопатры, когда я дрался с нубийцем? — Конечно, — подтвердила она, улыбнувшись, и глаза ее сверкнули, — это был великолепный поединок, только очень сильный и отважный борец мог победить этого черного негодяя. Я видела, как вы схватились, и, хотя еще не знала, кто ты, у меня сердце замерло от страха за человека столь мужественного. Но я сквиталась с ним за этот страх — ведь это по моему совету Клеопатра приказала стражам отрубить ему руку. Знай я, что это ты, ему бы отрубили голову. — Она бросила на меня быстрый взгляд и снова улыбнулась. — Хватит болтать, — прервал ее дядя Сепа, — время дорого. Расскажи, Хармиана, все, что должна рассказать, и возвращайся во дворец. Выражение ее лица тотчас же изменилось, она смиренно сложила руки перед собой и заговорила совсем другим тоном: — Молю фараона выслушать свою служанку. Я — дочь твоего дяди, о фараон, покойного брата твоего отца, и потому в моих жилах тоже течет царская кровь. Я тоже чту древних богов Египта и ненавижу греков; видеть тебя на троне — моя заветная мечта, я лелею ее уже много лет. И ради того, чтобы она исполнилась, я Хармиана, забыв о своем высоком происхождении, поступила в услужение к Клеопатре, ибо нужно было выстроить ступеньку, на которую ты ступишь, когда придет твой час взойти на трон. И эта ступенька выстроена, о царь. Выслушай же, мой царственный брат, что мы задумали. Ты должен стать вхожим во дворец, проникнуть во все тайны и хитросплетения интриг, которые плетутся там, и если будет нужно, подкупить евнухов и начальников стражи — некоторых я уже склонила на свою сторону. Когда наши люди будут готовы, ты убьешь Клеопатру и, воспользовавшись всеобщим смятением, побежишь к воротам, а я и те, кто будет мне помогать, прикроем тебя и задержим преследователей; ты откроешь ворота и впустишь наших людей, которые уже будут ждать, вы перебьете солдат, которые откажутся перейти на нашу сторону, и захватите Бруцеум. Самое большее через два дня эта ветреница Александрия будет в твоих руках. В то же самое время все, кто поклялся тебе в верности, поднимутся по всему Египту с оружием в руках против римлян, и через десять дней после смерти Клеопатры ты действительно станешь фараоном. Мы все обсудили до самых ничтожных мелочей, и, хотя твой дядя подозревает меня во всех мыслимых грехах, ты видишь сам, мой царственный брат, что я неплохо выучила свою роль, — не только выучила, но и сыграла. — Да, сестра, вижу, — ответил я, дивясь, что столь юная девушка — ей было всего двадцать лет — замыслила столь дерзкий план, заговор составил не кто иной, как она. Но в те дни я плохо знал Хармиану. — Однако продолжай. Что надо сделать, чтобы я стал вхож во дворец Клеопатры? — О брат, нет ничего проще. Слушай же. Клеопатра очень неравнодушна к мужской красоте, а ты — прости, что я это говорю, — очень хорош собой и сложен как бог. Она сегодня тебя заметила и дважды сетовала: как жаль, что не спросила этого астролога, где его найти, потому что астролог, который может убить нубийца-гладиатора голыми руками, конечно же, великий ученый и умеет расположить к себе звезды. Я сказала ей, что велю разыскать тебя. Запомни все, что я тебе скажу, мой царственный Гармахис. Днем Клеопатра почивает в своем внутреннем покое, который выходит в сад над гаванью. В полдень ты подойдешь к воротам дворца и потребуешь, чтобы тебе вызвали госпожу Хармиану, и я выйду к тебе. Клеопатре скажу, что тебя удалось найти, и устрою так, чтобы вы оказались одни, когда она пробудится, а дальше, Гармахис, ты будешь действовать сам. Она все пытается проникнуть в тайны мистических знаний, это ее любимая забава, и ночи напролет простаивает на крыше и наблюдает звезды, делая вид, будто умеет их читать. Совсем недавно она прогнала придворного врача, Диоскорида, потому что несчастный невежда осмелился заявить, что расположение звезд предрекает поражение Марку Антонию в битве с Кассием. Клеопатра тотчас же приказала военачальнику Аллиену послать еще несколько легионов в Сирию, где Антоний сражался с Кассием и, согласно предсказанию Диоскорида по звездам, должен был, увы, проиграть битву. Но все случилось наоборот: Антоний разбил сначала Кассия, потом Брута, а Диоскориду пришлось убраться из дворца, и теперь он, чтобы не умереть с голоду, читает в Мусейоне лекции о свойствах трав, что же касается звезд, он даже их названий слышать не может. Место придворного астролога свободно, его займешь ты, и мы начнем тайно действовать, защищенные сенью царского трона. Как червь разъедает спелый плод, вгрызаясь в его сердцевину, так ты подточишь трон гречанки, и когда он рухнет, орел, его сокрушивший, сбросит оболочку червя, в которой был вынужден скрываться, и гордо расправит свои царственные крылья над Египтом, а потом и над другими землями и странами. Я как зачарованный смотрел на эту удивительную девушку, ибо она ошеломила меня — лицо ее сейчас было озарено светом, какого я никогда не видел в глазах женщин. — Благодарение богам, — воскликнула дядя, который тоже внимательно вглядывался в нее, — благодарение богам, теперь я узнаю тебя, теперь ты прежняя Хармиана, которую я с такой любовью воспитывал, а не придворная шлюха, разодетая в дорогие шелка и умащенная благовониями. Да не поколеблется твоя вера, Хармиана, пусть в твоем сердце пылает всепобеждающая любовь к отечеству, и судьба вознаградит тебя. А теперь надень покрывало на это свое бесстыдное платье и ступай, уже поздно. Завтра в полдень Гармахис придет к воротам дворца, жди его. Прощай, Хармиана. Хармиана склонила перед ним голову и завернулась в свою темную накидку. Потом взяла мою руку, коснулась ее губами и, не сказав ни слова, скользнула прочь. — Странная женщина! — заметил дядя, когда она ушла. — Очень странная, никогда не знаешь, что она выкинет! — Мне кажется, дядя, — сказал я, — мне кажется, ты был слишком суров с ней. — Да, верно, суров, — вздохнул он, — но она это заслужила. Послушай, что я тебе скажу, Гармахис: не очень доверяй Хармиане. Уж слишком своевольный у нее нрав, меня страшит ее непостоянство. Она женщина, женщина до мозга костей, ее еще труднее обуздать, чем норовистую лошадь. Да, она умна и смела, она жаждет освободить наш Египет от иноземных тиранов, но я молю богов, чтобы ее преданность этому великому делу не пришла в противоречие с ее желаниями, ибо если она чего-то пожелала, больше для нее уже ничего не существует, она добьется своего любой ценой. Вот потому-то я и припугнул ее сейчас, пока она еще в моей власти: а вдруг она в один прекрасный день взбунтуется, я к этому готов. Пойми, эта девушка держит в своих руках жизнь стольких людей, и если она нам изменит, что тогда? Увы, как жалка наша участь, если мы вынуждены прибегать к услугам женщин! Но она нам помогла, другого пути не было. И все же, и все же меня гложут сомнения. Молю богов, чтобы наш замысел удался, но порой я боюсь мою племянницу Хармиану — слишком она красива, слишком молода, а кровь, что течет в ее жилах, слишком горяча. Горе строителям, которые возводят здание на фундаменте женской преданности; женщина преданна, только пока любит, а разлюбила — и преданность обратилась в предательство. Мужчина не подведет, не предаст, а женщина — сама переменчивость, она словно море — сейчас оно спокойно и ласково, а к вечеру бушует шторм, волны взлетают к небу и низвергаются в бездну. Не очень-то доверяй Хармиане, Гармахис: она, как волны океана, может примчать твою барку в родную гавань и, как те же самые волны, может разбить ее и утопить тебя, а вместе с тобой последнюю надежду Египта!
Глава 10
Повествующая о том, как Гармахис пришел к царскому дворцу; как он заставил Павла войти в ворота; как увидел спящую Клеопатру и как показал ей свое искусство волхвования.На следующий день, готовясь выполнить задуманное Хармианой, я обрядился в длинный просторный балахон, какие носят колдуны и астрологи, надел на голову шапочку с вышитыми звездами, а за пояс заткнул табличку писца и свиток папируса, сплошь покрытый мистическими символами и письменами. В руке у меня был жезл эбенового дерева с наконечником из слоновой кости — обязательная принадлежность жреца и кудесника. Кстати, в искусстве волхвования я достиг большого мастерства, ибо хоть я его не практиковал, зато проник в сокровенные тайны древних знаний, когда жил в Ана. И вот, сгорая от стыда, потому что мне претит вульгарное лицедейство и я считаю профанацией дешевые трюки бродячих прорицателей, я отправился в сопровождении дяди Сепа к царскому дворцу на мысе Лохиас. Мы миновали центр города, Бруцеум, прошли аллеей сфинксов, и наконец впереди показалась высокая мраморная ограда и в ней бронзовые ворота, за которыми находилось помещение для стражей. Здесь дядя Сепа оставил меня, трепетно моля богов охранить меня и даровать успех. Но я смело приблизился к воротам, где путь мне тотчас преградили стражи-галлы и потребовали, чтобы я назвал свое имя, сказал, чем занимаюсь и к кому пришел. Я ответил, что зовут меня Гармахис, я астролог и у меня дело к госпоже Хармиане, приближенной царицы. Стражи после этих слов хотели пропустить меня, но их начальник римлянин по имени Павел, выступил вперед и объявил, что не бывать тому, я никогда не войду в ворота. Этот Павел был огромного роста и тучен, но с женским лицом, и руки у него тряслись от пьянства. Оказывается, он узнал меня. — Нет, ты только погляди, — крикнул он на своем родном, латинском языке приятелю, который вышел с ним: — это тот самый парень, который чуть не задушил вчера нубийца-гладиатора; нубиец до сих пор воет у меня под окном — видишь ли, руку ему отрубили. Будь проклята эта черная собака! Я заключил на него пари. Он должен был сражаться с Каем, а теперь все, конец, никогда ему больше не выйти на арену, плакали мои денежки, и все из-за этого астролога. Что ты там такое сказал? Говоришь, у тебя дело к госпоже Хармиане? Ну уж нет, теперь я тебя точно не пущу. И не мечтай попасть во дворец. Да я без памяти влюблен в госпожу Хармиану, мы все в нее влюблены, хотя взаимностью, увы, она нас не дарит, лишь потешается. И ты решил, что мы допустим в наш круг такого соперника — астролога, да еще красавца, к тому же силача? Клянусь Вакхом, никогда! Ноги твоей не будет во дворце, а если у вас назначено свидание, пусть она сама идет к тебе. — О благородный господин, — проговорил я почтительно, но с достоинством, — прошу тебя, пошли за госпожой Хармианой, ибо дело мое не терпит отлагательств. — Всемогущие боги! — захохотал глупец. — Кто ты такой, что не желаешь ждать? Переодетый цезарь? Проваливай, да поскорей, не то придется кольнуть тебя копьем в задницу. — Постой, — остановил его другой начальник стражи, — ведь он астролог, вот пусть и предскажет нам судьбу, пусть позабавит своими фокусами. — Да, верно, — зашумели стражи, которых собралась уже целая толпа, — давайте поглядим, на что он способен. Если он маг, то войдет в ворота, и никакой Павел ему не помеха. — Охотно выполню выше желание, благородные господа, — ответил я, ибо не видел другого способа проникнуть во дворец. — Ты мне позволишь, о молодой и благородный господин, — обратился я к приятелю Павла, — ты мне позволишь поглядеть в твои глаза? Быть может, я смогу прочесть, что в них написано. — Что ж, гляди, — ответил юноша, — но я предпочел бы в роли прорицателя госпожу Хармиану. Клянусь, я бы ее переглядел. Я взял его за руку и погрузил взгляд в его глаза. — Я вижу поле битвы, — произнес я, — ночь, повсюду трупы, и среди них твой труп, в его горло впилась гиена. Мой благородный господин, не пройдет и года, как ты умрешь, заколотый мечами. — Клянусь Вакхом, с таким пророком лучше не встречаться! — воскликнул юноша, побледнев до синевы, и тотчас же исчез. И, кстати сказать, очень скоро мое предсказание сбылось. Его послали сражаться на Кипр, и там он погиб на поле брани. — Теперь твой черед, о доблестный начальник! — сказал я, обращаясь к Павлу. — Я покажу тебе, как можно войти в эти ворота без твоего позволения, мало того — ты тоже войдешь в них, но следом за мной. Соблаговоли устремить свой царственный взгляд на кончик этой палочки. — И я поднял свой жезл. Он неохотно повиновался, уступив подзуживанию приятелей, и я заставил его смотреть на белый кончик жезла, пока глаза у него не сделались пустыми, как у совы при свете солнца. Тогда я резко опустил палочку и перехватил его взгляд, вонзил в него свои глаза и волю и, медленно поворачиваясь, повлек его за собой, причем надменное застывшее лицо римлянина приблизилось к моему чуть не вплотную. Я так же медленно стал пятиться и вошел в ворота, по-прежнему увлекая его за собой, а потом вдруг резко отстранил голову. Он грянулся оземь, полежал немного и стал подниматься, потирая лоб; вид у него был на редкость глупый. — Ну что, доволен, благороднейший из стражников? — спросил я. — Ты видишь — мы вошли в ворота. Желают ли кто-нибудь еще из благородных господ, чтобы я показал им свое искусство? — Нет, клянусь богом грома Таранисом и всеми богами Олимпа в придачу! — вскричал старый галл-центурион по имени Бренн. — Слушай, астролог, ты мне не нравишься. От человека, который провел за собой нашего Павла через эти ворота одной только силой взгляда, надо держаться подальше. Ведь этот Павел вечно всем перечит, упрям он, как осел, — и вот пожалуйста! Да его если что и способно убедить, так только чаша с вином и женщина, а ты вмиг его скрутил! Он умолк, потому что на мраморной дорожке показалась Хармиана в сопровождении вооруженного раба. Она ступала неторопливо, словно прогуливалась, сложив руки за спиной и как бы устремив взгляд в себя. Но именно в такие минуты, когда Хармиана напускала на себя рассеянность, она замечала самую ничтожную мелочь. Она приблизилась, и все стражи и их начальники расступились перед ней с поклонами, ибо, как я узнал позже, эта девушка была самое близкое и доверенное лицо Клеопатры, и никто не обладал во дворце такой властью, как она. — Что тут за шум, Бренн? — обратилась она к центуриону, делая вид, что не замечает меня. — Неужто ты забыл, что в этот час царица почивает, и если ее разбудят, то наказан будешь ты, и наказан сурово? — Прости, о госпожа, — смиренно проговорил галл-центурион, — сейчас я тебе все объясню. К воротам подошел кудесник, — он ткнул пальцем в мою сторону, — на редкость наглый — прошу прощения, я хотел сказать, на редкость искусный в своем ремесле, ибо он только что, приблизив свои глаза к глазам достойного Павла, повлек его за собой, — заметь, именно Павла, а не кого-то другого, — и вошел с ним в ворота, хотя Павел поклялся, что умрет, а не пропустит в них кудесника. Но это еще не все, госпожа, ибо кудесник утверждает, что пришел к тебе по делу, а это меня чрезвычайно печалит и вызывает за тебя тревогу. Хармиана повернула головку и небрежно глянула на меня. — Ах да, я вспомнила, — равнодушно проговорила она, — ему в самом деле велено было прийти — может быть, он позабавит царицу своими фокусами; но если колдун лишь способен протащить за нос пьяницу, — тут она бросила презрительный взгляд на разинувшего от изумления рот Павла, — протащить за нос пьяницу через ворота, которые он должен охранять, и этим его искусство исчерпывается, ему у нас делать нечего. Впрочем, посмотрим. Следуй за мной, господин кудесник; а ты, Бренн утихомирь своих горлопанов, чтобы не смели шуметь. Тебе же высокородный Павел, советую как можно скорее протрезветь и накрепко усвоить: если кто-то подойдет к воротам и будет спрашивать меня, тотчас же проводить ко мне. — И, царственно кивнув головкой, повернулась и пошла обратно ко дворцу, я и вооруженный раб на почтительном расстоянии следовали за ней. Мы шагали по мраморной дорожке, вьющейся по саду и украшенной с обеих сторон мраморными статуями богов и богинь, ибо Лагиды не постыдились осквернить царское жилище этими языческими идолами. Наконец мы подошли к великолепной галерее с желобчатыми колоннами — это уже была греческая архитектура, и в галерее оказалось еще несколько стражей, но все они почтительно расступились перед госпожой Хармианой. Миновав галерею, мы вступили в мраморный атриум, посреди которого тихо журчал фонтан, и из атрума через низкую дверь прошли в следующий покой, который именовался Алебастровым Залом и был сказочно прекрасен. Его потолок поддерживали легкие колонны черного мрамора, но все стены были из сияющего белого алебастра, а на них были изображены сцены из греческих мифов. В роскошной многоцветной мозаике на полу были выложены сцены, посвященные Психее и греческому богу любви; в зале стояли кресла из слоновой кости и золота. Хармиана велела вооруженному рабу остаться у входа в этот чертог, и мы вошли в него одни, ибо чертог был пуст, если не считать двух евнухов с обнаженными мечами, которые стояли у дальней стены перед опущенным занавесом. — Я так скорблю, мой господин, — застенчиво и еле слышно прошептала Хармиана, — что тебе пришлось подвергнуться такому унижению у ворот; дело в том, что стражи простояли двойной срок, и я уже приказала начальнику дворцовой охраны сменить их. Эти римские центурионы ужасные наглецы, они как будто бы и служат нам, однако великолепно знают, что Египет — игрушка в их руках. Но это даже кстати, что у тебя произошло с ними столкновение, потому что эти невежды суеверны и теперь будут бояться тебя. Ты побудь пока здесь, а я пройду в опочивальню Клеопатры. Я недавно убаюкала ее песней, и если она уже проснулась, я введу тебя к ней, ибо она ожидает твоего прихода с нетерпением. — И, не сказав больше ни слова, Хармиана скользнула прочь. Немного погодя она вернулась и прошептала: — Хочешь увидеть самую прекрасную женщину в мире спящей? Тогда следуй за мной. Не бойся: если она проснется, она только обрадуется, потому что велела привести тебя к ней сразу же, как ты явишься, хотя бы она и спала. Вот, смотри, у меня ее печать. Мы пересекли роскошный зал и подошли к евнухам, которые стояли возле занавеса с обнаженными мечами, и евнухи тотчас преградили мне путь. Но Хармиана нахмурилась и, вынув спрятанную на груди печать, показала им. Они прочли надпись на печати, склонились перед Хармианой, опустили мечи, раздвинули тяжелый, расшитый золотом занавес, и мы вошли в покой, где почивала Клеопатра. Невозможно вообразить, как он был прекрасен — мрамор разных цветов, золото, слоновая кость, драгоценные камни, цветы — все лучшее, что может сотворить истинное искусство, вся роскошь, о которой можно лишь мечтать. Здесь были картины, написанные так живо, что птицы непременно стали бы клевать созданные кистью художника плоды; здесь были статуи женщин, чья редкостная красота навеки запечатлелась в мраморе; здесь были драпировки, тонкие и мягкие, как шелк, но сотканные из золотых нитей; здесь были ложа и ковры, каких я никогда не видел. Воздух нежно благоухал, через открытые окна доносился далекий шум моря. В противоположном конце покоя, на ложе, покрытом переливающимся шелком и защищенном пологом из тончайшего виссона, спала Клеопатра. Клеопатра, прекраснейшая из женщин, на которых когда-либо доводилось смотреть глазам мужчин, прекрасная, как мечта, спала передо мной в волнах своих темных разметавшихся волос. Ее голова покоилась на белой точеной руке, другая рука свешивалась вниз. Пухлые губы полуоткрылись в легкой улыбке, между ними сверкали ровные и белые, точно из слоновой кости зубы; схваченное поясом из драгоценных камней одеяние, в котором она спала, было такого тонкого шелка с острова Кос, что сквозь него светилось белорозовое тело. Я стоял ошеломленный, и хотя помыслы мои были далеки от женщин, ее красота поразила меня, как удар, я на миг забыл обо всем, подчинившись ее могуществу, и сердце мне кольнула боль, что я должен убить столь пленительное создание. Резко отвернувшись от Клеопатры, я увидел, что Хармиана впилась в меня своими зоркими глазами, впилась так, словно хотела проникнуть в сердце. Верно, на моем лице и вправду отразились мои мысли и она сумела их прочесть, потому что прошептала мне на ухо: — Какая жалость, правда? Гармахис, ведь ты всего лишь мужчина; боюсь, тебе понадобится призвать на помощь все могущество твоих тайных знаний, чтобы они поддержали твое мужество и ты смог совершить задуманное! Я нахмурился, но не успел ничего сказать в ответ, ибо она слегка коснулась моей руки и указала на царицу. С царицей что-то произошло: руки были стиснуты, разгоревшееся ото сна лицо омрачено страхом. Дыхание стеснилось, она выбросила перед собой руки, точно защищаясь от удара, потом с глухим стоном села и распахнула озера глаз. Они были темные-темные, как ночь; но вот свет проник в них, и они стали наливаться синевой — синевой предрассветного неба. — Цезарион! — вскричала она. — Где мой сын, где Цезарион? Слава богам, это было всего лишь во сне! Мне снилось, что Юлий, давно погибший Юлий, пришел ко мне в окровавленной тоге, обнял своего сына и увел прочь. Потом мне стало сниться, что я умираю, умираю в крови и в муках, а кто-то, невидимый мне, смеется надо мной… О, боги, кто этот мужчина? — Успокойся, моя царица, успокойся! — проговорила Хармиана. — Это всего лишь астролог Гармахис, ты сама приказала мне привести его к тебе в час твоего пробуждения. — Ах, астролог, тот самый Гармахис, который победил гладиатора? Теперь я вспомнила. Я рада, что ты пришел. Скажи же мне, астролог, ты можешь ли увидеть в своем магическом зеркале разгадку моего сна? Какая странная вещь — сон, он опутывает наш разум паутиной тьмы и властно подчиняет его себе. Откуда приходят эти страшные видения, почему они поднимаются над горизонтом нашей души, точно луна, вдруг проступившая на полуденном небе? Какие силы вызывают эти образы из глубин нашей памяти, кто наделяет их столь несомненной жизнью, и неумолимо показывая нам их страданья, сталкивает настоящее с прошлым? Что же, стало быть, они — вестники? Стало быть, во время той неполной смерти, которую мы называем сном, они проникают в наше сознание и связывают порванные нити, когда-то соединявшие судьбы? То был сам Цезарь в моем сне, я уверена, но я не знаю, кто стоял рядом, скрытый плащом, и глухо произносил зловещие слова, которых я не помню. Разгадай мне эту загадку, египетский сфинкс[488], и я укажу тебе путь к счастью и богатству, каких тебе не дадут твои звезды. Ты принес мне знамение, растолкуй же его. — Я вовремя пришел к тебе, о могущественнейшая из цариц, — отвечал я, — знай: я проник в некоторые тайны сна, а сон, как ты правильно угадала, порой впускает в наши живые души тех, кто воссоединился с Осирисом, и они символическими действиями или словами доносят до нас эхо того, что звучит в Царстве Истины, где они обитают, а посвященные смертные умеют эти знаки разгадать. Да, сон — это лестница, по которой в дух избранных спускаются в самых разных обличьях вестники божеств-охранителей. И те, кто владеет ключом к тайне, видят в безумии наших снов ясный смысл и понимают их язык гораздо лучше, чем язык мудрости и событий нашей повседневной жизни, которая как раз и есть истинный сон. Тебе привиделся великий Цезарь в окровавленной тоге, он обнял царевича Цезариона и увел от тебя. Слушай же, что твой сон означает. Да, ты видела Цезаря, он явился к тебе из Аменти в своем собственном обличье, тут ошибиться невозможно. Когда он обнял своего сына Цезариона, он хотел показать, что одному лишь ему передал свое величие и свою любовь. Тебе приснилось, что Цезарь увел его от тебя, так вот, это значит, что он увел его из Египта в Рим, где его коронуют в Капитолии и он станет владыкой Римской империи. Что значит другой твой сон, я не могу разгадать. Его смысл скрыт от меня. Вот как истолковал я ей ее видение, хотя сам прозревал в нем иной, зловещий смысл. Но царям не следует предсказывать дурное. Тем временем Клеопатра поднялась и, откинув виссон, который защищал ее от комаров, села на край ложа; глаза внимательно изучали мое лицо, пальцы играли концами пояса из драгоценных камней. — Поистине, ты мудрейший из прорицателей! — воскликнула она. — Ты читаешь в моем сердце и видишь благой знак в том, что на первый взгляд кажется дурным предзнаменованием. — Ты права, о царица, — сказала Хармиана, которая стояла рядом, опустив глаза, и в нежных переливах ее голоса мне послышались недобрые нотки. — Да не оскорбят отныне дурные предзнаменования твой слух, пусть все зло оборачивается для тебя таким же благом. Клеопатра сцепила пальцы за головой и, откинувшись назад, посмотрела на меня полузакрытыми глазами. — Ну что ж, египтянин, покажи нам теперь свое искусство, — сказала она. — На улице еще жарко, а эти иудейские послы с их разговорами об Ироде и Иерусалиме мне до смертинаскучили, терпеть не могу Ирода, он очень скоро в этом убедится, а послы — нет, я их сегодня не приму, хоть я бы и не прочь поболтать на иудейском. Итак, что ты умеешь? Надеюсь, позабавишь нас какими-нибудь новыми фокусами? Клянусь Сераписом, если ты так же хорошо чародействуешь, как прорицаешь, я обещаю тебе место при дворе, хорошие деньги и подарки — если, конечно, твоя возвышенная душа не восстает в негодовании при мысли о подарках. — Новых фокусов я не придумал, — ответил я, — но есть такие приемы волхвований, которые применяют очень редко и с большой осторожностью, и тебе, царица, они могут быть в новинку. Ты не боишься колдовства? — Я ничего не боюсь; вызывай самые страшные силы. Поди ко мне, Хармиана, сядь рядом. Начинай. Нет, постой, а где другие девушки, где Ирада и Мерира? Они ведь тоже любят представления волшебников. — Нет, не зови их, — остановил я ее, — когда много народу, чары плохо действуют. Итак, смотрите! — И, глядя на двух женщин, я бросил на пол мою палочку и стал шептать заклинание. Минуту палочка лежала неподвижно, потом начала медленно извиваться. Потом свернулась в кольцо, поднялась и начала раскачиваться. Вот на ее головке появились очки — она превратилась в змею, и змея поползла, грозно шипя. — Ну удивил, нечего сказать! — презрительно вскричала Клеопатра. — И это-то ты называешь колдовством? Фокус стар как мир, любой уличный колдун умеет его делать. Я видела такое сотни раз. — Не торопись, царица, — ответил я, — это всего лишь начало. — И тут же змею как бы разрезало на несколько частей, и каждая часть вытянулась в длинную змею. Эти змеи тоже разделились на множество маленьких, они росли и снова распадались, так что очень скоро под взглядами зачарованных женщин пол покоя словно бы залили играющие волны — это кишел толстый слой змей, они ползли друг по другу, шипели, свивались в кольца… Я сделал знак, и все устремились ко мне, стали медленно обвивать мне ноги, туловище, руки, и весь я покрылся многослойным панцирем змей, только лицо оставалось открытым. — Это ужасно, ужасно! — закричала Хармиана и спрятала лицо в складках Клеопатриной юбки. — Довольно, волшебник, довольно! — повелела Клеопатра. — Твое колдовство поразило нас. Я взмахнул рукой, с которой свисали змеи, и все исчезло. У ног моих лежала черная палочка эбенового дерева с головкой из слоновой кости, и больше ничего не было. Женщины взглянули друг на друга и ахнули от изумления. Но я поднял свою палочку и, сложив на груди руки, встал перед ними. — Довольна ли царица моим убогим представлением? — смиренно спросил я. — О да, египтянин, довольна! Такого искусства я никогда не видела. С сегодняшнего дня ты — мой придворный астроном, тебе даруется право бывать в покоях царицы. У тебя есть в запасе что-нибудь еще занимательное? — Есть, царица. Прикажи слегка затенить покой, и я покажу тебе еще одно представление. — Мне немного страшно, — сказала Клеопатра, — но все равно опусти занавеси, Хармиана, как просил Гармахис. Занавеси опустились, в покое стало сумрачно, будто приближался вечер. Я шагнул вперед и встал рядом с Клеопатрой. — Смотри туда! — властно приказал я, указывая палочкой на то место, где я стоял раньше. — Смотри туда, и ты увидишь то, что у тебя в мыслях. В немом молчании обе женщины пристально, с испуганными лицами глядели в пустоту. И под их взглядом на этом месте сгустилось облачко. Оно медленно вытянулось и стало обретать очертания, — то были очертания мужчины, довольно смутные в сумраке покоя, они то проступали четче, то как бы таяли. Я возгласил: — Тень, заклинаю тебя, воплотись! И лишь только я воззвал, смутный силуэт вдруг превратился в человека, очень ясно видимого. Перед нами был державный Цезарь, на голову наброшена тога, туника вся в крови от бесчисленных ран. С минуту он постоял, потом я взмахнул рукой, и он исчез. Я повернулся к сидящим на ложе женщинам и увидел, что прелестное лицо Клеопатры искажено ужасом. Губы серые, как пепел, широко открытые глаза застыли, и вся она дрожит. — О, боги! — Голос ее прервался. — О, боги, кто ты? Кто ты, умеющий вызывать на землю мертвых? — Я — астроном царицы, ее кудесник, ее слуга, — все, что она пожелает, — ответил я со смехом. — Стало быть, я показал именно то, что мысленно видела царица? Она мне не ответила, но встала и вышла из покоя через другую дверь. Потом с ложа поднялась и Хармиана и отняла от лица руки, ибо ее тоже обуял смертельный страх. — Как ты это делаешь, мой царственный Гармахис? — спросила она. — Открой мне! Я скажу тебе правду: я боюсь тебя. — Не бойся, — ответил я. — Может быть, ты видела лишь то, что было в моем воображении. В мире нет ничего, кроме теней. Откуда же тебе знать их природу? Откуда тебе знать, что истинно существует, а что нам только кажется? Но скажи лучше, как все прошло? И помни, Хармиана: эту игру мы должны довести до конца. — Все получилось великолепно, — ответила она. — Завтра утром вся Александрия будет рассказывать, что произошло у ворот и здесь, при одном твоем имени людей станет бросать в дрожь. А теперь почтительно прошу тебя: следуй за мной.
Глава 11
Повествующая о том, как Гармахис дивился повадкам Хармианы, и о том, как его провозгласили богом любви.Назавтра я получил письменное уведомление, что назначен астрологом и главным прорицателем царицы, с указанием суммы жалованья и перечнем привилегий, полагающихся мне в этой должности, а они были весьма значительны. Мне также были отведены во дворце комнаты, из которых я поднимался ночью на высокую башню обсерватории, наблюдал звезды и сообщал, что предвещает их расположение. Как раз в это время Клеопатру чрезвычайно волновали политические дела, и, не зная, чем кончится жестокая борьба между могущественными группировками в Риме, но желая примкнуть к сильнейшей, она постоянно советовалась со мной и спрашивала, что предвещают звезды. Я читал их ей, руководствуясь высшими интересами дела, которому себя посвятил. Римский триумвир Антоний воевал сейчас в Малой Азии и, по слухам, был страшно зол на Клеопатру, потому что она, как ему сообщили, будто бы выступает против триумвирата, и ее военачальник Серапион даже сражался на стороне Кассия. Клеопатра же пылко убеждала меня и всех прочих, что Серапион действовал вопреки ее воле. Но Хармиана мне открыла, что и здесь не обошлось без участия злосчастного Диоскорида, ибо Клеопатра, следуя его предсказанию, сама тайно послала Серапиона с войском на помощь Кассию, когда приказывала Аллиену направить легионы ему в поддержку. Но это не спасло Серапиона, ибо, желая доказать Антонию свою невиновность, Клеопатра велела схватить военачальника в святилище, где он укрылся, и казнить. Горе тем, кто выполняет желания тиранов, когда весы судьбы склоняются не в их сторону! Увы, Серапион поплатился за это жизнью. Меж тем нашим планам сопутствовал успех, ибо Клеопатра и ее советники были совершенно поглощены событиями, происходящими за пределами Египта, и никому из них и в голову не приходило, что сам Египет может восстать. С каждым днем число наших сторонников увеличивалось во всех городах страны, даже в Александрии, которую Египет как бы даже не считает Египтом — настолько все здесь нам было чуждо и враждебно. Каждый день к нам примыкали все новые колеблющиеся и клялись служить нашему делу священной клятвой, которую нельзя нарушить, и мы чувствовала, что наши замыслы покоятся на прочном основании. Несколько раз в неделю я покидал дворец и шел к дяде Сепа обсуждать, как обстоят дела, встречался в его доме с сановниками и верховными жрецами, которые жаждали освобождения Кемета. Я часто виделся с царицей Клеопатрой и каждый раз заново поражался глубине и широте ее редкого ума, — он был неисчерпаемо богат и сверкал, как золотая ткань, расшитая драгоценными камнями, озаряя своим переливчатым сиянием ее прекрасное лицо. Она немного боялась меня и потому желала заручиться моей дружбой, обсуждала со мной самые разные темы, вовсе не связанные с астрологией и прорицаниями. Много времени я проводил и в обществе госпожи Хармианы, — вернее, она почти всегда была возле меня и я даже не замечал, когда она исчезала и когда появлялась. Она подходила совсем близко своими легкими неслышными шагами, я оборачивался и вдруг видел, что она за моей спиной, стоит и смотрит на меня из-под длинных опущенных ресниц. Никакая услуга не затрудняла ее, она выполняла все мгновенно; и днем, и ночью она трудилась во имя нашей великой цели. Но когда я благодарил ее за преданность и говорил, что скоро, совсем скоро настанет время, когда я смогу отблагодарить ее по-царски, она топала ножкой, надувала губки, как капризный ребенок, и возражала, что хоть я и великий ученый, но не знаю самых простых вещей: любовь не требует награды, она сама по себе счастье. Я же, глупец, вовсе не искушенный в любви, не знающий и не замечающий женщин, думал, что она говорит о любви к Кемету и считает счастьем служить делу его освобождения. Я выражал свое восхищение ее верностью отчизне, а она в гневе разражалась слезами и убегала, оставлял меня в величайшем недоумении. Ведь я не знал о ее страданиях. Не знал, что, сам того не желая, внушил этой девушке страстную любовь, и эта любовь измучила, истерзала ее сердце, что оно все время кровоточит, словно в него вонзили десятки стрел. Ничего-то, ничего-то я не знал, да и как мог я догадаться о ее любви, ведь для меня она была всего лишь помощницей в нашем общем священном деле. Меня не волновала ее красота, и даже когда она склонялась ко мне и ее дыхание касалось моих волос, я не чувствовал в ней женщину, я любовался ею, как мужчина любуется прекрасной статуей. Что мне радости земной любви, ведь я посвятил себя служению Исиде и делу освобождения Египта! Великие боги, подтвердите, что я не виновен в том, что со мной случилось и стало причиной моего несчастья и навлекло несчастье на наш Кемет! Какая непостижимая вещь — любовь женщины, столь хрупкая, когда лишь зародилась, и столь грозная, когда развилась в полную силу! Ее начало напоминает ручеек, пробившийся из недр горы. А чем ручеек становится потом? Ручеек превращается в могучую реку, по которой плывут караваны богатых судов, которая животворит землю и дарит ей радость и счастье. Но вдруг эта река поднимается и смывает все, что было посеяно с такой надеждой, обращает в обломки построенное и рушит дворцы нашего счастья и храмы чистоты и веры. Ибо когда Непостижимый творил Мироздание, он вложил в его закон одной из составных частей семя женской любви, и на его непредсказуемом развитии зиждется равновесие миропорядка. Любовь возносит ничтожных на неизмеримые высоты власти, низвергает великих в прах. И пока существует это таинственнейшее создание природы — Женщина, Добро и Зло будут существовать неразделимо. Она стоит и, ослепленная любовью, плетет нить нашей судьбы, она льет сладкое вино в горькую чашу желчи, она отравляет здоровое дыхание жизни ядом своих желаний. Куда бы ты ни ускользнул, она будет всюду пред тобой. Ее слабость — твоя сила, ее могущество — твоя гибель. Ею ты рожден, ей обречен. Она твоя рабыня, и все же держит тебя в плену; ради нее ты забываешь о чести; стоит ей прикоснуться к запору, и он отомкнется, все преграды перед ней рушатся. Она безбрежна, как океан, она переменчива, как небо, ее имя — Непредугаданность. Мужчина, не пытайся бежать от Женщины и от ее любви, ибо, куда бы ты ни скрылся, она — твоя судьба, и все, что ты творишь, ты творишь для нее. И так случилось, что я, Гармахис, чьи помыслы были всегда бесконечно далеки от женщин и от их любви, стал волею судьбы жертвой того, что в своем высокомерии презирал. Хармиана полюбила меня — почему ее выбор пал на меня, мне неведомо, но ее постигла любовь, и я расскажу, к чему эта ее любовь всех привела. Пока же я, ни о чем не догадываясь, видел в ней лишь сестру и, как мне казалось, шел рука об руку к нашей общей цели. Время летело, и вот наконец мы все подготовили. Завтра ночью будет нанесен удар, а нынче вечером во дворце устроили веселое празднество. Днем я встретился с дядей Сепа и с командующими пяти сотен воинов, которые ворвутся завтра в полночь во дворец после того, как я заколю царицу Клеопатру, и перебьют римских и галльских легионеров. Еще раньше я договорился с начальником стражи Павлом, который чуть не ползал передо мной на коленях после того, как я заставил его войти в ворота. Сначала припугнув его, потом обещав щедро вознаградить, я добился от него обещания отпереть по моему сигналу завтра ночью боковые ворота с восточной стороны дворца, ибо дежурить должен был именно он со своими стражами. Итак, все было готово, еще несколько дней — и древо свободы, которое росло двадцать пять лет, наконец-то расцветет. Во всех городах Египта собрались вооруженные отряды, со стен не спускались дозорные, ожидая прибытия вестника, который сообщит, что Клеопатра убита и трон захватил наследник истинных древних фараонов Египта Гармахис. Да, все приготовления завершились, власть сама просилась в руки, как спелый плод, который ждет, чтобы его сорвали. Я сидел на царском пиру, но сердце мое давила тяжесть, в мыслях витала темная тень недоброго предчувствия. Сидел я на почетном месте, рядом с сиятельной Клеопатрой, и, оглядывая рады гостей, сверкающих драгоценностями, увенчанных цветами, отмечал тех, кого я обрек на смерть. Передо мной возлежала Клеопатра в апофеозе своей красоты, от которой у гладящих на нее захватывало дух, как от шума вдруг налетевшего полуночного урагана или при виде разбушевавшегося моря. Я не сводил с нее глаз: вот она пригубила кубок с вином, погладила пальцами розу в своем венке, а сам в это время думал о кинжале, спрятанном у меня под складками одежды, который я поклялся вонзить в ее грудь. Я смотрел и смотрел на нее, разжигая в себе ненависть к ней, пытаясь наполнить душу торжеством от того, что она умрет, но не находил в себе ни ненависти, ни торжества. Здесь же, рядом с царицей, как всегда то и дело взглядывая на меня из-под своих длинных пушистых ресниц, возлежала прелестная госпожа Хармиана. Кто, любуясь ее детски ясным лицом, поверил, бы, что именно она устроила западню, в которую должна попасться столь любящая ее царица и там погибнуть жалкой смертью? Кому пришло бы в голову, что в этой девственной груди таится столь кровавый замысел? Я пристально смотрел на Хармиану и чувствовал, что мне противна сама мысль обагрить мой трон кровью и освободить страну от зла, творя зло. В эту минуту я даже пожалел, зачем я не простой безропотный крестьянин, который прилежно сеет пшеницу, когда наступает пора сева, а потом собирает урожай золотого зерна. Увы, семя, которое я был обречен посеять, было семя смерти, и сейчас мне предстоит пожинать кровавые плоды моих трудов. — Что с тобой, Гармахис? Чем ты озабочен? — спросила Клеопатра, улыбаясь своей томной улыбкой. — Неужто золотой узор звезд непредсказуемо нарушился, о мой астроном? Или, может быть, ты обдумываешь какой-то новый замечательный фокус? В чем дело, почему ты не принимаешь участия в нашем веселье? А знаешь, если бы я не знала доподлинно, расспросив кого следует, что столь ничтожные и жалкие создания, каковыми являемся мы, бедные женщины, не смеют даже посягать на твое внимание, ибо ты не опустишься столь низко, я бы поклялась, Гармахис, что тебя поразила стрела Эрота! — О нет, царица, Эрот мне не опасен, — ответил я. — Тот, кто наблюдает звезды, на замечает блеска женских глаз, гораздо менее ярких, и потому он счастлив! Клеопатра склонилась ко мне и так долго смотрела в глаза странным пристальным взглядом, что сердце мое затрепетало, хоть я и призвал на помощь всю свою волю. Не гордись, высокомерный египтянин, проговорила Клеопатра так тихо, что слова ее услышали только я и Хармиана, — не гордись, чародей, не то у меня вдруг появится искушение испробовать на тебе мои чары. Разве есть на свете женщина, которая бы вынесла такое презрение? Оно оскорбляет весь наш пол и противно самой природе. — И она откинулась на ложе и рассмеялась своим чудесным мелодичным смехом. Но я поднял глаза и увидел, что Хармиана закусила губу и гневно хмурится. — Прости меня, царица Египта, — ответил я сухо, но со всей изысканностью, на которую был способен, — перед Царицей Ночи бледнеют даже звезды! — Я, конечно, говорил о символе Великой Праматери — луне, с кем Клеопатра осмеливалась соперничать, именуя себя сошедшей на землю Исидой. — Находчивый ответ! — сказал она и захлопала своими точеными белыми ручками. — Да мой астроном, оказывается, остроумен и к тому же великолепно умеет льстить! Нет, он просто чудо, мы должны воздать ему хвалу, иначе боги разгневаются. Хармиана, сними с моей головы этот венок и возложи его на высокое чело нашего многомудрого Гармахиса. Желает он того или нет, мы коронуем его и жалуем ему титул «Бога любви». Хармиана подняла венок из роз, который украшал голову Клеопатры, и, поднеся ко мне, с улыбкой возложила на мою, еще теплый и хранящий благоухание волос царицы, — впрочем, она его отнюдь не возложила, а нахлобучила, да так грубо, что оцарапала мне лоб шипами. Она была вне себя от ярости, хотя на губах ее сияла улыбка, и с этой улыбкой шепнула мне на ухо: «Это предвестие твоей судьбы, мой царственный Гармахис». Ибо хоть Хармиана была женщина до мозга костей, когда она сердилась или ревновала, то вела себя как ребенок. Итак, нахлобучив на меня венок, она низко склонилась передо мной и нежнейшим голосом ехидно пропела по-гречески: «Да здравствует Гармахис, бог любви». Клеопатра засмеялась и провозгласила тост за «Бога любви», все гости подхватили шутку, сочтя ее на редкость удачной. Ведь в Александрии не выносят тех, кто ведет аскетическую жизнь и чурается женщин. Я сидел с улыбкой на устах, но меня душила черная ярость. Эти вульгарные придворные и легкомысленные красотки Клеопатрина двора потешаются надо мной — истинным властелином Египта! Сама эта мысль была невыносима. Но особенно я ненавидел Хармиану, ибо она смеялась громче всех, а я тогда еще не знал, что смехом и язвительностью раненое сердце часто пытается скрыть от мира свою боль. Предвестием моей судьбы назвала она эту корону из роз, и, о боги, — она оказалась права. Ибо я променял двойную корону Верхнего и Нижнего Египта на венок, сплетенный из роз страсти, которая увяла, не достигнув полного расцвета, а парадный трон фараонов из слоновой кости — на ложе неверной женщины. — Бог любви! Приветствуем бога любви, увенчанного розами! — кричали пирующие, со смехом поднимая кубки. Бог, увенчанный розами? Нет, я увенчан позором! И я, по праву крови законный фараон Египта, помазанный на царство, в этом благоухающем позорном венке, стал думать о тысячелетнем нерушимом храме Абидоса и о том, другом короновании, которое должно состояться послезавтра утром. Все так же улыбаясь, я тоже поднял свой кубок вместе со всеми и ответил какой-то шуткой. Потом встал и, склонившись пред Клеопатрой, попросил у нее позволения покинуть пир. — Восходит Венера, — сказал я, ибо они именуют Венерой планету, которая у нас носит имя Донау, когда восходит вечером, и имя Бону, когда является на утреннем небе. — И я, только что провозглашенный богом любви, должен приветствовать мою повелительницу. — Эти варвары считают Венеру богиней Любви. И, провожаемый их смехом, я ушел к себе в обсерваторию, швырнул позорный венок из роз на мои астрономические приборы и стал ждать, делая вид, будто слежу за движением звезд. Обо многом я передумал, дожидаясь Хармианы, которая должна была принести окончательные списки тех, кого решено казнить, а также весть от дяди Сепа, ибо она виделась с ним после обеда. Наконец дверь тихо отворилась, и проскользнула Хармиана, вся в драгоценностях и в белом платье, как была на пиру.
Глава 12
Повествующая о том, как Клеопатра пришла в обсерваторию к Гармахису; о том, как Гармахис бросил с башни шарф Хармианы; как рассказывал Клеопатре о звездах и как царица подарила дружбу своему слуге Гармахису.— Как ты долго, Хармиана, — сказал я. — Я уж заждался. — Прости, о господин мой, но Клеопатра никак меня не отпускала. Она сегодня очень странно ведет себя. Не знаю, что это нам сулит. Ей приходят в голову самые неожиданные прихоти и фантазии, она как море летом, когда ветер беспрерывно меняется и оно то темнее от туч, то снова сияет. Не понимаю, что она задумала. — Что нам за дело? Довольно о Клеопатре. Скажи мне лучше, видела ты дядю Сепа? — Да, царственный Гармахис, видела. — И принесла окончательные списки? — Вот они. — И она извлекла папирусы из-под складок платья на груди. — Здесь имена тех, кто после смерти царицы должен быть немедленно казнен. Среди них старый галл Бренн. Жаль Бренна, мы с ним друзья; но он погибнет. Здесь много тех, кто обречен. — Да, ты права, — ответил я, пробегая глазами папирус, — когда люди начинают думать о своих врагах, они вспоминают всех — всех до единого, а у нас врагов не перечесть. Но чему суждено случиться, то случится. Дай мне другие списки. — Здесь имена тех, кого мы пощадили, ибо они заодно с нами или, во всяком случае, не против нас; а в этом перечислены города, которые восстанут, как только их достигнет весть, что Клеопатра умерла. — Хорошо. А теперь… — я помолчал, — теперь обсудим, как должна погибнуть Клеопатра. Что ты решила? Она непременно должна умереть от моей руки? — Да, мой господин, — ответил она, и снова я уловил в ее голосе язвительные нотки. — Я уверена, фараон будет счастлив, что избавил нашу страну от самозванки и распутницы на троне своей собственной рукой и одним ударом разбил цепи, в которых задыхался Египет. — Не говори так, Хармиана, — ответил я, — ведь ты хорошо знаешь, как мне ненавистно убийство, я совершу его лишь под давлением суровой необходимости и выполняя клятвы, которые принес. Но разве нельзя ее отравить? Или подкупить кого-нибудь из евнухов, пусть он убьет ее? Мне отвратительна сама мысль об этом кровопролитии! Пусть Клеопатра совершила много страшных преступлений, но я безмерно удивляюсь, что ты без тени жалости готовишься предательски убить ту, которая так любит тебя! — Что-то наш фараон уж слишком разжалобился, он, видно, позабыл, какое важное настал» время, забыл, что от этого удара кинжалом, который пресечет жизнь Клеопатры, зависит судьба страны и жизнь тысяч людей. Слушай меня, Гармахис: убить ее должен ты — ты и никто другой! Я бы сама вонзила кинжал, если бы у меня в руках была сила, но увы — они слишком хрупки. Отравить ее нельзя, ибо все, что она ест и пьет, тщательно проверяют и пробуют три доверенных человека, а они неподкупны. На евнухов, охраняющих ее, мы тоже не можем положиться. Правда, двое из них на нашей стороне, но третий свято верен Клеопатре. Придется его потом убить; да и стоит ли жалеть какого-то ничтожного евнуха, когда кровь сейчас польется рекой? Так что остаешься ты. Завтра вечером, за три часа до полуночи, ты пойдешь читать звезды, чтобы сделать последнее предсказание, касающееся военных действий. Потом ты спустишься, возьмешь печать царицы и, как мы договорились, вместе со мной пойдешь в ее покои. Знай: завтра на рассвете из Александрии отплывает судно, которое повезет планы действий легионам Клеопатры. Ты останешься наедине с Клеопатрой, ибо она желает, чтобы ни единая душа не знала, какой она отдаст приказ, и прочтешь ей звездный гороскоп. Когда она склонится над папирусом, ты вонзишь ей кинжал в спину и убьешь, — да не дрогнут твои рука и воля! Убив ее — поверь, это будет очень легко, — ты возьмешь печать и выйдешь к евнуху, ибо двоих других там не будет. Если он вдруг что-то заподозрит, — это, конечно, исключено, ведь он не смеет входить во внутренние покои царицы, а крики умирающей до него не долетят через столько комнат, — но в крайнем случае ты убьешь и его. В следующем зале я встречу тебя, и мы вместе пойдем к Павлу, а я уж позабочусь, чтобы он был трезв и не отступил от своего слова, — я знаю, как этого добиться. Он и его стражи отомкнут ворота, а ждущие поблизости Сепа и пятьсот лучших воинов ворвутся во дворец и зарубят спящих легионеров. Поверь, все это так легко и просто, поэтому успокойся и не позволяй недостойному страху вползти в свое сердце — ведь ты не женщина. Что значит для тебя удар кинжалом? Ровным счетом ничего. А от него зависит судьба Египта и всего мира. — Тише! — прервал ее я. — Что это? Мне послышался какой-то шум. Хармиана бросилась к двери и, глядя вниз, на длинную темную лестницу, стала прислушиваться. Через минуту она подбежала ко мне и, прижав палец к губам, торопливо зашептала: — Это царица! Царица поднимается по лестнице одна. Я слышала, как она отпустила Ираду. Нельзя, чтобы она застала меня здесь в такой час, она удивится и может заподозрить неладное. Что ей здесь надо? Куда мне спрятаться? Я оглядел комнату. В дальнем конце висел тяжелый занавес, который закрывал нишу в толще стены, где я хранил свои приборы и свитки папирусов. — Скорее, туда, — указал я, и она скользнула за занавес и расправила складки, которые надежно скрыли ее. Я же спрятал на груди роковой список обреченных на смерть и склонился над своими мистическими таблицами. Через минуту я услышал шелест женского платья, в дверь тихо постучали. — Кто бы ты ни был, войди, — сказал я. Заслонка поднялась, через порог шагнула Клеопатра в парадном одеянии, с распущенными темными волосами до полу, со сверкающим на лбу священным золотым уреем — символом царской власти. — Признаюсь тебе честно, Гармахис, — произнесла она, переведя дух и опускаясь на сиденье, — подняться к небу ох как нелегко. Я так устала, эта лестница просто бесконечная. Но я решила, мой астроном, посмотреть, как ты трудишься. — Это слишком большая честь, о царица! — ответил я, низко склоняясь перед дней. — В самом деле? Но на твоем лице нет радости, скорее недовольство. Ты слишком молод и красив, Гармахис, чтобы заниматься столь иссушающей душу наукой. Боги, что я вижу — мой венок из роз валяется среди твоих заржавленных приборов! Ах, Гармахис, сколько я знаю царей, которые хранили бы этот венок всю жизнь, дорожа им больше, чем самыми драгоценными диадемами! А ты швырнул его, точно пучок травы. Какой ты странный человек! Но погоди — что это? Клянусь Исидой, женский шарф! Изволь же объяснить мне, мой Гармахис, как он попал сюда? Значит, наши жалкие шарфы тоже входят в круг приборов, которые служат твоей возвышенной науке? Так, так, вот ты и выдал себя! Стало быть, ты меня все время обманывал? — Нет, величайшая из цариц, тысячу раз нет! — пылко воскликнул я, понимая, что оброненный Хармианой шарф действительно мог вызвать такие подозрения. — Клянусь тебе, я вправду не знаю, как эта безвкусная мишурная вещица могла оказаться здесь. Может быть, ее случайно забыла одна из женщин, что приходят убирать комнату. — Ах да, как же я сразу не догадалась, — холодно проговорила она, смеясь журчащим смехом. — Ну конечно, у рабынь, которые убирают комнаты, полно таких безделиц — из тончайшего шелка, которые стоят дважды столько золота, сколько они весят, да к тому же сплошь расшиты разноцветными нитками. Я бы и сама не постыдилась надеть такой шарф. Сказать правду, мне кажется, я его на ком-то видела. — И она набросила шелковую ткань себе на плечи и расправила концы своей белой рукой. — Но что я делаю? Не сомневаюсь, в твоих глазах, я совершила святотатство, накинув шарф твоей возлюбленной на свою безобразную грудь. Возьми его, Гармахис; возьми и спрячь на груди, возле самого сердца! Я взял злосчастную тряпку и, шепча про себя проклятия, которые не осмеливаюсь написать, шагнул на открытую площадку, казалось, вознесенную в самое небо, с которой наблюдал звезды. Там, скомкав шарф, я бросил его вниз, и он полетел, подхваченный ветром. Увидев это, прелестная царица снова засмеялась. — Зачем? — воскликнула она. — Что сказала бы твоя дама сердца, если бы увидела, как ты столь непочтительно выбросил ее залог любви? Может быть Гармахис, такая же участь постигнет и мой венок? Смотри, розы увядают; на, брось. — И, наклонившись, она взяла венок и протянула мне. Я был в таком бешенстве, что вдруг решил разозлить ее и послать венок вслед за шарфом, однако обуздал себя. — Нет, — ответил я уже не так резко, — этот венок — дар царицы, его я сохраню. — Эту минуту я увидел, что занавес колыхнулся. Сколько раз я потом жалел, что произнес эти слова пустой любезности, оказавшиеся роковыми. — Как мне благодарить бога любви за столь великую милость? — проговорила она, вперяя в меня странный взгляд. — Но довольно шуток, выйдем на эту площадку, я хочу, чтобы ты рассказал мне о своих непостижимых звездах. Я всегда любила звезды, они такие чистые, яркие, холодные, и так чужды им наши одержимость и суета. Меня с детства тянуло к ним, вот бы жить среди них, мечтала я, ночь убаюкивала бы меня на своей темной груди, я вечно бы глядела на ее лик с нежными мерцающими глазами и растворялась в просторах мироздания. А может быть, — кто знает, Гармахис? — может быть, звезды сотворены из той же материи, что и мы, и, связанные с нами невидимыми нитями Природы, и в самом деле влекут нас за собой, когда совершают предначертанный им путь? Помнишь греческий миф о человеке, который стал звездой? Может быть, это случилось на самом деле? Может быть, эти крошечные огоньки — души людей, только очистившиеся, наполненные светом и достигшие царства блаженного покоя, откуда они озаряют кипение мелких страстей на их матери-земле? Или это светильники, висящие в высоте небесного свода и ярко, благодарно вспыхивающие, когда к ним подносит свой извечно горящий огонь некое божество, которое простирает крылья и в мире наступает ночь? Поделись со мной своей мудростью, приоткрой свои тайны, мой слуга, ибо я очень невежественна. Но мой ум жаждет знаний, мне хочется наполнить себя ими, я думаю, что многое бы поняла, только мне нужен наставник. Радуясь, что мы выбрались из трясины на твердую землю, и дивясь, что Клеопатре не чужды возвышенные мысли, я начал рассказывать и, увлекшись, поведал то, что было дозволено. Я объяснил ей, что небо — это жидкая субстанция, разлитая вокруг земли и покоящаяся на мягкой подушке воздуха, что за ним находится небесный океан — Нут и в нем, точно суда, плывут по своим светозарным орбитам планеты. О многом я ей поведал, и в том числе о том, как благодаря никогда не прекращающемуся движению светил планета Венера, которую мы называем Донау, когда она горит на небе как утренняя звезда, становится прекрасной и лучистой вечерней звездой Бону. Я стоял и говорил, глядя на звезды, а она сидела, обхватив руками колено, и не спускала глаз с моего лица. — Как удивительно! — наконец прервала она меня. — Значит, Венеру можно видеть и на утреннем, и на вечернем небе. Что ж, так и должно быть: она везде и всюду, хотя больше всего любит ночь. Но ты не любишь, когда я называю при тебе звезды именами, которые им дали римляне. Что ж, будем говорить на древнем языке Кемета, я его знаю хорошо: заметь, я первая из всех Лагидов, кто его выучил. А теперь, — продолжала она на моем родном языке, но с легким акцентом, от которого ее речь звучала еще милее, — оставим звезды в покое, ведь они, в сущности, коварные создания и, может быть, именно сейчас, в эту минуту замышляют недоброе против тебя или против меня, а то и против нас обоих. Но мне очень нравится слушать, когда ты говоришь о них, потому что в это время с твоего лица слетает маска угрюмой задумчивости, оно становится таким живым и человечным. Гармахис, ты слишком молод, тебе не следует заниматься столь возвышенной наукой. Я думаю, что должна найти тебе более веселое занятие. Молодость так коротка; зачем же растрачивать ее в таких тяжких размышлениях? Пора размышлений придет, когда мы уже не сможет действовать. Скажи мне, Гармахис, сколько тебе лет? — Мне двадцать шесть лет, о царица, — отвечал я, — я рожден в первом месяце сезона шему, летом, в третий день от начала месяца. — Как, стало быть, мы с тобой родились не только в один и тот же год и месяц, но и в тот же самый день, — воскликнула она, — ибо мне тоже двадцать шесть лет и я тоже рождена в третий день первого месяца сезона шему. Ну что ж, мы имеем право сказать, что не посрамили тех, кто дал нам жизнь. Ибо если я — самая красивая женщина Египта, то ты, Гармахис, самый красивый и самый сильный из всех мужчин Кемета и к тому же самый образованный. Мы родились в один день — знаешь, по-моему, судьба недаром свела нас и мы должны быть вместе: я — царица, а ты, Гармахис, быть может, самая надежная опора моего трона, мы принесем друг другу счастье. — А может быть, горе, — ответил я и отвернулся, потому что ее чарующие речи терзали мой слух, а лицо от них запылало, и я не хотел, чтобы она это видела. — Нет, нет, не говори о горе. Сядь рядом со мной, Гармахис, давай поговорим не как царица и ее подданный, а как два друга. Ты рассердился на меня сегодня на пиру, когда я велела надеть на тебя этот венок, решил, что я издеваюсь, так ведь? Ах, Гармахис, то была всего лишь шутка. Как тяжело бремя монархов, как утомительны их обязанности! Если бы ты это знал, ты бы не вспыхнул гневом от того, что я попыталась развлечься безобидной шуткой. До чего же скучны эти царевичи и аристократы, эти чванливые надменные римляне! В глаза они клянутся мне в рабской преданности, а за спиной глумятся надо мной, говорят, что я пресмыкаюсь перед их триумвиратом, перед их империей, перед их республикой — колесо судьбы поворачивается, и те, кто крепче в него вцепился, возносятся наверх и обретают власть. Среди тех, кто меня окружает, нет ни одного настоящего мужчины, — глупцы, марионетки, трусы, ни единого мужественного человека я не встречала среди них после гибели Цезаря, которого весь мир не мог победить, а они предательски закололи кинжалами. Я не могут допустить, чтобы Египет попал к ним в руки, и потому вынуждена стравливать их друг с другом, может быть, хоть это нас спасет. И какова награда? Меня на всех перекрестках позорят, мои подданные ненавидят меня, я это знаю, знаю, — вот моя награда! И я уверена: хоть я и женщина, они давно убили бы меня, да только никак не удается! Она умолкла и закрыла глаза рукой, — это она сделала очень кстати, потому что я похолодел от ее слов и отпрянул в сторону. Люди осуждают меня, я знаю; называют блудницей, а я оступилась один-единственный раз в жизни, когда полюбила величайшего человека в мире, любовь к нему зажгла во мне непреодолимую страсть, но страсть эта была священна. Бесстыдные клеветники-александрийцы обвиняют меня в том, что я отравила моего брата, Птолемея, которого римский Сенат, вопреки всем человеческим законам, насильно навязал мне в мужья — мне, его сестре! Но все эти обвинения — ложь: Птолемей заболел лихорадкой и умер. Однако это еще не все, молва утверждает, будто я хочу убить мою сестру Арсиною, ту самую Арсиною, которая спит и видит во сне, как бы убить меня. Какая отвратительная клевета! Арсиноя знать меня не желает, а я, я — нежно ее люблю. Да, все осуждают меня, хотя ничего дурного я не совершила. Даже ты, Гармахис, меня осуждаешь. Но прежде чем судить, Гармахис, вспомни, какое зло — зависть! Это тяжкая болезнь, она разъедает душу, калечит ум, извращает зрение, и ты видишь в ясном, открытом лице Добра Преступление, а в чистых помыслах невинной девушки тебе мерещится Порок! Задумайся, Гармахис, как чувствует себя тот, кого судьба высоко вознесла над любопытной и бесчестной чернью, которая ненавидит тебя за твое богатство и за твой ум, скрежещет от ярости зубами и под прикрытием собственного ничтожества пронзает тебя стрелами лжи, ибо эти бескрылые твари не способны взлететь; они жаждут низвести все высокое и благородное до своего уровня, втоптать в грязь. И потому не спеши осуждать облеченных властью, ибо за каждым их поступком следят миллионы враждебных глаз, каждое слово ловят миллионы настороженных ушей, их самую безобидную ошибку тут же разносит по всему свету молва, злорадно торжествуя и крича, что они совершили преступление. Не говори сразу: «Они правы; конечно, они правы», лучше спроси: «А правы ли они? Так ли все было на самом деле? По своей ли воле она так поступила?» Суди справедливо и милосердно, Гармахис, как судила бы я, окажись я на твоем месте. Помни, что царица не принадлежит себе. Она — игрушка и оружие в руках политических сил, которые творят историю и записывают ее события на железных скрижалях. О Гармахис, будь моим другом, другом и советником, которому я могла бы безраздельно доверять, ведь здесь, в этом кишащем людьми дворце, нет более одинокого существа, чем я. Но тебе я доверяю; в твоих спокойных глазах я вижу верность, и я добьюсь для тебя высокого положения. Ах, как мне невыносимо мое душевное одиночество, я должна найти человека, с которым могла бы говорить, не опасаясь предательства, откровенно делиться своими мыслями. У меня много несовершенств, я сама знаю, но я не вовсе недостойна твоей преданности, ибо среди плевел в моей душе есть и добрые зерна. Скажи, Гармахис, ты чувствуешь ко мне сострадание, потому что я так одинока? Ты поддержишь меня своей дружбой — женщину, у которой столько поклонников, придворных, слуг, рабов, что и не счесть, но нет ни единого друга? — И она приблизилась ко мне, слегка коснувшись плечом и гладя на меня своими дивными фиалковыми глазами. Я был потрясен. Я вспомнил о том, что должно произойти завтра ночью, и меня пронзили боль и стыд. Это меня-то она выбрала своим другом! Меня, у которого на груди спрятан кинжал убийцы! Я опустил голову, и то ли стон, то ли рыдание вырвалось из моего истерзанного сердца. Но Клеопатра, считая, что я просто растроган ее столь неожиданно свалившейся на меня милостью, нежно улыбнулась и сказала: — Уже поздно; завтра ночью, когда ты принесешь мне предсказание, мы снова будем говорить, мой друг Гармахис, и ты дашь мне ответ. — Она протянула мне руку, и я ее поцеловал. Поцеловал, сам не понимая, что я делаю, а она в тот же миг исчезла. Я же остался стоять, гладя ей вслед, точно завороженный.
Глава 13
Повествующая о сцене ревности и о признании Хармианы; о том, как Гармахис рассмеялся в ответ; о подготовке к кровавому деянию и о вести, которую старая Атуа передала Гармахису.Я стоял, застыв, погруженный в свои мысли. Потом случайно мой взгляд упал на венок из роз, и я взял его в руки. Сколько я так стоял — не знаю, но когда я наконец поднял глаза, я увидел Хармиану, о которой совсем забыл. И хотя в тот миг мои помыслы были далеко от нее, я рассеянно отметил, что щеки ее горят словно бы от гнева и она нетерпеливо постукивает ножкой по полу. — А, это ты, Хармиана, — сказал я. — что с тобой? Затекли ноги, потому что пришлось так долго стоять в нише? Почему не выбралась из нее незаметно и не убежала, когда мы с Клеопатрой вышли на площадку? — Где мой шарф? — спросила она, впиваясь в меня гневным взглядом. — Я обронила здесь мой шелковый вышитый шарф. — Как где твой шарф? Ты разве не видела? Клеопатра принялась меня поддразнивать, и я выбросил его с башни. — Не сомневайся, видела, и видела все слишком хорошо. Мой шарф ты выбросил, а вот венок из роз — его ты выбросить не смог. Ведь это поистине «дар царицы», и потому царственный Гармахис, жрец Исиды, избранник богов, коронованный фараон, посвятивший себя возрождению и процветанию Египта, будет свято хранить его и любоваться им. Что такое в сравнении с венком мой шарф, — раз наша развратная царица посмеялась над тобой, его надо выкинуть! — О чем ты? — спросил я, пораженный горечью, которая звучала в ее голосе. — Разгадай мне свои загадки. — Ты не понимаешь, о чем я? — Она вскинула голову, и я увидел ее белую плавно выгнутую шею. — Да ни о чем, а если хочешь — о самом главном, понимай как знаешь. Неужто ты так простодушен, Гармахис, мой брат и господин мой? — продолжала она тихо и язвительно. — Тогда я объясню: тебе грозит великая опасность. Клеопатра опутала тебя своими роковыми сетями, и ты уже почти любишь ее, Гармахис, — любишь ту, которую должен убить завтра! Да, стой и смотри как зачарованный на венок, что ты держишь в руках, венок, который ты не смог выбросить вслед за моим шарфом, — еще бы, ведь он был на голове Клеопатры! С благоуханием роз смешался аромат ее волос — волос любовницы Цезаря и множества других мужчин! Скажи мне, мой Гармахис, далеко ли ты продвинулся со своими любезностями, когда был с нею на площадке? Ведь из той ниши, где я пряталась, мне было ничего не видно и не слышно. Прелестное место для влюбленных, правда? И время самое подходящее, согласись. Не сомневаюсь: сегодня над всеми звездами царит Венера. Она проговорила все это спокойно, мягко и даже ласково, хоть речь ее была жестока, и в то же время так ядовито, что каждое слово жгло мне сердце, я вспыхнул от гнева и даже не мог дать ей сразу отповедь. — Да, ты ничего не упустишь, — продолжала она жалить меня, видя мою растерянность, — сегодня целуешь уста, которые завтра от твоего кинжала смолкнут навеки! Все точно рассчитываешь и пользуешься удобным случаем — удивительно достойное и благородное поведение. И тут я наконец обрел дар речи. — Да как ты смеешь так клеветать на меня, ничтожная? — вскричал я. — Ты что, забыла, кто ты и кто я? Как ты посмела осыпать меня своими глупыми насмешками? — Я помню, кем тебе надлежит быть, — тотчас же парировала она. — Кто ты сейчас, я не знаю. Это ведомо только тебе — тебе и Клеопатре. — О чем ты говоришь? Разве я виноват, что царица… — Царица? Вот как, у нашего фараона есть царица? — Если Клеопатра пожелала прийти сюда ночью и поговорить со мной… — О звездах, Гармахис, о звездах и о розах, больше ее ничего не интересует! Что я ей на это ответил — не помню, ибо хоть я и был в смятении чувств, злой язык девушки и нежно-вкрадчивый голос привели меня в бешенство. Знаю только одно: я говорил с ней так сурово, что она испугалась, как испугалась в тот вечер, когда дядя Сепа поносил ее за греческое платье. И так же, как в тот вечер, залилась слезами, только сейчас она не плакала, а бурно рыдала. Наконец я умолк, мне было стыдно, гнев не прошел, душу саднила обида. Ибо она хоть и рыдала, но время от времени отпускала шпильки — на редкость острые и ядовитые. — Как можешь ты так со мной говорить! Это жестоко, это недостойно мужчины! Но я забыла: ведь ты же не мужчина, ты всего лишь жрец! Быть может, ты мужчина только с Клеопатрой! — По какому праву ты оскорбляешь меня? Какой смысл скрывается в твоих словах? — По какому праву? — спросила она, глядя на меня своимитемными глазами, из которых по нежным щекам лились слезы, словно капли утренней росы из сердцевины лилии. — По какому праву? О, Гармахис, неужели ты совсем слеп? Неужели в самом деле не знаешь, по какому праву я так говорю с тобой? Что ж, тогда придется мне открыть тебе. В Александрии такое признание не считается преступлением. Так вот, это право — великое святое право женщины, право безграничной любви, которой я люблю тебя, Гармахис, и которой ты, судя по всему, совсем не замечаешь, — право моего счастья и моего позора. Ах, не гневайся на меня, Гармахис, не отворачивайся от меня, не считай легкомысленной женщиной, потому что с уст моих наконец-то сорвались слова признания, — я вовсе не легкомысленная. Я такова, какой ты пожелаешь меня сделать. Я — воск в руках скульптора, и что ты из него вылепишь, то и будет. В душе моей поднимается прибой добра и света, и если ты будешь моим кормчим, моим вожаком, он принесет меня в страну высоких духом и благородных, о которой я никогда и не мечтала. Но если я тебя потеряю, то потеряю узду, которая сдерживает все худшее во мне, и пусть тогда разобьется моя барка! Ты не знаешь меня, Гармахис, не подозреваешь, какие могучие силы противоборствуют в оболочке моего хрупкого тела! Для тебя я всего лишь заурядная женщина, хитрая, капризная, пустая. Поверь мне, это не так! Поделись со мной своими самыми возвышенными мыслями — и я их разделю, открой, какая неразгаданная тайна мучит твой ум, — я помогу тебе проникнуть в ее суть. Мы с тобой одной крови, и любовь сметет то малое, в чем мы разнимся, она поможет слиться нам в одно существо. У нас одна и та же цель, мы любим ту же землю, одной и той же клятвой поклялись. Прими меня в свое сердце, Гармахис, посади рядом с собой на трон Верхнего и Нижнего Египта, и клянусь — я вознесу тебя туда, куда не поднимался ни один из смертных. Но если ты отвергнешь меня, то горе тебе, ибо я низвергну тебя во прах! Итак, я открылась тебе, презрев наши обычаи, преступив свою девичью сдержанность и скромность, меня толкнула на этот дерзкий поступок прекрасная царица Клеопатра, это живое воплощение коварства, которая ради забавы решила покорить своими уловками глупого астронома Гармахиса. Теперь ответь мне ты, я жду. — Она сжала руки и, сделав один единственный шаг ко мне, впилась взглядом в мое лицо, бледная, как полотно, дрожащая. Я словно онемел, ибо, вопреки всему, ее чарующий голос и ее страстная речь растрогали меня и взволновали, точно переворачивающая душу музыка. Если бы я любил эту женщину, меня, без Сомнения, зажгло бы ее пламя; но я не чувствовал к ней и тени любви, а вызвать страсть разумом не мог. И в голове у меня замелькали разные картины, почему-то вдруг стало смешно, как случается с человеком, у которого нервы напряжены до предела. Я мысленно увидел себя вечером на пиру, когда она нахлобучила мне на голову венок из роз. Потом вспомнился ее шарф, который я выбросил с платформы башни. Я представил Хармиану в нише, где она пряталась, наблюдая за уловками — как она их называла — Клеопатры, услышал ее жалящие речи. И наконец, я подумал: интересно, а что сказал бы дядя Сепа, если бы увидел и услышал ее сейчас, что он сказал бы о странном, запутанном положении, в котором я очутился, словно в ловушку попал? И я расхохотался — глупец, этим смехом я обрек себя на гибель! Она еще больше побледнела, лицо стало серым, как у мертвой, и на нем появилось выражение, убившее мое дурацкое веселье. — Так, стало быть, Гармахис, — проговорила она тихо, срывающимся голосом и глядя в пол, — мои слова всего лишь позабавили тебя? — Нет, Хармиана, нет, — ответил я, — прости мне этот глупый смех. Ведь я смеялся от отчаяния: что я могу сказать тебе? Ты говорила так взволнованно и так возвышенно о том, что ты способна сделать, — мне ли рассказывать тебе о тебе самой? Она вся сжалась, и я умолк. — Продолжай, — прошептала она. — Ты знаешь, и знаешь лучше многих, кто я и что я должен выполнить; ты также знаешь, что я посвящен Исиде и что божественный закон не позволяет мне даже думать о любви к тебе. — Конечно, — прервала она меня все так же тихо и по-прежнему не отрывая глаз от пола, — конечно, я все знаю, и знаю также, что ты нарушил свои клятвы, — если не действием, то в душе, — они растаяли, как корона облаков в небе: Гармахис, ты любишь Клеопатру! — Ложь! — вскричал я. — Распутница, ты хочешь соблазнить меня и вынудить предать мой долг, покрыть себе в глазах Египта несмываемым позором! Поддавшись страсти, честолюбию, а может быть, вдохновленная жаждой творить зло, ты не постыдилась преступить запреты, налагаемые девичьим целомудрием, и призналась мне в любви! Берегись, если ты зайдешь слишком далеко! Ты хотела, чтобы я тебе ответил? Что ж, я отвечу так же откровенно, как ты спросила. Хармиана, меня связывает с тобой только мой долг перед страной и принесенные мной клятвы — больше ничего! Сколько бы ты ни пыталась заворожить меня своими нежными взглядами, сердце мое не забьется быстрее. И я даже не питаю к тебе дружеских чувств, ибо отныне не доверяю тебе. Но предупреждаю тебя еще раз: берегись! Мне ты можешь вредить сколько тебе вздумается, но если ты посмеешь причинить хоть самое малое зло нашему святому делу, знай — ты умрешь! Я все сказал. Игра кончена. Я был вне себе от гнева, и, слушая меня, она отступала, отступала все дальше и наконец прижалась к стене и закрыла лицо руками. Но вот я умолк, и ее руки упали, она взглянула на меня, но лицо у нее было неподвижное, как у статуи, только огромные глаза горели, точно два угля, окруженные фиолетовыми тенями. — Да, игра кончена, — проговорила она тихо, — осталось лишь посыпать песком арену. — Это она вспомнила, что после гладиаторских боев пролитую кровь засыпают мелким песком. — Ну что ж, — продолжала она, — не стоит тебе тратить свой гнев на столь презренное создание. Я бросила кости и проиграла. Vae victis! О, vae victis![489] Дай мне свой кинжал, тот, что ты прячешь в складках одежды на груди, и я сейчас же, не медля ни минуты, избавлюсь от позора! Не даешь? Тогда хоть выслушай меня, о царственный Гармахис: забудь слова, что я произнесла, молю тебя, и никогда меня не бойся. Я так же верно, как и прежде, служу тебе и нашему общему делу. Прощай! Она побрела прочь, цепляясь рукой за стену. А я, уйдя к себе в спальню, упал на ложе и застонал от муки. Увы, мы строим планы и медленно возводим дом нашей надежды, не зная, каких гостей приведет в этот дом Время. Кто, кто из нас способен предвидеть непредвиденное? Наконец я заснул, и всю ночь мне снились дурные сны. Когда я пробудился, в окно уже лился свет дня, который увидит исполнение наших кровавых замыслов, в саду средь пальм радостно заливались птицы. Да, я проснулся, и в тот же миг меня пронзило предчувствие беды, ибо я вспомнил, что, прежде чем нынешний день канет в вечность, я должен буду обагрить руки в крови — в крови Клеопатры, которая верит мне и считает своим другом! Я должен ее ненавидеть, почему же у меня нет ненависти к ней? Когда-то я смотрел на этот акт мести и как на высокий подвиг и жаждал совершить его. А сейчас… сейчас… признаюсь честно: я с радостью бы отказался от своего царского происхождения, лишь бы меня избавили от этой тягостной обязанности. Но увы, я знал, что избавления мне нет. Я должен испить чашу до дна, иначе я навек покрою себя позором. Я чувствовал, что за мной наблюдают глаза Египта, глаза всех его богов. Я молился моей небесной матери Исиде, прося ниспослать мне сил, чтобы я мог совершить это деяние, молился с таким жаром, какой никогда не вкладывал в мои молитвы, но странно — она не отзывалась на мой призыв. Почему? Что произошло? Кто разорвал нить, связующую нас, как случилось, что в первый раз в жизни богиня не пожелала услышать своего любимого сына и верного слугу? Неужели я согрешил против нее в своем сердце? Что там такое болтала Хармиана — что я люблю Клеопатру? Неужели эта моя мука — любовь? Нет, тысячу раз нет! Это лишь естественный протест природы против предательства и кровопролития. Богиня просто решила испытать мои силы, или, может быть, она тоже отвращает свой благой животворящий лик от тех, кто замышляет убийство? Я встал, содрогаясь от ужаса и отчаяния, и начал заниматься делами, но это был как бы не я. Я выучил наизусть все имена в роковых списках, повторил в уме последовательность действий, более того, я даже мысленно составил обращение фараона к его подданным, которым завтра я поражу весь мир. — Граждане Александрии и жители страны Египет, — так начиналось это обращение, — волею богов Клеопатру из династии Македонских Лагидов постигла кара за ее преступления… Я продолжал трудиться, но делал все как бы во сне, словно у меня не было ни воли, не желаний, а мною двигали какие-то неведомые мне силы. Время летело. В третьем часу пополудни я пришел, как было условлено, в дом к дяде Сепа — в тот самый дом, куда я впервые вступил три месяца назад, вечером, когда приплыл в Александрию. Там уже тайно собрались на совет вожди, которые должны возглавить восставших в Александрии; всего их было семь, когда я вошел и двери комнаты замкнули, они простерлись предо мною ниц, восклицая: «Желаем здравствовать, наш фараон!» Но я попросил их встать и сказал, что я пока не фараон, я тот самый птенец, который еще не вылупился из яйца. — Верно, царевич, — засмеялся дядя, — но клюв птенца уже пробил скорлупу. Если ты сегодня ночью сумеешь нанести этот удар кинжалом, значит, не зря Египет высиживал птенца все эти долгие годы. Да и что может тебе помешать? Мы идем прямо к победе, никто нас не остановит! — Все в воле богов, — ответствовал я. — Нет, — возразил он, боги поручили этот подвиг воле смертного — твоей воле, Гармахис, а твоя воля непоколебима. Смотри, вот еще несколько списков. В нашу поддержку поклялись выступить тридцать одна тысяча вооруженных воинов, как только до них дойдет весть о смерти Клеопатры и о твоей коронации. Через пять дней все цитадели Египта будут в наших руках, и тогда чего нам бояться? Рим нам не страшен, ему бы разобраться в своих собственных делах; к тому же мы заключим союз с триумвиратом и, если нужно, откупимся от него. Денег в стране довольно, а если потребуется еще, ты знаешь, Гармахис, где их добыть, они хранятся в тайном месте на черный день для нужд Кемета, и римлянам они вовеки недоступны. Кто может причинить нам зло? Никто. Возможно, в этом ненадежном городе начнется борьба, возможно, существует еще один заговор, участники которого хотя привезти в Египет Арсиною и посадить на трон ее. Тогда с Александрией придется поступить жестоко и даже, если нужно, разрушить ее. Что до Арсинои, то завтра, после того, как станет известно, что царица умерла, мы изберем людей, которые тайно умертвят ее. — Но остается мальчик, Цезарион, — заметил я. — Он — наследник Клеопатры, и римляне могут заявить, что Египет принадлежит им, раз им правит сын Цезаря. Тут кроется огромная опасность. — Опасности нет никакой, — возразил дядя, — завтра Цезарион встретится в Аменти с теми, кто его родил на свет. Я уже об этом позаботился. Род Птолемеев должен быть выкорчеван, чтобы корни этого проклятого богами древа не дали больше ни одного ростка. — А нельзя обойтись без убийств? — печально спросил я. — Мне тягостно думать об этих потоках крови. Я хорошо знаю мальчика: он унаследовал красоту и одухотворенность Клеопатры и Цезарев великий ум. Умертвить его было бы преступление. — Что за малодушие, Гармахис? Я не узнаю тебя, — сурово сказал дядя. — Откуда эта жалость? Если мальчик и вправду таков, как ты его описываешь, тем больше оснований с ним покончить. Неужто ты хочешь оставить жизнь львенку, который вырастет в могучего льва и столкнет тебя с трона? — Что ж, пусть будет так, — ответил я со вздохом. — по крайней мере, он избегнет многих страданий и вступит в Аменти, не совершив зла. Обсудим теперь последовательность действий. Мы долго сидели и обсуждали, как и в каком случае лучше поступить, и наконец, проникшись важностью минуты и сознанием нашей высокой цели, я почувствовал, как сердце мое оживляется, хоть и не прежним воодушевлением. Но вот все было условлено и обговорено, мы предусмотрели все мелочи и исключили возможность неудачи; решили даже, что если непредвиденные обстоятельства помешают мне убить Клеопатру сегодня ночью, мы подождем до завтра и тогда уж начнем действовать, ибо смерть Клеопатры должна послужить сигналом к выступлению по всей стране. Закончив совет, мы снова встали и, возложив руки на священный символ, поклялись клятвой, которую мне не позволено здесь начертать. Дядя поцеловал меня, в его черных живых глазах сверкали слезы радости и надежды. Он благословил меня и сказал, что счел бы счастьем отдать свою жизнь — тысячу жизней, если бы они у него были, — только бы увидеть Египет свободным, как прежде, а меня, Гармахиса, потомка его древних фараонов, возвести на престол. Он истинно и бескорыстно любил нашу отчизну и отдавал все силы ее возрождению. Я тоже поцеловал его, и мы расстались. Никогда больше я не встретился с ним в этом мире, а в том, другом, он вкушает покой среди полей Иалу, покой, в котором будет отказано мне. Я покинул его дом и, поскольку было еще рано, быстро зашагал по улицам огромного города, осматривая все ворота, за которыми должны были собраться наши воины. В конце концов я пришел в порт, на набережную, где я сошел с барки, когда приплыл в Александрию, и увидел в открытом море судно. На сердце у меня было так тяжело, что я не мог оторвать от него глаз и мечтал лишь об одном: оказаться бы мне сейчас на этой барке и пусть ее белые паруса унесут меня на край света, где я стану жить, никому не ведомый, а потом умру, и все меня забудут. Потом я увидел еще одно судно, которое приплыло сюда по Нилу, с него на набережную спускались путешественники. С минуту я стоял и праздно их разглядывал, мелькнула мысль, не из Абидоса ли эти люди, как вдруг возле меня раздался знакомый голос: — Ах-ха-ха-ах! Ну и город, такой старухе, как я, здесь делать нечего. Да разве я найду в эдаком столпотворении друзей, к которым приехала? Это все равно что искать в свитке папируса тростник, из которого он сделан. А ты, мошенник проваливай! Не трогай мою корзину с целебными травами, не то, клянусь богами, я с их помощью нашлю на тебя злую хворь! Я в изумлении оглянулся — передо мной лицом к лицу стояла моя няня, старая Атуа. Она тотчас же узнала меня, ибо вздрогнула, это не укрылось от моих глаз, однако же вокруг был народ, и она не показала удивления. — Мой добрый господин, — опасливо проговорила она, обращая ко мне свое морщинистое лицо и сделав рукой условный тайный знак, — мой добрый господин, судя по платью, ты астроном, мне строго наказали держаться от астрономов как можно дальше, ибо все они лгуны и дешевые шарлатаны, поклоняются только своей собственной звезде; и потому я, как истинная женщина, поступаю наоборот и прошу тебя помочь мне. Я уверена: в этой Александрии, где все не так, как у людей, астрономы наверняка единственные, кому можно доверять, а все остальные — обманщики и воры. — И прошептала, потому что мы отошли от плотной толпы и никто нас теперь не слышал: — Мой царственный Гармахис, я привезла тебе весть от твоего отца Аменемхета. — Здоров ли он? — спросил я. — Да, он здоров, но ожидание великого события отнимает у него силы. — А что за весть он послал мне с тобой? — Сейчас услышишь. Он шлет тебе свою любовь и благословение и просит передать, что над тобой нависла грозная опасность, хотя какая именно — он не мог разгадать. Вот слова, которые он произнес: «Будь тверд, и ты восторжествуешь». Я опустил голову, ибо от этих слов мое сердце опять похолодело и в страхе сжалось. — Когда все должно произойти? — спросила она. — Сегодня ночью. Куда ты направляешься? — В дом благородного Сепа, жреца из Ана. Ты можешь проводить меня к нему? — Нет, мне больше нельзя задерживаться; да и не — надо, чтобы нас видели вместе. Эй, поди сюда! — крикнул я носильщику, который болтался без дела, и, дав ему денег, велел отвести старуху к дому дяди Сепа. — Прощай, — шепнул она, — прощай же до завтра. Будь тверд, и ты восторжествуешь. Я побрел по запруженным людьми улицам, причем все расступались передо мной, ибо слава моя была велика. Я шел, и мне слышалось, будто подошвы моих сандалий отбивают: «Будь тверд… Будь тверд… Будь тверд…», а потом стало казаться, что это сама земля предостерегает меня.
Глава 14
Повествующая о загадочных речах Хармианы; о появлении Гармахиса в покоях Клеопатры и о его поражении.Наступил вечер, я сидел один в своей обсерватории и ждал Хармиану, которая, как уговорено, должна была прийти за мной и отвести в покои Клеопатры. Да, я сидел один, и передо мною лежал кинжал, который должен был пронзить сердце царицы. Лезвие было длинное и острое, а рукоятка в виде сфинкса, из чистого золота. Я сидел один и молил богов открыть мне будущее, но боги молчали. Наконец я поднял глаза и увидел, что возле меня стоит Хармиана — не та кокетливая и искрящаяся весельем, какой я ее всегда знал, но бледная, с пустым взглядом. — Царственный Гармахис, — произнесла она, — Клеопатра призывает тебя к себе, она желает знать, что предвещают звезды. Так вот он, час моей судьбы! — Я иду, Хармиана, — ответил я. — Все ли подготовлено? — Да, господин мой, все подготовлено: Павел выпил чуть не бочку вина и стоит у ворот, двое евнухов ушли, остался только один, легионеры спят, а Сепа и его отряд уже собрались в условленном месте, неподалеку от восточных ворот. Мы не упустили ни одну мелочь, и царица Клеопатра так же не подозревает об уготованной ей роковой участи, как не ждет смерти овечка, которая резво бежит на бойню. — Что ж, хорошо, — проговорил я, — пойдем же. — И, встав, положил кинжал себе за пазуху. Потом взял кубок с вином, что стоял на столе, и осушил его до дна, ибо весь день я почти ничего не ел и не пил. — Подожди, я хочу тебе сказать… — волнуясь, начала Хармиана. — У нас еще есть время. Вчера ночью… вчера ночью… — грудь ее судорожно вздымалась, — мне приснился сон, который неотступно преследует меня; и тебе тоже, мне кажется, снился сон. Все это было всего лишь сон, давай же его забудем, согласен, господин мой? — Да, да, конечно, — ответил я, — не понимаю, зачем ты отвлекаешь меня такими пустяками в столь важный час. — Прости, сама не знаю; но сегодня ночью, Гармахис, Судьба должна разрешиться великими событиями, и, корчась в родовых муках, она может раздавить меня… или тебя, Гармахис, а может быть, нас обоих. И если нам суждено погибнуть, я бы хотела услышать от тебя, пока еще жива, что то был всего лишь сон и ты его забыл… — Да, все и вся в этом мире сон, — думая о своем, проговорил я, — и ты сон, и я, и наша земная твердь, и эта ночь невыразимого ужаса, и этот острый нож — разве все это нам не снится? И каким станет мир, когда мы проснемся? — Ну вот, мой царственный Гармахис, теперь ты тоже проникся моим настроением. Как ты сказал, все в этой жизни сон; и он на наших глазах меняется. Видения, которые нам являются, удивительны, они не стоят на месте, но плывут, точно облака на закатном небе, то громоздятся горами, то тают; то темнеют, словно наливаясь свинцом, то горят в золотом сиянии. Поэтому до того, как мы проснемся завтра, скажи мне одно только слово. Тот сон, что привиделся нам прошлой ночью, в котором я, как мне вспоминается, словно бы опозорила себя, а ты — ты словно бы смеялся над моим позором, так вот — его лик запечатлелся в твоей памяти неизгладимо или, может быть, он вдруг способен измениться? Помни: как бы причудливы и фантастичны ни были наши сны, но после пробуждения их образы пребудут с нами, вечные и неизменные, как пирамиды. Они останутся в той недоступной переменам области прошлого, где все великое и малое — и даже наши сны, Гармахис, — застывает в своем собственном обличье, как бы обращаясь в камень, и из них воздвигается гробница Времени, которое бессмертно. — Прости меня Хармиана, — ответил я, — мне больно, если я огорчу тебя, но то видение не изменилось. Вчера я был с тобою откровенен, и сейчас ничего иного сказать не могу. Я люблю тебя как сестру, как друга, но ты не можешь быть для меня ничем другим. — Ну что ж, благодарю тебя. Забудем все, что было. Забудем о прошлых снах — пусть теперь снятся нам другие. — И она улыбнулась очень странной улыбкой, я никогда раньше не видел такой на ее лице: в ней было больше пророческой печали, чем на лбу страдальца, которого отметил своей печатью Рок. Я был глуп и потому слеп, я был поглощен скорбью моего собственного сердца и потому не понял, что, улыбаясь этой улыбкой, египтянка Хармиана прощалась со счастьем, с юностью; надежда на любовь исчезла, Хармиана презрела священные узы долга. Этой улыбкой она предала себя Злу, отринула свою отчизну и богов, преступила священную клятву. Да, в тот самый миг улыбка этой девушки изменила ход истории. И если бы она не мелькнула на лице Хармианы, Октавиан не стал бы владыкой мира, а Египет вновь обрел бы свободу и возродился великим и могучим. И все это решила женская улыбка! — Почему ты так странно смотришь на меня, Хармиана? — спросил я. — Случается, мы улыбаемся во сне, — ответила она. — А вот теперь действительно пора; следуй за мной. Исполнись решимости, и ты восторжествуешь, царственный Гармахис! — И, склонившись передо мной, он взяла мою руку и поцеловала. Потом, бросив на меня еще один непостижимый взгляд, стала спускаться вниз по лестнице и повела по пустым залам дворца. В чертоге, потолок которого поддерживают колонны из черного мрамора и который называется Алебастровым Залом, мы остановились. Дальше начинались покои Клеопатры, те самые, в которых я впервые увидел ее спящей. — Подожди меня здесь, — сказала Хармиана, — а я доложу Клеопатре, что ты явился. — И она скользнула прочь. Долго я стоял, может быть, полчаса, считая удары своего сердца, я был словно во сне и все пытался собрать силы, чтобы совершить то, что мне предстояло. Наконец появилась Хармиана, она ступала тяжело, голова была низко опущена. — Клеопатра ожидает тебя, — сказала она, — входи, стражи нет. — Где я тебя найду, когда все будет кончено? — хрипло спросил я ее. — Ты найдешь меня здесь, а потом мы пойдем к Павлу. Исполнись решимости, и ты восторжествуешь. Прощай, Гармахис! И я пошел к покоям Клеопатры, но возле занавеса вдруг обернулся и в этом пустом, освещенном светильником зале увидел странную картину. Далеко от меня, подле самого светильника, в бьющих прямо в нее лучах стояла Хармиана, откинув назад голову и заломив руки, и ее юное лицо было искажено мукой такой гибельной страсти, что описать ее я не могу. Ибо она была уверена, что я, ее любимый, самое дорогое, что у нее есть на свете, иду на смерть и она прощается со мной навек. Но ничего этого я тогда не знал; и, еще раз болезненно и мимолетно удивившись, откинул занавес, переступил порог и оказался в покое Клеопатры. Там, в дальнем углу благоухающего покоя, на шелковом ложе возлежала в роскошном белом одеянии царица. В руке у нее было опахало из страусовых перьев с ручкой, усыпанной драгоценными камнями, и она томными движениями овевала себя; возле ложа стояла ее арфа слоновой кости и столик, а на столике блюдо с инжиром, два кубка и графин рубинового вина. Я медленно приближался сквозь мягкий приглушенный свет к ложу, на котором во всей своей слепящей красоте лежала Клеопатра, это чудо света. Да, поистине, никогда она не была столь прекрасна, как в ту роковую ночь. Среди шелковых, янтарного цвета подушек она казалась как бы звездой на золотом закатном небе. От ее волос и одежд исходило благоухание, голос звучал чарующей музыкой, в синих сумеречных глазах мерцали и вспыхивали огни, точно в недобрых опалах. И эту женщину я должен сейчас убить! Я медленно шел к ней, потом поклонился, но она меня не замечала. Она лежала среди шелков, и ее украшенное драгоценностями опахало осеняло ее, точно яркое крыло парящей птицы. Наконец я остановился возле ложа, и она подняла на меня глаза, а страусовыми перьями прикрыла грудь, словно желая скрыть ее красоту. — А, это ты, мой друг? Ты пришел, — пропела она. — Я рада тебе, мне было так одиноко. В каком печальном мире мы живем! Вокруг нас столько лиц, и как же мало тех, кого хочется видеть. Что ты стоишь, как изваяние, присядь. — И она указала своим опахалом на резное кресло у изножья своего ложа. Я снова поклонился и сел в кресло. — Я выполнил повеление царицы, — начал я, — и со всем тщанием и всем искусством, которое мне подвластно, прочел предначертание звезд; вот записи, что я составил после всех моих трудов. Если царица позволит, я растолкую ей звездный гороскоп. — И я поднялся, чтобы склониться над ней сзади и, когда она будет читать папирус, вонзить кинжал ей в спину. — Не надо, Гармахис, — спокойно проговорила она, улыбаясь своей томительной, обвораживающей улыбкой. — Не вставай, дай мне только свои записи. Клянусь Сераписом, твое лицо слишком красиво, я хочу смотреть на него, не отрывая глаз! Она разрушила наш замысел, и мне не оставалось ничего другого, как отдать ей папирус, и, отдавая, я подумал про себя, что вот сейчас она начнет смотреть его, а я неожиданно брошусь на нее и убью, вонзив кинжал в сердце. Она взяла папирус и при этом коснулась моей руки. Потом сделала вид, что читает предсказание, но сама и не взглянула в него, она из-под ресниц внимательно глядела на меня, я это видел. — Почему ты прижимаешь руку к груди? — через минуту спросила она, ибо я действительно сжимал рукоять кинжала. — У тебя болит сердце? — Да, о царица, — прошептал я, — оно вот-вот разорвется. Она ничего не ответила, но снова притворилась, что читает предсказание, хотя сама не спускала с меня глаз. Мысли мои лихорадочно метались. Как совершить это омерзительное преступление? Броситься на нее с кинжалом сейчас? Она увидит, начнет кричать, бороться. Нет, надо дождаться удобного случая. — Так, стало быть, Гармахис, звезды нам благоприятствуют? — спросила она наконец, вероятно, просто по наитию. — Да, моя царица. — Великолепно. — И она бросила папирус на мраморный столик. — Значит, барки на рассвете отплывут. Победой это кончится или поражением, но мне смертельно надоело плести интриги. — Это очень сложная схема, о царица, — возразил я, — мне хотелось объяснить тебе, какие знамения я положил в основу гороскопа. — Нет, мой Гармахис, благодарю, не надо; мне надоели причуды звезд. Ты составил предсказание, мне и довольно; ты честный человек, и, стало быть, твое предсказание правдиво. Поэтому не объясняй мне ничего, давай лучше веселиться. Что мы будем делать? Могу сплясать тебе — никто не сравниться со мной в искусстве танца! Но нет, пожалуй, это недостойно царицы! Придумала: я буду петь! — Она села на ложе, спустила ноги, притянула к себе арфу и несколько раз пробежала по ее струнам пальцами, потом запела своим низким, бархатным голосом прекрасную песнь любви:
Глава 15
Повествующая о пробуждении Гармахиса; о трупе у его ложа, о приходе Клеопатры и о словах утешения, которые она произнесла.Я снова проснулся и снова увидел, что я в своей комнате. Меня так и подбросило. Что же, стало быть, мне тоже приснился сон? Ну конечно же, конечно, мне все это приснилось! Не мог я, в самом деле, совершить предательство! Не мог навсегда потерять нашу единственную возможность! Не мог предать наше великое дело, не мог бросить на произвол судьбы храбрецов, во главе которых стоял мой дядя Сепа! Неужели они напрасно ждали у восточных ворот дворца? Неужели весь Египет до сих пор ждет — и ждет напрасно? Нет, все, что угодно, но это немыслимо! Мне просто приснился кошмар, если такой приснится еще раз, сердце у человека разорвется. Лучше умереть, чем увидеть подобный ужас, который наслали на меня силы зла. Да, да, конечно, все это лишь чудовищное видение, рожденное измученным воображением, однако где я? Где я сейчас? Я должен быть в Алебастровом Зале и ждать, когда ко мне выйдет Хармиана. Но это не Алебастровый Зал, и, боги великие, что это за страшная груда лежит возле изножья ложа, на котором, я кажется, спал, — что-то зловеще напоминающее человека, завернутое в белую окровавленную ткань? С пронзительным воплем я прыгнул на эту груду, как лев, и изо всех сил нанес по ней удар. Под его тяжестью груда перевернулась на бок. Обезумев от ужаса, я сорвал белую ткань: согнутый пополам, с коленями, подтянутыми к отвисшей челюсти, лежал голый труп мужчины, и труп этот был начальник стражи римлянин Павел. Он лежал передо мной, и в сердце у него был кинжал, — мой кинжал, с золотой рукояткой в виде сфинкса! — а лезвие прижимало к его могучей груди кусок папируса, на котором было что-то написано латинскими буквами. Я наклонился и прочел:
HARMACHIDI * SALVERS * EGO * SUM * QUEM SUBDERE * MORAS * PAULUS * ROMANUS DISCE * HINC * QUID * PRODERE * PROSIT.«Приветствую тебя, Гармахис! Я был тот самый римлянин Павел, которого ты подкупил. Узнай, какая жалкая судьба ждет предателей!» На меня нахлынула дурнота, я, шатаясь, стал пятиться от трупа, который был весь в пятнах запекшейся крови. Я пятился, шатаясь, пока не наткнулся на стенку, и замер возле нее, а за окном пели птицы, весело приветствуя день. Стало быть, это был не сон, и я погиб, погиб, погиб! Я подумал о моем старом отце Аменемхете. Но тут же меня пронзил страх, что он умрет, когда узнает, что сын его покрыл себя позором и погубил его надежды. Подумал о преданном отчизне жреце, моем любимом дяде Сепа, который всю долгую нынешнюю ночь ждал сигнала, но так и не дождался! И сердце мое опять сжалось: что будет с ним и со всеми нашими сторонниками? Ведь я оказался не единственным предателем — меня тоже кто-то предал. Кто это был? Быть может, мертвый Павел. Однако, если предал Павел, он ничего не знал о заговорщиках, которые трудились со мною заодно! Но тайные списки были у меня на груди, в моей одежде… О Осирис, они исчезли! Всех, кто жаждал возрождения Египта, ждет судьба Павла. Эта мысль поразила меня, как удар. Я медленно сполз на пол, чувствуя, что теряю сознание. Когда я очнулся, то по теням догадался, что уже полдень. Я кое-как поднялся; труп Павла лежал на том же месте, как бы неся свою зловещую вахту. Я в отчаянии бросился к двери. Она была заперта, снаружи раздавались тяжелые шаги стражей. Они спросили у кого-то пароль, потом я услышал, как стукнули о пол древки копий. Запоры отомкнули, дверь открылась, и в комнату вошла сияющая, в парадном царском одеянии, победительная Клеопатра. Вошла одна, и дверь за ней закрылась. Я стоял как громом пораженный, а она легким шагом приблизилась ко мне и встала рядом. — Приветствую тебя, Гармахис, — проворковала она, улыбаясь. — Стало быть, мой вестник нашел тебя! — И она указала на труп Павла. — Фи, как он безобразен. Эй, стражи! Дверь отворилась, два вооруженных галла переступили порог. — Унесите эту разлагающуюся падаль и выбросите стервятникам, пусть его терзают. Погодите, выньте сначала кинжал из груди этого предателя. — Стражи склонились к трупу, с усилием вытащили из сердца Павла окровавленный кинжал и положили на стол. Потом взяли за плечи и за ноги и понесли прочь, я слышал их тяжелые шаги по лестнице. — Кажется мне, Гармахис, ты попал в большую беду, — произнесла она, когда звуки шагов замерли. — Как неожиданно поворачивается колесо Судьбы! Если бы не этот предатель, — она кивнула в сторону двери, через которую пронесли труп Павла, — я представляла бы сейчас собой столь же отвратительное зрелище, как он, и кинжал, что лежит на столе, был бы обагрен моей кровью. Стало быть, меня предал Павел. — Да, — продолжала она, — и когда ты пришел ко мне вчера ночью, я знала, что ты пришел меня убить, когда ты раз за разом подносил руку к груди, я знала, что рука твоя сжимает рукоятку кинжала и что ты собираешь все свое мужество, чтобы совершить деяние, которому противится твоя душа. Странные то были, фантастические минуты, когда вся жизнь висит на волоске, ради таких минут только и стоит жить, и я неотступно думала, кто же из нас победит, ибо в этом поединке мы были равны и в силе и в вероломстве. Да, Гармахис, твою дверь охраняют стражи, но я не хочу тебя обманывать. Не знай я, что связала тебя узами, более надежными, чем тюремные цепи, не знай я, что мне не угрожает от тебя никакое зло, ибо меня защищает твоя честь, которую не сокрушат копья всех моих легионов, ты давно был бы мертв, мой Гармахис. Смотри, вот твой кинжал, — она протянула его мне, — убей меня, если можешь. — И, встав передо мной, обнажила грудь и стала ждать; ее глаза были безмятежно устремлены на меня. — Ты не можешь убить меня, — вновь заговорила она, — ибо есть поступки, которых ни один мужчина — я говорю о настоящих мужчинах, таких, как ты, — не может совершить и после этого остаться жить; самый страшный из этих поступков, Гармахис, — убить женщину, которая тебя любит. Что ты делаешь, не смей! Отведи кинжал от своей груди, ибо если ты не смеешь убить меня, насколько более тяжкое преступление ты совершишь, лишив жизни себя, о жрец Исиды, преступивший клятвы! Тебе что, не терпится предстать пред разгневанным божеством в Аменти? Как ты думаешь, какими глазами посмотрит Небесная Мать на своего сына, который покрыл себя позором, нарушил самую свою святую клятву и вот теперь явился приветствовать ее с обагренными кровью руками? Где ты будешь искупать содеянное зло — если его тебе вообще позволят искупать! Этого я уже не мог вынести, сердце переполнилось горечью. Увы, она была права: я не имел права умереть. Я совершил столько злодеяний, что не смел даже думать о смерти! Я бросился на ложе и заплакал слезами того отчаянья, когда у человека уже не осталось тени надежды. Но Клеопатра подошла ко мне, присела рядом и, пытаясь утешить меня, нежно обняла. — Не плачь, любимый, подними голову, — пел ее голос, — не все потеряно, и я вовсе не сержусь на тебя. Да, игра была не на жизнь, а на смерть, но я предупреждала тебя, что пущу в ход свои женские чары против твоего чародейства, и видишь — я победила. Но я ничего не скрою от тебя. И как женщина, и как царица я полна жалости к тебе, — не просто жалости, а сострадания; но это еще не все: мне больно видеть, как ты терзаешься. То, что ты стремился отвоевать трон,который захватили мои предки, и вернуть свободу своей древней стране Кемет, лишь справедливо и достойно восхищения. Я сама, как законная царица, поступила в свое время так же и не остановилась перед жестокостью, ибо принесла клятву. И потому все мое сочувствие отдано тебе, как я всегда отдаю его великим и отважным. Тебя ужасает глубина твоего падения, но это тоже вызывает уважение. И я как женщина — как любящая тебя женщина — разделяю твое горе. Но знай: не все потеряно. Твой план был неудачен, ибо мне хорошо известно, что Египет не может существовать сам по себе как независимая держава, пусть бы даже ты отнял у меня корону и стал править, а вам, без всякого сомнения, переворот должен был бы удаться, — так вот, Гармахис, нельзя сбрасывать со счетов Рим. И я хочу вселить в тебя надежду: меня принимают не за ту, что я есть на самом деле. Нет сердца в этой огромной стране, которое переполняла бы такая беззаветная любовь к древнему Кемету, как мое, — да, Гармахис, я люблю его даже больше, чем ты. Но до сих пор я была словно в оковах — войны, восстания, заговоры, зависть связывали меня по рукам и по ногам, я не могла служить моему народу, как мне того хотелось. Но теперь, Гармахис, ты научишь меня. Ты будешь не только моим возлюбленным, но и моим советником. Разве так просто покорить сердце Клеопатры — то самое сердце, которое ты, да будет тебе во веки веков стыдно, хотел пронзить сталью? Да, ты, именно ты поможешь мне найти путь к моему народу, мы будем править вместе, объединив в едином царстве древнюю и новую страну, новое и древнее мышление. Ты видишь, все складывается к лучшему — о таком нельзя было и мечтать: ты взойдешь на престол фараона, но тебя приведет к нему совсем не столь жестокий и кровавый путь. Итак, мы сделаем все, Гармахис, чтобы замаскировать твое предательство. Твоя ли в том вина, что подлый римлянин донес о твоих намерениях? Что после того тебя опоили, выкрали тайные списки и без труда расшифровали? Разве тебя станут винить, что после неудачи великого заговора, когда его участники рассеялись по стране, ты, верный своему долгу, продолжал служить отчизне, пользуясь тем оружием, которое дала тебе Природа, и покорил сердце царицы Египта, надеясь с помощью ее преданной любви достичь своей цели и осенить своими мощными крылами родину Нила? Скажи, Гармахис, разве я плохо придумала? Я поднял голову, чувствуя, как во мраке моего отчаяния блеснула слабая надежда, ибо когда мужчина тонет, он хватается за соломинку. И я в первый раз за все время заговорил: — А те, кто был со мной… кто верил мне… что будет с ними? — Ты спрашиваешь о своем отце Аменемхете, старом жреце из Абидоса; о дяде Сепа, этом пламенном патриоте, с такой заурядной внешностью, но с великим сердцем; ты спрашиваешь о… Я думал, она скажет «о Хармиане», но нет, она не произнесла этого имени. — …о многих, многих других, — да, я знаю всех! — И что же ждет их? — Выслушай меня, Гармахис, — ответила она, вставая и кладя мне руку на плечо. — Ради тебя я проявлю ко всем к ним великодушие. Я накажу лишь тех, кого нельзя не наказать. Клянусь моим троном и всеми богами Египта, я никогда не причиню ни малейшего зла твоему старому отцу, и если еще не поздно, я пощажу твоего дядю Сепа и всех, кто был с ним. Я не поступлю, как мой прапрадед Эпифан: когда египтяне восстали против него, он повелел привязать к своей колеснице Афиниса, Павзираса, Хезифуса и Иробастуса, как Ахилл когда-то привязал Гектора, — только те, в отличие от Гектора, были живые, заметь, — и прокатился с ними вокруг городских стен. Я пощажу всех, кроме иудеев, если они были среди вас, ибо ненавижу их. — Иудеев среди нас нет, — ответил я. — Тем лучше, ибо их бы я не пощадила. Неужто я в самом деле такая жестокая, как меня расписывают? В твоем списке, Гармахис, было много обреченных на смерть, а я лишила жизни одного-единственного негодяя римлянина, дважды предателя, ибо он предал и меня и тебя. Скажи, Гармахис, ты не раздавлен милостью, которую я к тебе проявила, ибо ты мне нравишься, а для женщины, поверь, это достаточно веская причина, чтобы помиловать преступника. Нет, клянусь Сераписом! — Она вдруг негромко рассмеялась. — Я передумала: пожалуй, я не дам тебе так много даром. Ты должен заплатить за мою милость, и заплатить дорогой ценой — ты поцелуешь меня, Гармахис. — Нет, — ответил я, отворачиваясь от прекрасной искусительницы, — это действительно слишком дорогая цена. Я больше никогда не буду целовать тебя. — Подумай, прежде чем отказываться. — Она сердито нахмурилась. — Подумай хорошенько и сделай выбор. Ведь я всего лишь женщина, Гармахис, и женщина, которая не привыкла слышать от мужчины «нет». Поступай как знаешь, но если ты мне откажешь, я отберу у тебя милость, которую решила подарить. И потому, мой целомудреннейший из жрецов, выбирай: либо ты принимаешь тяжкое бремя моей любви, либо в самом скором времени погибнут от руки палача и твой отец, и все те, кто входил в его заговор. Я взглянул не нее и увидел, что она и в самом деле разгневана, ибо глаза ее сверкали, а грудь высоко вздымалась. Я вздохнул и поцеловал ее, и этот поцелуй замкнул цепь моего постыдного рабства. А она с торжествующей улыбкой Афродиты упорхнула, захватив с собой кинжал. Я еще не знал, проникла ли Клеопатра в самое сердце нашего заговора; не знал, почему мне оставили жизнь, не знал, почему Клеопатра, эта женщина с сердцем тигрицы, проявила к нам милость. Да, я не знал, что она боялась убить меня, ибо заговор был слишком могуч, а двойная корона еле держалась на ее голове, и если бы разнеслась молва, что я убит, страну потряс бы бунт и вышиб из-под нее трон, хоть я его уже занять и не мог. Не знал, что лишь из страха и соображений политики проявила она подобие милости к тем, кого я выдал, и что коварный расчет, а не святая женская любовь — хотя, если говорить правду, я ей очень нравился, — побудил ее привязать меня к себе узами страсти. И все же я должен сказать слово в ее защиту: даже когда нависшая над ней туча растаяла в небе, она сохранила верность мне, и никто, кроме Павла и еще одного человека, не подвергся высшей мере наказания — смерти за участие в заговоре против Клеопатры, у которой хотели отнять корону и жизнь. Зато сколько мук эти люди перенесли! Итак, она ушла, но ее прекрасный образ остался в моем сердце, хотя печаль и стыд гнали его. О, какие горькие часы ждали меня, ведь я не мог облегчить свое горе молитвой. Связь между мною и божественной Исидой оборвалась, богиня не отзывалась больше на призывы своего жреца. Да, горьки и черны были эти часы, но в этой тьме сияли звездные глаза Клеопатры и эхом отдавался ее голос, шепчущий слова любви. Чаша моего горя еще не переполнилась. В сердце тлела надежда, я убеждал себя, что не сумел достичь высокой цели, но выберусь из глубин пропасти, в которую упал, и найду иной, не столь тернистый путь к победе. Так преступники обманывают себя, возлагая вину за содеянное зло на неотвратимую Судьбу, пытаясь убедить себя, что в своей порочности они могут сотворить добро, и убивают совесть, якобы подчиняясь велению необходимости. Но тщетно, тщетно все, ибо на пути порока их неизменно преследуют угрызения совести, а впереди ждет гибель, и горе тем, кто идет по этому пути! О, горе мне, преступнейшему из преступных!
Глава 16
Повествующая о пребывании Гармахиса под стражей; о презрении, высказанном ему Хармианой; об освобождении Гармахиса и о прибытии Квинта Деллия.Целых одиннадцать дней прожил я в своей комнате пленником, никого не видя, кроме стражников возле моих дверей, рабов, которые молча приносили мне еду и питье, и Клеопатры, а Клеопатра почти все время была со мной. Она нескончаемо говорила мне о любви, но ни разу не обмолвилась и словом о том, что происходит в стране. Приходила она всегда разная — то весело смеялась и шутила, то делилась возвышенными мыслями, то была сама страсть, и больше для нее ничего не существовало, и в каждом настроении она была всякий раз по-новому пленительна. Она любила говорить о том, как я помогу ей вернуть величие Египту, как мы облегчим участь народа и заставим римского орла улететь восвояси. И хотя сначала я отвращал слух от ее речей, когда она начинала рисовать передо мной картины будущего, она медленно, подбираясь все ближе и ближе, опутала меня своей волшебной паутиной, из которой было не вырваться, и я стал думать точно так же, как она. Потом я приоткрыл ей свое сердце и рассказал немного о том, как я хотел возродить Египет. Она с восхищением слушала, вдумывалась в мои планы, говорила, что, по ее мнению, следует сделать, чтобы их выполнить, объясняла, каким путем она хочет вернуть Египту истинную веру и восстановить древние храмы — не только восстановить, но и построить новые, где будут поклоняться нашим богам. И она все глубже вползала в мое сердце, проникла во все его уголки и заполнила до краев, и поскольку все остальное у меня в жизни было отнято, я полюбил ее всей нерастраченной страстью моей больной души. У меня ничего не осталось, кроме любви Клеопатры, я жил ею, лелеял ее, как вдова лелеет свое единственное дитя. Вот как случилось, что виновница моего позора стала для меня источником жизни, дороже, чем зеница ока, чем весь мир, я любил ее неутолимо, с каждым часом все сильнее и сильнее, и наконец в этой любви потонуло прошлое, а настоящее стало казаться сном. Ибо она подчинила меня себе, украла мою честь, опозорила так, что вовек не отмыться, я, жалкое слепое ничтожество, падший глупец, целовал плеть, которой меня стегали, и полз за палачом на коленях, как раб. Да и сейчас, в моих виденьях, которые слетаются, когда сон отпирает тайные запоры нашего сердца и выпускает в просторные чертоги мысли томящиеся в нем страхи, я, как и прежде, вижу эту царственную женщину, она летит ко мне, распахнув объятья, в глазах ее сияет свет любви, губы полуоткрыты, свернувшиеся в локоны волосы развеваются, а на лице небесная нежность и самозабвенная страсть, на какие была способна лишь она. Через столько лет мне снится, что она пришла ко мне, как приходила когда-то! Потом я просыпаюсь и думаю, что она — воплощение изощреннейшей лжи. Такой однажды она пришла ко мне, когда я жил в своей комнате под стражей. Не пришла, а прибежала, объяснила она, удрала с какого-то важного совета, где обсуждались военные действия Антония в Сирии, и бросилась прямо ко мне, в парадном церемониальном одеянии, как была, со скипетром в руке и с золотым уреем, обвивающим лоб. Смеясь, она села рядом со мной на ложе; ей надоели послы, которым она давала аудиенцию в зале совета, и она объявила им, что вынуждена покинуть их, потому что получено срочное известие из Рима; собственная выдумка ее развеселила. Она вдруг поднялась, сняла диадему в виде урея и возложила на мой лоб, накинула мне на плечи свою мантию, вложила в руку жезл и склонилась предо мной. Потом снова рассмеялась, поцеловала меня в губы и сказала, что я поистине ее царь и повелитель. Но я вспомнил коронацию в Абидосском храме, вспомнил и ее венок из роз, запах которых до сих пор преследует меня, вскочил, побелев от ярости, сбросил с себя мишуру, в которую она меня обрядила, и сказал, что не позволю издеваться над собой, хоть я и ее пленник. Видно, выражение у меня было такое, что она испугалась и отпрянула от меня. — Ну что ты, милый Гармахис, — прожурчала она, — не надо сердиться. Почему ты решил, что я над тобой издеваюсь? Почему думаешь, что тебе не стать фараоном перед богами и пред людьми? — Как мне понять тебя? — спросил я. — Ты что же, хочешь сочетаться со мной браком и объявить об этом всему Египту? Разве есть сейчас для меня иной путь стать фараоном? Она потупила глаза. — Быть может, мой возлюбленный, я в самом деле хочу сочетаться с тобой браком, — ласково сказала она. — Послушай, здесь, в этой тюрьме, ты очень побледнел и почти ничего не ешь. Не спорь, я знаю от рабов. Я держала тебя здесь, под стражей, ради того, чтобы спасти твою жизнь, Гармахис, ибо ты мне очень дорог; ради того, чтобы спасти твою жизнь и твою честь, мы должны и дальше делать вид, что ты мой пленник. Иначе тебя все будут поносить и убьют — тайно подошлют убийц, и ты умрешь. Но я не могу больше видеть, как ты здесь чахнешь. И потому я завтра освобожу тебя и объявлю, что ты ни в чем не виноват, и ты снова появишься во дворце как мой астроном. Скажу, что ты не причастен к заговору, я в этом окончательно убедилась; к тому же твои предсказания сбылись все до единого — кстати, это истинно так, хотя я не вижу причин благодарить тебя, ибо понимаю, что ты составлял предсказания исходя из интересов вашего заговора. А теперь прощай, мне пора к этим чванливым тугодумам-послам; и молю тебя, Гармахис, не поддавайся этим неожиданным вспышкам ярости, ибо ведь тебе неведомо, чем завершится наша любовь. И, слегка кивнув головкой, она ушла, заронив мне в душу мысль, что она хочет открыто сочетаться со мной браком. И скажу правду: я уверен, что в тот миг она искренне этого желала, ибо хоть и не любила меня всепоглощающей любовью, но пылко увлеклась мной и я еще ей не успел наскучить. Утром Клеопатра не пришла, зато пришла Хармиана — та самая Хармиана, которой я не видел с роковой ночи моей гибели. Она вошла и встала передо мной, бледная, глаза опущены, и первые же ее слова ужалили меня, точно укус змеи. — Прошу простить меня, — проговорила она елейным голоском, — прошу простить, что я посмела явиться к тебе вместо Клеопатры. Но тебе недолго ждать встречи со своим счастьем: скоро ты ее увидишь. Я сжался от ее слов, да это и неудивительно, а она, почувствовав, что перевес на ее стороне, стала наступать. — Я пришла, Гармахис, — увы, больше не царственный! — сказать тебе, что ты свободен! Свободен встретиться лицом к лицу со своим позором и увидеть его отражение в глазах всех, кто верил тебе, — он будет там, подобно теням в глубинах вод. Я пришла сказать тебе, что великий заговор, который готовился больше двадцати лет, погиб безвозвратно. Правда, никого из заговорщиков не убили, может быть, только дядю Сепа, потому что он исчез. Однако всех вождей схватили и заковали в кандалы или же подвергли изгнанию, дух наших людей сломлен, борцы рассеялись по всей стране. Гроза собиралась, но так и не успела грянуть — ветер унес тучи. Египет погиб, погиб навсегда, его последняя надежда разрушена. Никогда нашей стране не подняться с оружием в руках, теперь она во веки веков будет влачить ярмо рабства и подставлять спину плетям угнетателей! Я громко застонал. — Увы, меня предали! Нас предал Павел. — Тебя предали? Нет, это ты сам оказался предателем! Почему ты не убил Клеопатру, когда остался с ней наедине? Отвечай, клятвопреступник! — Она опоила меня, — проговорил я. — Ах, Гармахис! — воскликнула безжалостная девушка. — Как низко ты пал и как непохож стал на того царевича, которого я когда-то знала: ты теперь не гнушаешься ложью! Да, тебя опоили — опоили любовным зельем! И ты продал Египет и всех, кто жаждал его возрождения, за поцелуй распутницы! Горе тебе и вечный позор! — Она уставила в меня перст и впилась в лицо глазами. — От тебя все отвернутся, все тебя отвергнут! Ничтожнейший из ничтожных! Презренный! Посмей это опровергнуть, если можешь! Да, прочь от меня! Ты знаешь, какой ты трус, и потому правильно делаешь, что отступаешь в угол! Ползай у Клеопатриных ног, целуй ее сандалии, пока она не втопчет тебя в грязь, где тебе и место. Но от людей честных держись подальше, как можно дальше! Душа моя корчилась в муках от ее жалящего презрения и ненависти, но ответить ей мне было нечего. — Как случилось, — наконец спросил я хрипло, — как случилось, что тебя, единственную из всех, не выдали и ты по-прежнему приближенная царицы и по-прежнему издеваешься надо мной, хотя еще совсем недавно клялась мне в любви? Ведь ты женщина, неужели нет в твоей душе жалости и понимания, что и мужчина может оступиться? — Моего имени не было в списке, — отвечала она, потупляя глаза. — Дарю тебе счастливую возможность: предай заодно и меня, Гармахис! Да, твое падение причинило мне особенно острую боль именно потому, что я любила тебя когда-то, — неужели ты еще это помнишь? Позор того, кто был нам дорог, становится отчасти и нашим позором, он как бы навеки прилипает к нам, потому что мы так слепо любили это ничтожество всеми сокровенными глубинами нашего сердца. Стало быть, ты такой же глупец, как все? Стало быть, ты, еще разгоряченный объятиями царственной распутницы, обращаешься за утешением ко мне — не к кому-то другому, а именно ко мне?! — Может быть, именно ты в своей злобе и ревности предала нас, это вовсе не так невероятно, — сказал я. — Хармиана, давно, еще в самом начале, дядя Сепа предупреждал меня: «Не доверяй Хармиане», и, сказать честно, теперь, когда я вспомнил его слова… — Как это похоже на предателя! — прервала она меня, вспыхнув до корней волос. — Предатели считают, что все вокруг предатели, и всех подозревают! Нет, я тебя не предавала; тебя предал этот жалкий мошенник Павел, нервы у него не выдержали, и он за это поплатился. Я не желаю больше слушать такие оскорбления. Гармахис, — царственным тебя уже никто больше не назовет! — Гармахис, царица Египта Клеопатра повелела мне сказать тебе, что ты свободен и что она ожидает тебя в Алебастровом Зале. И, метнув в меня быстрый взгляд из-под своих длинных ресниц, она поклонилась и исчезла. И вот я снова вышел из своих комнат и пошел по дворцу, пошел кружным путем, ибо меня переполняли ужас и стыд и я со страхом глядел на людей, уверенный, что увижу на их лицах презрение к предателю, каким я оказался. Но никакого презрения на лицах не было, ибо все, кто знал о заговоре, бежали, Хармиана же ни словом не проговорилась, — без сомнения, желая спасти себя. К тому же Клеопатра убедила всех, что я к заговору не причастен. Но моя вина давила на меня непереносимой тяжестью, я похудел, осунулся, никто бы не нашел меня сейчас красивым. И хоть считалось, что я свободен, на самом деле за каждым моим шагом следили, я не имел права выйти за ворота дворца. И вот настал день, когда к нам прибыл Квинт Деллий, этот продажный римский патриций, который всегда служил лишь восходящим звездам. Он привез Клеопатре послание от триумвира Марка Антония, который, не успев одержать победу в сражении при Филиппах, перебросил свои войска из Фракии в Азию и грабил там покоренных царей, чтобы расплатиться их золотом со своими алчными легионерами. Я хорошо помню тот день. Клеопатра в своем парадном церемониальном наряде, окруженная советниками двора, среди которых был и я, сидела в большом зале для приемов на своем золотом троне. Вот она приказала ввести посланника триумвира Антония. Огромные двери распахнулись, и среди грома фанфар, приветствуемый стражами-галлами, вошел, в сопровождении свиты военачальников, римлянин в золотых сверкающих доспехах и алом шелковом плаще. Лицо у него было бритое, — ни бороды, ни усов, — красивое и переменчивое, но с жестким ртом и лживыми прозрачными глазами. И пока глашатаи объявляли его имя, титул и должности, которые он занимает, он, уставившись, глядел во все глаза на Клеопатру, которая спокойно сидела на своем троне, сияя лучезарной красотой, и было видно, что он потрясен. Наконец глашатаи смолкли, а он все продолжал стоять и даже не шевельнулся. Тогда Клеопатра обратилась к нему на латыни: — Приветствую тебя, благородный Деллий, посол могущественного Антония, чья тень закрыла весь мир, словно это сам Марс явился перед нами, мелкими ничтожными владыками. Добро пожаловать в нашу бедную Александрию. Прошу тебя, открой нам цель твоего приезда. Но хитрый Деллий по-прежнему молчал и все стоял как громом пораженный. — Что с тобой, благородный Деллий, ты утратил дар речи? — спросила Клеопатра. — Или так долго скитался по просторам Азии, что позабыл родной язык? Какой язык ты еще помнишь? Назови его, и будем говорить на нем, ибо мы знаем все языки. И тут он наконец заговорил звучным вкрадчивым голосом: — Прости меня, прекраснейшая царица Египта, за то, что я онемел перед тобой, но столь великая красота, подобно смерти, замыкает уста смертных и отнимает разум. Глаза того, кто смотрит на слепящее полуденное солнце, не видят ничего вокруг; вот так и я, царица Египта, ошеломленный представшим столь внезапно предо мной прекрасным видением, потерял власть над своими мыслями, над своей волей и над своими чувствами. — Должна отдать тебе должное, — проговорила Клеопатра, — я вижу, у вас в Киликии ты прошел неплохую школу лести. — Кажется, в Александрии есть пословица: «Сколько ни кади лестью, до облака фимиам не долетит»[490]. Но доложу, зачем я прибыл. Вот, царица Египта, послание, с печатями и подписью Антония, где речь идет о государственных делах. Желаешь ли ты, чтобы я прочел его вслух, при всех? — Сорви печати и прочти, — повелела она. И он, отдав ей поклон, сорвал печати и стал читать: — «От имени Triumviri Reipublicae Constituenae[491] триумвир Марк Антоний приветствует Клеопатру, милостью римского народа царицу Верхнего и Нижнего Египта. Нам стало известно, что ты, Клеопатра, нарушив свое обещание и преступив свой долг, послала своего слугу Аллиена с войсками и своего слугу Серапиона, правителя Кипра, тоже с войсками, дабы поддержать убийцу Кассия, который выступил против благороднейшего триумвирата. Известно нам и то, что ты сама готовишь огромный флот ему в поддержку. Мы требуем, чтобы ты без промедления отправилась в Киликию, дабы встретиться там с благородным Антонием и собственными устами дать ему ответ на все обвинения, которые выдвигают против тебя. Предупреждаем, что если ты не выполнишь наше повеление, пеняй на себя. Прощай». Когда Клеопатра услышала эти наглые угрозы, глаза ее засверкали и руки сжали золотые львиные головы, на которых покоились. — Сначала нам преподнесли сладчайшую лесть, — произнесла она, — а потом, боясь, что мы пресытимся сладким, напоили желчью. Слушай меня, Деллий: все обвинения, которые перечислены в этом послании, — вернее, в этой повестке в суд, — ложь от начала до конца, и мои советники могут это подтвердить. Но в наших действиях, касающихся войн и политики, мы не собираемся отдавать отчет тебе, и уж тем более сейчас. И мы не покинем нашего царства и не поплывем в далекую Киликию, мы не станем, подобно бесправному обвиняемому, оправдываться перед судом благородного Антония. Если Антоний желает побеседовать с нами и обсудить эти важные дела, что ж — море открыто, и ему будет оказан здесь царский прием. Пусть сам плывет сюда. Вот, Деллий, наш ответ тебе и триумвирату, от имени которого ты прибыл. Но Деллий улыбнулся улыбкой царедворца, который не снисходит до гнева, и снова заговорил: — Царица Египта, ты не знаешь благородного Антония. Он суров в посланиях, где выражает свои мысли так, будто в руках его не стило, а копье, обагренное кровью. Но, встретившись с ним лицом к лицу, ты убедишься, что этот величайший в мире полководец столь же любезен и уступчив, сколь и отважен. Послушайся моего совета, о царица! Езжай к нему. Не отсылай меня с таким обидным ответом, ибо если Антоний, следуя твоему приглашению, прибудет в Александрию, то горе Александрии, горе народу Египта и горе тебе, царица Египта! Он приплывет с войсками, приплывет сражаться с тобой, и тяжко придется тебе, посмевшей бросить вызов могущественному Риму. Молю тебя, выполни его повеление. Прибудь в Киликию, явись с дарами мира, а не с оружием в руках. Явись во всем блеске своей красоты, в роскошнейшем одеянии, и тебе не придется бояться благородного Антония. — Он умолк, многозначительно глядя на нее; а я сообразив, куда он клонит, почувствовал, как лицо мне заливает жаркая кровь негодования. Клеопатра тоже поняла, ибо подперла рукой подбородок и задумалась, в глазах у нее собрались тучи. Она сидела так и молчала, а лукавый царедворец Деллий с любопытством наблюдал за ней. Хармиана, стоявшая с другими придворными дамами возле трона, тоже все поняла, ибо ее лицо озарилось, как озаряется летним вечером туча, когда на небе сверкнет яркая молния. Потом оно снова побледнело и поникло. Наконец Клеопатра заговорила: — Дело это очень непростое, и потому, благородный Деллий, нам нужно время, чтобы все обдумать и принять решение. Отдохни пока у нас, развлекайся, насколько это позволяют наши жалкие обстоятельства. Не позже чем через десять дней ты получишь от нас ответ. Посол подумал немного, потом ответил с улыбкой: — Благодарю тебя, царица. На десятый день, считая от нынешнего, я приду к тебе за ответом, а на одиннадцатый отплыву к моему повелителю Антонию. Снова по знаку, поданному Клеопатрой, затрубили фанфары, и Деллий, поклонившись, удалился.
Глава 17
Повествующая о смятении Клеопатры; о ее клятве Гармахису; и о тайне сокровища, лежащего в сердце пирамиды, которую открыл Клеопатре Гармахис.В ту же саму ночь Клеопатра вызвала меня к себе в покои, где она жила. Я пришел и застал ее в чрезвычайном смятении; никогда прежде не видел я ее столь встревоженной. Она была одна и металась по мраморному покою, как львица в клетке, мысли теснились у нее в голове, точно облака над морем, и тенями мелькали в глубинах ее глаз. — Ах, наконец-то ты пришел, Гармахис, — сказала она, с облегчением вздыхая и беря меня за руку. — Дай мне совет, ибо никогда еще я не нуждалась так в мудром совете. Что за жизнь даровали мне боги — бурную, как океан! С детства на мою долю не выпало ни одного безмятежного дня и, судя по всему, никогда не выпадет. Только что моя жизнь висела на волоске, я чудом ускользнула от твоего кинжала, Гармахис, и вот теперь новая беда, точно далеко за горизонтом собралась гроза, вдруг налетела и разразилась надо мной. Как тебе понравился этот щеголь с душой хищника? Вот бы кого поймать в ловушку! Как мягко говорит! Не говорит, а мурлычет, точно кошка, и каждую минуту готов вонзить в тебя когти. А что ты скажешь о послании? Неслыханная наглость! Знаю я этого Антония. Видела его, когда была еще совсем девочка, едва вступала в пору юности, но ум у меня уже тогда был острый, женский, я сразу поняла, что он за человек. Могуч, как Геркулес, но глуп, однако сквозь эту глупость вдруг прорывается ум гения. Сластолюбив; охотно идет за теми, кто потакает ему в его слабостях, но стоит возразить — и он твой смертельный враг. Верен в дружбе, если, впрочем, любит своих друзей; часто совершает поступки, которые противоречат его собственным интересам. Великодушен, смел, в трудных обстоятельствах стоек и вынослив, в благоденствии — любитель вина и раб женщин. Вот каков Антоний. Как вести себя с мужчиной, которого Судьба и Случай, вопреки его собственной воле и желанию, вознесли на гребень успеха? Настанет день, когда волна низвергнется, но пока он летит на ней и смеется над теми, кто тонет. — Антоний всего лишь человек, — ответил я, — и человек, у которого много врагов; а человека, у которого много врагов, можно победить. — Да, его можно победить, но он ведь не один, Гармахис, — с ним еще двое. Кассий отправился туда, где и надлежит быть глупцу, — казалось бы, Рим отсек голову гидре. И что же? Отсечь-то голову отсекли, а на тебя уже шипит другая. Ведь есть еще Лепид и Октавиан-младший, который спокойно, с улыбкой торжества посмотрит на холодный труп Лепида ли, Антония ли, Клеопатры. Если я не поплыву в Киликию, Антоний непременно войдет в союз с парфянами и, сочтя гнусные слухи, которые распускают обо мне, правдой, — кстати, все это, конечно, и в самом деле правда, — обрушит свои легионы на Египет. И что тогда? — Что тогда? Прогнать его обратно в Рим. — Ах, Гармахис, тебе легко так говорить, и, может быть, если бы я не выиграла ту игру, что мы вели с тобой двенадцать дней назад, и фараоном стал бы ты, ты с легкостью разбил бы Антония, ибо весь Египет сплотился, поддерживая твой трон. Но меня Египет не любит, им ненавистна царица, в чьих жилах течет греческая кровь; а я уже разрушила великий заговор твоих сторонников, в котором объединилась половина жителей Египта. Так разве эти люди поднимутся, чтоб поддержать меня? Будь Египет верен мне, я, конечно, могла бы выстоять против всех войск, которые приведет Рим; но Египет ненавидит меня и предпочтет покориться римлянам, как в свое время покорился грекам. И все же я могла бы его защитить, будь у меня золото: я наняла бы солдат и они за деньги стали бы сражаться за меня. Но денег нет; моя казна пуста, и хоть земля наша богата, мне нечем заплатить огромные долги. Эти войны разорили меня, мне негде взять ни единого таланта. Может быть, ты, Гармахис, по праву крови жрец пирамид, — она приблизилась ко мне и посмотрела в глаза, — может быть, ты, — если легенда, дошедшая до нас сквозь десятки поколений, не лжет, — может быть, ты откроешь мне, где взять золото, чтобы спасти страну от гибели, а твою возлюбленную от участи Антониевой рабыни? Скажи, эта легенда о сокровище — сказка или правда? Я подумал немного, потом сказал: — Предположим, эта легенда — правда, предположим, я покажу тебе сокровище, сокрытое великим фараоном седой древности, чтобы в черный час нашей истории спасти Кемет, но могу ли я быть уверен, что ты поистине употребишь его богатства для этой благой цели? — Так, стало быть, сокровище есть? — живо спросила она. — О, не сердись на меня, Гармахис, ибо, признаюсь тебе честно, само слово «золото» в этот роковой час бедствия наполняет сердце такой же радостью, как вид ручья в пустыне. — Я думаю, что такое сокровище существует, — ответил я, — хотя сам его никогда не видел. Но знаю, что оно по-прежнему лежит там, куда было положено, ибо на тех, кто прикоснется к нему нечистыми руками и ради выполнения своих корыстных замыслов, падет столь страшное проклятье, что ни один из фараонов, кому сокровище было показано, не осмелился его взять даже в годину великих бедствий страны. — Ах, в былые времена все всего боялись, — возразила она, — или же не так велики были постигшие их бедствия. Стало быть, Гармахис, ты мне покажешь это сокровище? — Может быть, и покажу, если оно действительно все еще там, куда было положено, но ты должна поклясться мне, что употребишь его только на то, чтобы защитить Египет от Антония и облегчить жизнь его народа. — Клянусь! — с искренним пылом воскликнула она. — Клянусь всеми богами Кемета, что если ты покажешь мне это великое сокровище, я объявлю Антонию войну и отошлю Деллия обратно в Киликию с еще более оскорбительным посланием, чем Антоний прислал мне. Но это еще не все, я сделаю больше, Гармахис: в самом скором времени я сочетаюсь с тобой браком и объявлю об этом всему миру, и ты сам будешь выполнять свои замыслы и отгонишь от нашей страны римского орла. Так она говорила, гладя на меня со всей правдивостью и искренностью, на какие способен человек. Я ей поверил и впервые после моего падения почувствовал, что счастлив, подумал, что не все потеряно для меня и что вместе с Клеопатрой, которую я любил до крайней степени безумия, я смогу еще вернуть себе уважение египтян и власть. — Клянись же Клеопатра! — потребовал я. — Клянусь, любимый! И этой печатью скрепляю мою клятву! — Она поцеловала меня в лоб. Я тоже поцеловал ее, и мы стали говорить о том, как будем жить, когда станем мужем и женой, и что надо сделать, чтобы одолеть Антония. Вот как я еще раз поддался обольщению и был обманут, хотя я верю, что если бы не злобная ревность Хармианы, которая, как вы увидите дальше, постоянно толкала ее на все новые преступления, Клеопатра в самом деле сочеталась бы со мной браком и отгородилась бы от Рима. И в конечном итоге так было бы лучше и для нее, и для Египта. Мы просидели чуть ли не до рассвета, и я приоткрыл перед ней завесу тайны, окутывающей сокровище — несметные богатства, которые лежат в толще пирамиды. Было решено, что завтра же мы отправимся в путь и, прибыв туда через два дня, ночью начнем их искать. Рано утром была тайно снаряжена барка, Клеопатра вошла в нее, скрыв лицо под покрывалом и выдавая себя за египтянку, которая совершает паломничество к храму Хор-эм-ахета. Я тоже плыл с ней, одетый паломником, и с нами десятеро ее самых верных слуг, переодетых гребцами. Но Хармианы с нами не было. От Канопа по Нилу нас провожал попутный ветер, и в первую же ночь, плывя при свете луны, мы достигли Саиса и там немного отдохнули. На рассвете наше судно снова отчалило, весь день мы двигались быстро и покрыли большое расстояние, так что часа через два после заката солнца впереди показались огни крепости, именуемой Вавилоном. Мы подошли к противоположному берегу и незаметно причалили среди высоких зарослей тростника. Потом мы, соблюдая величайшую осторожность, двинулись пешком в сторону пирамид, до которых было около двух лиг. Шли я, Клеопатра и преданный евнух, остальных слуг мы оставили в барке. Мне удалось поймать для Клеопатры ослика, который пасся среди поля пшеницы. Я бросил ему на спину плащ, и она села, и я повел ослика известными мне тропами, а евнух следовал за нами пешком. Через час с небольшим мы миновали большую дамбу, и перед нами встали величественные пирамиды, возносящие сквозь лунный свет свои вершины к небу; мы в благоговейном трепете умолкли и дальше шли, не произнося ни слова, по населенному духами городу мертвых, вокруг нас поднимались торжественные гробницы, и наконец мы поднялись на каменистую площадку и стали подле пирамиды Хуфу — его великолепного трона. — Я уверена, — прошептала Клеопатра, глядя вверх на сверкающую в лучах луны мраморную грань с миллионами мистических символов, вырезанных на ней, — я уверена, что в те времена Египтом правили не люди, а боги. Это место печально, как сама смерть, и так же величественно и отчуждено от нас. Мы в эту пирамиду должны войти? — Нет, не в нее, — ответил я. — Идем дальше. И я повел их средь бесчисленных древних усыпальниц, пока мы не дошли до пирамиды Хефрена Великого. Остановились в ее тени и стали глядеть на красную, пронзающую небо громаду. — Это она? — снова прошептала она. — Нет, не она, — ответил я. — Нужно идти дальше. Опять мы шли мимо гробниц, им не было конца, но вот мы остановились под сенью Верхней пирамиды[492], и потрясенная Клеопатра не могла оторвать глаз от зеркальных поверхностей этой красавицы, которая тысячелетие за тысячелетием каждую ночь посылала обратно в небо лунный свет, покоясь на своем черном базальтовом основании. Поистине, из всех пирамид эта — самая прекрасная. — Что ж, здесь? — спросила она. — Да, здесь, — ответил я. Мы прошли между храмом для культовых церемоний, посвященных его божественному величеству, Менкаура, воссиявшему в Осирисе, и основанием пирамиды и оказались у ее северной грани. Здесь в самой середине выбито имя фараона Менкаура, который построил эту пирамиду, дабы она стала его усыпальницей, и спрятал в ней сокровища, дабы они спасли Кемет, когда настанет черный день беды. — Если сокровище все еще здесь — сказал я Клеопатре, — как оно было здесь во времена моего прапрапрадеда, так же как и я, верховного жреца пирамид, то оно покоится в самом сердце громады, перед которой ты стоишь, Клеопатра; и просто так его не возьмешь — потребуется великий труд, придется преодолевать огромные опасности, бороться с безумием. Готова ли ты войти в пирамиду, ибо ты сама должна в нее войти и сама принять решение? — А ты не можешь, Гармахис, пойти туда с евнухом и принести сокровище? — спросила она, ибо мужество уже изменило ей. — Нет, Клеопатра, — ответил я, — я не притронусь к сокровищу даже ради тебя и ради благоденствия Египта, ибо из всех преступлений это — самое кощунственное. Но вот что мне позволено. Я, по праву рождения посвященный в тайну сокровища, могу показать правящему владыке Кемета, если он того потребует, место, где лежит сокровище, и предостережение божественного Менкаура тем, кто хочет его взять. И если фараон, прочтя предостережение, решит, что положение Кемета поистине бедственно и катастрофа неотвратима, и потому не испугается проклятия богов и возьмет сокровище, — что ж, вина за совершенное святотатство падет на его голову. Три венценосца — так говорится в летописях, которые я читал, — осмелились войти в гробницу в великий час несчастья нашего Кемета. То были божественная царица Хатшепсут, это земное чудо, равное богам; ее божественный брат Тутмос Менхеперра и божественный Рамсес Ми-Амон. Но ни один из этих царственных владык не посмел прикоснуться к сокровищу, когда прочел предостережение: да, нужда в средствах была огромна, но не настолько, чтобы совершить это деяние. И, испугавшись, что проклятие падет на них, все трое с сожалением ушли. Она задумалась, потом я понял, что отвага одолела ее страх. — По крайней мере я увижу все собственными глазами, — сказала она. — Быть по сему, — ответил я. И вот мы с евнухом, который сопровождал нас, стали собирать валуны и класть их друг на друга в ведомом мне месте у основания пирамиды, пока груда не поднялась выше человеческого роста; я взобрался на нее и стал искать известный одному мне выступ, маленький, как древесный листок. Долго мне пришлось его искать, ибо солнце и ветры, несущие песок пустыни, не пощадили даже базальт. Но наконец я все-таки его нашел и по-особому нажал на выступ изо всех своих сил. И вот камень, не страгиваемый с места тысячелетия, повернулся, и передо мной открылся небольшой ход, через который едва мог протиснуться человек. Едва лишь камень повернулся, из хода вырвалась огромная летучая мышь, белая, как бы седая от древности, и столь невиданных размеров, что я поразился, ибо никогда не встречал ничего подобного — она была, пожалуй, больше ястреба. Летучая мышь повисла, трепеща крылами, над Клеопатрой, потом стала медленно, кругами подниматься в небо и наконец растаяла в лунном сиянии. С уст Клеопатры сорвался крик ужаса, а евнух, который глядел на летучую мышь, не отрывая глаз, от страха упал на землю — он был уверен, что это дух-охранитель пирамиды. Мне тоже сжал сердце страх, хоть я и ничего им не сказал. Прошло столько лет, но я и сейчас убежден, что нам явился дух воссиявшего в Осирисе Менкаура, который принял облик летучей мыши и вылетел из своего священного обиталища, дабы предостеречь нас. Я подождал немного, чтобы проветрить коридор, в котором застоялся воздух. Достал тем временем светильники, зажег их и поставил все три у входа в коридор. Потом спустился с каменной груды вниз, отвел в сторону евнуха и заставил поклясться живым духом Того, кто спит в своей священной могиле в Абидосе, что он никогда не откроет никому то, чему станет свидетелем. Он дал мне эту клятву, дрожа от головы до ног, ибо обезумел от страха. И он сдержал свою клятву. Потом я протиснулся в отверстие, обвязал себя вокруг пояса веревкой, которую захватил с собой, и сделал знак Клеопатре, чтобы она поднималась ко мне. Она заткнула за пояс юбку своего платья и взобралась наверх, я втянул ее внутрь через отверстие, и наконец она оказалась возле меня в проходе, облицованном гранитными плитами. За ней вскарабкался евнух и тоже встал рядом с нами. Потом, сверившись с планом, который я принес с собой и который был составлен так, что только посвященные могли его прочесть, ибо был переснят с древнейших документов, дошедших до меня через сорок одно поколение моих предков, жрецов пирамиды божественного Менкаура и поминального храма этого великого фараона, воссоединившегося с Осирисом, я повел моих спутников по темному коридору в тысячелетнее безмолвие пирамиды. Дрожали неверные огоньки наших светильников, в их свете мы спустились по крутому ходу, задыхаясь от жары и духоты вязкого, застоявшегося воздуха. Но вот каменная кладка кончилась, мы оказались в галерее, выбитой в толще скалы. Сто локтей она круто шла вниз, потом спуск сделался более пологим, и вскоре мы оказались в камере с выкрашенными белой краской стенами и потолком, но до того низкой, что я, при моем высоком росте, не мог в ней выпрямиться; в длину камера была двадцать локтей, в ширину пятнадцать, и беленые ее стены сплошь покрывали рельефы. Здесь Клеопатра опустилась на пол и хотела немного отдохнуть, ибо была измучена жарой и безмерно боялась темноты. — Встань! — приказал я. — Нельзя здесь долго оставаться, мы можем впасть в беспамятство. И она поднялась и, взяв меня за руку, прошла вместе со мной через камеру, и мы оказались перед массивной гранитной дверью, которая спускалась с потолка, скользя по желобам. Я опять сверился с планом, нажал ногой на обозначенный там камень и стал ждать. Вдруг медленно и плавно, не знаю, с помощью каких сил, тяжелый гранит стал подниматься, открывая проход в толще скалы. Мы прошли в него и оказались перед второй гранитной дверью. И снова я нажал ногой означенный на плане камень, и эта дверь широко распахнулась перед нами как бы сама, и мы в нее вошли, но тут же увидели перед собою третью дверь, еще более массивную, чем те две, что уже пропустили нас. Следуя указаниям моего написанного тайными символами плана, я ударил по ней, где было обозначено, и дверь медленно, словно по волшебству, поползла вниз и наконец ее верхний край сровнялся с полом. Мы переступили через порог и снова оказались в коридоре, который плавно спускался вниз и через семьдесят локтей привел нас в большую камеру, сплошь облицованную черным мрамором, высотой более девяти локтей, шириной девять локтей и длиной тридцать. На мраморном полу стоял огромный гранитный саркофаг, и на его крышке были выбиты имя и титул жены фараона Менкаура. В этой камере воздух был свежий, хоть я не знаю, как он проникал туда. — Сокровище здесь? — прошептала Клеопатра. — Нет, — ответил я, — следуй за мной. И я повел ее по ходу, в который мы проникли через отверстие в полу большой погребальной камеры. Отверстие закрывалось каменной дверью-пробкой, но сейчас дверь была откинута. Мы проползли по этой шахте, или, если хотите, коридору, пятьдесят локтей и наконец увидели колодец глубиной в семь локтей. Обвязав один конец веревки вокруг пояса, а другой прикрепив к кольцу, вделанному в скалу, я спустился со светильником в руке и оказался в месте последнего упокоения божественного Менкаура. Потом евнух поднял веревку, обвязал Клеопатру и спустил вниз, а я принял ее в свои объятья. Но евнуху я приказал ждать нашего возвращения наверху, у устья колодца, хоть он ужасно этого не хотел, ибо смертельно боялся остаться в одиночестве. Но ему не должно было сопровождать нас туда, куда мы шли.
Глава 18
Повествующая о том, как выглядела погребальная камера божественного Менкаура; о том, что было написано на золотойпластине, лежащей на груди фараона; о том, как Клеопатра и Гармахис доставали сокровище; о духе, обитающем в погребальной камере; и о бегстве Гармахиса и Клеопатры из священной гробницы.Мы стояли в небольшой камере со сводчатым потолком, стены и пол были облицованы огромными плитами сиенского гранита. Перед нами, вытесанный из базальтовой глыбы в виде деревянного домика и покоящийся на спине сфинкса с головой литого золота, был саркофаг божественного Менкаура. Мы замерли в благоговейном ужасе, на нас давила невыносимая тяжесть безмолвия, мрачная торжественность этой священной усыпальницы. Над нами неизмеримо высоко поднималась в небо могучая пирамида, ее овевал снаружи ласковый ночной воздух. А мы были внизу, под ее толщей, в недрах огромной скалы, ниже базальтового основания. Мы были наедине с мертвым, чей покой готовились нарушить, и ни один звук не доносился сюда из мира живых — хотя бы ветерок прошелестел, хоть бы что-то шевельнулось, напомнив о жизни и смягчив наше пронзительное одиночество. Я не мог оторвать глаз от саркофага; его тяжелая крышка была снята и стояла сбоку, вокруг толстым слоем лежала пыль тысячелетий. — Смотри, — прошептал я, указывая на священные древние символы, которые кто-то начертал краской на стене и из которых складывалось послание. — Прочти, Гармахис, — все так же шепотом попросила Клеопатра, — ведь я не понимаю эти письмена. И я прочел: «Я, Рамсес Ми-Амон посетил эту усыпальницу в день и в час великой беды, постигшей страну Кемет. Но хоть велика моя беда, а мое сердце отважно, я убоялся проклятия Менкаура. Подумай хорошо, о ты, кто придет после меня, и если душа твоя чиста, а нашему Кемету поистине грозит гибель, тогда возьми то, что я не посмел тронуть». — Но где же сокровище? — прошептала Клеопатра. — Эта золотая голова сфинкса? — Сокровище там, — промолвил я, указывая на саркофаг. — Подойди ближе и взгляни. Она взяла меня за руку, и мы приблизились к саркофагу. Крышка была снята, как я уже сказал, но внутри саркофага лежал покрытый цветной росписью гроб фараона. Мы поднялись на сфинкса, я сдул с гроба пыль и прочел то, что было написано на его крышке. Вот эти надписи:
«Фараон Менкаура, дитя неба». «Фараон Менкаура, царственный сын Солнца». «Фараон Менкаура, который лежал под сердцем богини Нут». «Твоя небесная мать Нут осеняет тебя своим священным именем». «Имя твоей небесной матери Нут — тайна неба». «Нут, твоя небесная мать, причисляет тебя к сонму богов». «Дыхание твоей небесной матери Нут испепеляет твоих врагов». «О фараон Менкаура, жив ты вечно!»— Но где же сокровище? — опять спросила Клеопатра. — Да, здесь покоится тело божественного Менкаура, но даже у фараонов тело из обыкновенной плоти, а не из золота; и если голова сфинкса золотая, то как нам ее снять? Я ничего ей не ответил, но велел, все так же стоя на сфинксе, взяться за крышку гроба в головах фараона, а сам взялся за ее противоположный конец. Потом мы по моей команде потянули крышку вверх, она легко снялась, потому что была не прикреплена, и мы поставили ее на пол. В гробу лежала мумия фараона — в том виде, как ее положили три тысячи лет назад. Мумия была большая и убрана более чем скромно. На лице не было золотой маски, какой закрывают лица мумий сейчас, голова завернута в пожелтевшую от времени ткань и обмотана красными полотняными бинтами, под которые были засунуты стебли распустившихся лотосов. На груди тоже лежал венок из лотосов, и внутри него большая золотая пластина, сплошь покрытая священными письменами. Я взял в руки пластину и, поднеся к свету, стал читать: «Я, Менкаура, воссоединившийся с Осирисом, бывший некогда фараоном страны Кемет, проживший отведенный мне срок жизни праведно и неизменно шедший по пути, который мне предначертал Непостижимый — начало и конец всего, — обращаюсь из своей гробницы к тем, кто после меня будет на краткий миг занимать мой трон. Слушайте же меня. Мне, Менкаура, воссоединившемуся с Осирисом, еще в дни моей жизни было явлено в пророческом сне, что настанет время, когда стране Кемет будет грозить иго чужеземцев и ее владыкам потребуются несметные богатства, дабы снарядить войска и прогнать дикарей. И вот что я в своей мудрости сделал. Благоволящие ко мне боги в своей щедрости столь обильно одарили меня богатствами, что ни один фараон со времен Гора не мог бы соперничать со мной — у меня были тысячи коров и гусей, тысячи волов и овец, тысячи мер зерна, сотни мер золота и драгоценных камней; я берег свое богатство и в конце жизни обратил его в драгоценные камни — в изумруды, самые прекрасные и крупные в мире. И эти камни я завещаю взять, когда для Кемета настанет черный день. Но на земле всегда были и будут злодеи, которые, алкая наживы, могут похитить богатства, которые я завещал своей стране, и использовать их для собственных ничтожных целей; знай же, о ты, нерожденный, кто встанет надо мной, когда исполнятся сроки, и прочтет слова, что я повелел начертать на этой таблице: сокровище скрыто внутри моей мумии. И я предупреждаю тебя, о нерожденный, спящий до времени в утробе Нут! Если тебе богатства нужны действительно затем, чтобы спасти Кемет от врагов Кемета, без страха и без промедления вынь меня, Осириса, из гроба, сними пелены и достань из моей груди сокровище, и с тобою пребудет мое благословение и благоволение богов; прошу тебя лишь об одном: положи мои останки обратно в гроб. Но если нужда в средствах преходяща и не так уж велика или если в сердце твоем затаился коварный умысел, да падет на тебя проклятье Менкаура! Да падет проклятье на того, кто пригреет осквернившего прах! Да падет проклятье на того, кто вступит в сговор с предателем! Да падет проклятье на того, кто оскорбил великих богов! Всю жизнь тебя будут преследовать несчастья, ты умрешь кровавой смертью в муках, но муки твои будут длиться вечно, терзаньям твоим не будет конца! Ибо там, в Аменти, мы встретимся с тобой, злодей, лицом к лицу! Для того, чтобы сохранить тайну сокровища, я, Менкаура, повелел построить на восточной стороне моего дома смерти поминальный храм. Тайну будут передавать друг другу верховные жрецы этого храма. И если один из верховных жрецов откроет эту тайну кому-то другому, кроме фараона или той, что носит корону фараона и правит Кеметом, сидя на его троне, да будет проклят и он. Так написал я, Менкаура, воссиявший в Осирисе. Но пройдет время, и ты, спящий ныне в лоне небесной Нут, встанешь передо мной и прочтешь мои слова. Так вот, подумай, молю тебя, подумай, прежде чем решиться. Ибо если тобою движет зло, на тебя падет проклятье Менкаура, от которого нет избавления. Приветствую тебя, и прощай». — Ты слышала все, о Клеопатра, — торжественно произнес я. — Теперь загляни в свое сердце; решай и ради собственной своей судьбы не ошибись. Она в задумчивости опустила голову. — Я не могу решиться, я боюсь, — наконец сказала она. — Уйдем отсюда. — Уйдем, — сказал я с облегчением и нагнулся, чтобы поднять деревянную крышку гроба. Не скрою, мне тоже было страшно. — Подожди минуту; что там написал на этой пластине божественный Менкаура? Кажется, он говорил про изумруды? А изумруды сейчас такая редкость, их очень трудно купить. Как я всю жизнь любила изумруды, и никогда мне не удавалось найти камень без изъянов. — То, что ты любишь или не любишь, не имеет никакого значения, — возразил я. — Важно другое: действительно ли столь безнадежно положение Кемета и свободно ли твое сердце от тайного коварства, а это можешь знать только ты. — Ах, Гармахис, и ты еще спрашиваешь! Можно ли представить себе время более черное? В казне нет золота, а разве можно без золота воевать с Римом? И не я ли тебе поклялась, что стану твоей супругой и объявлю войну Риму? Я повторяю сейчас свою клятву — здесь, в этой священной усыпальнице, положив руку на сердце мертвого фараона. Да, настал тот самый час, который привиделся божественному Менкаура в его вещем сне. Ты же понимаешь, что это так, иначе Хатшепсут, или Рамсес, или какой-нибудь другой фараон взяли бы из гроба изумруды. Но нет, они оставили их для нас, потому что тогда время еще не наступило. А теперь оно, я уверена, наступило, потому что, если я не возьму драгоценности, римляне, несомненно, захватят Египет, и уже не останется в нем фараонов, которым можно будет передавать тайну. Нет, прочь страх, за дело. Почему у тебя такое испуганное лицо? Тому, кто чист сердцем, нечего бояться, ты же сам это прочел Гармахис. — Как пожелаешь, — снова сказал я, — решать тебе, но загляни еще раз в свое сердце, ибо, если ты ошибешься, на тебя падет проклятье, от которого нет избавления. — Гармахис, ты бери фараона за плечи, а я возьму его за… О, как здесь страшно! — И она вдруг прильнула ко мне. — Мне показалось, там, в темноте, появилась тень! Она стала надвигаться на нас и потом неожиданно исчезла! Давай уйдем! Ты ничего не видел? — Нет, Клеопатра, ничего; но, может быть, то был дух божественного Менкаура, ибо дух всегда витает возле тленной оболочки того, в ком жил когда-то. Ты права, уйдем отсюда; я рад, что ты так рассудила. Она двинулась было к колодцу, но потом остановилась и сказала: — Нет, никакой тени не было, мне просто померещилось, в столь ужасном месте измученное страхом воображение рождает поистине чудовищные видения. Знаешь, я должна взглянуть на эти изумруды, — пусть даже я умру, мне все равно! Не будем медлить, за дело! — И она нагнулась и собственными руками достала из саркофага один из четырех алебастровых сосудов, которые были запечатаны крышками с головами богов-хранителей и в которых хранились сердце и внутренности божественного Менкаура. Но ни в одном сосуде мы ничего не нашли, там лежало лишь то, чему полагалось лежать, — сердце и внутренности. Потом мы вместе взобрались на сфинкса, с великим трудом извлекли из гроба мумию божественного фараона и положили ее на пол. Клеопатра взяла мой кинжал, разрезала им бинты, которые обвивали мумию поверх погребальных пелен, и цветы лотоса, чьи стебли заложила под них три тысячи лет назад чья-то любящая рука, упали в пыль. Потом мы долго искали конец пелены, но все-таки нашли — он был закреплен на спине мумии, возле шеи. Пришлось его обрезать, ибо он приклеился слишком прочно. И вот мы начали распеленывать священную мумию. Я сидел на каменном полу, прислонившись к саркофагу, мумия лежала у меня на коленях, и я поворачивал ее, а Клеопатра снимала пелены — жуткое, зловещее занятие. Вдруг что-то выпало из пелен — это оказался жезл фараона, золотой, с навершием из огромного ограненного изумруда. Клеопатра схватила жезл и молча впилась в него взглядом. Потом положила в сторону, и мы вновь вернулись к этому святотатству. Она разворачивала пелены, и из-под них сыпались золотые украшения и предметы, которые по обычаю кладут с мертвым фараоном в гроб: браслеты, ожерелья, крошечные систры, топорик с инкрустированным топорищем, фигурка божественного Осириса, символ священного Кемета… Наконец все пелены были сняты, под ними оказался саван из грубого, затвердевшего от благовонных масел льна, — ведь в древности ремесла не были так развиты, как нынче, и искусство бальзамирования еще не достигло своих вершин. На льняном саване в овале было начертано «Менкаура, царственный сын Солнца». Мы никак не могли снять этот саван, он слишком плотно охватывал тело. И потому мы, чувствуя, что вот-вот потеряем сознание в этой жаре, задыхаясь от тысячелетней пыли и одуряющего запаха благовоний, дрожа от ужаса, ибо в священнейшем уединении древней усыпальницы совершалось кощунство, положили мумию на пол и разрезали последний покров кинжалом. Сначала мы освободили голову фараона, и нам открылось лицо, которое три тысячи лет не видели ничьи глаза. Это было благородное лицо, с дерзновенным лбом, который венчал символ царственной власти — золотой урей, а из-под диадемы падали длинные седые пряди прямых волос, пожелтевших от благовоний. Ни холодная печать смерти, ни медленное течение трех тысячелетий не властны были обезобразить эти ссохшиеся черты, лишить величия. Мы долго глядели на это лицо, не в силах оторвать глаз, но в конце концов, осмелев от страха, стали срывать саван. И перед нами обнажилось тело — негнущееся, желтое, невыразимо ужасное, с левой стороны разрез, через который бальзамировщики вынимали внутренности фараона, но зашит он был столь искусно, что мы с трудом нашли его след. — Драгоценные камни там, внутри, — прошептал я, ибо мумия была очень тяжелая. — Что ж, если твое сердце не дрогнет, проделай вход в этот несчастный дом, слепленный из праха, который некогда был фараоном. — И я протянул ей кинжал — тот самый кинжал, что совсем недавно отнял жизнь у Павла. — Поздно раздумывать, — сказала она, обращая ко мне свое бледное прелестное лицо и глядя в мои глаза своими синими огромными от ужаса очами. Взяла кинжал, стиснула зубы, и вот рука живой царицы вонзилась в мертвую плоть фараона, который жил три тысячи лет тому назад. И в этот миг из шахты, у устья которой мы наверху оставили евнуха, к нам прилетел стон! Мы вскочили на ноги, но стон не повторился, из шахты по-прежнему лился сверху свет. — Почудилось, — сказал я. — Давай же завершим начатое. И вот, безжалостно терзая одеревеневшую плоть, мы с огромным усилием проделали отверстие, и я все время слышал, как кончик кинжала задевает лежащие внутри камни. Клеопатра запустила руку в мертвую грудь фараона и что-то вынула. Поднесла предмет к свету и ахнула, ибо, извлеченный из тьмы фараонова нутра, сверкнул и ожил великолепнейший изумруд, какой только доводилось видеть человеку. Он был безупречного темно-зеленого цвета, очень большой, без единого изъяна, в виде скарабея, и на нижней поверхности вырезан овал, а в овале — имя божественного Менкаура, сына Солнца. Она раз за разом погружала в отверстие руку и раз за разом вынимала из благовонных масел, налитых в грудь фараона, огромные изумруды. Некоторые камни были выделаны, некоторые нет; но все были безупречного темно-зеленого цвета и без единого изъяна, им не было цены. А ее рука все опускалась в эту ужасную грудь, и наконец мы насчитали сто сорок восемь камней, равных которым не найти во всем мире. Когда рука в последний раз нырнула в поисках камней, то извлекла не изумруды, а две огромные жемчужины, каких еще никто и никогда не видел; жемчужины были завернуты в куски льняной ткани. О судьбе этих жемчужин я поведаю позже. Итак, мы вынули сокровище, и вот оно сверкающей грудой возвышалось перед нами. Рядом с камнями лежали золотые символы царской власти, украшения, вокруг были разбросаны пропитанные благовонными маслами пелены, от приторного запаха которых кружилась голова, и тут же растерзанный труп седого фараона Менкаура, вечноживущего Осириса, который царит в Аменти. Мы поднялись на ноги, и нас охватил неодолимый ужас — ведь кощунство уже совершилось, и азарт поисков больше не поддерживал наше мужество, — ужас столь великий, что нас сковала немота. Я сделал знак Клеопатре. Она схватила фараона за плечи, я за ноги, мы вдвоем подняли его, взобрались на сфинкса и положили в гроб, где он лежал три тысячи лет. Я бросил на мумию разрезанный саван и сорванные с нее погребальные пелены и закрыл гроб крышкой. Мы стали собирать огромные изумруды и те украшения, которые можно было без труда унести, и я завязал их в мой плащ. То, что осталось, Клеопатра спрятала у себя на груди. С тяжелым грузом бесценных сокровищ мы в последний раз окинули взглядом торжественную усыпальницу, саркофаг, покоящийся на спине сфинкса, чье безмятежное золотое лицо мудро улыбалось своей загадочной улыбкой, как бы издеваясь над нами. Мы отвернулись от него и пошли туда, где в потолке было отверстие. Под ним мы остановились. Я позвал евнуха, который оставался наверху, и мне послышалось, что кто-то негромко и зловеще рассмеялся в ответ. Это было так жутко, что я не осмелился крикнуть еще раз, но я знал, что медлить нельзя, Клеопатра вот-вот лишится чувств, и потому схватился за веревку и с легкостью поднялся наверх, в коридор. Светильник горел, но евнуха я не увидел. Решив, что он, без сомнения, отошел на несколько шагов, сел и заснул — увы, моя догадка оказалась верной, — я крикнул Клеопатре, чтобы она обвязала себя веревкой вокруг пояса, и с большим трудом вытянул ее наверх. Мы немного отдохнули и, держа светильники, пошли искать евнуха. — Ему стало страшно, и он убежал, а светильник оставил, — сказала Клеопатра. — Великие боги! Кто это там? Я стал всматриваться в темноту, выставив перед собой светильники, и от того зрелища, которое предстало предо мной, у меня и по сей день холодеет в жилах кровь. Лицом к нам, привалившись к скале и раскинув в стороны руки, сидел на полу евнух — но он был мертв! Глаза его были вытаращены, челюсть отвалилась, толстые щеки обвисли, жидкие волосы стояли дыбом, и на лице застыло выражение такого нездешнего ужаса, что, глядя на него, и сам ты мог сойти с ума. Но это еще не все! Вцепившись в его подбородок когтями, висела огромная седая летучая мышь, которая вылетела из пирамиды, когда я открыл ход, и исчезла потом в небе, но вернулась вместе с нами в самое сердце гробницы. Она висела на подбородке мертвого евнуха и медленно раскачивалась, и мы видели, как горят ее красные глаза. Оцепенев от страха, стояли мы на подламывающихся ногах и глядели на эту омерзительную тварь, а она вдруг расправила свои гигантские крылья, разжала когти, выпустила подбородок евнуха и поплыла к нам. Вот она остановилась в воздухе прямо перед лицом Клеопатры, медленно взмахивая своими белыми крыльями. Потом пронзительно крикнула, точно разъяренная женщина, и полетела к входу в свою оскверненную гробницу, нырнула в колодец и исчезла в камере, где стоял ее саркофаг. Я обессиленно прислонился к стене. А Клеопатра сползла на пол и, стиснув голову локтями, стала отчаянно кричать, она кричала и не могла остановиться, крики метались по пустым коридорам, эхо нескончаемо их множило, многократно усиливало, и казалось, своды сейчас расколются от хриплого пронзительного вопля. — Встань! — приказал я. — Встань, и бежим отсюда скорее, пока не вернулся дух, который преследует нас. Если ты сейчас поддашься малодушию и будешь медлить, ты погибнешь. Она, шатаясь, поднялась на ноги — и, боги великие, никогда я не забуду выражение ее искаженного ужасом пепельного лица и горящих глаз. Поспешно схватив светильники, мы прошли мимо ужасного, словно явившегося в кошмарном сне трупа евнуха, причем я вел ее за руку. Вот мы добрались до большой погребальной камеры, где стоял саркофаг супруги фараона Менкаура, миновали ее, потом кинулись бежать по коридору. Что, если летучая мышь закрыла все три массивные двери? Но нет, они открыты, и мы молнией бросились в них; я остановился и запер только последнюю. Прикоснулся к камню в том месте, которое было обозначено на плане, и тяжелейшая дверь рухнула вниз, отрезав нас от мертвого евнуха и от чудовища, которое раскачивалось, вцепившись в его подбородок. Мы были в белой комнате с рельефами на стенах, осталось одолеть последний крутой подъем. О, как он оказался тяжек, этот подъем! Дважды Клеопатра оскальзывалась на гладких полированных камнях пола и падала. Когда она упала во второй раз — мы уже были на середине пути, — она уронила светильник, и не удержи я ее, сама бы скатилась бы вместе с ним вниз. Но ловя ее, я тоже выпустил из рук свой светильник, он понесся вниз, подскакивая, и мы остались в полной темноте. И может быть, над нами в этой тьме витало то чудовище из кошмара! — Будь мужественна! — воскликнул я. — О любовь моя, будь мужественна! Да, подъем крут, но нам осталось уже немного; и хоть здесь темно, коридор прямой, никакие неожиданности нас здесь не подстерегают. Если тебе тяжело нести камни, брось их. — Ну уж нет, никогда, — прошептала она, с трудом переводя дух. — Перенести такое и потом бросить изумруды? Да я скорее умру! Вот когда мне открылось истинное величие души этой женщины: в полнейшей тьме, дрожа от пережитых ужасов и понимая, что наша жизнь висит на волоске, она прижалась ко мне и стала подниматься по головокружительно крутому коридору. Шаг, другой… мы двигались, держа друг друга за руку, я чувствовал, что сердце вот-вот разорвется в груди, но наконец милость или гнев богов привели нас туда, откуда мы увидели пробившийся сквозь узкий ход в пирамиде слабый свет луны. Еще несколько усилий — и мы у выхода, свежий ночной ветерок овевал нам лица, точно дуновение небес. Я протиснулся сквозь отверстие и, стоя на груде валунов, поднял и вытащил наружу Клеопатру. Она спустилась вниз, медленно сползла на землю и осталась лежать без движения. Я дрожащими руками нажал на выступ в поворотном камне, он сдвинулся и встал на место, как будто никогда не открывал тайный вход в пирамиду. Я спрыгнул вниз, разбросал валуны, которые мы складывали с евнухом и поглядел на Клеопатру. Она лежала в глубоком обмороке, и хотя лицо ее было покрыто копотью и пылью, она была так бледна, что сначала я подумал: она умерла. Я приложил руку к ее сердцу и почувствовал, что оно бьется; я сам был так измучен, что бросился на песок рядом с ней: надо хоть немного отдохнуть и восстановить силы.
Глава 19
Повествующая о возвращении Гармахиса; о его встрече с Хармианой и об ответе, который Клеопатра дала послу триумвира Антония Квинту Деллию.Наконец я сел и, положив голову царицы Египта себе на колени, стал приводить ее в чувства. Как пленительно хороша она была даже сейчас, измученная, обессиленная, в плаще длинных распустившихся волос! Как мучительно прекрасно было в бледном свете луны лицо этой женщины, память о красоте и преступлениях которой переживет незыблемую пирамиду, что высится над нами! Глубокий обморок стер с ее лица налет лжи и коварства, осталось лишь божественное очарование вечной женственности, смягченное тенями ночи, в высокой отрешенности похожего на смерть сна. Я не мог отвести от нее глаз, и сердце мое разрывалось от любви к ней; мне кажется, я любил ее еще сильнее оттого, что пал так низко и совершил ради нее столько несмываемых преступлений, оттого, что вместе с ней мы пережили такой ужас. Без сил, истерзанный страхом и сознанием вины, я тянулся к ней сердцем и жаждал, чтобы она дала мне отдохновение, ибо только она одна осталась у меня на свете. Она поклялась стать моей супругой, и с помощью сокровища, которое мы сейчас добыли, мы с ней вернем Египту прежнее могущество, победим его врагов, — еще можно все поправить. Ах, если бы я знал, когда и где мне еще раз доведется держать на коленях голову этой женщины, бледную, с печатью смерти на лице! Если бы я мог провидеть в тот миг грядущее! Я стал растирать ее руки, потом склонился и поцеловал в губы, и от моего поцелуя она очнулась — очнулась и, сдавленно вскрикнув в страхе, задрожала всем своим хрупким телом и уставилась мне в лицо широко раскрытыми глазами. — Ах, это ты, ты! Теперь я вспомнила — ты спас меня и вывел из гробницы, где живет это чудовище! — И она обхватила меня руками, привлекла к себе и поцеловала. — Пойдем, любовь моя! Скорее прочь отсюда! Я смертельно хочу пить и… боги, как же я устала! А эти изумруды впиваются мне в грудь. Никому еще богатства не доставались такими муками. Уйдем, уйдем, на нас падает тень этой ужасной пирамиды! Смотри, небо сереет, это рассвет уже раскинул свои крылья. Как прекрасен мир, какое счастье видеть наступающий день! В этом лабиринте, где царит вечная ночь, я думала, что никогда больше не увижу лик зари! Перед моими глазами неотступно стоит лицо моего мертвого раба, и на его подбородке качается это омерзительное чудовище. Подумай только, он будет сидеть там вечно, — вечно! — запертый вместе с чудовищем! Но пойдем. Где нам найти воды? За несколько глотков воды я отдала бы изумруд! — Вокруг возделанных полей за храмом прорыт канал, он недалеко, — сказал я. — Если кто-то нас увидит, объясним, что мы паломники, заблудились здесь ночью среди гробниц. Поэтому как можно тщательней скрой лицо под покрывалом, Клеопатра, и сама закутайся поплотнее: никто не должен видеть эти камни. Она закуталась, спрятала лицо, я поднял ее на руки и посадил на ослика, который был привязан неподалеку. Мы медленно двинулись по долине и наконец подошли к тому месту, где в образе царственного Сфинкса, увенчанная диадемой фараонов Египта, величественно возвышается над окрестными землями статуя бога Хор-эм-ахета[493] (греки называют его Гармахисом), глаза которого неизменно устремлены на восток. В этот миг первые лучи, посланные солнцем, пронзили рассветную дымку и упали на губы Хор-эм-ахета, выражающие небесный покой, — Заря поцеловала бога Рассвета, приветствуя его. Свет разгорался, залил сверкающие грани двадцати пирамид и, словно благословляя жизнь в смерти, хлынул в порталы десяти тысяч гробниц. Он затопил золотым потоком пески пустыни, сорвал с неба тяжелое покрывало ночи, устремился к зеленым полям, к роще пышных пальм. И вот из-за горизонта торжественно поднялся со своего ложа царственный Ра — настал день. Мы прошли мимо храма из гранита и алебастра, который был построен в честь великого бога Хор-эм-ахета задолго до того, как на египетский трон сел фараон Хеопс, спустились по пологому склону и вышли к берегу канала. Там мы напились, и эта мутная вода показалась нам слаще самых изысканных вин Александрии. Мы также смыли с наших лиц и рук копоть и пыль гробницы, освежились, привели себя в порядок. Когда Клеопатра мыла шею, нагнувшись к воде, огромный изумруд выскользнул у нее из-за пазухи и упал в канал, и я с великим трудом отыскал его в тине. Потом я снова посадил Клеопатру на ослика, и мы медленно, ибо я едва держался на ногах от усталости, побрели к берегам Сихора, где стояло на якоре наше судно. И вот мы наконец приблизились к нему, встретив по пути всего несколько крестьян, которые шли трудиться на своих полях, я отпустил ослика в том самом месте, где вчера поймал, мы взошли на судно и увидели, что все наши гребцы спят. Мы разбудили их велели поднимать паруса, а про евнуха сказали, что он пока поживет здесь, — и это была истинная правда. Мы спрятали изумруды и все те золотые украшения и изделия, что нам удалось принести с собой, и вскорости барка отчалила. Мы плыли в Александрию почти пять дней, ибо дул встречный ветер; и каким же счастьем были наполнены эти дни! Правда, сначала Клеопатра была молчалива и угнетена, ибо то, что она увидела и пережила в глубинах пирамиды, преследовало ее, не оставляя ни на миг. Но скоро ее царственный дух воспрянул и сбросил тяжесть, которая камнем давила ее, и она снова стала такой, как прежде, — то веселой, то поглощенной возвышенными мыслями, то страстной, то холодной, то неприступно величественной, то искренней и простой — переменчивой, как ветер, и, как небо, прекрасной, бездонной, непостижимой! Ночь за ночью, летящие как бы вне времени и наполненные беспредельным счастьем, — это были последние часы счастья, которые подарила мне жизнь, — мы сидели с ней на палубе, держа друг друга за руку, и слушали, как плещут о борт нашего судна волны, смотрели, как убегает вдаль лунная дорожка, как мягко серебрится черная вода, пропуская в свои глубины лунные лучи. Мы бесконечно говорили о том, как любим друг друга, о том, что скоро станем мужем и женой, обсуждали, что сможем сделать для Египта. Я рассказывал ей о своих планах войны с Римом, которые у меня уже возникли, — ведь теперь у нас довольно средств, мы можем отстоять свою свободу; она их все одобряла и нежно говорила, что согласна со всем, что я задумал, ведь я так мудр. Четыре ночи миновали, как единый миг. О, эти ночи на Ниле! Воспоминание о них терзает меня до сих пор. Во сне я снова и снова вижу, как дробится и пляшет на воде отражение луны, слышу голос Клеопатры, шепчущий слова любви, он сливается с шепотом волн. Канули в вечность те блаженные ночи, умерла луна, что озаряла их; волны, которые качали нас на своей груди, точно в колыбели, влились в соленое море и растворились в нем, и там, где мы целовали друг друга и сжимали в объятьях, когда-нибудь будут целоваться влюбленные, которые еще не родились на свет. Сколько счастья обещали эти ночи, но обещанию не суждено было сбыться, оно оказалось пустоцветом — цветок завял, упал на землю и засох, и вместо счастья меня постигло величайшее несчастье. Ибо все кончается тьмой и тленом, и тот, кто сеет глупость, пожинает скорбь. О, эти ночи на Ниле! Но вот сон кончился — мы снова оказались за ненавистными стенами прекрасного дворца на мысе Лохиас. — Куда это вы, Гармахис, ездили с Клеопатрой? — спросила меня Хармиана, встретившись со мной случайно в день возвращения. — Замыслил какое-то новое предательство? Или любовники просто уединились, чтобы им никто не докучал? — Я ездил с Клеопатрой по тайным делам чрезвычайной государственной важности, — сухо ответил я. — Ах, вот как! Любая тайна чревата злом, — не забудь, самые коварные птицы летают ночью. А ты, Гармахис, достаточно умен и понимаешь, что тебе нельзя открыто показываться в Египте. От ее слов я вспыхнул гневом, ибо мне было непереносимо презрение этой хорошенькой девушки. — Неужели твой язык должен язвить без передышки? — спросил я ее. — Так знай же: я был там, куда тебе не позволено и приблизиться; мы пытались добыть средства, которые помогут Египту удержаться в борьбе с Антонием и не стать его добычей. — Вот оно что, — проговорила она, метнув в меня быстрый взгляд. — Глупец! Ты зря трудился, Египет все равно станет добычей Антония, сколько бы ты ни старался его спасти. Что ты сегодня значишь для Египта? — Мои старания, быть может, действительно ничего не стоят; но когда против Антония выступит Клеопатра, он не сможет одолеть Египет. — Сможет и обязательно одолеет его с помощью самой Клеопатры, — проговорила Хармиана и с горечью усмехнулась. — Когда царица торжественно проплывет со всей своей свитой по Кидну, потом за ней в Александрию, без всякого сомнения, увяжется этот солдафон Антоний — победитель и такой же, как ты, раб! — Ложь! Ты лжешь! Клеопатра не поплывет в Тарс, и Антоний не явится в Александрию, а если явится, то только воевать. — О, ты в этом так уверен? — И она негромко рассмеялась. — Ну что же, тешь себя такими надеждами, если тебе приятно. Через три дня ты будешь все знать. До чего же легко обвести тебя вокруг пальца, одно удовольствие смотреть! Прощай же! Иди мечтать о своей возлюбленной, ибо нет не свете ничего слаще любви. И она исчезла, оставив меня в гневе и тревоге, которую посеяла в моем сердце. Больше я Клеопатру в тот день не видел, но на следующий мы встретились. Она была в дурном расположении духа и не нашла для меня ласкового слова. Я завел речь о войсках, которые будут защищать Египет, но она отмахнулась от разговора. — Зачем ты докучаешь мне? — сердито набросилась она на меня. — Разве не видишь, что я извелась от забот? Вот дам завтра Деллию ответ, и будем обсуждать дела, с которыми ты пришел. — Хорошо, я подожду до завтра, до того, как ты дашь Деллию ответ, — сказал я. — А знаешь ли ты, что еще вчера Хармиана, которую все во дворце называют хранительницей тайн царицы, — так вот, Хармиана вчера поклялась, что ты скажешь Деллию: «Я хочу мира и поплыву к Антонию!» — Хармиане неведомы мои замыслы, — отрезала Клеопатра и в сердцах топнула ножкой, — а если у нее такой длинный язык, она будет тотчас же изгнана из дворца, как того и заслуживает. Хотя, если говорить правду, — возразила она сама себе, — в этой головке больше ума, чем у всех моих тайных советников вместе взятых, к тому же никто не умеет так ловко этот ум применить. Ты знаешь, что я продала часть этих изумрудов богатым иудеям, которые живут в Александрии, и продала по очень дорогой цене — за каждый получила пять тысяч сестерций! Но я продала всего несколько, сказать правду, они пока больше просто не могли купить. Вот было зрелище, когда они увидели камни: от алчности и изумления глаза у них сделались огромные, как яблоки. А теперь, Гармахис, оставь меня, я очень утомлена. Никак не изгладится воспоминание о подобной кошмару ночи в пирамиде. Я встал и поклонился, но медлил уходить. — Прости меня Клеопатра, а как же наше бракосочетание? — Наше бракосочетание? А разве мы не муж и жена? — Да, но не перед миром и людьми. Ты обещала. — Конечно, Гармахис, я обещала, и завтра, едва только я избавлюсь от этого наглеца Деллия, я выполню свое обещание и объявлю всему двору, что ты — повелитель Клеопатры. Непременно будь в зале. Ты доволен? И она протянула мне руку для поцелуя, глядя на меня странным взглядом, как будто боролась с собой. Я ушел, но ночью попытался еще раз увидеть Клеопатру, однако это не удалось. «У царицы госпожа Хармиана», — твердили евнухи и никого не пропускали. Утром двор собрался в большом тронном зале за час до полудня, я тоже пришел; сердце то бешено колотилось, то замирало — скорее бы дождаться, что ответит Клеопатра Деллию, и услышать, что я — соправитель царицы Египта. Двор был в полном составе, все поражали великолепием нарядов: советники, вельможи, военачальники, евнухи, придворные дамы — все были здесь, кроме Хармианы. Миновал час, но Клеопатра с Хармианой все не появлялись. Наконец через боковую дверь незаметно проскользнула Хармиана и встала среди придворных дам у трона. Она сразу же бросила взгляд на меня, и в ее глазах я увидел торжество, хотя не мог понять, по поводу чего она торжествует. Как мог я догадаться, что она уже погубила меня и обрекла на гибель Египет? Раздались звуки фанфар, и в парадном церемониальном наряде, с золотым уреем на лбу и с огромным изумрудом в виде скарабея, который Клеопатра извлекла из нутра мертвого фараона, сияющим сейчас, как звезда, на ее груди, величественно вошла царица и двинулась к трону в сопровождении стражников-галлов в сверкающих доспехах. Ее прелестное лицо было сумрачно, дремотно-отрешенные глаза темны, и никто не мог прочесть, что в них таится, хотя все придворные так и встрепенулись в ожидании того, что произойдет. Она медленно опустилась на трон, точно каждое движение стоило ей великого труда, и обратилась к главному глашатаю по-гречески: — Ожидает ли посланец благородного Антония? Глашатай поклонился и ответил, что да, ожидает. — Пусть войдет и выслушает наш ответ. Двери распахнулись, и в сопровождении свиты военачальников в тронный зал своим мягким, кошачьим шагом вошел Деллий в золотых доспехах и пурпурном плаще и низко склонился перед престолом. — Великая и прекраснейшая царица Египта, — вкрадчиво заговорил он, — тебе было угодно милостиво повелеть, чтобы я сегодня явился выслушать твой ответ на послание благородного триумвира Антония, к которому я завтра отплываю в Киликию, в Тарс, и вот я здесь. Молю простить дерзость моих речей, о царица, но выслушай меня: прежде чем с твоих прелестных уст сорвутся слова, которых не вернуть, подумай многажды. Объяви Антонию войну — и Антоний разобьет тебя. Но явись пред ним, сияя красотой, средь волн, пеннорождённая, подобная твоей матери — богине Афродите, и никакого поражения тебе не надо опасаться, он осыплет тебя всеми дарами, которые любы сердцу царицы и женщины, — ты получишь империю, роскошные дворцы, города, власть, славу и богатство, и никто не посмеет посягнуть на твою корону. Не забывай: Антоний держит все страны Востока в своей руке воина; его волею восходят на трон цари; вызвав его неудовольствие, они лишаются и трона, и жизни. Он поклонился и, скрестив руки на груди, стал терпеливо ждать ответа. Минуты шли, Клеопатра молчала, она сидела, точно сфинкс Хор-эм-ахет, безмолвная, непроницаемая, и глядела мимо стен огромного тронного зала ничего не видящими глазами. Потом раздалась нежная музыка ее голоса — она заговорила; я с трепетом ждал, что вот сейчас Египет объявит войну Риму. — Благородный Деллий, мы много размышляли o том, что содержится в послании, которое ты привез от великого Антония нам, отнюдь не блистающей мудростью царице Египта. Мы долго вдумывались в него, держали совет с оракулами богов, с мудрейшими из наших друзей, прислушивались к голосу нашего сердца, которое неусыпно печется о благе нашего народа, как птица о своих птенцах. Оскорбительны слова, что ты привез нам из-за моря; мне кажется, их было бы пристойнее послать какому-нибудь мелкому царьку крошечной зависимой страны, а вовсе не ее величеству царице славного Египта. И потому мы сосчитали, сколько легионов мы сможем снарядить, сколько трирем и галер поплывут по нашему приказу в море, сосчитали, сколько у нас денег, — и оказалось, что мы сможем купить все необходимое, дабы вести войну. И мы решили, что, хоть Антоний и силен, Египту его сила не страшна. Она умолкла, по залу запорхали рукоплескания — все выражали восхищение ее гордой отповедью. Один лишь Деллий протянул вперед руки, как бы отталкивая ее слова. Но она заговорила снова! — Благородный Деллий, нам хотелось бы завершить на этом свой ответ и, укрепившись в наших могучих каменных цитаделях и в цитаделях сердец наших воинов, перейти к действиям. Но мы этого не сделаем. Мы не совершали тех поступков, которые молва превратно донесла до слуха благородного Антония и в которых он столь грубо и оскорбительно обвинил нас; и потому мы не поплывем в Киликию оправдываться. Снова вспыхнули рукоплескания, мое сердце бешено заколотилось от торжества; потом вновь наступила тишина, и Деллий спросил: — Так, стало быть, царица Египта, я должен передать Антонию, что ты объявляешь ему войну? — О нет, — ответила она, — мы объявляем мир. Слушай же: мы сказали, что не поплывем в Киликию оправдываться перед ним, и мы действительно не поплывем оправдываться. Однако, — тут она улыбнулась в первый раз за все время, — мы согласны плыть в Киликию, и плыть без промедления, дабы на берегах Кидна доказать наше царственное расположение и наше миролюбие. Я услыхал ее слова и ушам своим не поверил. Не изменяет ли мне слух? Неужели Клеопатра так легко нарушает свои клятвы? Охваченный безумием, сам не понимая, что я делаю, я громко крикнул: — О царица, вспомни! Она повернулась ко мне с быстротой тигрицы, глаза вспыхнули, прелестная головка гневно вскинулась. — Молчи, раб! — произнесла она. — Кто позволил тебе вмешиваться в нашу беседу? — Твое дело — звезды, война и мир — дело тех, кто правит миром. Я сжался от стыда и тут увидел, как на лице Хармианы снова мелькнула улыбка торжества, потом на него набежала тень — быть может, ей было жаль меня в моем падении. — Ты просто уничтожила этого наглого невежду, сказал Деллий, указывая на меня пальцем в сверкающих перстнях. — А теперь позволь мне, о царица Египта, поблагодарить тебя от всего сердца за твои великодушные слова и… — Нам не нужна твоя благодарность, о благородный Деллий; и не пристало тебе корить нашего слугу, — прервала его Клеопатра, гневно хмурясь, — мы примем благодарность из уст одного лишь Антония. Возвращайся к своему повелителю и передай ему, что, как только он успеет подготовить все, чтобы оказать нам достойный прием, наши суда поплывут вслед за тобой. А теперь прощай! На борту твоего корабля тебя ожидает скромный знак нашей милости. Деллий трижды поклонился и пошел к выходу, а все придворные встали, ожидая, что скажет царица. Я тоже ждал, надеясь, что, может быть, она все-таки выполнит клятву и назовет меня перед лицом всего Египта своим царственным супругом. Но она молчала. Все так же мрачно хмурясь, она встала и в сопровождении своих стражей прошествовала из тронного зала в Алебастровый. Тогда и придворные стали расходиться, и, проходя мимо меня, все до единого вельможи и советники презрительно кривились. Никто из них не знал моей тайны, никто не догадывался о нашей с Клеопатрой любви и о ее решении стать моей супругой, но все завидовали мне, ибо я был в милости у царицы, и теперь не просто радовались моему падению, но открыто ликовали. Однако что мне было до их радости их презрения, я стоял, окаменев от горя, и чувствовал, что надежда улетела и земля ускользает у меня из-под ног.
Глава 20
Повествующая об обвинениях, которые Гармахис бросил в лицо Клеопатре, о сражении Гармахиса с телохранителями Клеопатры; об ударе, который нанес ему Бренн, и о тайной исповеди Клеопатры.Наконец тронный зал опустел, я тоже хотел подняться к себе, но в эту минуту меня хлопнул по плечу один из евнухов и грубо приказал идти в покои царицы, ибо она желает меня видеть. Час назад этот негодяй пресмыкался бы передо мной во прахе, но он все слышал и сейчас — такова уж подлая натура рабов — готов был топтать меня ногами, как мир всегда топчет павших. Те, кто сорвался с вершины и упал, познают всю горечь позора. И потому горе великим, ибо их на каждом шагу подстерегает падение! Я с такой яростью глянул на раба, что он отскочил от меня, точно трусливая собака; потом пошел к Алебастровому Залу, и стражи меня пропустили. В центре зала возле фонтана сидела Клеопатра, с ней были Хармиана, гречанки Ирада, Мерира и еще несколько ее придворных дам. — Ступайте, — сказала она им, — я хочу говорить с моим астрологом. И все они ушли, оставив нас вдвоем. — Стой там, — произнесла она, впервые за все время подняв глаза. — Не подходи ко мне, Гармахис: я тебе не доверяю. Может быть, ты припас новый кинжал. По какому праву осмелился ты вмешаться в мою беседу с римлянином? Отвечай! Кровь моя вскипела, в душе заклокотали горечь и гнев, точно волны во время бури. — Нет, это ты ответь мне, Клеопатра! — властно потребовал я. — Где твоя торжественная клятва, которой ты поклялась, положив руку на мертвое сердце Менкаура, вечноживущего Осириса? Где твоя клятва, что ты объявишь войну этому римлянину Антонию? Где твоя клятва, что ты назовешь меня своим царственным супругом перед лицом всего Египта?! — Голос мой прервался, я умолк. — О да, Гармахис, кому, как не тебе, напоминать о клятвах, ведь сам-то ты их никогда не нарушал! — язвительно проговорила она. — И все же, о ты, целомудреннейший из жрецов Исиды; вернейший в мире друг, который никогда не предавал своих друзей; честнейший, достойнейший, благороднейший муж, который никогда не отдавал свое право на трон, свою страну и ее свободу в обмен на мимолетную любовь женщины, — и все же, откуда ты знаешь, что моя клятва — пустой звук? — Я не буду отвечать на твои упреки, Клеопатра, ответил я, изо всех сил сдерживаясь, — я все их заслужил, хоть и не из твоих уст мне их слышать. Я объясню тебе, откуда я все знаю. Ты собираешься плыть кАнтонию; ты прибудешь в своем роскошнейшем одеянии, как советовал тебе этот лукавый римлянин, и станешь пировать с тем, чей труп ты должна бы выбросить стервятникам — пусть они пируют над ним. Может быть, ты даже намереваешься расточить сокровища, которые ты выкрала из мумии Менкаура, — сокровища, которые Египет хранил тысячелетия про черный день, — на буйные пиры, и этим увенчаешь бесславную гибель Египта. Знаю я потому, что ты — клятвопреступница и ловко обманула меня, а я-то, я-то полюбил тебя и свято тебе верил; знаю потому, что еще вчера ты клялась сочетаться со мной браком, а сегодня осыпаешь ядовитыми насмешками и оскорбила перед этим римлянином и перед всем двором! — Я клялась сочетаться с тобой браком? Боги, что такое брак? Разве это истинный союз сердец, узы, прекрасные, точно летящая паутинка, и столь же невесомые, но соединяющие две души, когда они плывут по полному видений ночному океану страсти, и тающие в каплях утренней росы? Тебе не кажется, что брак скорее напоминает железную цепь, в которую насильно заковали на всю жизнь двоих, и когда тонет один, за ним на дно уходит и другой, точно приговоренный к жесточайшей смерти раб?[494] Брак! И чтобы я в него вступила! Чтобы я пожертвовала свободой, чтобы своей волей надела на себя ярмо тягчайшего рабства, которое влачат женщины, ибо себялюбивые мужчины, пользуясь тем, что они сильнее, заставляют нас делить с ними ставшее ненавистным ложе и выполнять обязанности, давно уже не освященные любовью! Какой же тогда смысл быть царицей, если я не могу избегнуть злой судьбы рожденных в низкой доле? Запомни, Гармахис: больше всего на свете женщина страшится двух зол — смерти и брака, причем смерть для нее даже милее, ибо она дарит нам покой, а брак, если он оказался несчастливым, заживо ввергает нас во все муки, которые нам уготовали чудовища Аменти. Нет, меня не может испачкать клевета черни, которая из зависти порочит те истинно чистые, возвышенные души, которые не выносят принуждения и никогда не станут насильно удерживать привязанность другого и потому, Гармахис, я могу любить, но в брак я не вступлю никогда! — Но лишь вчера, Клеопатра, ты клялась, что назовешь меня своим супругом и посадишь рядом с собой на трон, что ты объявишь об этом всему Египту! — Вчера, Гармахис, красная корона вокруг луны предвещала бурю, а нынче день так ясен! Но кто знает: завтра, быть может, налетит гроза, кто знает, может быть, я выбрала лучший и самый легкий путь спасти Египет от римлян. Кто знает, Гармахис, может быть, ты еще назовешь меня своей супругой. Больше я не мог вынести ее лжи, ведь я видел, что она играет мной. И я выплеснул в лицо ей все, что терзало мне сердце. — Клеопатра, ты поклялась защищать Египет — и готовишься предать его Риму! Ты поклялась использовать сокровища, тайну которых я тебе открыл, только во благо Египта, — и что же? Ты готовишься с их помощью ввергнуть Египет в бесславие и навеки заковать в кандалы! Ты поклялась сочетаться со мной браком, ведь я люблю тебя и пожертвовал тебе всем, — и что же? Ты глумишься надо мной и отвергаешь меня! И потому слушай меня — не меня, а грозных богов, которые вещают моими устами: проклятие Менкаура падет на тебя, ибо ты поистине ограбила его священный прах и надругалась над ним! А теперь отпусти меня, о воплощение порока в пленительнейшей оболочке, отпусти меня, царица лжи, которую я полюбил на свою погибель и которая навлекла на меня последнее проклятье судьбы! Позволь мне где-нибудь укрыться и никогда больше не видеть твоего лица! Она в гневе поднялась, и гнев ее был ужасен. — Отпустить тебя, чтобы ты на свободе стал замышлять зло против меня? Нет, Гармахис, я больше не позволю тебе плести заговоры и покушаться на мой трон! Я повелеваю, чтобы ты тоже сопровождал меня, когда я поплыву к Антонию в Киликию, и там, быть может, я отпущу тебя! — И не успел я произнести в ответ хоть слово, как она ударила в серебряный гонг, что висел возле нее. Глубокий мелодичный звон еще не замер, а в зал уже входили в одну дверь Хармиана и придворные дамы Клеопатры, в другую — четыре телохранителя царицы, могучие воины в оперенных шлемах и с длинными белокурыми волосами. — Взять этого изменника! — крикнула Клеопатра, указывая на меня. Начальник стражи — то был Бренн — вскинул руку в салюте и двинулся ко мне с обнаженным мечом. Но в моем отчаянии я больше не дорожил жизнью — пусть они меня зарубят, я словно обезумел и, бросившись на Бренна, нанес ему такой тяжелый удар кулаком под подбородок, что великан упал навзничь, только латы загремели на мраморном полу. Едва лишь он упал, я выхватил у него меч и круглый щит и во всеоружии встретил следующего солдата, который с воплем кинулся на меня, подставил его удару щит и сам занес над ним свой меч. Я вложил в удар всю свою силу и вонзил меч в самое основание шеи, перерубив металл доспехов: колени телохранителя согнулись, он медленно упал мертвый. Третьего, когда настал его черед, я поймал на кончик моего меча прежде, чем он успел опустить свой, пронзил его сердце, и он мгновенно умер. Потом последний устремился ко мне с криком: «Таранис!», и я рванулся ему навстречу, ибо кровь моя воспламенилась. Женщины пронзительно кричали, только Клеопатра стояла и молча наблюдала неравный бой. Вот мы сошлись, и я всей своей яростью обрушился на него — да, то был поистине могучий удар, ибо меч рассек железный щит и сам сломался, теперь я был безоружен. С торжествующим криком телохранитель высоко занес свой меч и опустил на мою голову, но я успел подставить щит. Он снова опустил меч, и снова я отбил удар, но когда он замахнулся в третий раз, я понял, что бесконечно это продолжаться не может, и с криком ткнул мой щит ему в лицо. Скользнув по его щиту, мой щит ударил солдата в грудь, и от зашатался. Он не успел обрести равновесие, я обманул его бдительность и обхватил за пояс. Наверно, целую минуту я и высоченный страж отчаянно боролись, но я был так силен в те дни, что наконец поднял его, как игрушку, и швырнул на мраморный пол, у него не осталось ни одной целой кости, и он навек умолк. Но я и сам не удержался на ногах и рухнул на него, и, когда я упал, начальник стражи Бренн, которого я еще раньше сбил кулаком наземь и который тем временем очнулся, подкрался ко мне сзади и, подняв меч одного из тех солдат, которых я убил, полоснул меня по голове и по плечам. Но я лежал на пату, и пока меч летел такое большое расстояние, удар потерял часть своей силы, к тому же мои густые волосы и вышитая шапочка смягчили его; и потому Бренн тяжело меня ранил, но не убил. Однако сражаться я больше не мог. Трусливые евнухи, которые сбежались, заслышав звуки боя, и наблюдали за нами, сбившись в кучу, точно стадо баранов, сейчас увидели, что я лишился сил, бросились на меня и хотели заколоть ножами. Но Бренн, теперь, когда я был повержен, не стал меня добивать, он просто стоял надо мной и ждал. А евнухи, без всякого сомнения, растерзали бы меня, потому что Клеопатра глядела на всех нас точно во сне и никого не останавливала. Вот они уже откинули мне голову назад, вот уже острия их ножей у моего горла, но тут ко мне бросилась Хармиана, растолкала их, крича: «Собаки, трусы!», и закрыла меня своим телом, так что они не могли теперь меня убить. Тогда Бренн, бормоча ругательства, схватил одного евнуха, другого, третьего и всех их отшвырнул от меня. — Даруй ему жизнь, царица! — обратился он к Клеопатре на своей варварской латыни. — Клянусь Юпитером, вот доблестный боец! Я сам свалился от его удара, как бык на бойне, а трое моих людей лежат мертвёхоньки, и ведь он был без оружия и не ожидал нападения! Нет, на такого бойца нельзя держать зла! Прояви милость, царица, даруй ему жизнь и отдай его мне. — Да, пощади его! Даруй ему жизнь! — воскликнула Хармиана, бледная, дрожа с головы до ног. Клеопатра приблизилась к нам и поглядела на двух мертвых телохранителей и одного умирающего, которого я разбил о мраморный пол, поглядела на меня, своего любовника, которому она всего два дня назад давала клятвы верности, а сейчас я лежал в крови, и моя раненая голова покоилась на белом одеянии Хармианы. Я встретился глазами с царицей. — Мне не нужна жизнь! — с усилием прошептал я. — Vae victis! Ее лицо залилось краской — надеюсь, это была краска стыда. — Стало быть, Хармиана, ты в глубине души все-таки его любишь, — сказала она с легким смешком, — иначе не закрыла бы его своим хрупким телом и не защитила от ножей этих бесполых псов. — И она бросила презрительный взгляд на евнухов. — Нет! — пылко воскликнула девушка. — Я не люблю его, но мне невыносимо видеть, когда такого отважного бойца предательски убивают трусы. — О да, он храбр, — проговорила Клеопатра, — и доблестно сражался; я даже в Риме, во время гладиаторских боев, не видела такой отчаянной схватки! Что ж, я дарую ему жизнь, хоть это и слабость с моей стороны — женская слабость. Отнесите звездочета в его комнату и охраняйте там, пока он не поправится — или пока не умрет. Голова у меня закружилась, волной накатили дурнота и слабость, я стал проваливаться в пустоту, в ничто… Сны, сны, сны, нескончаемые и бесконечно меняющиеся, казалось, они год за годом носят меня по океану муки. И сквозь эти сны мелькает видение нежного женского лица с темными глазами, прикосновение белой руки так отрадно, оно утишает боль. Я так же вижу иногда царственный лик, он склоняется над моим качающимся на бурных волнах ложем, — от меня все время ускользает, чей этой лик, но его красота вливается в мою бешено пульсирующую кровь, я знаю — она часть меня… мелькают картины детства, я вижу башни храма в Абидосе, вижу седого Аменемхета, моего отца… и вечно, вечно я вижу или ощущаю величественный зал в Аменти, маленький алтарь и вокруг, у стен, божества, облаченные в пламя! Там я неотступно брожу, призываю мою небесную матерь Исиду, но вспомнить ее образ не могу; зову ее — и все напрасно! Не опускается облачко на алтарь, только время от времени глас божества грозно вещает: «Вычеркните имя сына Земли Гармахиса из живой книги Той, что вечно была, есть и будет! Он погиб! Он погиб! Он погиб!» Но другой голос ему отвечает: «Нет, нет, подождите! Он искупит содеянное зло, не вычеркивайте имя сына Земли Гармахиса из живой книги Той, что вечно была, есть и будет! Страдания искупят преступление!» Я очнулся и увидел, что лежу в своей комнате, в башне дворца. Я был так слаб, что едва мог поднять руку, и жизнь едва трепетала в моей груди, как трепещет умирающая птица. Я не мог повернуть голову, не мог пошевелиться, но в душе было ощущение покоя, словно бы какая-то черная беда миновала. Огонь светильника резал глаза, я закрыл их и, закрывая, услышал шелест женских одежд на лестнице, услышал быстрые легкие шаги, которые так хорошо знал. То были шаги Клеопатры! Она вошла в комнату и стала медленно приближаться ко мне. Я чувствовал, как она подходит! Мое еле теплящееся сердце отвечало ударом на каждый ее шаг, из тьмы подобного смерти сна поднялась великая любовь к ней и вместе с любовью — ненависть, они схватились в поединке, терзая мою душу. Она склонилась надо мной, над моим лицом веяло ее ароматное дыхание, я даже слышал, как бьется ее сердце! Вот она нагнулась еще ниже, и ее губы нежно коснулись моего лба. — Бедняжка, — тихо проговорила она. — Бедняжка, ты совсем ослаб, ты умираешь! Судьба жестоко обошлась с тобой. Ты был слишком хорош, и вот оказался добычей такой хищницы, как я, заложником в той политической игре, которую я веду. Ах, Гармахис, условия этой игры должен был бы диктовать ты! Эти заговорщики-жрецы сделали из тебя ученого, но не вооружили знаниями о человеке, не защитили от непобедимого напора законов Природы. И ты всем сердцем полюбил меня — ах, мне ли это не знать! Ты, столь мужественный, полюбил глаза, которые, точно огни разбойничьего судна, манили и манили твою барку, пока она не разбилась о скалы; ты с такой страстью целовал уста, так свято верил каждому слову, что с них слетало, а эти уста тебе лгали, даже назвали тебя рабом! Что ж, игра была на равных, ибо ты хотел убить меня; и все же мое сердце скорбит. Стало быть, ты умираешь? — Прощай, прощай же! Никогда больше мы не встретимся с тобою на земле, и, может быть, так даже лучше, ибо кто знает, как бы я поступила с тобой, если бы ты остался жив, а мимолетная нежность, что ты вызвал во мне, прошла. Да, ты умираешь, так говорят эти ученые длиннобородые глупцы, — они мне дорого заплатят, если позволят тебе умереть. И где мы встретимся потом, когда я в последний раз брошу в этой игре свой шарик? Там, в царстве Осириса, мы будем с тобою равны. Пройдет немного времени, и мы встретимся, — через несколько лет или дней, быть может, даже завтра; и не отвернешься ли ты от меня теперь, когда знаешь обо мне все? Нет, ты и там будешь любить меня так же сильно, как любил здесь! Ибо любовь, подобная твоей, бессмертна, ее не могут убить обиды. Любовь, которая наполняет благородное сердце, может убить только презрение, оно разъест ее, как кислота, и обнаружит истинную суть любимого существа во всей ее жалкой наготе. Ты должен по-прежнему боготворить меня, Гармахис, ибо при всех пороках у меня великая душа, и я не заслужила твоего презрения. О, если бы я могла любить тебя той же любовью, какой ты любишь меня! Я и почти любила, когда ты убивал моих телохранителей, — почти, но чего-то этой любви недоставало… Какая неприступная твердыня — мое сердце, оно никому не сдается, даже когда я распахиваю ворота, ни один мужчина не может его покорить! О, как мне постыло мое одиночество, как чудесно было бы раствориться в близкой душе! На год, на месяц, хоть на час забыть и ни разу не вспомнить о политике, о людях, о роскоши моего дворца и быть всего лишь любящей женщиной! Прощай, Гармахис! Иди к великому Юлию, которого ты совсем недавно вызвал своим искусством из царства мертвых и явил передо мной, и передай ему приветствия от его царственной египтянки. Что делать, я обманула тебя, Гармахис, я обманывала и Цезаря, — быть может, Судьба еще при жизни рассчитается со мной и обманутой окажусь я. Прощай, Гармахис, прощай! Она пошла к двери, и в это время я услышал шелест еще одного платья, свет упал на ножку другой женщины. — А, это ты, Хармиана. Как ни выхаживаешь ты его, он умирает. — Да, — ответил голос Хармианы, бесцветный от горя. — Да, о царица, так говорят врачи. Сорок часов он пролежал в таком глубоком забытьи, что временами это перышко почти не шевелилось возле его губ, и ухо мое не слышало, бьется ли его сердце, когда я прижимала голову к его груди. Вот уже десять нескончаемых дней я ухаживаю за ним, не спуская с него глаз ни днем, ни ночью, я ни на миг не заснула, и глаза мои режет, точно в них насыпали песок, мне кажется, я сейчас упаду от усталости. И вот награда за мои труды! Все погубил предательский удар этого негодяя Бренна — Гармахис умирает! — Любовь не считает свои труды, Хармиана, и не взвешивает заботу на весах торговца. Она радостно отдает все, что у нее есть, отдает бесконечно, пока душа не опустошится, и ей все кажется, что она отдала мало. Твоему сердцу дороги эти бессонные ночи у ложа больного; твоим измученным глазам отрадно это печальное зрелище — геркулес сейчас беспомощен и нуждается в тебе, слабой женщине, как дитя в матери. Не отрекайся, Хармиана: ты любишь этого мужчину, не отвечающего на твою любовь, и теперь, когда он в твоей власти, когда в его душе воцарилась отрешенная от жизни тьма, ты изливаешь на него свою нежность и тешишь себя мечтами, что он поправится и вы еще будете счастливы. — Я не люблю его, царица, и доказала это тебе! Как я могу любить человека, который хотел убить тебя — тебя, мою царицу, которая мне дороже сестры! Я ухаживаю за ним из жалости. Клеопатра негромко рассмеялась. — Жалость — та же любовь, Хармиана. Неисповедимы пути женской любви, а твоя любовь совершила нечто поистине непостижимое, мне это ведомо. Но чем сильней любовь, тем глубже пропасть, в которую она может пасть, чтобы потом опять вознестись в небеса и снова низвергнуться. Бедная Хармиана! Ты — игрушка своей собственной страсти: сейчас ты нежна, как небо на рассвете, но когда ревность терзает твое сердце, становишься жестокой, как море. Так уж мы, женщины, устроены. Скоро, скоро, когда твое горестное бдение кончится, тебе не останется ничего, кроме слез, раскаяния — и воспоминаний. И она ушла.
Глава 21
Повествующая о нежной заботе Хармианы; о выздоровлении Гармахиса; об отплытии Клеопатры со свитой в Киликию и о словах Бренна, сказанных Гармахису.Клеопатра ушла, и я долго лежал молча, собираясь с силами, чтобы заговорить. Но вот ко мне приблизилась Хармиана, склонилась надо мной, и из ее темных глаз на мою щеку упала тяжелая слеза, как из грозовой тучи падает первая крупная капля дождя. — Ты уходишь от меня, — прошептала она, — ты умираешь, а я не могу за тобой последовать! О Гармахис, с какою радостью я умерла бы, чтобы ты жил! И тут я наконец открыл глаза и слабым, но ясным голосом произнес: — Не надо так горевать, мой дорогой друг, я еще жив. И скажу тебе правду: мне кажется, что я как бы родился заново. Она вскрикнула от радости, ее залитое слезами лицо засияло и сделалось несказанно прекрасным. Мне вспомнилось серое небо в тот печальный час, что отделяет ночь от утра, и первые лучи зари, окрашивающие его румянцем. Прелестное лицо девушки порозовело, потухшие глаза замерцали, точно звезды, сквозь слезы пробилась улыбка счастья, — так вдруг начинают серебриться легкие волны, когда море целуют лучи восходящей луны. — Ты будешь жить! — воскликнула она и бросилась на колени перед моим ложем. — Ты жив, а я-то так боялась, что ты умрешь! Ты возвратился ко мне! Ах, что я болтаю! Какое глупое у нас, у женщин, сердце! Это все от долгих ночей у твоего ложа. Нет, нет, тебе нельзя говорить, Гармахис, ты должен сейчас спать, тебе нужен покой! Больше ни одного слова, я запрещаю! Где питье, которое оставил этот длиннобородый невежда? Нет, не надо никакого питья! Засни, Гармахис, засни! — Она присела на полу у моего ложа и опустила на мой лоб свою прохладную ладонь, шепча: — Спи, спи… Когда я пробудился, она по-прежнему была рядом со мной, но в окно сочился рассвет. Она сидела, подогнув под себя колени, ее ладонь лежала на моем лбу, головка с рассыпавшимися локонами покоилась на вытянутой руке. — Хармиана, — шепотом позвал я ее, — стало быть, я спал! Она в тот же миг проснулась и с нежностью взглянула на меня. — Да, Гармахис, ты спал. — Сколько же я проспал? — Девять часов. — И все эти долгие девять часов ты провела здесь, возле меня? — Да, но это пустяки, я ведь тоже спала — боялась разбудить тебя, если пошевелюсь. — Иди к себе, отдохни, — попросил я. — Ты так измучилась со мной, мне стыдно. Тебе нужен отдых, Хармиана! — Не беспокойся обо мне, — ответила она, — я велю сейчас рабыне быть неотлучно при тебе и разбудить меня, если тебе что-то понадобиться; я лягу спать здесь же, в соседней комнате. А ты отдыхай. — Она хотела подняться, но тело ее так затекло в неудобной позе, что она тут же упала на пол. Не могу описать, каким горьким стыдом наполнилось мое сердце, когда я это увидел. Увы, я в моей великой слабости не мог поднять ее! — Ничего, пустяки, — сказала она, — лежи и не шевелись, у меня просто нога подвернулась. Ой! — Она поднялась и снова упала. — До чего же я неловкая! Это я со сна. Ну вот, все прошло. Сейчас пришлю рабыню. — И она пошла из комнаты, пошатываясь, точно пьяная. Я тут же снова заснул, ибо совсем обессилел. Проснулся уже в полдень и почувствовал неутолимый голод. Хармиана принесла мне еду. Я тут же все съел. — Стало быть, я не умер, — сказал я. — Нет, — и она вскинула головку, — ты будешь жить. Сказать правду, зря, я расточала на тебя свою жалость. — Твоя жалость спасла мне жизнь, — с горечью сказал я, ибо теперь все вспомнил. — О нет, пустяки, — небрежно бросила она. — В конце концов, ведь ты — мой двоюродный брат, к тому же я люблю ухаживать за больными, это истинно женское занятие. Я точно так же стала бы выхаживать любого раба. А теперь, когда опасность миновала, я уйду. — Лучше бы ты позволила мне умереть, Хармиана, — проговорил я после долгого молчания, — ибо в жизни меня теперь не ждет ничего, кроме нескончаемого позора… Скажи мне, когда Клеопатра собирается плыть в Киликию? — Она отплывает через двадцать дней и готовится поразить Антония таким блеском и такой роскошью, каких Египет никогда еще не видел. Признаюсь честно: я не представляю, где она взяла средства для всего этого великолепия, разве что по всему Египту на полях крестьян пшеница дала зерна из чистого золота. Но я-то знал, откуда взялись богатства, и ничего ей не ответил, только застонал от муки. Потом спросил: — Ты тоже плывешь с ней, Хармиана? — Конечно, как и весь двор. И ты… и ты тоже поплывешь. — Я? А я-то ей зачем? — Ты — раб Клеопатры и должен идти за ее колесницей в золоченых цепях; к тому же она боится оставить тебя здесь, в Кемете; но главное — она так пожелала, а ее желание — закон. — Хармиана, а нельзя мне бежать? — Бежать? Бедняга, да ты едва жив! Нет, о побеге и речи быть не может. Тебя и умирающего стерег целый отряд стражей. Но если бы ты даже убежал, где тебе спрятаться? Любой честный египтянин с презрением плюнет тебе в лицо! Я снова застонал про себя и почувствовал, как по моим щекам скатились слезы, вот до чего ослаб мой дух. — Не плачь! — быстро заговорила она, отворачивая от меня свое лицо. — Ведь ты мужчина, ты должен с твердостью перенести это несчастье. Ты сам посеял семена — настало время жатвы; но после того, как урожай собран, разливается Нил, смывает высохшие корни и уносит их, а потом снова наступает сезон сева. Может быть, там, в Киликии, когда ты обретешь прежние силы, мы найдем для тебя способ бежать, — если, конечно, ты способен жить вдали от Клеопатры, не видя ее улыбки; и где-нибудь в далекой стране ты проведешь несколько лет, пока эти горестные события не забудутся. А теперь я выполнила свой долг, и потому прощай! Я буду навещать тебя и следить за тем, чтобы ты ни в чем не нуждался. Она ушла, оставив меня на попечении врача и двух рабынь, которые со всем тщанием меня выхаживали; рана моя заживала, силы возвращались — сначала медленно, потом все быстрей и быстрей. Через четыре дня я встал на ноги, а еще через три уже мог по часу гулять в дворцовых садах; прошла еще неделя, и я начал читать и размышлять, хотя при дворе не появлялся. И вот однажды вечером пришла Хармиана и велела готовиться к путешествию, ибо через два дня суда царицы отплывают, их путь лежит вдоль берегов Сирии в пролив Исс и дальше в Киликию. Я написал Клеопатре письмо, в котором со всей почтительностью просил позволить мне остаться дома, ссылаясь на то, что еще не оправился от болезни и вряд ли вынесу такое путешествие. Но мне передали на словах, что я должен сопровождать царицу. И вот в назначенный день меня перенесли на носилках в лодку, и вместе с тем самым воином, который ранил меня, — начальником стражи Бренном, — и несколькими его солдатами (их нарочно послали охранять меня) мы подплыли к судну, которое стояло на якоре среди множества других кораблей, ибо Клеопатра снарядила огромный флот, как будто отправлялась воевать, и все суда были пышно убраны, но самой великолепной и дорогой была ее галера, построенная в виде дома из кедрового дерева и сплошь увешанная шелковыми занавесями и драпировками, такой роскошной мир еще никогда не видел. Но мне предстояло плыть не на этой галере, и потому я не видел ни Клеопатры, ни Хармианы, пока мы не сошли на берег у устья реки Кидн. Вот отдана команда, и флот отплыл; ветер дул попутный, и к вечеру второго дня показалась Яффа. Ветер переменился на встречный, от Яффы мы поплыли вдоль берегов Сирии мимо Цезарии, Птолемаиды, Тира, Берита, мимо белых скал Ливана, увенчанных по гребню могучими кедрами, мимо Гераклеи и, пересекши залив Исс, приблизились к устью Кидна. И с каждым днем нашего путешествия крепкий морской ветер вливал в меня все больше сил, и я наконец почувствовал себя почти таким же легким и здоровым, каким был прежде, только на голове остался шрам от меча. Однажды ночью, когда мы уже подплывали к Кидну, мы сидели с Бренном вдвоем на палубе, и его взгляд упал на шрам от раны, нанесенной его мечом. Он разразился проклятьями, поминая всех своих языческих богов. — Если бы ты умер, — признался он, — я бы, наверное, никогда больше не мог глядеть людям в глаза. Какой предательский удар и как же мне стыдно, что это я его нанес. Эх! А ты-то, ты-то лежал на полу, лицом вниз! Знаешь, когда ты там умирал у себя в башне, я каждый день приходил справляться, как ты. Клянусь Таранисом, если бы ты умер, я бросил бы эту легкую жизнь в царицыном дворце и отправился к себе, на милый сердцу север. — Напрасно ты коришь себя, Бренн, — ответил я; ты же выполнял свой долг. — Долг-то долг, но не всякий долг честный человек станет выполнять, пусть даже ему приказывают все царицы Египта вместе взятые! Ты из меня всякое соображение вышиб, когда сбил наземь, иначе я бы не рубанул тебя мечом. А что случилось, Гармахис? У тебя беда, ты прогневил царицу? Почему тебя везут под стражей на эту увеселительную прогулку? Тебе известно, что нам приказано не спускать с тебя глаз, ибо если ты убежишь, мы заплатим за это жизнью? — Да, друг, у меня великая беда, — ответил я, — но прошу тебя, не расспрашивай о ней. — Ну что ж, ты молод, и клянусь, что в этой беде повинна женщина, и хоть я неотесан и не блещу умом, но, кажется мне, догадался, кто она. Слушай, Гармахис, что я тебе скажу. Мне надоело служить Клеопатре, надоела эта страна с ее жарой, с ее пустынями и с ее роскошью, она отнимает у человека все силы и выворачивает наизнанку карман; такая жизнь многим из нас опостылела. Давай похитим одну из этих неповоротливых посудин и уплывем на север, что ты скажешь? Я приведу тебя в прекрасный край, его не сравнить с Египтом — это страна озер и гор, страна бескрайних лесов, где растут благоухающие сосны; и там есть девушка тебе под стать — высокая и сильная, с большими голубыми глазами и длинными белокурыми волосами, когда она сожмет тебя в объятиях, у тебя хрустнут ребра; эта девушка — моя племянница. Пойдем со мной, согласен? Забудь прошлое, уедем на милый сердцу север, ты будешь мне за сына. Я подумал немного, потом горестно покачал головой: мне страстно хотелось уйти с ним, и все же я знал, что судьба навек связала мою жизнь с Египтом и что мне не должно бежать от моей судьбы. — Нет, Бренн, это невозможно, — отвечал я. — Чего бы я только не отдал, чтобы уйти с тобой, но я скован цепями Рока, которых мне не разорвать, мне суждено жить и умереть в Египте. — Я не неволю тебя, Гармахис, — вздохнул старый солдат. — Но с какой бы радостью я выдал за тебя мою племянницу, принял бы в свою семью, любил, как сына… Но помни хотя бы, что, пока Бренн здесь, у тебя есть друг. И еще одно: опасайся своей прекрасной царицы, ибо, клянусь Таранисом, может настать час, когда она решит, что ты знаешь слишком много, и тогда… — Он провел рукой по своему горлу. — А сейчас покойной ночи. Выпьем кубок вина и спать, ибо завтра начнется это дурацкое представление, и тогда… (Здесь довольно большой кусок второго папируса так сильно поврежден, что расшифровать его оказалось невозможно. Судя по всему, в нем описывается путешествие Клеопатры вверх по Кидну к Тарсу.) …И глазам тех (повествование продолжается), кто находит удовольствие в такого рода зрелищах, представилась поистине восхитительная картина. Борта нашей галеры были обшиты листами золота, паруса выкрашены финикийским пурпуром, серебряные весла погружались в воду, и ее журчанье было подобно музыке. В середине палубы, под навесом из ткани, расшитой золотом, возлежала Клеопатра в одеянии римской богини Венеры, — и, без сомнения, она затмила бы Венеру красотой! — в прозрачном хитоне из белейшего шелка, подхваченном под грудью золотым поясом с искусно вытисненными на нем любовными сценами. Вокруг нее резвились прелестные пухленькие мальчики лет четырех-пяти, вовсе без одежды, если не считать привязанных за плечами крылышек, лука и колчана со стрелами, они овевали ее опахалами из страусовых перьев. На палубах галеры стояли не грубые бородатые моряки, а красивейшие девушки в одеждах Граций и Нереид — то есть почти нагие, только в благоухающих волосах были цветы и украшения, — и с тихим пением, под аккомпанемент арф и удары по журчащей воде серебряных весел, тянули канаты, свитые из тонких, как паутина, шелковых нитей. Позади ложа стоял с обнаженным мечом Бренн, в великолепных латах и в золотом шлеме с крыльями; возле него толпа придворных в роскошных одеяниях, и среди них я — раб, и все знали, что я раб! На корме стояли курильницы, наполненные самым дорогим фимиамом, от них за нашим судном вился ароматный дым. Словно в сказочном сне плыли мы, сопровождаемые множеством судов, к лесистым горам Тавра, у подножия которых находится город, именовавшийся в древности Таршишем. Мы приближались к нему, а на берегах волновались толпы, люди бежали впереди нас, крича: «Морские волны примчали Венеру! Венера приплыла в гости к Вакху!» Вот наконец и сам город, все его жители, кто только мог ходить и кого можно было принести, высыпали на пристань, толпа собралась многотысячная, да к тому же тут было чуть не все войско Антония, так что триумвир в конце концов остался на помосте один. Явился льстивый Деллий, и, кланяясь чуть ли не до земли, передал приветствия Антония «богине красоты», и от его имени пригласил на пир, который его повелитель приготовили в честь гостьи. Но Клеопатра гордо отказалась: «Поистине, сегодня Антоний должен угождать нам, а не мы ему. Передай благородному Антонию, что мы сегодня вечером ждем его к нам на скромную трапезу — иначе нам придется ужинать в одиночестве». Деллий ушел, чуть не распластавшись в поклоне; все уже было приготовлено для пира, и тут я в первый раз увидел Антония. Он приближался к нам в пурпурном плаще, высокий красивый мужчина в расцвете лет и сил, кудрявый, с яркими голубыми глазами и благородными точеными чертами, как на греческой камее. Могучего сложения, с царственной осанкой и открытым выражением лица, на котором отражались все его мысли, так что каждый мог их прочесть; и только рот выдавал слабость, которая как бы перечеркивала властную силу лба. Он шел со свитой военачальников и, подойдя к ложу Клеопатры, остановился пораженный и уставился на нее широко раскрытыми глазами. Она тоже не отрываясь смотрела на него; я видел, как порозовела ее кожа, и сердце мое пронзила острая боль ревности. От Хармианы, которая видела все из-под своих опущенных ресниц, не, укрылась и моя мука, — она улыбнулась. А Клеопатра молчала, она лишь протянула Антонию свою белую ручку для поцелуя; и он, не произнося ни слова, склонился к руке и поцеловал ее. — Приветствую тебя, благородный Антоний! — проговорила она своим дивным мелодичным голосом. — Ты звал меня, и вот я приплыла. — Да, приплыла Венера, — услышал я его глубокий звучный бас. — Я звал смертную женщину — и вот из пены волн поднялась богиня! — А на суше ее встретил прекрасный бог, — смеясь, подхватила она игру. — Но довольно любезностей и лести, ибо на суше Венера проголодалась. Подай мне руку, благородный Антоний. Затрубили фанфары, толпа, кланяясь, расступилась, и рука об руку с Антонием Клеопатра прошествовала в сопровождении своей свиты к пиршественному столу. (Здесь в папирусе снова пропуск).
Глава 22
Повествующая о пире Клеопатры; о том, как она растворила в кубке жемчужину и выпила; об угрозе Гармахиса и о любовной клятве Клеопатры.Вечером третьего дня в зале дома, который был отведен Клеопатре, снова был устроен пир, и своим великолепием этот пир затмил два предыдущих. Двенадцать лож, которые стояли вокруг стола, были украшены золотыми рельефами, а ложе Клеопатры и ложе Антония были целиком из золота и сверкали в узорах драгоценных камней. Посуда была тоже золотая с драгоценными камнями, стены зала увешаны пурпурными тканями, расшитыми золотом, пол, покрытый золотой сеткой, усыпан таким толстым слоем едва распустившихся роз, что нога тонула в них по щиколотку, и когда прислуживающие рабы ступали по ним, от пола поднимался одуряющий аромат. Мне опять было приказано стоять у ложа Клеопатры вместе с Хармианой, Ирадой и Мерирой и, как того требуют обязанности раба, объявлять каждый час пролетевшего времени. Выказать неповиновение я не мог, меня охватило бешенство, но я поклялся, что играю эту роль в последний раз, больше я себя такому позору не подвергну. Правда, я еще не верил Хармиане, которая убеждала меня, что Клеопатра вот-вот станет любовницей Антония, но это надругательство надо мной и эта изощренная пытка были невыносимы. Теперь Клеопатра больше не разговаривала со мной, только иногда бросала приказания, как царица приказывает рабу, и, мне кажется, ее жестокому сердцу доставляло удовольствие мучить меня. И вот веселый пир в разгаре, гости смеются, поднимают кубки с вином, а я, фараон, коронованный владыка страны Кемет, стою среди евнухов и приближенных девушек у ложа царицы Египта. Глаза Антония не отрываются от лица Клеопатры, она тоже порой погружает в его глаза свой взгляд, и тогда беседа их замирает… Он рассказывает ей о войнах, о сражениях, в которых бился, отпускает соленые шуточки, не предназначенные для женских ушей. Но ее все это ничуть не смущает она, заразившись его настроением, рассказывает анекдоты более изысканные, но ничуть не менее бесстыдные. Наконец роскошная трапеза закончилась, и Антоний оглядел окружающее его великолепие. — Скажи мне, о прелестнейшая царица Египта, — спросил он, — что, пески в пустынях, среди которых течет Нил, все из чистого золота и потому ты можешь ночь за ночью устраивать пиры, швыряя за каждый баснословные суммы, на которые можно купить целое царство? Откуда эти несметные богатства? Я мысленно увидел усыпальницу божественного Менкаура, священное сокровище которого она столь непристойно расточала, и поглядел на Клеопатру так, что она повернула ко мне голову и встретилась со мной глазами; прочтя мои мысли, она гневно нахмурилась. — Ах, благородный Антоний, что тебя так поразило? У нас в Египте есть свои тайны, и мы умеем, когда нам надо, создавать богатства с помощью заклинаний. Как ты думаешь, какова цена золотых приборов, а также яств и вин, которыми я вас угощаю? Он оглядел пиршественный стол и наугад предположил: — Тысяча систерций? — Увеличь цифру в два раза, благородный Антоний! Но все равно: я в знак дружбы дарю то, что ты видишь, тебе и твоим друзьям. А сейчас я удивлю тебя еще больше: я выпью в одном-единственном глотке десять тысяч систерций. — Это немыслимо, прекрасная царица! Она засмеялась и велела рабу принести в прозрачном стеклянном кубке немного уксуса. Уксус принесли и поставили перед ней, и она снова засмеялась, а Антоний, поднявшись со своего ложа, подошел к ней и встал рядом; все гости смолкли и устремили на нее глаза — что-то она задумала? А она — она вынула из уха одну из тех огромных жемчужин, которые извлекла из мертвой груди божественного фараона, когда в последний раз запускала туда руку, и, не успел никто догадаться о ее намерениях, как она опустила жемчужину в уксус. Наступило молчание, потрясенные гости, замерев, наблюдали, как несравненная жемчужина медленно растворяется в крепком уксусе. Вот от нее не осталось следа, и тогда Клеопатра подняла кубок, покрутила его, взбалтывая уксус, и выпила весь до последней капли. — Еще уксусу, раб! — воскликнула она. — Моя трапеза не кончена! — И она вынула жемчужину из другого уха. — Нет, клянусь Вакхом! Этого я не позволю! — вскричал Антоний и схватил ее за руки. — Того, что я видел, довольно. И в эту минуту я, повинуясь неведомой мне силе, громко произнес: — Еще один час твоей жизни пролетел, о царица, — еще на один час приблизилось свершение мести Менкаура! По лицу Клеопатры разлилась пепельная бледность, она в бешенстве повернулась ко мне, все остальные в изумлении глядели на нас, не понимая, что означают мои слова. — Как ты посмел пророчить мне несчастье, жалкий раб! — крикнула она. — Произнеси такое еще раз — и тебя накажут палками! Да, палками, клянусь тебе, Гармахис, — как злого колдуна, который накликает беду! — Что хотел сказать этот астролог? — спросил Антоний. — А ну, отвечай, негодяй. И объясни все ясно, без утайки, ибо проклятьями не шутят. — Я служу богам, благородный Антоний, и слова, которые я произношу, вкладывают в мои уста они, а смысла их я не могу прочесть, — смиренно ответил я. — Ах, вот как, ты, стало быть, служишь богам, о многоцветный волшебник! — Это он так отозвался о моем роскошном одеянии. — А я служу богиням, они не так суровы. Но у нас с тобой много общего: я тоже произношу слова, повинуясь их воле, и тоже не понимаю, что они значат. — И он вопросительно посмотрел на Клеопатру. — Оставь этого негодяя, — с досадой проговорила она. — Завтра мы от него избавимся. Ступай прочь, презренный. Я поклонился и пошел из зала, и пока я шел, я слышал, как Антоний говорит: — Что ж, может быть, он и негодяй — ведь все мужчины негодяи, — но мне твой астролог нравится: у него вид и манеры царя, к тому же он умен. За дверью я остановился, не зная, что делать, в моем горе я растерялся. Но тут кто-то тронул меня за руку. Я подняла глаза — возле меня стояла Хармиана, она выскользнула из зала, воспользовавшись тем, что пирующие поднимаются из-за стола, и догнала меня. В беде Хармиана всегда спасала меня. — Идем со мной, — шепнула она, — тебе грозит опасность. Я послушно пошел за ней. Что мне еще оставалось? — Куда мы идем? — спросил я наконец. — В мою комнату, — ответила она. — Не бойся; нам, придворным дамам Клеопатры, нечего терять: если нас кто-то увидит, то решит, что мы любовники и у нас свидание, и ничуть не удивится — такие уж у нас нравы. Мы далеко обошли толпу и, никем не замеченные, оказались возле маленькой боковой двери, за которой начиналась лестница, и мы по ней поднялись. Наверху был коридор, мы двинулись по коридору и нашли с левой стороны дверь. Хармиана молча вошла в темную комнату, я за ней. Потом она заперла дверь на задвижку и, раздув тлеющий уголек, зажгла висячий светильник. Огонь разгорелся, и я стал осматривать комнату. Комната была небольшая, всего с одним окном, причем оно было тщательно занавешено. Стены выкрашены белой краской, убранство самое простое: несколько ларей для платьев; древнее кресло; что-то вроде туалетного столика, ибо на нем стояли флаконы с духами, лежали гребни и разные вещицы, которыми любят украшать себя женщины; белое ложе с накинутым на него вышитым покрывалом и с прозрачным пологом от комаров. — Садись, Гармахис, — сказала Хармиана, указывая на кресло, а сама, откинув прозрачный полог, села напротив меня на ложе. Мы оба молчали. — Ты знаешь, что сказала Клеопатра, когда ты вышел из пиршественного зала? — наконец спросила она меня. — Нет, откуда же мне знать? — Она смотрела не отрываясь тебе в спину, и когда я подошла к ней оказать какую-то услугу, она тихо, чуть не про себя прошептала: «Клянусь Сераписом, я положу этому конец! Довольно я терпела его дерзость, завтра же его задушат!» — Вот как, — отозвался я, — что ж, может быть; хотя после всего, что у нас с ней было, я не верю, чтобы она решилась подослать ко мне убийц. — Да как же ты можешь не верить, глупый ты, упрямый человек? Разве ты забыл, как близок был ты к смерти в Алебастровом зале? Кто спас тебя от ножей этих подлых евнухов? Может быть, Клеопатра? Или мы с Бренном? Слушай же меня. Ты все отказываешься мне верить, потому что в твоей глупости тебе не понять, как это женщина, которая совсем недавно была твоей женой, сейчас вдруг предательски обрекает тебя на смерть. Нет, не возражай мне — я знаю все, и я тебе скажу: неизмерима глубина коварства Клеопатры, чернее самой черной тьмы зло ее сердца. Она бы не колеблясь убила тебя в Александрии, но она боялась, что весть о твоем убийстве разнесется по всему Кемету и ей несдобровать. Вот потому-то она и привезла тебя сюда, чтобы умертвить тайно. На что ты ей сейчас? Ты отдал ей всю свою любовь, она пресытилась твоей красотой и силой. Она украла у тебя трон, который принадлежит тебе по праву крови и рождения, и принудила тебя, царя, стоять среди придворных дам у ее пиршественного ложа; она украла у тебя великую тайну священного сокровища! — Как, ты и это знаешь? — Да, я знаю все; и сегодня ты видел, как царица Кемета, эта гречанка, эта чужеземка, узурпировавшая нашу корону, транжирит на бессмысленную роскошь святые богатства, которые хранились в сердце пирамиды три тысячелетия, чтобы спасти Кемет, когда настанет лихолетье! Ты видел, как она сдержала свою клятву вступить с тобой в освященный богами брак. Гармахис, наконец-то ты прозрел! — Да, я прозрел, но ведь она клялась, что любит меня, а я, жалкий глупец, ей верил! — Она клялась, что любит тебя! — проговорила Хармиана, вскидывая на меня свои темные глаза. — Сейчас я покажу тебе, как она тебя любит. Ты знаешь, что было раньше в этом доме? Школа жрецов, а жрецы, Гармахис, как тебе лучше других известно, знают много всяких хитростей. Раньше в этой небольшой комнате жил главный жрец, а в комнате, что рядом с нашей, собирались на молитву младшие жрецы. Все это мне рассказала старуха рабыня, которая убирает дом, и она же показала мне секреты, которые я сейчас тебе открою. Молчи, Гармахис, ни звука, и иди за мной! Она задула светильник и в темноте, которую не мог разогнать свет ночи, пробивающийся сквозь занавешенное окно, взяла меня за руку и потянула в дальний угол. Здесь она нажала плечом на стену, и в ее толще открылась дверь. Мы вошли, она плотно закрыла эту дверь за нами. Мы оказались в каморке локтей пять в длину и локтя четыре в ширину, в нее неведомо откуда пробивался слабый свет и доносились чьи-то голоса. Отпустив мою руку, Хармиана на цыпочках подкралась к стене напротив и стала пристально в нее вглядываться, потом так же тихо подкралась ко мне и, прошептав «Тс-с!», повлекла за собой. И тут я увидел, что в стене множество смотровых глазков, которые с другой стороны скрыты в каменных рельефах. Я поглядел в тот глазок, что был передо мной, и вот что я увидел: локтях в шести подо мной был пол большой комнаты, освещенной светильниками, в которые были налиты благовония, и убранной с великой роскошью. Это была спальня Клеопатры, и примерно в десяти локтях от нас сидела назолоченом ложе сама Клеопатра и рядом с ней — Антоний. — Скажи мне, — томно прошептала Клеопатра — каморка, в которой мы стояли, была так искусно устроена, что в ней было слышно каждое слово, произнесенное внизу, — скажи, благородный Антоний, тебе понравилось мое скромное празднество? — Да, — ответил он своим звучным голосом воина, — да, царица, я сам устраивал пиры, немало пировал на празднествах, устроенных в мою честь, но ничего подобного я в жизни не видывал; и хоть язык мой груб и я не искушен в любезностях, которые так милы сердцу женщин, но я тебе скажу, что самым драгоценным украшением на этом роскошном празднестве была ты. Пурпурное вино бледнело рядом с румянцем твоих щек, когда ты подносила к устам кубок, твои волосы благоухали слаще, чем розы, и не было сапфира, который своим цветом и переменчивой игрой затмил бы красоту твоих синих, как море, глаз. — Как, я слышу похвалу из уст Антония! Человек, который пишет суровые послания, точно команды отдает, вдруг говорит мне столь приятные слова! Да, такую похвалу надо высоко ценить! — Ты устроила пир, поистине достойный царей, хотя мне очень жаль ту редкостную жемчужину; и потом, что значили слова этого твоего астролога, который объявлял время, он предрекал беду и поминал проклятье Менкаура? На ее сияющее счастьем лицо набежала тень. — Не знаю; он недавно подрался и был ранен в голову; по-моему, от этого удара он повредился рассудком. — Он вовсе не показался мне безумным, у меня в ушах до сих пор звучит его голос, и я не могу отделаться от мысли, что это глас судьбы. И он с таким отчаянием глядел на тебя, царица, своими проницающими все тайные мысли глазами, словно он любит тебя и, борясь с любовью, ненавидит. — Я же говорила тебе, благородный Антоний, он странный человек и к тому же ученый. Я временами сама чуть ли не боюсь его, ибо он весьма сведущ в древних магических знаниях Египта. Ты знаешь, что он царского происхождения, что в Египте был заговор и он должен был убить меня? Но я одержала над ним победу в этой игре и не стала его убивать, ибо у него есть ключ к тайнам, которые мне без него никак было не разгадать; он очень мудр, я так любила слушать его рассуждения о сокровенной сути явлений. — Клянусь Вакхом, я начинаю ревновать тебя к этому колдуну! А что сейчас, царица? — Сейчас? Я выжала из него все, что он знает, и больше у меня нет причин его бояться. Разве ты не видел, что я три ночи подряд заставляла его стоять, словно раба, среди моих рабов, и объявлять час летящего, пока мы пируем, времени? Ни один пленный царь, идущий в цепях за твоей колесницей, когда тебя торжественно встречал после победы Рим, не испытывал таких мук, как этот гордый египетский царевич, стоящий в своем бесславии у моего пиршественного ложа. Тут Хармиана коснулась моей руки и сжала ее, как мне показалось, с состраданием. — Довольно, больше он не будет тревожить нас своими предсказаниями беды, — медленно проговорила Клеопатра: — завтра он умрет — быстро, тайно, во сне, и никто никогда не узнает, что с ним произошло. Я это решила, благородный Антоний, и даже отдала распоряжения. Вот я сейчас говорю о нем, а в мое сердце вползает страх и свивается, точно холодная змея. Мне даже хочется приказать, чтобы с ним покончили сейчас, ибо, пока он жив, я не могу свободно дышать. — И она сделала движение, желая встать. — Не надо, подожди до утра, — сказал он и поймал ее руку, — солдаты все перепились, причинят ему ненужные страдания. И потом, мне его жаль. Не люблю, когда людей убивают во сне. — А вдруг утром сокол улетит, — сказала она задумчиво. — У этого Гармахиса острый слух, он может призвать к себе на помощь потусторонние силы. Быть может, он и сейчас слышит меня слухом своей души; признаюсь тебе: мне кажется, он рядом, здесь, я ощущаю его присутствие. Пожалуй, я открою тебе… но нет, забудем о нем! Благородный Антоний, будь сегодня моей служанкой и сними с меня эту золотую корону, она тяжелая, голова в ней устала. Осторожно, не оцарапай лоб, — вот так. Он поднял с ее лба диадему в виде золотого урея, она встряхнула головой, и тяжелый узел волос распустился, темные волны хлынули вниз, закрыв ее, точно плащ. — Возьми свою корону, царица Египта, — тихо произнес он, — возьми ее из моих рук; я не отниму ее у тебя — я надену ее так, что она будет еще крепче держаться на этой прелестной головке. — Что означают твои слова, о мой властелин? — спросила она, улыбаясь и глядя в его глаза. — Что они означают? Сейчас объясню. Ты приплыла сюда, повинуясь моему повелению, дабы оправдаться передо мной в своих действиях, касающихся политики. И знаешь, царица, окажись ты не такой, какова ты есть, не царствовать бы тебе больше в твоем Египте, ибо я уверен, что ты совершила все, в чем тебя обвиняют. Но когда я тебя встретил — и увидел, что никогда еще природа не одаривала женщину столь щедро, — я все тебе простил. Твоей красоте и очарованию я простил то, чего не простил бы добродетели, любви к отечеству, мудрой и благородной старости. Видишь, какая великая сила — ум и чары прелестной женщины, даже великие мира сего забывают перед ними свой долг и обманом вынуждают слепое Правосудие приподнять повязку, прежде чем оно занесет свой карающий меч. Возьми же свою корону, о царица! Теперь я буду заботиться, чтобы она не тяготила тебя, хоть она поистине тяжела. — Слова, достойные царя, мой благороднейший Антоний, — ответила она, — великодушные и милосердные, такие только и может произносить великий покоритель мира! Но коль уж ты завел речь о моих былых проступках — если это и в самом деле были проступки, — могу ответить тебе только одно: в то время я не знала Антония. Ибо тот, кто знает Антония, не может злоумышлять против него. Разве хоть одна женщина способна поднять меч против мужчины, которому мы все должны, поклоняться как богу: к этому мужчине мы, увидев и узнав его, тянемся всем сердцем, как к солнцу тянутся цветы. Могу ли я сказать больше, не преступив запретов, налагаемых женской скромностью? Пожалуй, лишь одно: прошу тебя, надень на меня эту корону, великий Антоний, я приму ее как твой дар, и корона будет мне тем более драгоценна, что я получила ее из твоих рук, я клянусь: она будет отныне служить тебе. Я — твоя подданная, и моими устами вся древняя страна Египет, которой я правлю, клянется в верности триумвиру Антонию, который скоро станет римским императором Антонием и царственным владыкой Кемета! Он возложил корону на ее голову и замер, любуясь ею, опьяненный жарким дыханием ее цветущей красоты, но вот он совсем потерял над собой власть, схватил ее за руки, привлек к себе и страстно поцеловал. — Клеопатра, я люблю тебя… я люблю тебя, божество мое… никогда еще я никого так не любил… — пылко шептал он. Она с томной улыбкой откинулась назад в его объятьях, и от этого движения золотой венец, сплетенный из священных змей, упал с ее головы, ибо Антоний не надел его, а лишь возложил, и укатился в темноту, за пределы освещенного светильниками круга. Сердце мое разрывалось от муки, но я сразу понял, что это очень дурное предзнаменование. Однако ни он, ни она ничего не заметили. — Ты меня любишь? — лукаво пропела она. — А как ты мне докажешь свою любовь? Я думаю, ты любишь Фульвию, свою законную жену, ведь так, признайся? — Нет, не люблю я Фульвию, я люблю тебя, одну тебя. Всю мою жизнь с ранней юности женщины были ко мне благосклонны, но ни одна из них не внушала мне такого непобедимого желания, как ты, о мое чудо света, единственная, несравненная! А ты, ты любишь меня, Клеопатра, ты будешь хранить мне верность — не за мое могущество и власть, не за то, что я дарю и отнимаю царства, не за то, что весь мир содрогается от железной поступи моих легионов, не за то, что моя счастливая звезда светит столь ярко, а просто потому, что я — Антоний, суровый воин, состарившийся в походах? За то, что я — гуляка, бражник, за мои слабости, за переменчивость, за то, что я никогда не предал друга, никогда не взял последнее у бедняка, не напал на врага из засады, застав его врасплох? Скажи, царица, ты будешь любить меня? О, если ты меня полюбишь, я не променяю это счастье на лавровый венок римского императора, провозглашенного в Капитолии властелином мира! Он говорил, а она смотрела на него своими изумительными глазами, и в них сияли искренность, волнение и счастье, каких мне никогда не доводилось видеть на ее лице. — Твои слова просты, — ответила она, — но доставляют мне большую радость — я радовалась бы, даже если бы ты лгал, ибо есть ли женщина, которая не жаждет видеть у своих ног властелина мира? Но ты не лжешь, Антоний, и что может быть прекрасней твоего признания? Какое счастье для моряка вернуться после долгих скитаний по бурному морю в тихую пристань! Какое счастье для жреца-аскета мечтать о блаженном покое среди полей Иалу, эта надежда озаряет его суровый путь жертвенного служения! Какое счастье смотреть, как просыпается розовоперстая заря и шлет улыбку заждавшейся ее земле! Но самое большое счастье — слышать твои слова любви, о мой Антоний. Слушая их, забываешь, что в жизни есть иные радости! Ведь ты не знаешь, — да и откуда тебе знать? — как пуста и безотрадна была моя жизнь, ибо только любовь исцеляет нас от одиночества, так уж мы, женщины, устроены. А я до этой дивной ночи никогда не любила — мне было неведомо, что такое любовь. Ах, обними меня, давай, давай дадим друг другу великую клятву любви и не нарушим ее до самой смерти. Так слушай же, Антоний! Отныне и навеки я принадлежу тебе, одному тебе, и эту верность я буду свято хранить, пока жива! Хармиана взяла меня за руку и потянула прочь из каморки. — Ну что, довольно тебе того, что ты видел? — спросила она, когда мы вернулись в ее комнату и она зажгла светильник. — Да, — ответил я, — теперь-то я наконец прозрел.
Глава 23
Повествующая о плане побега, который замыслила Хармиана; о признании Хармианы и об ответе Гармахиса.Долго я сидел, опустив голову, душа была до краев наполнена стыдом и горечью. Так вот, стало быть, чем все кончилось. Вот ради чего я нарушил свои священные обеты, вот ради чего открыл тайну пирамиды, вот ради чего пожертвовал своей короной, честью, быть может, надеждой на воссоединение с Осирисом! Был ли в ту ночь на свете человек, раздавленный таким же беспощадным, черным горем, как я? Нет, я уверен. Куда бежать? Что делать? Но даже буря, разрывавшая мне грудь, не могла заглушить отчаянный крик ревности. Ведь я любил эту женщину, я отдал ей все, а она сейчас, в эту минуту… О! Эта мысль была невыносима, и в пароксизме отчаяния я разразился слезами, они хлынули рекой, но такие слезы не приносят облегчения. Хармиана подошла ко мне, и я увидел, что она тоже плачет. — Не плачь, Гармахис! — сквозь рыдания проговорила она и опустилась возле меня на колени. — Я не могу видеть твоего горя. Ах, почему ты раньше был так слеп и глух? Ведь ты мог бы быть сейчас счастлив и могуч, никакие беды не коснулись бы тебя. Послушай меня, Гармахис! Ты помнишь, эта лживая тигрица сказала, что завтра тебя убьют? — Пусть, я буду рад умереть, — прошептал я. — Нет, радоваться тут нечему. Гармахис, не позволяй ей в последний раз восторжествовать над собой! Ты потерял все, кроме жизни, но пока ты жив, живет и надежда, а если жива надежда, ты можешь отомстить. — А! — Я поднялся с кресла. — Как же я позабыл о мести? Да, ведь можно отомстить! Месть так сладка! — Ты прав, Гармахис, месть сладка, и все же… это стрела, которая часто поражает того, кто ее выпустил. Я сама… мне это хорошо известно. — Она тяжело вздохнула. — Но довольно предаваться горю и разговорам. У нас впереди долгая цепь тяжелых лет, наполненных одним лишь горем, а разговоры — кто знает, придется ль их вести? Ты должен бежать, бежать как можно скорее пока не наступило утро. Вот что я придумала. Еще до рассвета в Александрию отплывает галера, которая вчера привезла оттуда фрукты и разные запасы, я знаю ее кормчего, а вот он тебя не знает. Я сейчас раздобуду тебе одежду сирийского купца, ты закутаешься в плащ и отнесешь кормчему галеры письмо, которое я тебе дам. Он отвезет тебя в Александрию, и для него ты будешь всего лишь купцом, плывущим по своим торговым делам. Сегодня ночью начальник стражи — Бренн, а Бренн и мой друг, и твой. Может быть, он о чем-то догадается, а может быть, и нет, во всяком случае, стражник без всяких подозрений пропустит сирийского купца. Что ты на это скажешь? — Спасибо, Хармиана, я согласен, — с усилием проговорил я, — хоть мне и все равно. — Тогда, Гармахис, отдохни пока здесь, а я займусь приготовлениями. И прошу тебя: не предавайся так беззаветно своему горю, есть люди, чье горе чернее твоего. — И она ушла, оставив меня один на один с моей мукой, которая терзала меня, как палач. И если бы не бешеная жажда мести, которая вдруг вспыхивала в моем агонизирующем сознании, точно молния над ночным морем, мне кажется, я в этот страшный час сошел бы с ума. Но вот послышались шаги Хармианы, она вошла, тяжело дыша, потому что принесла тяжелый мешок с одеждой. — Все улажено, — сказала она, — вот твое платье, здесь есть и другое на смену, таблички для письма и все, что тебе необходимо. Я успела повидаться с Бренном и предупредила его, что за час до рассвета пройдет сирийский купец, пусть стражи его пропустят. Я думаю, он все понял, потому что, когда я пришла к нему, он притворился, будто спит, а потом стал зевать и заявил, что пусть хоть сто сирийских купцов идут, ему до них дела нет, лишь бы произнесли пароль — Антоний. Вот письмо к кормчему, ты без труда найдешь галеру, она стоит на набережной, по правую сторону, небольшая, черная, и главное — моряки не спят и готовятся к отплытию. Я сейчас выйду, а ты сними этот наряд слуги и облачись в то платье, которое я принесла. Лишь только она закрыла дверь, я сорвал свое роскошное одеяние раба, плюнул на него и стал топтать ногами. Потом надел скромное платье купца, на ноги сандалии из грубой кожи, обвязал вощеные дощечки вокруг пояса и за пояс заткнул кинжал. Когда я был готов, вошла Хармиана и оглядела меня. — Нет, ты все тот же царственный Гармахис, — сказала она, — сейчас попробуем тебя изменить. Она взяла с туалетного столика ножницы, велела мне сесть и очень коротко остригла волосы. Потом искусно смешала краски, которыми женщины обводят и оттеняют глаза, и покрыла смесью мое лицо и руки, а также багровый шрам в волосах — ведь меч Бренна рассек мне голову до кости. — Ну вот, теперь гораздо лучше, хоть ты и подурнел, Гармахис, — заметила она с горьким смешком, — пожалуй, даже я тебя бы не узнала. Подожди, еще не все. — И, подойдя к ларю, где лежала одежда, она достала из него тяжелый мешочек с золотом. — Возьми, — сказала она, — тебе будут нужны деньги. — Нет, Хармиана, я не могу взять у тебя золото. — Не сомневайся, бери. Мне дал его Сепа для нужд нашего общего дела, и потому будет лишь справедливо, чтобы его истратил ты. К тому же, если мне понадобятся деньги, Антоний, без всякого сомнения, даст, сколько я скажу, ведь отныне он мой хозяин, а он мне многим обязан и хорошо это знает. Прошу тебя, не будем тратить время на пустые пререкания — ты все еще не стал купцом, Гармахис. — И она без лишних слов засунула золото в кожаную суму, которая висела у меня за плечами. Потом свернула запасную одежду и в своей женской заботливости положила вместе с нею в мешок алебастровую баночку с краской, чтобы я время от времени мазал ею лицо и руки; взяла роскошные вышитые одежды слуги, которые я в такой ярости сбросил, и спрятала их в той тайной каморке, куда меня водила. И вот все наконец готово. — Ну что же, мне пора идти? — спросил я. — Нет, придется немного подождать. Не торопись, Гармахис, тебе недолго осталось терпеть мое общество, скоро мы расстанемся — быть может, навсегда. Я с досадой нахмурился — время ли сейчас язвить, неужто она не понимает? — Прости мой злой язык, — сказала она, — но когда источник отравлен, вода в нем горькая. Сядь, Гармахис. Прежде чем ты уйдешь, я скажу тебе еще более горькие слова. — Говори, — ответил я, — как бы горьки они ни были, сейчас меня ничто не тронет. Она встала передо мной и скрестила на груди руки; лучи светильника ярко освещали ее прекрасное лицо. Я равнодушно подумал, что она смертельно бледна и что черные бархатные глаза обведены огромными темными кругами. Дважды она приоткрывала губы и дважды голос изменял ей. Наконец она хрипло прошептала: — Я не могу отпустить тебя… не могу отпустить, не сказав всей правды. Гармахис, это я предала тебя! Я вскочил на ноги, с уст сорвалось проклятье, но она схватила меня за руку. — Ах, нет, сядь, — взмолилась она, — сядь и выслушай меня, и когда ты все узнаешь, сделай со мной все, что хочешь. Слушай же. Я люблю тебя с той злой для меня минуты, когда я увидела тебя в доме дяди Сепа, во второй раз в моей жизни, и ты даже не догадываешься, как сильна моя любовь. Удвой свою страсть к Клеопатре, потом утрой и учетвери, и ты получишь слабое представление о том, что испытывала все это время я. С каждым днем я любила тебя все более пламенно, все более неукротимо, в тебе одном сосредоточилась вся моя жизнь. Но ты был холоден — холоден не то слово: ты даже не видел, что я живая женщина, я для тебя была всего лишь средство, с помощью которого ты должен достичь цели — короны и трона. И тут я стала догадываться — задолго до того, как ты это понял сам, — что сердце твое устремилось к гибельным скалам, о которые сегодня разбилась твоя жизнь. И вот наступил вечер, тот страшный вечер, когда я, притаившись в твоей комнате за занавесом в нише, увидела как ты бросил с башни мой шарф и его унес ветер, а венок моей царственной соперницы сохранил и наговорил ей любезных слов. И тогда я, — о, знал бы ты всю меру моей муки! — я открыла тебе тайну, о которой ты и не догадывался, а ты, Гармахис, в ответ лишь посмеялся надо мной! О, какой позор и стыд, — ты в своей глупости смеялся надо мной! Я ушла, мое сердце грызла и терзала ярая ревность, какой не под силу вынести женщине, ибо я теперь уже уверилась, что ты любишь Клеопатру! Меня охватило безумие, я хотела в ту же ночь выдать тебя, но все же удержалась, я убеждала себя: нет, все еще можно поправить, завтра он смягчится. И вот настало завтра, все подготовлено, участники могущественного заговора ждут сигнала, чтобы ворваться во дворец и возвести тебя на трон. Я снова пришла к тебе — ты помнишь — и иносказательно завела речь о вчерашнем, но ты снова отмахнулся от меня, как от докуки, не стоящей даже минутного внимания. И, зная, что виной тому Клеопатра, которую ты, сам того не подозревая, любишь и должен сейчас убить, я обезумела, в меня словно вселился злой дух и подчинил меня себе, я уже не владела собой, сама не понимала, что я делаю. Ты с презрением оттолкнул меня, и потому я пошла к Клеопатре и выдала тебя и всех, кто тебя поддерживал, предала наше священное дело и тем навлекла на себя вечный позор и скорбь! Я ей сказала, что нашла записку, которую ты уронил, и в ней прочитала о заговоре. Я молчал, лишь тяжело перевел дух; она печально поглядела на меня и продолжала: — Когда Клеопатра поняла, как могуществен и разветвлен по всей стране заговор и как глубоко уходят его корни, она очень испугалась и сначала хотела бежать в Саис или тайно пробраться на судно и плыть на Кипр, но я ее убедила, что ее поймают по дороге заговорщики. Тогда она решила, что тебя надо заколоть в ее покоях, и я оставила ее в этом намерении, ибо в ту минуту жаждала твоей смерти — да, Гармахис, я плакала бы потом всю жизнь на твоей могиле, но я обрекла тебя на смерть. Погоди, что я сейчас сказала? Ах да: месть, подобно стреле, может поразить того, кто ее выпустил. Так случилось со мной, ибо, когда я вышла от Клеопатры, она придумала более коварный план. Она сообразила, что убив тебя, вызовет лишь еще большую ярость восставших, и испугалась; но если она привяжет тебя к себе, вселит в народ сомнение, а потом объявит, что ты предал своих соратников, она подрубит корни заговора, и он зачахнет, как бы ни был могуч заговор, никогда нет уверенности, что он победит, и вот она сделала ставку на его поражение — нужно ли мне продолжать? Как она тебя победила — ты знаешь сам, Гармахис, и стрела мести, которую я выпустила, вонзилась в меня. Утром я узнала, что совершила преступление напрасно, что за мое предательство поплатился жизнью бедняга Павел; что я погубила дело, которому поклялась служить, и собственными руками отдала человека, которого люблю, в объятья этой распутницы. Она низко опустила голову, но я по-прежнему молчал, и она снова заговорила: — Я расскажу о всех моих преступлениях, Гармахис, и приму наказание, которое заслужила. Теперь ты знаешь, как все произошло. В сердце Клеопатры уже зародилась любовь к тебе, и она почти решила сделать тебя своим супругом и разделить с тобою трон. Ради этой зародившейся любви она и пощадила жизнь тех, кто, как ей стало известно, был замешан в заговоре, надеясь, что, если она сочетается с тобою браком, она с их помощью привлечет на свою сторону самых знатных и влиятельных египтян, которые ненавидят ее так же, как и всех Птолемеев. И тут она снова поймала тебя в ловушку, и ты в своей великой глупости открыл ей тайну древних сокровищ Египта, которые она сейчас бросает на ветер, желая вызвать восхищение сластолюбивого Антония; отдам ей справедливость: она в то время искренне хотела выполнить свою клятву и стать твоей супругой. Но в тот день, когда Деллий должен был прийти за ответом, она призвала меня к себе и, рассказав мне все, ибо ценит мой ум чрезвычайно высоко, спросила моего совета: объявить ли ей войну Антонию и разделить трон с тобой или выбросить из головы мысль о войне и о тебе и плыть к Антонию? И я — измерь всю тяжесть моего преступления — я, истерзанная ревностью, взбунтовалась при мысли, что она станет твоей женой, а ты — ее любящим супругом, и я буду свидетельницей вашего счастья; так вот, я ей сказала, что надо непременно плыть к Антонию, прекрасно зная — ибо у меня была беседа с Деллием, — что, если она поплывет в Тарс, влюбчивый Антоний упадет к ее ногам, как спелое яблоко, и так все и случилось. Только что я показала тебе последнюю сцену в поставленном мною представлении. Антоний влюбился в Клеопатру, Клеопатра влюбилась в Антония, а ты лишился всего, жизнь твоя висит на волоске, я тоже получила по заслугам: сегодня нет на свете женщины несчастнее меня. Когда я увидела сейчас, как разбилось твое сердце, вместе с твоим разбилось и мое, я почувствовала, что больше не могу нести бремя содеянного мной зла, что я должна покаяться в нем и принять наказание. Мне больше нечего сказать, Гармахис; могу только поблагодарить тебя, что ты проявил милосердие и выслушал меня. Движимая великой любовью к тебе, я причинила тебе зло, за которое буду расплачиваться всю жизнь и всю нескончаемую вечность после смерти! Я погубила тебя, погубила Кемет, и себя я тоже погубила! И пусть я за это приму смерть! Убей меня, Гармахис, — какое счастье умереть от твоей руки, я поцелую несущий смерть клинок. Убей меня и иди, спасайся, ибо, если ты не убьешь меня, я сама избавлюсь от этой постылой жизни! — И она бросилась передо мной на колени и откинулась назад, чтобы мне было легче вонзить кинжал в ее прелестную грудь. И я в затмении ярости занес его над ней, ибо вдруг вспомнил, с каким презрением эта женщина, навлекшая на меня бесславие, язвила и оскорбляла меня, когда я уже пал. Но трудно убить красивую женщину, а ведь Хармиана к тому же дважды спасла мне жизнь. — О женщина! Бесстыдная женщина! — вырвалось у меня. — Встань, я не убью тебя. Мне ли судить тебя за твое преступление, ведь я сам повинен в таком зле, что нет на свете кары, достаточно суровой для меня. — Убей меня, Гармахис! — простонала она. — Убей меня, или я сама себя убью! Бремя моей вины непомерно тяжело, мне его не вынести! Не будь так равнодушен и жесток! Прокляни меня и убей! — Что ты мне недавно говорила, Хармиана, о севе и о жатве? Боги запрещают тебе убивать себя, и боги запрещают мне такому же преступнику, как ты, убить тебя, потому что на преступление меня толкнула ты. Ты посеяла семена зла, собирай же теперь кровавую жатву. Ничтожная женщина, чья беспощадная ревность навлекла такие беды на меня и на наш Египет, — живи! Живи и собирай всю жизнь горькие плоды зла! Пусть ночь за ночью тебя преследуют во сне видения разгневанных богов, чья месть ожидает и тебя, и меня в их мрачном Аменти! Пусть день за днем тебя терзают воспоминания о человеке, которого твоя свирепая любовь ввергла в позор и погубила, гляди же каждый день на Кемет, который стал добычей ненасытной Клеопатры и рабом этого сластолюбивого римлянина Антония. — О Гармахис, не говори со мною так жестоко! Твои слова ранят больнее, чем твой кинжал, и эти раны смертельны, моя смерть будет медленной и нескончаемой агонией. Послушай, Гармахис! — Она вцепилась в мое платье руками. — Когда ты был недосягаемо высоко и в твоих руках была огромная власть, ты меня отверг. Не отвергай же меня сейчас, после того, как Клеопатра отринула тебя, когда ты беден, опозорен и бесприютен! Ведь я по-прежнему красива и вся моя жизнь — в тебе. Позволь же мне бежать с тобой и искупить свою вину беззаветной любовью, ибо я буду любить тебя до последнего дыхания. Может быть, я прошу слишком многого, тогда позволь мне быть твоей сестрой, твоей служанкой, твоей рабыней, позволь мне просто видеть твое лицо, делить твои тревоги, беды, прислуживать тебе. Молю тебя, Гармахис, возьми меня с собой, я вынесу все тяготы, ничто меня не испугает, и только смерть отторгнет меня от тебя. Я верю, что любовь, которая столкнула меня в бездну и заставила увлечь за собой и тебя, поможет мне подняться столь же высоко, сколь низко я пала, и ты — ты тоже вознесешься со мной! — Ты искушаешь меня, толкая к новым преступлениям? Неужто, Хармиана, ты думаешь, что в той лачуге, где я буду скрываться от всего света, я смогу день за днем смотреть на твое красивое лицо и каждый раз, увидев эти губы, думать: это они меня предали? Нет, так легко искупление не дается! Я знаю, и знаю слишком хорошо: много тяжких и одиноких дней будет длиться твое покаяние. Быть может, час мести еще наступит, и ты — кто знает? — доживешь до него и поможешь мне отомстить. Ты должна остаться при дворе Клеопатры, и, пока ты будешь здесь, я, если останусь жив, найду способ посылать тебе время от времени весточку. Быть может, когда-нибудь мне снова понадобятся твои услуги. Так поклянись, что, если это случится, ты не предашь меня во второй раз. — Клянусь, Гармахис, о клянусь! Если я хоть в самой малой малости обману твои надежды, да осудят меня боги на вечные терзания, о которых страшно и помыслить, — страшнее тех, что разрывают мою грудь сейчас; и я всю жизнь буду ждать вести от тебя. — Довольно. Ты не посмеешь нарушить клятву, ибо дважды не предают. Я пойду своим путем, подчиняясь своей судьбе; у тебя судьба иная, ты будешь следовать ей. Быть может, нити наших судеб еще переплетутся в том узоре, который ткет жизнь. Хармиана, не любимая мною, подарившая мне свою любовь и, движимая этой своей страстной любовью, предавшая и погубившая меня, — прощай! Ее безумный взгляд впился мне в лицо, она протянула ко мне руки, точно желая обнять, потом отчаяние сломило ее, она упала на пол. Я взял мешок с вещами, посох и открыл дверь. Переступая порог, я бросил на нее последний взгляд. Она лежала, раскинув руки, бледнее своего белого одеяния, темные волосы рассыпались, прекрасный высокий лоб в пыли. И я ушел, оставив ее на полу в беспамятстве. Увидел я ее лишь девять долгих лет спустя. (На этом кончается второй, самый большой свиток папируса.)
Часть III. МЕСТЬ ГАРМАХИСА
Глава 24
Повествующая о том, как Гармахис бежал из Тарса; как его принесли в жертву морскому богу; как он жил на острове Кипр; как вернулся в Абидос и как умер его отец Аменемхет.Я благополучно спустился по лестнице и оказался во дворе огромного дома. До рассвета оставался еще час, вокруг никого не было. Угомонились пьяные, танцовщицы перестали плясать, в городе царила тишина. Я подошел к воротам, и меня окликнул начальник стражи, который стоял возле них, завернувшись в плащ из грубой ткани. — Кто идет? — раздался голос Бренна. — Сирийский купец, мой благородный господин, я привез из Александрии товары придворной даме царицы, эта дама оказала мне гостеприимство, и вот теперь я возвращаюсь на свое судно, — ответил я, изменив голос. — Поздно же развлекаются со своими гостями придворные дамы царицы, — проворчал Бренн. — Ну да что там, сейчас все веселятся — праздник. Пароль знаешь, господин лавочник? Если не знаешь, придется возвращаться к своей милой и просить приюта у нее. — Пароль — «Антоний», господин мой, и, должен сказать, удачнее слова не придумать. Много я путешествовал по разным странам, но никогда не видал такого красавца и такого великого полководца. А ведь мне где только не довелось побывать, мой благородный господин, и полководцев я встречал немало. — Верно, пароль — «Антоний». Что ж, Антоний на свой лад неплохой полководец — когда не пьет и поблизости нет хорошенькой женщины. Я воевал с Антонием — и против него тоже воевал, так что знаю все его достоинства и слабости. Сейчас ему не до кого и не до чего, вот так-то, друг! Беседуя со мной, страж вышагивал взад-вперед. Но сейчас он отступил вправо, пропуская меня. — Прощай, Гармахис, иди, не медли! — быстро шепнул Бренн, шагнув ко мне. — Тебе надо спешить. Вспоминай иногда Бренна, который поставил на кон свою жизнь, чтобы спасти твою. Прощай, друг, жаль, что мы не уплыли с тобой на север. — И, отвернувшись, он запел себе под нос какую-то песню. — Прощай, Бренн, мой верный благородный друг, — шепнул я ему и тут же исчез. Потом я много раз слышал рассказы о том, какую услугу оказал мне Бренн, когда утром начался шум и суета, ибо убийцы не могли меня найти, хотя искали повсюду. Так вот, Бренн поклялся, что через час после полуночи, когда он охранял ворота один, он увидел, как я появился на крыше, встал на парапет, раскинул плащ, который превратился в крылья, и медленно улетел на них в небо, а на него от изумления напал столбняк. Эта история обошла весь двор, и все ей поверили, ибо моя слава чародея была велика; всех охватило волнение, ибо люди не понимали, что предвещает это знамение. Сказка эта долетела до Египта и обелила меня в глазах тех, кого я предал, ибо самые невежественные среди них уверовали, что я действовал не по своей собственной воле, а повинуясь воле великих богов, которые забрали меня живым на небо. До сих пор народ наш говорит: «Египет станет свободным, когда к нам вернется Гармахис». Но увы — Гармахис не вернется! Одна лишь Клеопатра, хотя и сильно испугалась, выдумке Бренна не поверила и послала судно с вооруженными солдатами на поиски сирийского купца, однако солдаты не нашли его, о чем я поведаю ниже. Когда я подошел к галере, о которой мне говорила Хармиана, она уже готовилась отплыть; я отдал письмо кормчему, он его внимательно прочел, с любопытством оглядел меня, однако ничего не сказал. Я поднялся на борт, и мы быстро поплыли вниз по течению. Добрались до устья Кидна, и никто нас не остановил, хотя нам встретилось довольно много судов, и вот мы в открытом море, нас несет сильный попутный ветер, который во второй половине дня разыгрался в шторм. Моряки испугались, хотели повернуть обратно и плыть к устью Кидна, но в столь бурном море галера им не повиновалась. Шторм бушевал всю ночь, ветер сорвал мачту, могучие волны швыряли наше судно, точно щепку. Но я сидел, закутавшись в свой плащ, и ничего не замечал; в конце концов моряки, увидев, что я не чувствую никакого страха, стали кричать: «Он колдун! Он злой колдун!» — и хотели выбросить меня за борт, но кормчий воспротивился. К утру ветер начал утихать, но еще до полудня снова рассвирепел. В четвертом часу пополудни впереди показался остров Кипр, та его скалистая гряда Динарет, где есть гора Олимп, и нас понесло туда. Когда матросы увидели грозные скалы, о которые разбивались взбешенные волны, они снова испугались и стали вопить от ужаса. А я сидел все такой же безучастный, и они закричали, что я злой колдун, тут никаких сомнений быть не может, надо бросить меня в море, чтобы умилостивить морских богов. На этот раз капитан понял, что не сможет защитить меня, и не стал с ними спорить. И вот моряки подступили ко мне, а я лишь встал и с презрением проговорил: «Хотите бросить меня в море? Бросайте. Но если бросите, вас ждет гибель». Мне и в самом деле было все равно. Я не хотел жить. Я жаждал смерти, хоть и боялся предстать перед моей небесной матерью Исидой. Но этот мучительный страх растворился в душевной опустошенности и в горечи сознания, что мне выпал столь тяжкий жребий; и когда эти разъяренные звери схватили меня, раскачали и швырнули в кипящие волны, я лишь начал молиться Исиде, готовясь предстать перед ней. Но судьбе было не угодно, чтобы я погиб: вынырнув на поверхность, я увидел неподалеку бревно, подплыл к нему и обхватил руками. В это время накатила огромная волна, подняла меня на бревне — а я, нужно сказать, еще в детстве научился плавать на Ниле и искусно управлялся с бревнами, — и пронесла мимо галеры, где с искаженными от злобы лицами сгрудились матросы — глядеть, как я буду тонуть. Когда же они увидели, что я лечу на гребне волны и проклинаю их, а лицо и руки у меня из темных стали белыми, ибо соленая вода смыла краску Хармианы, они завизжали от страха и повалились на палубу. Меня несло к прибрежным скалам, но тут еще одна огромная волна накрыла судно, перевернула вверх килем и утащила в пучину. Галера утонула вместе со всеми матросами. Во время этого же шторма утонула и галера, которую Клеопатра послала на поиски сирийского купца. Следы мои затерялись, и царица, без сомнения, поверила, что я погиб. А я плыл к берегу. Выл ветер, соленые волны больно секли лицо, над головой пронзительно кричали чайки, но в моем поединке с разбушевавшейся стихией я не сдавался. В душе не было и тени страха, ее наполнял ликующий восторг — когда в глаза заглянула смерть, я вдруг почувствовал, что просыпается любовь к жизни. И я стал бороться за свою жизнь: то делал могучие рывки вперед, то отдавался течению, то взлетал на гребне волн к нависшим над самым морем тучам, падал в бездонные провалы, и вот наконец совсем близко встала скалистая гряда, я видел, как пенные валы разбиваются о неколебимые утесы, я слышал сквозь свист и завывание ветра, как они с глухим гулом обрушиваются на берег, как стонут огромные камни, которые они тащат за собой в море. Могучая волна подбросила меня на самый верх, я был словно на троне в гриве ее пены, в пятидесяти локтях подо мной шипела бездна, на голову падало черное небо! Все, конец! Стихия вырвала из моих рук бревно, тяжелый мешочек с золотом и мокрая, облепившая тело одежда потянули меня вниз, и, как я ни сопротивлялся, я стал тонуть. И вот я под водой, на миг сквозь ее толщу пробился зеленый свет, потом все залила тьма, и в этой тьме замелькали картины прошлого, одна за другой — вся моя долгая жизнь предстала предо мной. Потом я стал погружаться в сон, а в ушах звучала песнь соловья, слышался ласковый плеск летнего моря, раздавался мелодичный торжествующий смех Клеопатры… но все тише, тише, все дальше. И снова ко мне вернулась жизнь и с нею ощущение непереносимой боли и мысль, что я смертельно болен. Я открыл глаза, увидел склонившиеся надо мной участливые лица и понял, что я в доме, в небольшой комнате. — Как я здесь оказался? — спросил я слабым голосом. — Мы думаем, странник, тебя принес к нам Посейдон, — ответил мужской голос на варварском греческом языке. — Ты лежал на берегу, точно мертвый дельфин, а мы нашли тебя и принесли в дом; сами мы рыбаки. И тут, у нас, ты лежишь уже давно, ибо твоя левая нога сломана — видно, волны уж очень сильно швырнули тебя на камни. Я хотел пошевелить ногой, однако она мне не повиновалась. Да, кость действительно была сломана ниже колена. — Кто ты и как твое имя? — спросил бородатый рыбак. — Я — египетский путешественник, мой корабль утонул во время бури, а зовут меня Олимпий, — ответил я; мне вспомнилось, что моряки назвали гору, что возвышалась на острове, Олимпом, и я взял себе это первое попавшееся имя. С тех пор я так его и ношу. Здесь, в семье этих простых рыбаков, я прожил почти полгода, платя за их заботы золотом, которые море выбросило на берег вместе со мной. Кости мои долго не срастались, а когда срослись, я стал калекой: я некогда такой красивый, сложенный как бог, высокий, теперь хромал, ибо сломанная нога стала короче здоровой. И даже оправившись от болезни, я продолжал жить в приютившей меня семье, трудился вместе с ними, ловил рыбу; я не знал, куда мне идти и что делать, и даже стал подумывать, что, пожалуй, останусь здесь навсегда, буду ловить рыбу, и так пройдет моя постылая жизнь. Рыбаки относились ко мне с большой добротой, хотя, как и все, с кем сталкивала меня судьба, боялись меня, считая, что я — колдун и что меня принесло к ним море. Мои несчастья наложили на мое лицо такую странную печать, что люди, глядя на него, пугались этой спокойной застывшей маски — кто знает, что за ней таится, думали все. Так мирно тянулась моя жизнь на острове, но вот однажды ночью, когда я лежал, тщетно пытаясь заснуть, меня охватило неодолимое волнение, мне страстно захотелось еще раз увидеть Сихор. Ниспослали ли мне это желание боги, или оно родилось в моем собственном сердце, я не знаю. Но голос, который звал меня на родину, был так силен, что, не дождавшись рассвета, я встал со своей соломенной постели, надел одежду рыбака, которую носил, и покинул бедный дом, где жил, — мне не хотелось ничего объяснять этим добрым людям. Я только положил на чисто выскобленную деревянную столешницу несколько золотых монет, взял горсть муки и написал ею: «Это дар египтянина Олимпия, который возвратился в море». И я ушел от них и на третий день добрался до большого города Саламина, который также стоит на берегу моря. Здесь я поселился в рыбацком квартале и жил там, пока не узнал, что в Александрию отплывает судно, и тогда я нанялся на это судно моряком; кормчий, сам уроженец Пафа, охотно меня взял. Мы отплыли и при попутном ветре, который сопровождал нас, на пятый день прибыли в Александрию — в этот ненавистный мне город, и я увидел, как сверкают на солнце его золотые купола. Здесь мне нельзя было оставаться, и я снова нанялся матросом на судно, кормчий которого за мои труды согласился довезти меня по Нилу до Абидоса. Из разговоров гребцов я узнал, что Клеопатра вернулась в Александрию и привезла с собой Антония, что оба они живут в большой роскоши в царском дворце на мысе Лохиас. Гребцы пели о них песню, работая веслами. Услышал я и о том, как галера, посланная на розыски вслед судну, на котором уплыл из Тарса сирийский купец, пошла со всей командой ко дну, а также сказку о царицыном астрономе Гармахисе, который улетел в небо с крыши дома в Тарсе, где жила царица. Моряки дивились на меня, потому что я трудился изо всех сил, но не пел вместе с ними непристойных песен о любовниках Клеопатры. Они тоже начали сторониться меня и с опаской перешептывались. Тогда я понял, что я поистине проклят и что между мною и всеми людьми лежит непреодолимая пропасть — такого, как я, нельзя любить. На шестой день мы подплыли туда, где в нескольких часах пути находится Абидос, я сошел на берег — как мне кажется, к великой радости гребцов. Я шагал по дороге, вьющейся среди тучных полей, встречал людей, которых так хорошо знал с детства, и сердце разрывалось в моей груди. На мне была простая одежда моряка, я шел, припадая на левую ногу, и никто меня не узнавал. Когда солнце стало клониться к закату, я наконец приблизился к гигантским пилонам храмового двора; здесь я вошел в разрушенный дом напротив ворот и опустился на пол. Зачем я сюда вернулся, что мне делать, думал я. Точно заблудившийся бык, я все-таки нашел дорогу к дому, туда, где появился на свет, пришел в родные поля, но что меня здесь ждет? Если мой отец Аменемхет еще жив, он с презрением отвернется от меня. Я не смел даже думать о встрече с ним. Сидел среди обвалившихся стропил и бессмысленно глядел на ворота — а вдруг из двора храма выйдет кто-то, кого я знаю? Но никто не вышел из ворот, и никто в них не входил, хотя они были распахнуты настежь; и тогда я увидел, что между каменными плитами, которыми вымощен двор, пробилась трава — такого еще никогда здесь не бывало. Что это означает? Неужели храм заброшен? Нет, немыслимо! Разве можно перестать служить вечным богам в этом святилище, где каждый день, тысячелетие за тысячелетием, совершались таинства и ритуальные церемонии в их славу? Так что же, значит, отец мой умер? Да, может быть. Но почему такая мертвая тишина? Где все жрецы, где люди, творящие молитву? Больше я не мог выносить неизвестности, и, когда диск солнца налился красным, я крадучись, точно шакал, вошел в открытые ворота, миновал двор и вступил в первый огромный Зал Колонн и Статуй. Здесь я остановился и стал глядеть по сторонам — ни души в этом сумрачном святилище, ни звука, не доносится ниоткуда. Сердце мое бешено колотилось, я вошел во второй огромный зал — Зал Тридцати Шести Колонн, где некогда я был коронован венцом Верхнего и Нижнего Египта: и здесь тоже ни души, ни звука. Пугаясь шума собственных шагов, которые таким зловещим эхом отдавались в безмолвии покинутых святилищ, вошел я в галерею, где на стенах выбиты имена фараонов. Вот и покой моего отца. Дверной проем по-прежнему задернут тяжелым занавесом; что-то там, за ним, неужто тоже пустота? Я отвел занавес и неслышно скользнул внутрь. В своем резном кресле за столом сидел в жреческом одеянии мой отец Аменемхет, его длинная седая борода покоилась на мраморной столешнице. Он был так неподвижен, что в голове мелькнула мысль: он умер! Но вот он поднял голову, и я увидел, что глаза у него белые — он ослеп. Слепой, лицо прозрачное, как у покойника, истаявшее от старости и горя. Я стоял как вкопанный и чувствовал, что его невидящие глаза изучают меня. Говорить я не мог — не смел; мне хотелось убежать и снова где-нибудь спрятаться. Я уже повернулся и отвел было занавес, но тут услышал низкий голос отца, который произнес: — Подойди ко мне, о ты, кто некогда был мне сыном и потом стал предателем. Подойди ко мне, Гармахис, надежда Кемета, обманувшая его. Ведь это я тебя призвал сюда из такой дали! И все это время я удерживал в своем теле жизнь, чтобы услышать, как ты крадешься по этим пустым святилищам, точно вор! — Ах, отец! — изумленно прошептал я. — Ведь ты слеп, как же ты узнал меня? — Как я тебя узнал? Иэто спрашиваешь ты, посвященный в тайны наших древних наук? Еще бы мне тебя не узнать, когда я сам призвал тебя к себе. Ах, Гармахис, лучше бы мне никогда тебя не знать! Лучше бы Непостижимый отнял у меня жизнь до того, как ты отозвался на мой зов и явился из лона богини Нут, чтобы стать моим проклятьем и позором и отнять последнюю надежду у Кемета! — О, не говори так, отец! — простонал я. — Разве я и без того не раздавлен бременем, которое несу? Разве самого меня не предали и не отвергли, как прокаженного? Пощади меня, отец! — Пощадить тебя? Тебя, который сам никого не пощадил? Разве ты пощадил благородного Сепа, который умер от пыток в руках палачей? — Нет, нет, неправда, быть того не может! — воскликнул я. — Увы, предатель, правда! Он умер в нечеловеческих муках и до последнего дыхания твердил, что ты, его убийца, ни в чем не повинен, что твоя честь осталась незапятнанной! Пощадить тебя, пожертвовавшего лучшими, храбрейшими, достойнейшими гражданами Кемета ради объятий блудницы! Как ты думаешь, Гармахис, надрываясь в подземельях рудников, в пустыне, этот цвет нашей несчастной страны пощадил бы тебя? Пощадить тебя, из-за которого этот великий священный храм Абидоса разграблен, земли его отняты, жрецы изгнаны, лишь я один, древний старик, оплакиваю здесь его гибель, — пощадить тебя, осыпавшего сокровищами Менкаура сувою любовницу, предавшего себя, свою Отчизну, свое высокое происхождение и своих богов! Нет, у меня нет жалости к тебе: я проклинаю тебя, плод моих чресел! Да будет жизнь твоя наполнена сознанием вечного несмываемого позора! Да будет смерть твоя нескончаемой агонией и да ввергнут тебя после нее великие боги в терзания преисподней! Где ты? Да, я ослеп от слез, когда узнал о преступлениях, которые ты совершил, хотя все близкие старались от меня их скрыть. Отступник, выродок, изменник, я хочу подойти к тебе и плюнуть тебе в лицо. — И он поднялся с кресла и медленно двинулся в мою сторону, рассекая воздух своим жезлом — живое олицетворение гнева. Он шел неверными шагами, вытянув вперед руки, — невыносимое зрелище, и вдруг жизнь в нем стала угасать, он вскрикнул и упал на пол, изо рта хлынула темная кровь. Я бросился к нему, поднял на руки, и он, слабея, прошептал: — Он был мой сын, чудесный, ясноглазый мальчик, он был наша надежда, наша весна, а сейчас… сейчас… о, если бы он умер! Он умолк, потом в горле у него заклокотало. — Гармахис, — задыхаясь, прошептал он, — это ты? — Да, отец, я. — Гармахис, искупи свою вину! Слышишь — искупи! Ты еще можешь отомстить… можешь заслужить прощение… У меня есть золото, я его спрятал… Атуа… Атуа тебе покажет… о, какая боль! Прощай! Он слабо затрепетал в моих руках и умер. Так я и мой горячо любимый отец, царевич Аменемхет, встретились в этой жизни в последний раз и в последний раз расстались.
Глава 25
Повествующая об отчаянии Гармахиса; о страшном заклинании, которым он призвал Исиду; об обещании Исиды; о появлении Атуа и о ее словах, сказанных Гармахису.Я скорчился на полу, глядя на труп моего отца, который дождался меня и проклял, — меня, до скончания веков проклятого; в покой вползала и сгущалась вокруг нас темнота, и наконец мы с мертвым остались в черном беспросветном безмолвии. О, как страшны были эти часы безнадежного отчаяния! Воображение не может этого представить, слова бессильны описать. И снова я в неизмеримой глубине моего падения стал думать о смерти. За поясом у меня был нож, как легко пресечь им страдания и освободить мой дух. Освободить? Да, чтобы он свободно летел к великим богам принять их великую месть! Увы, увы, я не смел умереть. Уж лучше жизнь на земле со всеми моими горестями и скорбями, чем мгновенное погружение в невообразимые ужасы, которые уготованы в мрачном Аменти всем падшим. Я катался по полу и плакал жгучими слезами о своей погибшей жизни, о прошлом, которого не изменить, — плакал, пока не иссякли слезы; но безмолвие не отзывалось на мое горе, не давало ответа, я слышал лишь эхо собственных рыданий. Ни проблеска надежды! В моей душе была тьма, более черная, чем темнота покоя: богов я предал, люди от меня отвернулись. Один на один с леденящим душу величием смерти, я почувствовал, что меня охватывает ужас. Скорее прочь отсюда! Я поднялся с пола. Но разве я найду дорогу в этой темноте? Я сразу же заблужусь в галереях, в залах среди колонн. И куда бежать, ведь мне негде приклонить голову. Я снова скорчился на полу, страх обручем сдавливал голову, на лбу выступил холодный пот, казалось, я сейчас умру. И тогда я, в моем смертном отчаянии, стал громко молиться Исиде, к которой уже много, много дней не смел обращаться. — О Исида! Небесная мать! — взывал я. — Забудь на краткий миг о своем гневе и в своем неизреченном милосердии, о ты, которая сама есть милосердие, отвори сердце свое страданьям того, кто был твоим слугой и сыном, но совершил преступление, и ты отвратила от него лик своей любви! О ты, великая миродержица, живущая во всем и во все проницающая, разделяющая всякое горе, положи свое сострадание на чашу весов и уравновесь им зло, сотворенное мною! Увидь мою печаль, измерь ее; исчисли глубину моего раскаяния и силу скорби, что изливается потоком из моей души. О ты, державная, с кем мне было дано встретиться и узреть твой лик, я призываю тебя священным часом, когда ты явилась мне в Аменти; я призываю тебя великим тайным словом, что ты произнесла. Снизойди ко мне в своем милосердии и спаси меня; или же слети в гневе и положи конец мучениям, которые больше невозможно переносить. И, поднявшись с колен, я воздел к небу руки и громко выкрикнул то страшное заклинание, произносить которое дозволено лишь в самый тяжкий час, иначе ты умрешь. И тотчас же богиня отозвалась. В тиши покоя я услышал бряцанье систра, возвещавшего о появлении Исиды. Потом в дальнем углу слабо засветился как бы изогнутый золотой рог месяца и внутри рога — маленькое темное облачко, из которого то высовывал свою голову огненный змей, то прятался в облачке. Ноги мои подогнулись, когда я увидел богиню, я упал перед нею ниц. Из облачка послышался тихий нежный голос: — Гармахис, который был моим слугой и моим сыном, я услышала твою молитву и заклинание, которое ты осмелился произнести, оно властно вызвать меня из горних миров, когда его изрекают уста того, с кем я беседовала. Но нас уже не связывают узы единой божественной любви, Гармахис, ибо ты своим деянием отверг меня. И потому теперь, после того, как я столь долго не отвечала тебе, я явилась перед тобой, Гармахис, в гневе и, быть может, даже с жаждой мести, ибо просто так Исида не покидает свою священную высокую обитель. — Покарай меня, богиня! — воскликнул я. — Покарай и отдай тем, кто исполнит твою месть, ибо мне не под силу больше нести бремя моего горя! — Что ж, если ты не можешь нести бремя своего наказания здесь, на земле, — ответил печальный голос, — как же ты понесешь неизмеримо более тяжелое бремя, которое возложат на тебя там, куда ты придешь, покрытый позором и не искупивший вину, — в мое мрачное царство Смерти, которая есть Жизнь в обличьи нескончаемых перемен? Нет, Гармахис, я не стану тебя карать, ибо не так уж велик мой гнев за то, что ты осмелился призвать меня страшным заклинанием: ведь я пришла к тебе. Слушай же меня, Гармахис: не я возвеличиваю и не я караю, я лишь исполнительница повелений Непостижимого, я лишь слежу, чтобы достойный был вознагражден, а недостойный понес кару; и если я дарую милосердие, я дарую его без слов похвалы, и поражаю я тоже без укора. И потому не буду утяжелять твое бремя гневной речью, хоть ты и виноват в том, что скоро, скоро госпожа волхвований, великая чарами богиня Исида станет для Египта лишь воспоминанием. Ты совершил зло, и тяжкое наказание ты за него понесешь, как я тебя и остерегала, — здесь, в этой земной жизни, и там, в моем царстве Аменти. Но я также говорила тебе, что есть путь к искуплению, и ты на него уже вступил, я это знаю, но по этому пути нужно идти, смирив гордыню, и есть горький хлеб раскаяния, пока не исполнятся сроки твоей судьбы. — Так, стало быть, благая, нет для меня надежды? — То, что свершилось, Гармахис, то свершилось, и ничего теперь не изменить. Никогда уже Кемет не будет свободным, храмы его разрушатся, их засыплют пески пустыни; иные народы будут завоевывать Кемет и править здесь; в тени его пирамид будут расцветать и умирать все новые и новые религии, ибо у каждого мира, у каждой эпохи, у каждого народа свои собственные боги. Вот дерево, что вырастет, Гармахис, из семени зла, которое посеял ты и те, кто искушал тебя! — Увы! Я погиб! — воскликнул я. — Да, ты погиб; но тебе будет дано утешение: ты погубишь ту, что погубила тебя, — так суждено во имя справедливости, которую творю я. Когда тебе будет явлено знамение, брось все, иди к Клеопатре и сверши месть, повинуясь моим повелениям, которые ты прочтешь в своем сердце. А теперь о тебе, Гармахис: ты отринул меня, и потому мы не встретимся с тобою, как тогда, в Аменти, пока в круговороте Времени с этой земли не исчезнет последний росток посеянного тобой зла! Но всю эту нескончаемую череду тысячелетий помни: любовь божественная вечна, она не умирает, хотя порою улетает в недосягаемые дали. Искупи свое преступление, мой сын, искупи зло, пока еще не поздно, чтобы в скрытом мглой конце Времен я снова могла принять тебя в свое сияние. И я, Гармахис, тебе обещаю: пусть даже ты никогда меня не будешь видеть, пусть имя, под которым ты меня знаешь, станет пустым звуком, неразгаданной тайной для тех, кто придет на землю после тебя, — и все же я, живущая вечно, я, наблюдавшая, как зарождаются, цветут и под испепеляющим дыханием Времени рушатся миры, чтобы возникнуть снова и пройти начертанный им путь, — я пребуду всегда с тобой. Где бы ты ни был, в каком бы облике ни возродился, — я буду охранять тебя! На самой далекой звезде, в глубочайших безднах Аменти — в жизни и в смерти, в снах, наяву, в воспоминаниях, в забвении всего и вся, в странствиях души в потусторонней жизни, во всех перевоплощениях твоего духа, — я неизменно буду с тобой, если ты искупишь содеянное зло и больше не забудешь меня; я буду ждать часа твоего очищения. Такова природа Божественной Любви, которая изливается на тех, кто причастился ее святости и связан с ней священными узами. Суди же сам, Гармахис: стоило ли отвергать нетленную любовь ради прихоти смертной женщины? И пока ты не исполнишь все, о чем я тебе говорила, не произноси больше Великого и Страшного Заклятья, я тебе запрещаю! А теперь, Гармахис, прощай до встречи в иной жизни! Последний звук нежного голоса умолк, огненный змей спрятался в сердце облачка. Облачко выплыло из лунного серпа и растворилось в темноте. Месяц стал бледнеть и наконец погас. Богиня удалялась, снова донеслось тихое, наводящее ужас бряцанье систра, потом и оно смолкло. Я закрыл лицо полой плаща, и хотя рядом со мной лежал холодный труп отца — отца, который умер, проклиная меня, я почувствовал, как в сердце возвращается надежда, я знал, что я не вовсе погиб и не отвергнут той, которую я предал и которую по-прежнему люблю. Усталость сломила меня, я сдался сну. Когда я проснулся, сквозь отверстие в крыше пробивался серый свет зари. Зловеще глядели на меня со стен окутанные тенями скульптуры, зловеще было мертвое лицо седобородого старца — моего отца, воссиявшего в Осирисе. Я содрогнулся, вспомнив все, что произошло, потом мелькнула мысль — что же мне теперь делать, но отстраненно, словно я думал не о себе, а о ком-то другом. Я стал подниматься и тут услышал в галерее с именами фараонов на стенах чьи-то тихие шаркающие шаги. — Ах-ха-ха-ах! — бормотал голос, который я сразу узнал, — это была старая Атуа. — Темно, будто я в жилище смерти! Великие служители богов, которые построили этот храм, не любили источник жизни — солнце, хоть и поклонялись ему. Где же занавес? Наконец Атуа его подняла и вошла в покой отца с посохом в одной руке и с корзиной в другой. На ее лице стало еще больше морщин, в редких волосах почти не было темных прядей, но в остальном она почти не изменилась. Старуха остановилась у занавеса и стала вглядываться в сумрак покоя своими зоркими глазами, потому что заря еще не осветила комнату отца. — Где же он? — спросила она. — Неужто ушел ночью бродить, слепой, — да не допустит этого Осирис, славится его имя вечно! Горе мне, горе! И почему я не зашла к нему вечером? Горе всем нам, великое горе! До чего же мы дожили: верховный жрец великого и священного храма, по праву рождения правитель Абидоса, остался в своей немощи один, и только ветхая старуха, которая сама стоит одной ногой в могиле, ухаживает за ним! О Гармахис, бедный мой, несчастный мальчик, это ты навлек на нас такое горе!.. Великие боги, что это? Неужто он спит на полу? Нет, нет… он умер? Царевич! Божественный отец! Аменемхет! Проснись, восстань! — И она заковыляла к трупу. — Что с тобой? Клянусь Осирисом, который спит в своей священной могиле в Абидосе, ты умер? Умер один, никого не было рядом с тобой поддержать в эту священную минуту, сказать слова утешения! Ты умер, умер, умер! — И ее горестный вопль полетел к потолку, отскакивая эхом от украшенных статуями стен. Тише, перестань кричать! — сказал я, выходя из темноты на свет. — Ай, кто ты такой?! — крикнула она и выронила из рук корзину. — Злодей, это ты убил нашего владыку праведности, единственного владыку праведности во всем Египте? Да падет на тебя извечное проклятье, ибо хотя боги отвернулись от нас в час горького испытания, но они не оставят преступления безнаказанным и тяжко покарают того, кто убил их помазанника! — Посмотри на меня, Атуа, — сказал я. — А разве я не смотрю? Смотрю и вижу злодея, бродягу, который совершил это великое зло! Гармахис оказался предателем и сгинул где-то в дальних странах, а ты убил его божественного отца Аменемхета, и вот теперь я осталась одна на всем белом свете, у меня нет никого, ни единой души. Я отдала убийцам моего родного внука, пожертвовала дочерью и зятем ради предателя Гармахиса! Ну что ж, убей и меня, злодей! Я шагнул к ней, а она, решив, что я хочу ее зарезать, в ужасе закричала: — Нет, нет, мой господин, пощади меня! Мне восемьдесят шесть лет, клянусь извечными богами, — когда начнется разлив Нила, мне исполнится восемьдесят шесть лет, и все же я не хочу умирать, хотя Осирис милостив к тем, кто верно служил им всю жизнь! Не подходи ко мне, не подходи… На помощь! Помогите! — Замолчи, глупая! — приказал я. — Неужто ты меня не узнаешь? — А почему же я должна тебя узнать? Разве мне знакомы все бродяги-моряки, которым Себек позволяет добывать средства на жизнь, грабя и убивая, пока они не попадут во власть Сета? А впрочем, погоди… как странно… лицо так изменилось… и этот шрам… и ты хромаешь… О, это ты, Гармахис! Это ты, любимый мой, родной мой мальчик! Ты вернулся, мои старые глаза тебя видят, до какого счастья я дожила! Я думала, ты умер! Позволь же мне обнять тебя! Ах, я забыла: Гармахис — предатель и убийца! Вот лежит передо мной божественный Аменемхет, принявший смерть от рук отступника Гармахиса! Ступай прочь! Я не желаю видеть предателей и отцеубийц! Ступай к своей распутнице! Ты не тот, кого я с такой любовью нянчила и растила! — Успокойся, Атуа, молю тебя: успокойся! Я не убивал отца, — увы, он умер сам, умер в моих объятьях! — Да, конечно: в твоих объятьях и проклиная тебя, я в том уверена, Гармахис! Ты принес смерть тому, кто дал тебе жизнь! Ах-ха! Долго я живу на свете, и много выпало на мою долю горя, но такого черного часа еще не было в моей жизни! Никогда я не любила глядеть на мумию, но лучше бы мне давно усохнуть и покоиться в гробу! Уходи, молю тебя, уйди с моих глаз! — Добрая моя старая няня, не упрекай меня! Разве я и без того не довольно вынес бед? — Ах, да, да, я и забыла! Так что за преступление ты совершил? Тебя сгубила женщина, как женщины всегда губили и будут губить мужчин до скончания века. Да еще какая это была женщина! Ах-ха! Я видела ее, такой красавицы еще на свете не было — злые боги нарочно сотворили ее людям на погибель! А ты совсем молоденький, да к тому же жрец, проведший всю жизнь в затворничестве, — от такого воспитания добра не жди, одна пагуба! Где тебе было устоять против нее? Конечно, ты сразу попался в ее сети, что тут удивительного. Подойди ко мне, Гармахис, я поцелую тебя! Разве женщина может осудить мужчину за то, что он потерял голову от любви? Такова уж наша природа, а Природа знает, что делает, иначе сотворила бы нас другими. С нами здесь случилась беда похуже, вот это уж беда так беда! Знаешь ли ты, что твоя царица-гречанка отобрала у храма земли и доходы, разогнала жрецов — всех, кроме нашего божественного Аменемхета, который теперь лежит здесь мертвый, его она пощадила неведомо почему; мало того: она запретила служить в этих стенах нашим великим богам. А теперь и Аменемхета не стало! Скончался наш Амснемхет! Что ж, он вступил в сияние Осириса, и ему там лучше, ибо жизнь его здесь, на земле, была невыносимым бременем. Слушай же, Гармахис, что я тебе скажу: он не оставил тебя нищим; как только заговор был обезглавлен, он собрал все свои богатства, а они немалые, и спрятал их, я покажу тебе тайник, — они по праву должны перейти к тебе, ведь ты его единственный сын. — Атуа, не надо говорить мне о богатствах. Куда мне деться, где скрыть свой позор? — Да, да, ты прав; здесь тебе нельзя оставаться, тебя могут найти, и если найдут, то ты умрешь страшной смертью — тебя удушат в просмоленном мешке. Не бойся, я тебя спрячу, а после погребальных церемоний и плача по божественному Аменемхету мы тайно уедем отсюда и будем жить вдали от людских глаз, пока эти несчастья не забудутся. Ах-ха! Печален мир, в котором мы живем, и бед в нем не счесть, как жуков в нильском иле. Идем же, Гармахис, идем!
Глава 26
Повествующая о жизни того, кто стал известен всем под именем ученого затворника Олимпия, в усыпальнице арфистов гробницы Рамсеса близ Тапе; о вести, что прислала ему Хармиана; советах, которые он давал Клеопатре; и о возвращении Олимпия в Александрию.И вот что произошло потом. Восемьдесят дней прятала меня старая Атуа, пока искуснейшие из бальзамировщиков готовили труп моего отца, царевича Аменемхета, к погребению. И когда наконец все предписанные законом обряды были соблюдены, я тайно выбрался из своего убежища и совершил приношения духу моего отца, возложил ему на грудь венок из лотосов и в великой скорби удалился. А назавтра я увидел с того места, где лежал, затаившись, как собрались жрецы храма Осириса и святилища Исиды, как медленно двинулась печальная процессия к священному озеру, неся расписанный цветными красками гроб отца, как опустили его в солнечную ладью с навесом. Жрецы совершили символический ритуал суда над мертвым и провозгласили отца справедливейшим и достойнейшим среди людей, потом понесли его в глубокую усыпальницу, вырубленную в скалах неподолёку от могилы всеблагого Осириса, чтобы положить рядом с моей матерью, которая уже много лет покоилась там, — надеюсь, что и я, невзирая на все свершенное мной зло, скоро тоже упокоюсь рядом с ними. И когда отца похоронили и запечатали вход в глубокую гробницу, мы с Атуа извлекли из тайника сокровища отца, надежно их укрыли, я переоделся паломником и вместе со старой Атуа поплыл по Нилу в Тапе;[495] там, в этом огромном городе, мы поселились, и я стал искать место, куда мне будет безопасно удалиться и жить в уединении. Такое место я наконец нашел. К северу от города возвышаются среди раскаленной солнцем пустыни бурые крутые скалы, и здесь, в этих безотрадных ущельях, мои предки — божественные фараоны — приказывали высекать себе в толще скал гробницы, большая часть которых и по сей день никем на обнаружена, так хитро маскировали вход в них. Но есть и такие, что были найдены, в них проникли окаянные персы и просто воры, которые искали спрятанные сокровища. И вот однажды ночью — ибо я не осмеливался покинуть свое убежище при свете дня, — когда небо над зубцами скал начало сереть, я вступил один в эту печальную долину смерти, подобной которой нет больше нигде на свете, и недолгое время спустя приблизился к входу в гробницу, спрятанному в складках скал, где, как я потом узнал, был похоронен божественный Рамсес, третий фараон, носящий это имя, давно вкушающий покой в царстве Осириса. В слабом свете зари, пробившемся сквозь ход, я увидел, что там, внутри, — просторное помещение и дальше много разных камер. Поэтому на следующую ночь я вернулся со светильниками, и со мной пришла моя старая няня Атуа, которая преданно служила мне всю жизнь с младенчества, когда я, беспомощный и несмышленый, еще лежал в колыбели. Мы осмотрели величественную гробницу и наконец вошли в огромный зал, где стоит гранитный саркофаг с мумией божественного Рамсеса, который много веков почивает в нем; на стенах начертаны мистические знаки; змея, кусающая себя за хвост, — символ вечности; Ра, покоящийся на скарабее; Нут, рождающая Ра; иероглифы в виде безголовых человечков и много, много других тайных символов, которые я легко прочел, ибо принадлежу к числу посвященных. От длинной наклонной галереи отходит несколько камер с прекрасными настенными росписями. Под полом каждой камеры могила человека, о котором рассказывается в сценах росписей на стенах — знаменитого мастера в своем искусстве или ремесле, которым он славил со своими помощниками дом божественного Рамсеса. На стенах последней камеры, той, что по левую сторону галереи, если стоять лицом к залу, где саркофаг, росписи особенно хороши, они посвящены двум слепым арфистам, играющим на своих арфах перед богом Моу; а под плитами пола мирно спят эти самые арфисты, которым уже не держать в руках арфу на этой земле. И здесь, в этой печальной обители, где покоятся арфисты, я поселился в обществе мертвых и прожил восемь долгих лет, неся наказание за совершенные мною преступления и искупая свою вину. Но Атуа любила свет и потому выбрала себе камеру с изображениями барок, а эта камера первая по правую сторону галереи, если стоять лицом к усыпальнице с саркофагом Рамсеса. Вот как проходила моя жизнь. Через день старая Атуа ходила в город и приносила воду и еду, необходимую для поддержания жизни, а также жир для светильников. На закате и на рассвете я выходил на час в ущелье и прогуливался по нему, чтобы сохранить здоровье и зрение, которого я мог лишиться в кромешной темноте гробницы. Ночью я поднимался на скалы и наблюдал звезды, все остальное время дня и ночи, когда я не спал, я проводил в молитвах и в размышлениях, и наконец груз вины, свинцовой глыбой давившей мое сердце, стал не так тяжек, я снова приблизился к богам, хотя мне не было дозволено обращаться к моей небесной матери Исиде. Я также обрел много знаний и мудрости, проникнув в тайны, которые начал постигать еще раньше. От воздержанной жизни, наполненной молитвами в печальном одиночестве, плоть моя как бы истаяла, но я научился заглядывать в самое сердце явлений и вещей глазами моего духа, и наконец меня осенило великое счастье Мудрости, живительное, точно роса. Скоро по городу распространился слух, что в зловещей Долине Мертвых, уединившись во мраке гробницы, живет некий великий ученый по имени Олимпий, и ко мне стали приходить люди и приносить больных, чтобы я их исцелил. Я принялся изучать свойства трав и растений, в чем меня наставляла Атуа, и с помощью ее науки и заключений, которые я сделал сам в своих углубленных размышлениях, я достиг больших высот в искусстве врачевания, и многие больные излечивались. Шло время, слава обо мне достигла других городов Египта, люди, говорили, что я не только великий ученый, но и чародей, ибо беседую в своей гробнице с духами умерших. И я действительно с ними беседовал, но об этом мне не позволено рассказывать. И вот немного времени спустя Атуа перестала ходить в город за водой и пищей, все это приносили нам теперь люди, и даже гораздо больше, чем нам было нужно, ибо я не брал платы за лечение. Сначала, опасаясь, что кто-то узнает в отшельнике Олимпии пропавшего Гармахиса, я принимал посетителей лишь в темной камере гробницы. Но потом, когда я узнал, что молва разнесла по всему Египту весть о гибели Гармахиса, я стал выходить на свет и, сидя у входа в гробницу, оказывал помощь больным, а также составлял для знатных и богатых жителей гороскопы. Слава моя меж тем все росла, ко мне стали приезжать люди из Мемфиса и Александрии; от них я узнал, что Антоний оставил Клеопатру и, так как Фульвия умерла, женился на сестре цезаря Октавии. Много, много разных новостей узнавал я от посещавших меня людей. Когда пошел второй год моего затворничества, я послал старую Атуа в Александрию под видом знахарки, торгующей целебными травами, велел ей разыскать Хармиану и, если она увидит, что Хармиана хранит верность своим клятвам, поведать ей о том, где я живу. И Атуа отправилась в Александрию, откуда приплыла через четыре с лишним месяца, привезя мне пожелания здравия и радости от Хармианы, а также ее дары. Атуа мне рассказала, как ей удалось добиться встречи с Хармианой и как она, беседуя с ней, упомянула мое имя и сказала, что я погиб, после чего Хармиана, не в силах сдержать своего горя, разразилась рыданиями. Тогда старуха, проникнув в ее помыслы и чувства, ибо была очень умна и обладала великими познаниями человеческой природы, открыла Хармиане, что Гармахис жив и посылает ей приветствие. Хармиана зарыдала еще громче — теперь уже от радости, бросилась обнимать старуху, осыпала дарами и просила передать мне, что верна своей клятве и ждет меня, чтобы свершить месть. Узнав в Александрии много такого, что другим было неведомо, Атуа вернулась в Тапе. В том же году ко мне прибыли посланцы Клеопатры с запечатанным посланием и с богатыми дарами. Я развернул свиток и прочел: «Клеопатра — Олимпию, ученому египтянину, живущему в Долине Мертвых близ Тапе. Слава о твоей учености, о мудрый Олимпий, достигла наших ушей. Дай же нам совет, и если твой совет поможет нам исполнить наше желание, мы осыплем тебя почестями и богатствами, каких еще не удостаивался никто во всем Египте. Как нам вернуть любовь благородного Антония, которого околдовала злокозненная Октавия и так долго удерживает вдали от нас?» Я понял, что Хармиана начала действовать и что это она рассказала Клеопатре о моей великой учености. Всю ночь я размышлял, призвав на помощь мою мудрость, а утром написал ответ, который продиктовали мне великие боги, дабы погубить Клеопатру и Антония: «Египтянин Олимпий — царице Клеопатре. Отправляйся в Сирию с тем, кто будет послан, дабы доставить тебя туда; Антоний снова вернется в твои объятия и одарит тебя столь щедро, что ты и в самых дерзких мечтах такого не можешь представить». Это письмо я отдал посланцам Клеопатры и велел им поделить между собой посланные мне Клеопатрой дары. Они отбыли в великом изумлении. Клеопатра же ухватилась за мой совет и, повинуясь порывам своей страсти, тотчас же отправилась в Сирию с Фонтейем Капито, и все случилось, как я ей предсказал. Она снова опутала Антония своими чарами, и он подарил ей большую часть Киликии, восточный берег Аравии, земли Иудеи, где добывался бальзам, Финикию, Сирию, богатый остров Кипр и библиотеку Пергама. Детей же, близнецов, которых Клеопатра после сына Птолемея родила Антонию, он кощунственно провозгласил «Владыками, детьми владык», и нарек мальчика Александром Гелиосом, что по-гречески означает солнце, а дочь — Клеопатрой Селеной, то есть крылатой луной. Вот как развивались события дальше. Вернувшись в Александрию, Клеопатра послала мне богатейшие дары, которых я не принял, и стала умолять меня, мудрейшего ученого Олимпия, переехать жить в ее дворец в Александрию, но время еще не наступило, и я отказался. Однако и она, и Антоний постоянно отправляли ко мне посланцев, спрашивая моего совета, и все мои советы приближали их гибель, все мои пророчества сбывались. Один долгий год сменялся другим, еще более долгим, и вот я, отшельник Олимпий, живущий вдали от людей в гробнице, питающийся хлебом и водой, снова возвеличился в Кемете благодаря великой мудрости, которой осенили меня боги-мстители. Чем искренней я презирал потребности плоти, чем вдохновенней обращал свой взор к небу, тем большую глубину и власть обретала моя мудрость. И вот прошло целых восемь лет. Началась и кончилась война с парфянами, по улицам Александрии провели во время триумфального шествия пленного царя Большой Армении Артавасда. Клеопатра побывала на Самосе и в Афинах; повинуясь ей, Антоний выгнал из своего дома в Риме благородную Октавию, точно опостылевшую наложницу. Он совершил столько противных здравому смыслу поступков, что добром это уже не могло кончиться. Да и удивительно ли: властелин мира потерял последние крохи великого дара богов — разума, он растворился в Клеопатре, как некогда растворялся в ней я. И кончилось все тем, что Октавиан, как и следовало ожидать, объявил ему войну. Однажды днем я спал в камере слепых арфистов, в той самой гробнице фараона Рамсеса близ Тапе, где я по-прежнему жил, и мне во сне явился мой старый отец Аменемхет, он встал у моего ложа, опираясь на посох, и повелел: — Смотри внимательно, мой сын. Я стал всматриваться глазами моего духа и увидел море, скалистый берег и два флота, сражающиеся друг с другом. На судах одного флота развевались штандарты Октавиана, на судах другого — штандарты Клеопатры и Антония. Суда Антония и Клеопатры теснили флот цезаря, он отступал, и победа клонилась на сторону Антония. Я еще пристальней вгляделся в открывшуюся моим глазам картину. На золотой палубе галеры сидела Клеопатра и в волнении наблюдала за ходом сражения. Я устремил к ней свой дух, и она услышала голос мертвого Гармахиса, который оглушил ее: — Беги, Клеопатра, беги, иль ты погибнешь! Она с безумным видом оглянулась и снова услышала, как мой дух кричит: «Беги!» Ее охватил необоримый страх. Она приказала морякам поднять паруса и дать сигнал всем своим кораблям плыть прочь. Моряки с изумлением, но без особой неохоты повиновались, и галера поспешно устремилась с поля боя. Воздух задрожал от оглушительного крика, который сорвался с уст матросов Антония и Октавиана: — Клеопатра бежит! Смотрите: Клеопатра бежит! И я увидел, что флот Антония разбит, что море стало багровым от крови, и вышел из своего транса. Миновало несколько дней, и снова мне во сне явился мой отец и так сказал: — Восстань, мой сын! Час возмездия близок! Ты не напрасно трудился, молитвы твои услышаны. Боги пожелали, чтобы сердце Клеопатры сковал страх, когда она сидела на палубе своей галеры во время битвы при мысе Акциум, ей послышался твой голос, который кричал: «Беги иль ты погибнешь», и она бежала со всеми своими судами. Антоний потерпел жестокое поражение на море. Ступай к ней и выполни то, что повелят тебе боги. Утром я проснулся, раздумывая над ночным видением, и двинулся к выходу из гробницы; там я увидел, что по ущелью ко мне приближаются посланцы Клеопатры и с ними стражник-римлянин. — Зачем вы тревожите меня? — сурово спросил я. — Мы принесли тебе послание от царицы и от великого Антония, — ответил главный из них, низко склоняясь передо мной, ибо я внушал всем людям до единого неодолимый страх. — Царица повелевает тебе явиться в Александрию. Много раз она обращалась к тебе с такой просьбой, но ты ей всегда отказывал; сейчас она приказывает тебе плыть в Александрию, и плыть не медля, ибо нуждается в твоем совете. — А если я скажу «нет», то что ты сделаешь, солдат? — Я подневольный человек, о мудрый и ученейший Олимпий: мне дан приказ доставить тебя силой. Я громко рассмеялся. — Ты говоришь — силой, глупец? Ко мне нельзя пытаться применить силу, иначе ты умрешь на месте. Знай, что я не только исцеляю, но и убиваю! — Молю тебя, прости мою дерзость, — ответил он, сжавшись и побелев. — Я повторил лишь то, что мне было приказано. — Да, да, я знаю. Не бойся, я поеду в Александрию. И в тот же день я туда отправился вместе с моей старенькой Атуа. Исчез я так же тайно, как явился, и больше никогда уж не возвращался в гробницу божественного Рамсеса. Я взял с собою все богатства моего отца Аменемхета, ибо не желал, чтобы меня приняли в Александрии за нищего попрошайку, — пусть все видят, что я богат и знатен. По дороге я узнал, что во время сражения при Акциуме Антоний действительно бежал вслед за Клеопатрой, и понял: развязка приближается. Все это и многое другое я провидел во тьме фараоновой гробницы близ Тапе и силой своего духа воплотил. И вот я наконец приплыл в Александрию и поселился в доме напротив дворцовых ворот, который велел снять и приготовить к моему прибытию. И в первый же вечер, поздно, ко мне пришла Хармиана — Хармиана, которую я не видел девять долгих лет.
Глава 27
Повествующая о встрече Хармианы с мудрым Олимпием; б их беседе; о встрече Олимпия с Клеопатрой; и о поручении, которое дала ему Клеопатра.Одетый в свое темное простое платье, сидел я в кое для приема гостей в доме, который был должным образом обставлен и убран. Я сидел в резном кресле с ножками в виде львиных лап и глядел на раскачивающиеся светильники, в которые было добавлено благовонное масло, на драпировочные ткани с вытканными сценами и рисунками, на драгоценные сирийские ковры, и среди всей этой роскоши вспоминал усыпальницу слепых арфистов близ Тапе, где прожил девять долгих лет во мраке и одиночестве, готовясь к этому часу. Возле двери на ковре свернулась калачиком моя старая Атуа. Волосы у нее побелели, как соль Мертвого моря, сморщенное лицо стало пергаментным, она была уже древняя старуха, и эта древняя старуха всю жизнь преданно заботилась обо мне, когда все остальные отринули меня, и в своей великой любви прощала мои великие преступления. Девять лет прошло! Девять нескончаемо долгих лет! Опять я, в предначертанном круге развития, явился, пройдя искус и затворничество, чтобы принести смерть Клеопатре; и в этот, второй раз игру выиграю я. Но как изменились обстоятельства! Я уже не герой разыгрывающейся драмы, мне отведена более скромная роль: я лишь меч в руках правосудия; погибла надежда освободить Египет и возродить его великим и могучим. Обречен Кемет, обречен и я, Гармахис. В бурном натиске событий и лет погребен и предан забвению великий заговор, который созидался ради меня, даже память о нем подернулась пеплом. Над историей моего древнего народа скоро опустится черный полог ночи; сами его боги готовятся покинуть нас; я уже мысленно слышу торжествующий крик римского орла, летящего над дальними брегами Сихора. Я все-таки заставил себя отстранить эти безотрадные мысли и попросил Атуа найти и принести мне зеркало, мне хотелось посмотреть, каким я стал. И вот что я увидел в зеркале: бритая голова, худое бледное до желтизны лицо, которое никогда не улыбалось; огромные глаза, выцветшие от многолетнего созерцания темноты, пустые, точно провалы глазниц черепа; длинная борода с сильной проседью; тело, иссохшее от долгого поста, горя и молитвы; тонкие руки в переплетении голубых вен, дрожащие, точно лист на ветру; согбенные плечи; я даже стал ниже ростом. Да, время и печаль поистине оставили на мне свой след; я не мог поверить, что это тот самый царственный Гармахис, который в расцвете своих могучих сил, молодости и красоты впервые увидел женщину несказанной прелести и попал под обаяние ее чар, принесших мне гибель. И все же в моей душе горел прежний огонь; я изменился только внешне, ибо время и горе не властны над бессмертным духом человека. Сменяются времена года, может улететь Надежда, точно птица, Страсть разбивает крылья о железную клетку Судьбы; Мечты рассеиваются, точно сотканные из туманов дворцы при восходе солнца; Вера иссякает, точно бьющий из-под земли родник; Одиночество отрезает нас от людей, точно бескрайние пески пустыни; Старость подкрадывается к нам, как ночь, нависает над нашей покрытой позором седой согбенной головой — да, прикованные к колесу Судьбы, мы испытываем все превратности, которым подвергает нас жизнь: возносимся высоко на вершины, как цари; низвергаемся во прах, как рабы; то любим, то ненавидим, то утопаем в роскоши, то влачимся в жалкой нищете. И все равно во всех перипетиях нашей жизни мы остаемся неизменными, и в этом великое чудо нашей Сущности. Я с горечью в сердце смотрел на себя в зеркало, и тут в дверь постучали. — Отопри, Атуа! — сказал я. Атуа поднялась с ковра и отворила дверь; в комнату вошла женщина в греческой одежде. Это была Хармиана, такая же красивая, как прежде, но с очень печальным нежным лицом, в ее опущенных глазах тлел огонь, готовый каждую минуту вспыхнуть. Она пришла без сопровождающих ее слуг; Атуа молча указала ей на меня и удалилась. — Старик, отведи меня к ученому Олимпию, — сказала Хармиана, обращаясь ко мне. — Меня прислала царица. Я встал и, подняв голову, посмотрел на нее. Глаза ее широко раскрылись, она негромко вскрикнула. — Нет, нет, не может быть, — прошептала она, обводя взглядом комнату, — неужели ты… — Голос ее пресекся. — …тот самый Гармахис, которого когда-то полюбило твое неразумное сердце, о Хармиана? Да, тот, кого ты видишь, прекраснейшая из женщин, и есть Гармахис. Но Гармахис, которого ты любила, умер; остался великий своей ученостью египтянин Олимпий, и он ждет, что ты ему скажешь. — Молчи! — воскликнула она. — О прошлом скажу совсем немного, а потом… потом оставим его в покое. Плохо же ты, Гармахис, при всей своей учености и мудрости, знаешь, как велика преданность женского сердца, если поверил, что оно способно разлюбить, когда изменилась внешность любимого: даже самые страшные перемены, которым подвергает его смерть, бессильны убить любовь. Знай же, о ученый врач, что я принадлежу к тем женщинам, которые, полюбив однажды, любят до последнего дыхания, а если их любовь не встречает ответа, уносят свою девственность в могилу. Она умолкла, и я лишь склонил перед ней голову, ибо ничего не мог сказать в ответ. Но хотя я молчал, хотя безумная страсть этой женщины погубила меня, признаюсь: я втайне был благодарен ей — ведь ее влюбленно домогались все до единого мужчины этого бесстыдного двора, а она столько нескончаемо долгих лет хранила верность изгою, который не любил ее, и когда этот жалкий, сломленный раб Судьбы вернулся в столь непривлекательном обличии, он был все так же дорог ее сердцу. Найдется ли на свете мужчина, который не оценит этот редкий и прекрасный дар, единственное сокровище, которое не купишь и не продашь за золото — истинную любовь женщины? — Я благодарна тебе за молчание, — проговорила Хармиана, — ибо не забыла жестоких слов, которые ты бросил мне в давно прошедшие дни там, в далеком Тарсе, израненное ими сердце до сих пор болит, оно не выдержит твоего презрения, отравленного одиночеством столь долгих лет. Не будем больше вспоминать былое. Вот, я вырываю из своей души эту губительную страсть, — она взглянула на меня и, прижав к груди руки, как бы оттолкнула что-то прочь от себя, — я вырываю ее, но забыть не смогу никогда! С прошлым покончено, Гармахис; моя любовь больше не будет тебя тревожить. Я счастлива, что моим глазам было дано еще раз увидеть тебя до того, как их смежит вечный сон. Ты помнишь, как я жаждала умереть от твоей столь любимой мною руки, но ты не захотел меня убить, ты обрек меня жить и собирать горькие плоды моего преступления, ты помнишь, как проклял меня и предсказал, что я никогда не избавлюсь от видений сотворенного мной зла и от воспоминаний о тебе, кого я погубила? — Да, Хармиана, я все помню. — Поверь, я выпила до дна чашу страданий. О, если бы ты мог заглянуть мне в душу и прочесть повесть о пытках, которым я подвергалась и которые переносила с улыбкой на устах, ты понял бы, что я искупила свою вину. — И все же, Хармиана, молва твердит, что при дворе тебя никто не может затмить, ты самая могущественная среди царедворцев и пользуешься самой большой любовью. Не признавался ли сам Октавиан, что объявляет войну не Антонию и даже не его любовнице Клеопатре, а Хармиане и Ираде? — Да, Гармахис, а ты хоть раз представил себе, что в это время испытываю я — я, поклявшаяся тебе страшной клятвой и вынужденная есть хлеб той, кого я так люто ненавижу, есть ее хлеб и служить ей, хотя она отняла у меня тебя и, играя на струнах моей ревности, вынудила меня изменить нашему святому делу, покрыть бесславием тебя и погубить нашу отчизну, наш Кемет! Разве богатства, драгоценности и лесть царевичей и вельмож способны принести счастье такой женщине, как я, — ах, я завидую нищей судомойке, ее доля и то легче, чем моя! Я всю ночь не осушаю глаз, а потом настает утро, и я поднимаюсь, убираю себя и с улыбкой иду выполнять повеления царицы и этого тупоголового Антония. Да ниспошлют мне великие боги счастье увидеть их обоих мертвыми — и ее, и его! Тогда я умру спокойно! Тяжка была твоя жизнь, Гармахис, но ты по крайней мере был свободен, а я — сколько раз завидовала я твоему ненарушаемому покою в этой мрачной гробнице! — Я убедился, Хармиана, что ты верна своим обетам, и это меня радует, ибо час мести близок. — Да, я верна своим обетам, более того: все эти годы я тайно трудилась для тебя — чтобы помочь тебе и наконец-то погубить Клеопатру и ее любовника римлянина. Я разжигала его страсть и ее ревность, я толкала ее на злодейства, а его на глупости, и обо всех их поступках по моему указанию доносили цезарю. Слушай же, как обстоят дела. Ты знаешь, чем кончилось сражение при Акциуме. Туда прибыла Клеопатра со всем своим флотом, хотя Антоний бурно возражал. Но я, повинуясь твоим наставлениям, стала со слезами умолять его, чтобы он позволил царице сопровождать его, ибо если он оставит ее, она умрет от горя; и он, этот ничтожный глупец, поверил мне. И вот она поплыла с ним и в самый разгар боя, неведомо по какой причине, хотя тебе, Гармахис, эта причина, быть может, и известна. Клеопатра приказала своим судам повернуть обратно и, покинув поле боя, поплыла к Пелопоннесу. И к чему это привело! Когда Антоний увидел, что она бежит, он в своем безумии бросил свои суда и кинулся за ней, так что его флот был разбит и потоплен, а его огромное войско в Греции, состоящее из двадцати легионов и двенадцати тысяч конницы, осталось без полководца. Никто бы не поверил, что Антоний, этот любимец богов, падет так низко. Войско сколько-то времени ждало, но сегодня вечером военачальник Канидий прибыл с вестью, что легионам надоело неведение, в котором они пребывали, они решили, что Антоний их бросил, и все огромное войскоперешло на сторону цезаря. — А где же Антоний? — Он построил себе жилище на островке в Большой Бухте и назвал его Тимониум, ибо, подобно Тимону, скорбит о людской неблагодарности, считая, что все его предали. Там он скрывается в великом смятении духа, и туда к нему ты должен отправиться на рассвете, так желает царица, — ты излечишь его от его помрачения и вернешь в ее объятия, ибо он не желает видеть ее и еще не знает всей меры постигших его бед. Но сначала я должна отвести тебя к Клеопатре, которая желает получить от тебя совет, и как можно скорее. — Ну что ж! — Я встал. — Веди меня. Мы вошли в дворцовые ворота, вот и Алебастровый Зал, я снова стою перед дверью в покои Клеопатры, и снова Хармиана оставляет меня одного и проскальзывает за занавес сообщить Клеопатре, что я здесь. Через минуту она вернулась и сделала мне знак рукой. — Укрепи свое сердце, — шепнула она, — и не выдай себя, ведь глаза у Клеопатры очень острые. Входи же! — О нет, не настолько остры ее глаза, чтобы прозреть в ученом Олимпии юного Гармахиса! Ты и сама бы не узнала меня, Хармиана, не пожелай я того, — ответил я. И после этих слов вступил в покой, который так хорошо помнил, и снова услышал журчанье фонтана, песнь соловья, ласковый плеск летнего моря. Я двинулся вперед неверным шагом, низко склонив голову, и вот наконец приблизился к ложу Клеопатры — к тому самому золотому ложу, на котором она сидела в ту ночь, когда я пал ее жертвой. Я собрался с духом и посмотрел на нее. Передо мной была Клеопатра, ослепительная как и прежде, но до чего же изменилась она с той ночи, когда я видел ее в последний раз в Тарсе, в объятиях Антония! Красота ее была по-прежнему подобна драгоценному наряду, глаза такие же синие и бездонные, как море, лицо пленительно в своем совершенстве и высшей гармонии черт. И все же это была другая женщина. Время, которое не властно было отнять у нее дарованные богами чары, наложило на ее лицо печать безмерной усталости и скорби. Страсть, переполнявшая ее необузданное сердце, оставила свои следы на лбу, глаза мерцали, точно две печальные звезды. Я низко поклонился этой царственнейшей женщине, которая когда-то была моей любовницей и погубила меня, а сейчас даже не узнала. Она усталым взглядом поглядела на меня и неспешно заговорила своим низким голосом, который я так хорошо помнил: — Итак, ты наконец пришел ко мне, врач. Как звать тебя? Олимпий? Это имя вселяет надежду, ибо теперь, когда египетские боги нас покинули, нам очень нужна помощь богов Олимпа. Да, ты, без сомнения, ученый, ибо ученость редко сочетается с красотой. Странно, ты мне кого-то напоминаешь, но вот кого — не могу вспомнить. Скажи, Олимпий, мы встречались раньше? — Нет, царица, никогда до этого часа мои глаза не созерцали тебя в телесной оболочке, — ответил я, изменив голос. — Я прибыл сюда, оставив свою затворническую жизнь, дабы исполнить твои повеления и излечить тебя от болезней. — Странно! Даже голос… никак не всплывет в памяти. В телесной оболочке, ты сказал? Так, может быть, я видела тебя во сне? — О да, царица: мы встречались с тобою в снах. — Ты странный человек, и речи твои странны, но люди утверждают, что ты — великий ученый, и я в это верю, ибо помню, как ты повелел мне ехать к моему возлюбленному властелину Антонию в Сирию и как твое прорицание исполнилось. Ты чрезвычайно искусен в составлении гороскопов и в предсказаниях по звездам, в чем наши александрийские невежды полные профаны. Однажды мне встретился столь же ученый астролог, некий Гармахис, — она вздохнула, — но он давно умер, — как жаль, что я тоже не умерла! — и я порой о нем скорблю. Она умолкла, я опустил голову на грудь и тоже не произносил ни слова. — Олимпий, растолкуй мне, что со мной случилось. Во время этого ужасного сражения при Акциуме, в самый разгар боя, когда победа уже начала улыбаться нам, мое сердце сжал невыносимый страх, глаза застлала темнота, и в ушах раздался голос Гармахиса, — того самого Гармахиса, который давно умер. «Беги! — кричал Гармахис. — Беги иль ты погибнешь!» И я бежала. Но мой страх передался Антонию, он бросился следом за мной, и мы проиграли сражение. Скажи мне, кто из богов сотворил это зло? — Нет, царица, боги тут не при чем, — ответил я, — разве ты прогневила богов Египта? Разве ограбила храмы, где им поклоняются? Разве презрела свой долг перед Египтом? А раз ты не повинна в этих преступлениях, за что же египетским богам наказывать тебя? Не надо страшится, то был всего лишь плод воображения, ибо твоей нежной душе невыносимо зрелище кровавой бойни, невыносимо было слышать крики умирающих; что же до благородного Антония, то он всегда устремляется за тобой, куда бы ты ни последовала. Когда я начал говорить, Клеопатра побледнела и задрожала, она не спускала с меня глаз, пытаясь понять, что означают мои слова. Я успокаивал ее, но сам-то знал, что она бежала, повинуясь воле богов, избравших меня своим мстителем. — Ученый Олимпий, мой повелитель Антоний болен и вне себя от горя, — сказала она, не отвечая на мое объяснение. — Точно жалкий беглый раб, прячется он в этой башне на острове среди моря и никого к себе не допускает, даже меня, перенесшую из-за него столько мук. И вот что я желаю, чтобы ты исполнил. Завтра, как только начнет светать, ты и моя придворная дама Хармиана сядете в лодку, подплывете к острову и попросите стражей впустить вас в башню, объявив, что привезли вести от военачальников Антония. Он прикажет отворить вам дверь, и тогда ты, Хармиана, должна будешь сообщить ему горестные вести, что привез Канидий, ибо самого Канидия я не решаюсь к нему послать. И когда взрыв горя утихнет, прошу тебя, Олимпий, исцели его измученное тело своими знаменитыми снадобьями, а душу — словами утешения и привези его ко мне, ведь все еще можно исправить. Если тебе это удастся, я дарую тебе столько богатств, что и не счесть, ведь я еще царица и могу щедро оплатить услуги тех, кто выполняет мою волю. — Не тревожься, о царица, — ответил я, — я выполню все, что ты желаешь, и не возьму награды, ибо пришел, чтобы служить тебе до самого конца. Я отдал ей поклон и вышел, а дома попросил Атуа приготовить нужное мне снадобье.
Глава 28
Повествующая о том, как Антоний был привезен из Тимониума к Клеопатре; о пире Клеопатры; и о том, какой смертью умер управитель Клеопатры Евдосий.Еще не рассвело, а Харамиана уже опять пришла ко мне, и мы с ней спустились к тайной дворцовой пристани. Там мы сели в лодку и поплыли к скалистому острову, на котором возвышается Тимониум — небольшая круглая башня с куполом, хорошо укрепленная. Мы высадились на острове, подошли к двери башни и постучали, но никто не отозвался, и мы постучали еще раз, после чего в двери открылось забранное решеткой оконце, в него выглянул старый евнух и грубо спросил, что нам здесь надо. — Нам нужен благородный Антоний, — ответила Хармиана. — А вы ему не нужны, ибо мой хозяин, благородный Антоний, не желает видеть никого — ни мужчин, ни женщин. — Но нас он допустит к себе, мы привезли ему важный новости. Ступай к своему хозяину и доложи, что здесь госпожа Хармиана с вестями от его военачальников. Евнух ушел, но скоро вернулся. — Мой господин Антоний желает знать, дурные это вести или добрые, ибо с дурными он вас к себе не пустит, слишком их много было за последние дни, с него довольно. — Одним словом не скажешь — наши вести и добрые, и дурные. Отопри дверь, раб, я сама буду говорить с твоим хозяином! — И Хармиана просунула через прутья решетки тяжелый кошелек с золотом. — Что же с вами делать, — проворчал он, беря кошелек, — времена сейчас тяжелые, а грядут и того тяжелее; чем кормиться шакалу, когда льва убьют? Добрые вести или дурные — мне все равно, лишь бы вам удалось выманить благородного Антония из этой обители стенаний. Ну вот, я отпер дверь, ступайте по этому коридору в столовую. Мы вошли и оказались в узком коридоре, евнух принялся возиться с запорами и задвижками, а мы двинулись вперед и наконец оказались перед занавесом. Подняли его и вступили в сводчатое помещение, тускло освещенное через оконца в потолке. В дальнем углу этой пустой комнаты лежали друг на друге несколько ковров, и на этом ложе сидел, скорчившись, мужчина, лицо его было скрыто складками тоги. — Благороднейший Антоний, — произнесла Хармиана, приближаясь к нему, — открой свое лицо и выслушай меня, ибо я принесла тебе вести. Он поднял голову. Его лицо было искажено страданьем; поседевшие взлохмаченные волосы падали на глаза, из которых глядела пустота, подбородок оброс седой колючей щетиной. Одежда мятая, грязная, вид жалкий, точно у нищего возле храмовых ворот. Вот до чего довела любовь Клеопатры блистательного, прославленного Антония, которому некогда принадлежала половина мира! — Зачем ты тревожишь меня? — спросил он. — Я хочу умереть здесь в одиночестве. Кто этот человек, пришедший посмотреть на сломленного опозоренного Антония? — Благородный Антоний, это Олимпий, знаменитый врач, великий прорицатель судеб, о котором ты много слышал и которого Клеопатра, неустанно пекущаяся о твоем благе, хоть ты и безразличен к ее скорби, прислала, чтобы он помог тебе. — И что же, этот твой врач может исцелить горе, постигшее меня? Его снадобья вернут мне мои галеры, честь, спокойствие души? Прочь с моих глаз, я не желаю видеть никаких врачей! Что ты за вести привезла мне? Ну же, скорее! Может быть. Канидий разбил цезаря? Скажи, что это так, и я подарю тебе царство, клянусь! А если к тому же погиб Октавиан, ты получишь двадцать тысяч систерций в придачу. Говори же… нет, молчи! За всю мою жизнь я ничего так не боялся, как слова, которое ты сейчас произнесешь. Что, колесо Фортуны повернулось и Канидий победил? Ведь верно? Ну, не томи же меня, это нестерпимо! — О благородный Антоний, — начала она, — обрати свое сердце в сталь, дабы выслушать вести, которые я привезла! Канидий в Александрии. Он прибыл издалека и не медлил в пути, и вот что сообщил нам. Семь долгих дней дожидались легионы, когда прибудет к ним Антоний и, как в былые времена, поведет в победоносный бой, и никто из твоих солдат даже слушать не хотел посланников цезаря, которые сманивали их на свою сторону. Но Антония все не было. И тогда поползли слухи, что Антоний бежал на Тенар, следуя за Клеопатрой. Первого, кто принес в лагерь это известие, легионеры, пылая негодованием, избили до смерти. Но слух упорно распространялся, и скоро твои люди перестали сомневаться, что тот несчастный говорил правду; и тогда, Антоний, центурионы и легаты стали один за другим переходить на сторону цезаря, а вместе с военачальниками и их солдаты. Но это еще не все: твои союзники — царь Мавритании Бокх, правитель Киликии Таркондимот, царь Коммагены Митридат, правитель Фракии Адалл, правитель Пафлагонии Филадельф, правитель Каппадокии Архелай, иудейский царь Ирод, правитель Галатии Аминт, правитель Понта Полемон и правитель Аравии Мальх — все до единого бежали либо приказали своим военачальникам вернуться с войсками домой, и уже сейчас их послы пытаются снискать расположение сурового цезаря. — Ну что, ворона в павлиньих перьях, ты кончила каркать или твой зловещий голос будет еще долго меня терзать? — спросил раздавленный вестями Антоний и отнял от посеревшего лица дрожащие руки. — Ну продолжай же, скажи, что прекраснейшая в мире женщина, царица Египта, умерла; что Октавиан высадился у Канопских ворот; что мертвый Цицерон и с ним все духи Аида кричат о гибели Антония! Да, собери все беды, что могут поразить великих, которым некогда принадлежал мир, и обрушь их на седую голову того, кого ты, в своей лицемерной учтивости, по-прежнему изволишь именовать «благородным Антонием!» — Я все сказала, о господин мой, больше ничего не будет. — Да, ты права, не будет ничего! Это конец, конец всему, осталось сделать лишь последнее движение! — И он, схватив с ложа свой меч, хотел вонзить его себе в сердце, но я быстрее молнии метнулся к нему и перехватил руку. В мои расчеты не входило, чтобы он скончался сейчас, ибо умри он, Клеопатра тотчас же заключила бы мир с цезарем, а цезарь хотел не столько покорить Египет, сколько убить Антония. — Антоний, ты обезумел, неужто ты стал трусом? — вскричала Хармиана. — Ты хочешь бежать от своих бед в смерть и возложить все бремя горестей на плечи любящей тебя женщины — пусть она одна несет за все расплату? — А почему нет, Хармиана, почему бы нет? Ей не придется долго быть одной. Цезарь разделит ее одиночество. Октавиан хоть и суров, но любит красивых женщин, а Клеопатра все еще прекрасна. Ну что ж, Олимпий, ты удержал мою руку и не позволил умереть, дай же мне в своей великой мудрости совет. Значит, ты считаешь, что я, триумвир, дважды занимавший пост консула, бывший властелин всех царств Востока, должен сдаться цезарю и идти пленником во время его триумфального шествия по улицам Рима, того самого Рима, который столько раз восторженно рукоплескал мне, триумфатору? — Нет, мой благородный повелитель, — ответил я. — Если ты сдашься, ты обречен. Вчера всю ночь я наблюдал звезды, пытаясь прочесть твою судьбу, и вот что я увидел: когда твоя звезда приблизилась к звезде цезаря, свет ее начал бледнеть и наконец совсем померк, но лишь только она вышла из области сияния цезаревой, она стала разгораться все ярче, все лучистей и вскоре сравнялась с ней по величине. Поверь, не все потеряно, и пока сохраняется хоть крошечная часть, можно вернуть целое. Можно собрать войска и удержать Египет. Цезарь пока бездействует; его войска не приближаются к воротам Александрии, и, может быть, с ним удастся договориться. Лихорадка твоих мыслей передалась твоему телу; ты болен и не способен сейчас судить здраво. Вот, смотри, я привез снадобье, которые тебя излечит, ведь я весьма сведущ в искусстве врачевания. — И я протянул ему фиал. — Ты сказал — снадобье?! — закричал он. — Это не снадобье, а яд, а сам ты — убийца, тебя подослала коварная Клеопатра, она хочет избавиться от меня, ведь я ей теперь не нужен. Голова Антония в обмен на мир с Октавианом — она пошлет ее цезарю, она, из-за которой я потерял все! Давай твое снадобье. Пусть это эликсир смерти, — клянусь Вакхом, я выпью его до последней капли! — Нет, благородный Антоний, это не яд, а я не убийца. Я сам выпью глоток, если желаешь, смотри. — И я пригубил снадобье, которое обладает способностью вливать силы в кровь людей. — Давай же, врач. Тем, кто дошел до последней черты отчаяния, не страшно ничего. Пью!.. Боги, что это? Ты дал мне чудодейственный напиток! Все мои беды рассеялись, словно налетел южный ветер и унес грозовые тучи; сердце ожило, точно пустыня весной, в нем расцвела надежда! Я — прежний Антоний, я снова вижу, как сверкают на солнце копья моих легионов, я слышу подобный грому рев — это войска, мои войска приветствуют Антония, своего любимого полководца, который едет в сверкающих доспехах вдоль нескончаемых шеренг! Нет, нет, не все потеряно! Судьба переменится! Я еще увижу, как с сурового лба цезаря — того самого цезаря, который никогда не ошибается, разве что ему выгодно совершить ошибку, — будет сорван лавровый венок победителя и как этот лоб навеки увенчается позором! — Ты прав! — вскричала Хармиана. — Конечно, судьба переменится, но ты должен вести себя как подобает мужчине! О господин мой, вернись со мною во дворец, вернись в объятья любящей тебя Клеопатры! По всем ночам она лежит без сна на своем золотом ложе, и темнота покоя, рыдая, зовет вместе с ней: «Антоний!», а Антоний отгородился от мира своим горем, забыл и свой долг, и свою любовь! — Я еду, еду! Как мог я усомниться в ней? Позор мне! Раб, принесли воды и пурпурное одеянье — в таком виде я не могу предстать пред Клеопатрой. Сейчас я вымоюсь, переоденусь — и к ней, к ней! Вот так мы убедили Антония вернуться к Клеопатре, чтобы вернее погубить обоих. Все трое прошли мы через Алебастровый Зал в покои Клеопатры, где она лежала на золотом ложе в облаке своих волос и нескончаемо лила слезы. — Моя египтянка! — воскликнул он. — Я у твоих ног, взгляни! Она соскочила с ложа. — Неужели это ты, любимый мой? — залепетала она. — Ну вот, опять все хорошо. Иди ко мне, забудь свои тревоги в моих объятьях, обрати мое горе в радость. О мой Антоний, пока мы любим друг друга, нет никого на свете счастливее нас! И она упала ему на грудь и страстно поцеловала. В тот же день ко мне пришла Хармиана и попросила приготовить сильный смертельный ад. Я сначала отказался, испугавшись, что Клеопатра хочет отравить им Антония, а время для этого еще не наступило. Но Хармиана объяснила, что мои опасения напрасны, и рассказала, для какой цели этот ад предназначен. Поэтому я призвал Атуа, столь сведущую в свойствах трав и растений, и несколько часов мы с ней трудились, готовя смертоносное зелье. Когда оно было готово, снова пришла Хармиана с венком из только что срезанных роз и попросила меня погрузить венок в зелье. Я сделал, как она велела. В тот вечер на пиру, который устроила Клеопатра, я сидел возле Антония, а Антоний сидел рядом с ней, и на голове его был отравленный венок. Пир был роскошный, вино лилось рекой, и наконец Антоний и царица развеселились. Она рассказывала ему о том, какой план она придумала: ее галеры сейчас стягиваются в Героополитанский залив по каналу, который прорыт от Бубастиса, что на Пелузийском рукаве Нила. Она решила, что если цезарь не пойдет на уступки, они с Антонием, забрав все ее сокровища, спустятся в Аравийский залив, где у цезаря нет флота, и найдут убежище в Индии, куда враги не смогут за ними последовать. Но этот ее замысел не осуществился, потому что арабы из Петры сожгли галеры, получив известие о планах Клеопатры от живущих в Александрии иудеев, которые ненавидели Клеопатру, а Клеопатра ненавидела их. Это я сообщил иудеям о том, что она задумала. И вот сейчас, во время пира, посвятив Антония в своих намерения, царица попросила его выпить с ней за успех, но сначала пусть он опустит в свою чашу розовый венок, чтобы вино стало еще слаще. Антоний снял венок и опустил в чашу, она подняла свою. Он тоже поднял, но вдруг она схватила его за руку, вскрикнула: «Подожди!», и он в удивлении замер. Нужно сказать, что среди слуг Клеопатры был управитель, которого звали Евдосий; и этот Евдосий, убедившись, что счастье изменило Клеопатре, задумал в ту самую ночь перебежать к цезарю, как уже переметнулись многие и поважнее его, причем заранее украл все, что можно было украсть во дворце из дорогих вещей, и припрятал, чтобы захватить с собой. Но Клеопатра прознала о замысле Евдосия и решила достойно наказать изменника. — Евдосий, — позвала она его, ибо управитель стоял неподалеку, — подойди к нам, наш верный слуга! Взгляни на этого человека, благороднейший Антоний: он остался нам верен невзирая на все превратности нашей судьбы, всегда поддерживал нас. И потому он будет награжден согласно его заслугам и преданности из твоих собственных рук. Дай ему эту золотую чашу с вином, пусть он выпьет за наш успех, а чашу примет как, наш дар. Все еще ничего не понимая, Антоний протянул управителю чашу, и тот, дрожа всем телом, ибо совесть его была нечиста и он испугался, взял ее. Но пить не стал. — Пей! Пей же, раб! — вскричала Клеопатра, приподнимаясь со своего ложа и впиваясь в его побледневшее лицо зловещим взглядом. — Клянусь Сераписом, если ты посмеешь пренебречь вниманием своего господина Антония, я прикажу высечь тебя и превратить в кусок кровавого мяса, а потом вылью на твои раны это вино вместо целебной примочки, — это так же верно, как то, что я победительницей войду в Капитолий в Риме! Ага, ты все-таки выпил! О, что с тобою, преданный Евдосий? Тебе дурно? Наверно, это вино похоже на ту воду иудеев, что убивает предателей и придает силы честным. Эй, кто-нибудь, обыщите его комнату: мне кажется, он замыслил недоброе! Управитель стоял, стиснув голову руками. Вот по телу его пробежала судорога, он страшно закричал и упал наземь. Потом поднялся, раздирая руками грудь, точно хотел вырвать свое сердце. Лицо исказилось невыразимой мукой, его покрыла мертвенная бледность, на губах закипела пена, и он, шатаясь, двинулся туда, где возлежала Клеопатра и глядела на него, спокойно, зловеще улыбалась. — Ну что, изменник? Ты выпил свою чашу, — произнесла она. — теперь поведай нам, сладка ли смерть? — Подлая распутница! — прохрипел умирающий. — Ты отравила меня! Так умри ж и ты! — И он с пронзительным воплем кинулся на нее. Но она разгадала его намерение и с быстротой и легкостью тигрицы метнулась в сторону, он лишь вцепился в ее царскую мантию, пристегнутую огромным изумрудом, и сорвал. Евдосий рухнул на пол и стал кататься, ее пурпурная мантия обернулась вокруг него, но вот он наконец затих и умер, на лице застыла страшная гримаса боли, широко открытые глаза остекленели. — Раб умер в великолепных мучениях, — с презрительным смешком проговорила Клеопатра, — да еще меня хотел с собой увлечь. Смотрите, он сам надел на себя саван — мою мантию. Унесите его прочь и похороните в этой пелене. — Клеопатра, что все это значит? — спросил Антоний, когда стражи уносили труп. — Он выпил вино из моей чаши. Как понять твою жестокую шутку? — У меня была двойная цель, мой благородный Антоний. Нынешней ночью этот негодяй хотел бежать к Октавиану и унести с собой наши ценности. Что ж, я одолжила ему крылья, ибо если живым приходится идти, то мертвые летят. Но это еще не все: ты опасался, мой повелитель, что я отравлю тебя, не спорь, я это знаю. Теперь ты видишь, Антоний, как легко мне было бы убить тебя, если бы я захотела. Этот венок из роз, который ты опустил в чашу с вином, был покрыт сильнейшим ядом. И пожелай я твоей гибели, разве остановила бы я твою руку? О Антоний, молю тебя: верь мне всегда! Для меня один-единственный волосок с твоей любимой головы дороже моей жизни. Ну вот, вернулись слуги. Говорите, что вы нашли? — Великая царица Египта, осмотрев комнату Евдосия, мы обнаружили, что он приготовился бежать и что в его вещах много разных ценностей. — Слышали? — спросила она, зловеще улыбаясь. — Теперь вы знаете, мои верные слуги, что предавать Клеопатру безнаказанно никому не удается. Пусть судьба этого римлянина послужит вам уроком. В пиршественном зале воцарилась мертвая тишина, Антоний тоже сидел и молчал.
Глава 29
Повествующая о беседах ученого Олимпия с жрецами и правителями в Мемфисе; о том, как Клеопатра отравила своих слуг; как Антоний говорил со своими легатами и центурионами и о том, как великая богиня Исида навек покинула страну Кемет.Я должен спешить, у меня осталось совсем мало времени, я не успею рассказать все, о чем хотел поведать в этой повести, лишь коротко опишу главное. Мне уже объявили, что дни мои сочтены и скоро, скоро я предстану перед великим судом. Итак, после того, как мы выманили Антония из Тимониума, наступило тягостное затишье, подобное тому, которое сметают налетающие из пустыни ветры. Антоний и Клеопатра продолжали тратить безумные деньги на роскошь, каждый вечер устраивали во дворце великолепные пиры. Они отправили своих послов к цезарю, но цезарь послов не принял; и когда надежда на заключение мира исчезла, они стали готовить защиту Александрии. Строили суда, вербовали солдат, собрали огромное войско, готовое дать отпор цезарю. А я с помощью Хармианы начал последние приготовления, чтобы свершилась месть, взлелеянная ненавистью. Я проник во все хитросплетения дворцовых тайн, и все советы, которые я давал, несли лишь зло. Я убеждал Клеопатру, что нужно развлекать Антония и не позволять ему задумываться над постигшими их бедами, и потому она послушно топила его силы и энергию в изнеживающей роскоши и в вине. Я давал ему мои снадобья — снадобья, которые опьяняли его мечтами о счастье и о власти, но погружали в еще более глубокое отчаяние, когда после пробуждения наступало похмелье. Скоро он уже не мог спать без моих лекарств, а я всегда был подле него и настолько подчинил его ослабшую волю своей, что он уже был не способен что-то предпринять без моего одобрения. Клеопатра тоже стала очень суеверна и постоянно обращалась ко мне за помощью; я составлял ей прорицания, вернее, лжепророчества. Но это еще не все, я плел свою паутину везде, где только мог. Меня высоко почитали в Египте, ибо во время моего долгого отшельничества близ Тапе слава моя распространилась по всей стране. И потому ко мне приходили многие именитые люди, желая исцелиться от какого-нибудь недуга или же зная, как взыскан я милостями Антония и царицы, ибо в те смутные тревожные дни все пытались выведать, что можно, как обстоят дела в стране. Со всеми с ними я говорил уклончиво, незаметно вселяя недоверие к царице, многих вовсе отвратил от нее, но никто не мог бы уличить меня в злонамеренных речах и в подстрекательстве к измене. Клеопатра послала меня в Мемфис, чтобы я встретился там с верховными жрецами и с правителями и поручил им набрать в Верхнем Египте людей для пополнения войск, которые будут защищать Александрию. И я поехал туда и начал говорить перед верховными жрецами таким глубоким и тонким иносказанием, что они узнали во мне одного из посвященных в сокровенные таинства древних знаний. Но никто из них не мог понять, почему я, ученый врач Олимпий, вдруг оказался посвященным. Они стали окольными путями выведывать, как такое могло произойти, и тогда я сделал священный жест, который известен лишь членам братства и просил их не допытываться у меня, кто я такой, но выполнять мои повеления и не оказывать помощи Клеопатре. Нужно заручиться поддержкой цезаря, ибо только его благоволение может спасти наши храмы, иначе служение богам Кемета навсегда заглохнет. И вот после знамения, которое жрецы получили от божественного Аписа, они обещали мне на словах заверить Клеопатру, что окажут ей всяческую помощь, но в тайне от нее отправят посланцев к цезарю. Вот почему Египет не встал на защиту столь ненавистной ему царицы-гречанки. Из Мемфиса я вернулся в Александрию и, успокоив Клеопатру, сообщением, что Верхний Египет обещал ей поддержку, продолжал свои тайные козни. Жителей Александрии было очень легко в них вовлечь, недаром же народ наш сложил пословицу: «Ослу бы надо избавиться от хозяина, а он лишь хочет сбросить свою ношу». Да, слишком жестоко их угнетала Клеопатра, и потому они ждали римлян, как избавителей. А время между тем летело, и с каждым днем у Клеопатры оставалось все меньше и меньше друзей, ибо в беде наши друзья улетают, как ласточки перед сезоном дождей. Но Клеопатра хранила верность Антонию, которого по-прежнему любила, хотя как мне стало известно, цезарь через своего вольноотпущенника Тирея обещал ей, что оставит ей и ее детям прежние владения, если она убьет Антония или выдаст его живым. Но против этого бунтовало ее женское сердце, — ибо сердца она еще не лишилась, — к тому же мы с Хармианой всячески поддерживали этот бунт, нам во что бы то ни стало нужно было удержать его при ней, ведь если Антоний бежит или его убьют, Клеопатра еще может пережить надвигающуюся бурю и остаться царицей Египта. И душа моя скорбела, ибо хоть Антоний сейчас и растерялся, в нем еще оставалось довольно мужества, он был истинно великий человек; к тому же в его судьбе, как в зеркале, я видел отражение собственной гибели. Разве не роднило нас с ним общее несчастье? Разве не та же самая женщина украла у нас царство, друзей, честь? Но в политических делах нет места жалости, она не должна совлечь меня с пути мести, по которому меня направили высшие силы. Цезарь приближался; Пелузий пал; еще немного — и наступит развязка. Весть о падении Пелузия принесла царице и Антонию Хармиана, когда они почивали в самое знойное время дня в покое, где был фонтан; я пришел туда вместе с ней. — Проснись! — закричала Хармиана. — Проснитесь, не время спать! Селевк сдал цезарю Пелузий, цезарь со своими войсками идет на Александрию! С уст Антония сорвалось проклятье, он вскочил с ложа и стиснул рукой плечо Клеопатры. — Ты предала меня, клянусь богами! Теперь расплачивайся за свою измену! — Он выхватил из ножен меч и занес над ней. — Антоний, опусти свой меч! — взмолилась она. — зачем ты меня винишь в измене, я ничего не знала! — Она бросилась ему на грудь и, рыдая, крепко обняла. — О повелитель мой, поверь, я ничего не знала! Возьми жену Селевка и его маленьких детей, которых я держу под стражей, и отомсти. Антоний, мой Антоний, как можешь ты сомневаться во мне? Антоний швырнул меч на мраморный пол, упал на ложе, уткнулся лицом в подушки и от безысходности застонал. Зато Хармиана улыбнулась, ибо никто иной, как она тайно посоветовала Селевку, с которым была в доброй дружбе, сдаться без боя, заверив, что Александрия сопротивляться не будет. В ту же ночь Клеопатра собрала весь свой огромный запас жемчуга и те изумруды, что остались от сокровища Менкаура, все золото, эбеновое дерево, слоновую кость, корицу — несметные, бесценные богатства — и приказала перенести все в гранитный мавзолей, который, по египетскому обычаю, построила для себя на холме возле храма богини Исиды. Все эти сокровища она сложила на снопы льна, которые в случае надобности подожжет — пусть все погибнет в пламени, лишь бы не досталось алчному Октавиану. И стала после этого ночевать в гробнице без Антония, одна, но день проводила с ним во дворце. Недолгое время спустя, когда цезарь со всем своим могучим войском уже переправился через Канопский рукав Нила и подступал к Александрии, Клеопатра приказала мне явиться во дворец, и я пришел к ней. Она была в Алебастровом Зале, одетая в свой парадный церемониальный наряд, ее глаза горели, точно у безумной, с ней были Ирада и Хармиана, а также ее телохранители; на мраморном полу валялось несколько трупов, один из мужчин был еще жив. — Приветствую тебя, Олимпий! — воскликнула она. — Вот зрелище, которое должно наполнить сердце врача радостью, — одни умерли, другие умирают! — Что ты делаешь, царица? — в испуге спросил я. — Ты спрашиваешь, что я делаю? Творю правосудие над этими изменниками и преступниками, а заодно, Олимпий, знакомлюсь с повадками Смерти. Я приказала дать этим рабам шесть разных ядов, а потом внимательно наблюдала, как они действуют. Вот этот — она указала на нубийца, — потерял рассудок, начал тосковать о своих родных пустынях и о матери. Дурачок, ему представилось, что он опять ребенок, он звал мать и умолял ее прижать его к своей груди и защитить от тьмы, которая к нему подкрадывается. Грек кричал и кричал, пока не умер. А вот этот трус лил слезы, молил сжалиться над ним, спасти от смерти. Египтянин — видишь, он еще жив и стонет, — выпил яд первым, причем мне клялись, что это самый сильный яд, и представляешь — презренный так пламенно любит жизнь, что никак не может с ней расстаться! Смотри, он все пытается извергнуть из себя яд; я дала рабу второй кубок, а ему все мало. Сколько же надо, чтобы его убить, — бочку? Глупец, глупец, неужто ты не знаешь, что только в смерти мы обретаем покой? Перестань цепляться за жизнь, тебя ждет отдохновение. — И едва она произнесла эти слова, несчастный пронзительно вскрикнул и испустил дух. — Ну вот, наконец-то фарс кончился! — воскликнула она. — Я втолкнула этих рабов в царство радости через разные ворота. Убрать! — И она хлопнула в ладоши. Но когда слуги унесли трупы, она приблизилась ко мне и вот что сказала: — Олимпий, ты предсказываешь нам счастливый исход, но я-то знаю: конец наш близок. Цезарь победит, я и мой повелитель Антоний обречены. Драма земной жизни сыграна, и я должна покинуть сцену как подобает царице. Мне надо подготовиться, и потому я испытывала сейчас действие этих ядов — ведь скоро мне самой придется пережить все те страдания, которым я сегодня подвергла злосчастных слуг. Эти зелья мне не подходят: одни причиняют слишком мучительную боль, отторгая душу от тела, другие убивают невыносимо медленно. Но ты искусен в приготовлении смертельных ядов. Составь же мне такой, чтобы погасил мою жизнь мгновенно и без боли. В мое опустошенное горем сердце хлынуло торжество: теперь я знал, что эта обреченная женщина погибнет от моей руки и что моей рукой свершится правосудие богов. — Повеление, достойное царицы, о Клеопатра! — ответил я. — Смерть исцелит твои недуги, а я сделаю тебе вино, ты его выпьешь, и Смерть тотчас же примет тебя в объятья, точно любящая мать, и уплывет с тобою в море сна, от которого ты никогда уже на этой земле не пробудишься. О царица, не страшись Смерти: Смерть сулит надежду, и я уверен, что ты предстанешь пред грозным судом богов безгрешной и с чистым сердцем. Она содрогнулась. — А если сердце не вполне чисто, скажи мне, о таинственный Олимпий, что ждет меня тогда? Но нет, я не боюсь богов! Ведь если карающие боги — мужчины, я сумею их победить. Я была царица в жизни, останусь ей вовек и после смерти. В тот миг у дворцовых ворот раздался громкий шум, послышались радостные клики. — Что там такое? — спросила она, быстро вставая с ложа. — Победа! Победа! — ширился крик. — Антоний победил! Она как птица полетела навстречу ему, длинные волосы подхватил ветер. Я устремился за ней, но так быстро бежать не мог, я миновал тронный зал, дворцовый двор, вон наконец ворота. В них как раз въезжал Антоний с ликующей улыбкой, в сверкающих римских доспехах. Увидев Клеопатру, он спрыгнул с коня и, как был, в полном боевом снаряжении, прижал ее к груди. — Рассказывай скорее! — воскликнула она. — Ты разбил цезаря? — Нет, не совсем, моя египтянка, но мы отогнали его конницу к самому лагерю, а это добрый знак, теперь уж мы не отступим — недаром я люблю пословицу: «Славное начало — славный конец». Но это еще не все, я вызвал цезаря на поединок, и если он со мною встретится лицом к лицу с оружием в руках, то мир увидит, кто сильнее — Антоний или Октавиан. Его слова потонули в ликующих криках, но в это время мы услышали: «Посланец цезаря!» Гонец вошел, и низко поклонившись, протянул Антонию письмо, снова отдал поклон и удалился. Клеопатра выхватила письмо из рук Антония, сорвала шелковый шнурок и вслух прочла: — «Цезарь — Антонию. Приветствую тебя. Вот мой ответ на твой вызов: неужели Антоний не мог придумать более достойной смерти, чем от меча цезаря? Прощай!» Больше не раздалось ни одного радостного возгласа. Настал вечер, Антоний пировал с друзьями, которые сегодня так искренне скорбели о его поражениях, а завтра им предстояло его предать. Незадолго до полуночи он вышел к собравшимся перед дворцом военачальникам легионов, конницы и флота, среди которых был и я. Они окружили его, а он снял шлем и, озаренный светом луны, торжественно заговорил: — Друзья, соратники, хранящие мне верность, к вам обращаюсь я! Я столько раз вас приводил к победе, а завтра вы, может быть, бесславно ляжете навеки в немую землю. Вот что мы решили: довольно нам плыть по течению войны, мы ринемся навстречу волнам и вырвем из рук врага венец победителя, а если судьба того не пожелает, пойдем на дно. Если вы не оставите меня, не предадите свою честь, у вас есть еще надежда занять места по правую руку от меня в римском Капитолии, и все будут с завистью взирать на вас. Но если вы сейчас измените мне и Антоний проиграет — проиграете вместе с ним и вы. Да, много крови прольется в завтрашнем сражении, но мы столько раз одерживали верх и над более грозным противником, мы разметали войско за войском, точно пески пустыни, ни один враг не мог противостоять натиску наших победоносных легионов, и солнце еще не успевало сесть, а мы уже делили отнятые у царей богатства. Чего же нам бояться теперь? Да, наши союзники бежали, но ведь наша армия не слабее цезаревой! И если мы будем биться столь же доблестно, клянусь вам моим словом императора: завтра вечером я украшу Канопские ворота головами Октавиана и его военачальников! Да, да, ликуйте! Как я люблю эти воинственные клики, они словно вырываются из сердец, объединенных преданностью Антонию, разве их сравнишь со звуками фанфар, которым все равно, в чью славу трубить — Антония ли, Цезаря. Но довольно, друзья, сейчас поговорим тихо, как над могилой дорогого нам усопшего. Слушайте же: если Фортуна все-таки отвернется от меня, если солдат Антоний не сможет одолеть напавших на него и умрет смертью солдата, оставив вас скорбеть о том, кто был всегда вашим другом, я, по суровому обычаю воинов, сейчас объявлю вам мою волю и завещаю выполнить ее. Вы знаете, где спрятаны мои сокровища. Возьмите их, любимые друзья, и честно разделите между собой на память об Антонии. Потом идите к Цезарю и так ему скажите: «Мертвый Антоний приветствует живого цезаря и во имя прежней дружбы и в память о тех боях, когда вы с ним сражались рядом, за одно и то же дело, просит проявить великодушие к тем, кто остался ему верен до конца, и не отнимать его даров». Я не могу сдержать слез, но вам не подобает плакать. Перестаньте, ведь это слабость, ведь вы мужчины! Мы все умрем, и смерть была бы счастьем, если бы не обнажала наше беспощадное одиночество. Прошу вас, позаботьтесь о моих детях, если я погибну, — ведь может так случиться, что они останутся совсем беспомощны. Все, солдаты, довольно! Завтра на рассвете мы бросим все наши силы на цезаря на суше и на море. Поклянитесь, что будете верны мне до последнего! — Клянемся! — воскликнули они. — Клянемся, благороднейший Антоний! — Благодарю! Моя звезда еще снова засияет; завтра она поднимется высоко в небе и, быть может, затмит звезду цезаря. Итак, до утра, прощайте! Он повернулся и хотел уйти. Но потрясенные военачальники брали его за руку и целовали, многие плакали, как дети; Антоний тоже не мог совладать со своим горьким волнением, я видел при свете луны, как по его лицу с резкими складками текут слезы и падают на могучую грудь. В сердце у меня зашевелилась тревога. Я хорошо знал, что если эти люди сохранят преданность Антонию, беда вполне может миновать Клеопатру; и хоть я не питал к Антонию зла, но он был обречен, он должен погибнуть и увлечь за собой женщину, которая, подобно ядовитому растению, обвилась вокруг этого гиганта и выпила всю его силу, задушила в своих объятиях. И потому, когда Антоний ушел, я остался, лишь отступил в тень и принялся внимательно изучать лица его военачальников. — Итак, все решено! — произнес командующий флотом. — Мы все до одного клянемся стоять за благородного Антония до конца, как бы ни повернулась Судьба! — Клянемся! И выполним нашу клятву! — подхватили остальные. — Да, выполните свою клятву! — сказал я, не выходя из тени. — Стойте за благородного Антония до конца, и всех вас постигнет смерть! Они кинулись ко мне и в ярости схватили. — Кто он такой? — вскричал один из них. — Презренный пес Олимпий! — отвечал другой. — Олимпий, злой волшебник! — Предатель! — раздался возглас. — Убьем его, пусть сгинут его злые чары! — И тот, кто это крикнул, выхватил свой меч. — Да, убей его! Он должен исцелять благородного Антония от недугов, а сам хочет предать его! — Остановитесь! — приказал я властно и торжественно. — Не в вашей власти убить того, кто служит богам. Я не предатель. Я сам останусь здесь, в Александрии, но вам я говорю: бегите, переходите на сторону цезаря! Я служу Антонию и царице — служу им со всей верностью и преданностью; но еще более преданно я служу великим богам; и то, что они мне открыли, благородные господа, ведомо лишь мне. Но я вас посвящу в божественное откровение: Антоний погибнет, погибнет Клеопатра, победа суждена цезарю. И потому, благородные воины, я говорю вам, ибо высоко чту вас и преисполнен жалости к вашим женам, над которыми нависла печальная участь вдов, и к вашим детям, которые будут проданы в рабство, если останутся сиротами, — я говорю вам: если вы решили хранить верность Антонию и умереть — умрите; но если вам дорога жизнь — идите к цезарю! Так определили боги, я лишь передал вам предначертанное ими. — Боги! Что нам твои боги? — в ярости закричали они. — Перережьте предателю горло, довольно нам его зловещих предсказаний! — Пусть явит нам знамение своих богов, иначе ему смерть: я не верю этому колдуну! — Отойдите прочь, глупцы! — потребовал я. — Освободите мои руки и прочь, подальше от меня, я покажу вам священное знамение. — И такое было у меня в тот миг лицо, что они испугались, выпустили меня и отступили на несколько шагов. А я — я воздел к небу руки и, сосредоточив все силы свой души в едином порыве, устремил их в просторы вселенной, и вот мой дух встретился там с духом священной матери Исиды. Но я не произнес Великое Заклинание, ибо мне это было запрещено. И державная владычица миров и тайн ответила на мой призыв: леденящее кровь безмолвие возвестило, что она летит к земле. Это страшное безмолвие вязко сгущалось, даже собаки перестали лаять, а люди в городе замерли, охваченные ужасом. Но вот где-то вдали послышалось тихое бряцание систр. Сначала оно лишь призрачно овеяло нас, но, приближаясь, стало набирать силу, мощь, вот самый воздух задрожал от грозных, неведомых земле звуков. Я ничего не говорил, лишь указал рукой не небо. Там, в вышине, парило окутанное покрывалом божество, оно медленно плыло к нам в нарастающем громе систр, вот тень его упала на нас… Божество приблизилось, проплыло мимо и стало удаляться в сторону цезарева лагеря, музыка замерла вдали, вызвавший благоговейный ужас образ растаял в ночном небе. — Это Вакх! — воскликнул кто-то из военачальников. — Вакх покинул Антония, Антоний обречен! У всех вырвался вопль ужаса. Но я-то знал, что это был не римский лжебог Вакх, а наша божественная покровительница Исида, она сейчас покинула Кемет и, миновав бездну, разделявшую миры, устремилась в просторы вселенной, где будет жить, забытая людьми. Да, Исиде продолжают еще поклоняться в Египте, она по-прежнему здесь, на земле, как и во всех других мирах, но наши призывания к ней безответны. Я закрыл лицо руками и стал молиться, а когда опустил руки и посмотрел вокруг, увидел, что военачальники Антония ушли и я один.
Глава 30
Повествующая о том, как войско и флот Антония сдались цезарю у Канопских ворот; о том, как благородный Антоний умер и как Гармахис приготовил смертельный яд.На рассвете Антоний приказал своему огромному флоту двинуться против флота цезаря, а своей многочисленной коннице устремиться на цезареву конницу. Выстроенные в три линии суда поплыли навстречу судам цезаря, которые уже готовились принять бой. Но когда два флота сблизились, галеры Антония подняли весла в знак приветствия, присоединились кгалерам цезаря, и оба флота уплыли вместе прочь. В это время из-за Ипподрома показалась голова конницы Антония, мчавшейся на конницу цезаря, но, встретившись с ней, воины Антония опустили мечи и перешли в стан цезаря — и они тоже покинули Антония. Антоний обезумел от ярости, на него было страшно смотреть. Он закричал своим легионам, чтобы они не смели отступать и ждали боя; и легионы остались на месте. Однако вскоре один из легатов — тот самый, который вчера вечером хотел убить меня, — попытался незаметно ускользнуть; но Антоний схватил его, швырнул на землю и, соскочив с коня, выхватил из ножен меч и хотел убить. Он высоко занес меч, а легат закрыл лицо руками, ожидая смерти. Но вдруг Антоний опустил свой меч и приказал легату встать. — Иди! — сказал он. — Иди к цезарю и благоденствуй! Я любил тебя когда-то. Почему же из всех бесчисленных предателей я должен убить одного тебя? Легат поднялся и горестно посмотрел на Антония. Его жег стыд, он с громким криком сорвал с себя панцирь, вонзил в грудь меч и упал мертвый. Антоний стоял и глядел на него, но так и не произнес ни слова. А колонны цезаря тем временем подступали все ближе, и едва они взметнули копья, как легионы Антония бросились бежать. Солдаты цезаря остановились, провожая их издевательским хохотом; они не устремились им вдогонку, никто из воинов Антония не был убит. — Беги, мой повелитель, беги! — вскричал приближенный Антония Эрос, который один из всего войска остался вместе со мной подле него. — Беги, иначе тебя схватят и поведут пленником к цезарю! У Антония вырвался тяжкий стон, он повернул коня и поскакал к городу. Я за ним, и когда мы въезжали в Канопские ворота, где собралась огромная толпа любопытных, Антоний сказал мне: — Теперь оставь меня, Олимпий; езжай к царице и скажи: «Антоний приветствует Клеопатру, предавшую его! Желает здравствовать и радоваться и прощается навек!» Я двинулся к мавзолею, Антоний же во весь опор помчался во дворец. У мавзолея я спешился и постучал в дверь, в окно выглянула Хармиана. — Впусти меня! — крикнул я, и она отперла засовы. — Какие новости, Гармахис? — шепотом спросила она. — Хармиана, конец близок, — ответил я. — Антоний бежал. — Слава богам! Я истомилась от ожидания. Клеопатра сидела на своем золотом ложе. — Скорее, говори! — приказала она. — Антоний бежал, его войска бежали, цезарь подходит к Александрии. Великий Антоний приветствует Клеопатру и прощается с ней. Желает здравствовать и радоваться Клеопатре, предавшей его, и прощается навек. — Ложь! — крикнула она. — Я не предавала его! Олимпий, скачи к Антонию и передай ему: «Клеопатра, которая никогда не предавала Антония, приветствует его и прощается навек. Клеопатра умерла». И я поехал исполнять ее повеление, ибо все шло как я задумал. Антония я нашел в Алебастровом Зале, он метался по нему, как тигр в клетке, вскидывал руки к небу; с ним был один лишь Эрос, ибо все остальные слуги покинули этого гибнущего властелина. — Мой благородный повелитель Антоний, — проговорил я, — царица Египта прощается с тобой. Она рассталась с жизнью по своей воле. — Умерла? Царица умерла? — прошептал он. — Моей египтянки больше нет? И это прекраснейшее в мире лицо и тело станут добычей червей? О, она была истинная женщина и царица! Мое сердце разрывается от любви к ней. Неужто в ней больше силы духа, чем во мне, чья слава некогда гремела по всему свету; неужто я так низко пал, что женщина в своем царственном величии первой ушла туда, куда я страшусь за ней последовать? Эрос, ты с детства предан мне, ты помнишь, как я нашел тебя в пустыне, где ты умирал от голода, как я возвысил тебя, даровал богатства? Теперь спаси меня ты. Возьми свой меч и пресеки страдания Антония. — Нет, повелитель, не могу! — воскликнул грек. — Разве у меня поднимется рука убить богоподобного Антония? — Ни слова, Эрос, в этот страшный час я вверяю мою судьбу тебе. Повинуйся или уйди прочь, я останусь один. Предатель, я не желаю больше тебя видеть! Тогда Эрос выхватил свой меч, а Антоний упал перед ним на колени и, сорвав панцирь, поднял глаза к небу. Но Эрос крикнул: «Нет, не могу!», вонзил меч в собственное сердце и рухнул на пол мертвый. Антоний медленно встал на ноги, не отрывая от него глаз. — О Эрос, как благородно ты поступил, — тихо произнес он. — Какое величие души, какой урок ты преподал мне! — Он опустился на колени и поцеловал умершего. Потом вскочил, вырвал меч из сердца Эроса, вонзил себе в живот и со стоном повалился на ложе. — О Олимпий, — воскликнул он, — мне больно, невыносимо больно! Положи конец этой муке, Олимпий! Но я не мог его убить, меня переполняла жалость. И потому я осторожно извлек из него меч, остановил льющуюся кровь, прогнал любопытных, которые сгрудились у входа в зал смотреть, как будет умирать Антоний, и велел им бежать в мой дом возле дворцовых ворот и привести Атуа. Атуа тотчас же явилась со своими травами и снадобьями, возвращающими жизнь. Я дал их Антонию и послал Атуа к Клеопатре, пусть поспешит на своих старых ногах к ней в мавзолей и расскажет об Антонии. Атуа пошла и спустя недолгое время вернулась и сказала нам, что царица еще жива и просит принести к ней Антония, он должен умереть в ее объятиях. Вместе с Атуа пришел и Диомед. Когда Антоний услышал весть, что принесла Атуа, силы вернулись к нему — так страстно он хотел еще раз увидеть Клеопатру. И вот я кликнул рабов — они выглядывали из-за занавеса и из-за колонн, уж очень им хотелось посмотреть, как умирает этот великий человек, — и мы бережно понесли Антония к мавзолею. Но Клеопатра боялась измены и больше не позволяла отпирать дверь; она спустила из окна веревку, и мы обвязали Антония под мышками. Рыдающая горькими слезами Клеопатра, Хармиана и гречанка Ирада изо всех сил стали тянуть веревку вверх, а мы поддерживали умирающего Антония снизу, и вот он наконец поднялся в воздух, из зияющей раны капала кровь, он хрипло стонал. Дважды он чуть не сорвался на землю. Но Клеопатра удержала его, ибо любовь и отчаяние удесятерили ее силы, вот он наконец возле окна, вот она втаскивает его внутрь; все, кто смотрел на это душераздирающее зрелище, давились слезами и били себя в грудь — все, кроме Хармианы и меня. Когда Антоний был уже внутри, Хармиана снова спустила веревку и стала держать, а я поднялся по ней и втянул ее за собой. Антоний лежал на золотом ложе Клеопатры, а она, вся в слезах, с обнаженной грудью, с разметавшимися в диком беспорядке волосами, стояла возле него на коленях и страстно целовала, отрываясь на миг, чтобы вытереть текущую из раны кровь своим одеянием или волосами. Мне стыдно, и все же я признаюсь: когда я стоял и глядел на нее, во мне проснулась прежняя любовь к ней, мое сердце чуть не разорвалось от ревности, ибо я был властен убить и его, и ее, но не в моей власти было убить их любовь. — О мой Антоний! Мой возлюбленный, мой муж, мой бог! — задыхаясь от рыданий, шептала она. — Как ты жесток, ты не пожалел меня и решил умереть один, оставить меня в моем позоре! Но я тотчас же последую за тобой в могилу. Очнись, Антоний мой, очнись! Он приподнял голову и попросил вина, в которое я подмешивал снадобье, утишающее боль, а он страдал невыносимо. Он выпил кубок и попросил Клеопатру лечь рядом с ним на ложе и обнять его; и она легла и обняла его. Теперь Антоний снова почувствовал себя мужчиной, он забыл свое бесславие и свою боль и принялся наставлять ее, что она должна делать, чтобы спасти себя, но она не стала его слушать. — У нас так мало времени, — прервала она его, — давай же будем говорить о нашей великой любви, которая длилась так долго и будет длиться бесконечно за чертой Смерти. Ты помнишь ночь, когда ты в первый раз обнял меня и сказал, что любишь? О, ночь невыразимого счастья! Если Судьба подарила человеку такую ночь, значит, он не зря прожил жизнь, пусть даже конец этой жизни так горек! — Да, моя египтянка, мне ли забыть эту ночь, она всегда со мной, хотя с той ночи Фортуна отвернулась от меня — я утонул в моей бездонной любви к тебе, прекраснейшая. О, я все помню! — шептал он. — Помню, как ты в своей безумной прихоти выпила жемчужину и как потом твой звездочет провозгласил: «Час наступает — час, когда на тебя падет проклятье Менкаура». Все эти годы его слова преследуют меня, даже сейчас, в эти последние мгновенья, они звучат в моих ушах. — Любимый мой, он давно умер, — прошептала она. — Если он умер, значит, он рядом со мной. Что означали его слова? — Этот презренный негодяй умер, зачем его вспоминать? О, милый, поцелуй меня, твое лицо бледнеет. Конец близок. Он поцеловал ее в губы долгим поцелуем, и до самого последнего мгновения они то целовались, то лепетали друг другу на ухо слова любви, точно влюбленные новобрачные. Мое сердце терзала ревность, но я завороженно глядел на них, исполненный неведомым волнением. Но вот я увидел, что на его лицо легла печать Смерти. Голова откинулась на ложе. — Прощай, моя египтянка, прощай! Я умираю… Клеопатра приподнялась на руках, безумным взглядом впилась в его серое, как пепел, лицо, дико вскрикнула и упала без чувств. Но Антоний был еще жив, хотя говорить уже не мог. Я приблизился к нему и, опустившись на колени, взял вино со снадобьем и поднял, как бы желая дать ему глоток. И в этот миг я прошептал ему на ухо: — Антоний, прежде чем полюбить тебя, Клеопатра была моей любовницей. Я — тот Гармахис, тот астролог, что стоял за твоим ложем в Тарсе. И это я погубил тебя. Умри, Антоний, на тебя пало проклятье Менкаура! Он поднял голову и в ужасе уставился мне в лицо. Он не мог вымолвить ни слова, с уст срывались лишь невнятные звуки, он протянул ко мне дрожащий перст. Потом протяжно застонал, и дух покинул его тело. Так я отомстил римлянину Антонию, который был когда-то властелином мира. Мы привели Клеопатру в чувство, ибо ее время умирать еще не пришло. Получив согласие цезаря, мы с Атуа поручили Антония заботам самых искусных бальзамировщиков, чтобы похоронить его по обычаям Египта, накрыли лицо золотой маской, которая в точности повторяла черты Антония. Я написал на груди мумии поверх пелен его имя и титулы, на внутренней крышке гроба его имя и имя его отца и нарисовал на ней богиню Нут, распростершую над мертвым свои охранительные крылья. Клеопатра повелела с великой пышностью отнести гроб в заранее приготовленную усыпальницу и опустить в алебастровый саркофаг. Саркофаг этот был необычно больших размеров, его вытесали для двух гробов, ибо Клеопатра решила упокоиться рядом с Антонием. И вот как развивались события дальше. Прошло немного времени, и я узнал о намерениях цезаря, мне сообщил о них один из приближенных Октавиана, римский патриций Корнелий Долабелла, который пленился красотой женщины, покоряющей сердца всех, кто хоть раз взглянул на нее, и пожалел Клеопатру в ее несчастьях. Он попросил меня предупредить ее — мне, как ее врачу, было позволено выходить из мавзолея, где она жила, и возвращаться к ней, — что через три дня ее отправят в Рим вместе с оставшимися в живых детьми, ибо Цезариона Октавиан уже убил, и все они пройдут в цепях по улицам Рима, который будет приветствовать триумфатора-цезаря. Я сразу же пошел к Клеопатре и увидел, что она, как и всегда теперь, сидит оцепенело в кресле, и на коленях у нее то платье, которым она вытирала кровь Антония. Она целыми днями глядела на эти пятна крови. — Смотри, Олимпий, как они выцвели, — сказала она, поднимая ко мне скорбное лицо и указывая на бурые разводы, — а он ведь только что умер! Даже благодарность живет дольше. Какие новости ты мне принес? Дурные, судя по выражению твоих больших темных глаз — они всегда тревожат меня каким-то смутным воспоминанием, но это воспоминание вечно ускользает. — Да, новости дурные, о царица, — ответил я. — Мне сообщил их Долабелла, а Долабелла узнал от секретаря цезаря. На третий день, считая от нынешнего, цезарь отправляет тебя, царевичей Птолемея и Александра, а также царевну Клеопатру в Рим, чтобы на вас глазела римская чернь, когда Октавиан под ее приветственные клики торжественно проследует к Капитолию, где ты клялась воздвигнуть свой трон. — Нет, никогда! — вскричала она, вскакивая с кресла. — Никогда я не пойду в цепях за колесницей цезаря-триумфатора! Что же мне делать? Хармиана, помоги, скажи, есть ли спасение? И Хармиана встала перед Клеопатрой, глядя на нее сквозь длинные опущенные ресницы. — Есть, о царица: ты можешь умереть, — тихо произнесла она. — Ах да, конечно, как же я забыла, ведь можно умереть! Олимпий, ты приготовил яд? — Нет, но если царица пожелает, завтра утром он будет к твоим услугам — яд, действующий столь быстро и надежно, что выпивших его даже боги не смогут пробудить от сна. — Ну что ж, готовь его, владыка Смерти. Я поклонился Клеопатре и покинул мавзолей; и всю ту ночь мы с Атуа трудились, готовя смертоносный яд. И вот он наконец готов, и Атуа наливает его в хрустальный фиал и подносит к огню светильника: жидкость прозрачна, как чистейшая вода. — Ах-ха! Питье, поистине достойное царицы! — пропела она своим пронзительным хриплым голосом. — Когда Клеопатра поднесет эту прозрачную воду, над которой я столько колдовала, к своим алым губам и выпьет пятьдесят капель, твоя месть свершится, о мой Гармахис! Ах, если бы я могла быть там, с тобой, и видеть, как погубившая тебя погибнет! Ах-ха! Какое сладостное зрелище! — Месть — это стрела, которая часто поражает того, кто ее выпустил, — ответил я, вспомнив слова произнесенные Хармианой.
Глава 31
Повествующая о последнем ужине Клеопатры; о том, как Хармиана пела ей прощальную песнь; как Клеопатра выпила смертельный яд; как Гармахис открыл ей свое имя; как вызвал перед нею духов из царства Осириса и о том, как Клеопатра умерла.Утром Клеопатра, получив согласие Октавиана, отправилась в усыпальницу Антония и долго плакала, сетуя, что боги Египта оставили ее. Поцеловала гроб, осыпала его цветами лотоса и, вернувшись, погрузилась в бассейн, после чего ее умастили благовониями, облекли в роскошнейший из ее нарядов, и вместе с Ирадой, Хармианой и со мной она села ужинать. Во время ужина она вдруг загорелась безудержным весельем — так порою ярко вспыхивает закатное небо; она опять смеялась, блистательно шутила, как в былые времена, рассказывала о пирах, которые устраивали они с Антонием. Никогда не была она столь прекрасной, как в тот последний роковой вечер перед свершением моей мести. И так случилось, что, вспоминая о пирах, она заговорила о том пире в Тарсе, когда растворила и выпила жемчужину. — Как странно, — сказала она, — как странно, что в последние минуты перед смертью из всех пиров Антоний вспомнил именно этот и повторил слова Гармахиса. Ты помнишь, Хармиана, того египтянина? — О да, царица, я его помню, — помедлив, ответила Хармиана. — А кто был этот Гармахис? — спросил я, ибо мне хотелось знать, хранит ли ее сердце печаль обо мне. — Я расскажу тебе. Странная тогда случилась история, но теперь, когда все счеты с жизнью кончены, ее можно рассказать, ничего не страшась. Этот Гармахис был потомок древних фараонов Египта по прямой линии, его тайно короновали на царство в Абидосе и послали сюда, в Александрию, возглавить могучий заговор, который составили египтяне, желая свергнуть нас, царственных Лагидов. Он приехал, проник во дворец и занял должность моего астролога, ибо обладал великими познаниями в древнем искусстве магии — как и ты, Олимпий, — и к тому же был удивительно красив. Он должен был убить меня и стать фараоном. Да, это был могущественный враг, ибо его поддерживал почти весь Египет, а у меня сторонников было мало. Но в ту самую ночь, когда ему надлежало осуществить свой замысел, за несколько минут до его прихода ко мне явилась Хармиана и рассказала о заговоре, тайна которого открылась ей случайно. Я ничего тебе не говорила, Хармиана, но очень скоро усомнилась, что ты и в самом деле узнала о заговоре случайно: клянусь богами, я уверена: ты любила Гармахиса и предала его из мести, потому что он тебя отверг, и по той же причине потом не захотела стать женой и матерью, а это противно природе женщины. Признайся, Хармиана, я угадала? Сейчас, когда в глаза нам глядит Смерть, можно признаваться во всем без боязни. Хармиана задрожала. — Да, это правда, о царица; я тоже принадлежала к заговорщикам, и когда Гармахис отверг мою любовь, я предала его; из-за моей великой любви к нему я осталась на всю жизнь одна. — Она взглянула на меня, встретилась со мною взглядом и смиренно опустила ресницы. — Ага, я не ошиблась. Кто поймет сердце женщины? Не думаю, однако, что твой Гармахис был благодарен тебе за твою любовь. А ты, что скажешь ты, Олимпий? Ах, Хармиана, Хармиана, значит, и ты оказалась предательницей. Поистине, монархов на каждом шагу подстерегает измена. Но я прощаю тебя, ибо с тех пор ты служила мне верно и преданно. Но мы отвлеклись от Гармахиса. Убить его я не посмела — боялась, что огромная армия его сторонников в ярости поднимется против меня и сбросит с трона. Но события приняли неожиданный оборот. Нужно сказать, что, хотя Гармахис готовился меня убить, он, сам того не понимая, полюбил меня, а я довольно скоро об этом догадалась. Конечно, я с самого начала постаралась завоевать его, ведь он был так хорош собой и образован; а если Клеопатра захотела, чтобы ее полюбили, ни одно мужское сердце не могло перед ней устоять. И потому когда он пришел ко мне с кинжалом в складках своего одеяния, чтобы убить, я пустила в ход все свои чары обольщения, желая отнять у него волю, и кто усомнится, что в этом поединке женщина победила мужчину? О, забыть ли мне взгляд, каким глядел на меня этот поверженный царевич, этот нарушивший священные обеты жрец, этот утративший свою законную корону фараон, когда я дала ему маковый отвар и он беспомощно проваливался в сон, который навеки отнимал у него честь и славу! Однако я увлеклась Гармахисом, хотя любовью это чувство не назовешь, но потом он мне наскучил — уж очень он был учен и мрачен, больная совесть и вина мешали ему предаваться веселью. А он — он любил меня, поистине забыв обо всем на свете, тянулся ко мне, как пьяница к вину, которое его губит. В надежде, что я стану его супругой, он открыл мне тайну сокровища, спрятанного в пирамиде Менкаура, ибо в то время мне были необходимы средства, и мы вместе с ним спустились в ужасную гробницу и извлекли сокровище из груди мертвого фараона. Смотрите, вот этот изумруд тоже лежал там! — И она указала на огромного скарабея, которого извлекла из груди божественного Менкаура. — И вот я, испугавшись тех страшных слов, которые были начертаны в усыпальнице, и чудовища, которое мы видели в гробнице, — ах, почему это омерзительное воспоминание явилось мне сейчас? — а также из политических соображений, ибо мне хотелось завоевать любовь Египта, решила стать супругой Гармахиса и объявить всему миру, что он — истинный законный потомок фараонов и коронованный на царство фараон, а потом с его помощью защищать Египет от Рима. Ведь как раз в то время Деллий привез мне от Антония послание, в котором триумвир требовал, чтобы я явилась к нему на суд, и после долгих размышлений решила объявить Антонию войну. Но как раз когда служанки убирали меня для выхода в тронный зал, где я должна была дать ответ Деллию, явилась Хармиана, и я ей все рассказала, ибо хотела знать, что она думает о моем решении. Ты и представить себе не можешь, Олимпий, какая великая сила — ревность: с помощью этого крошечного клина можно расщепить могучее древо империи, этот тайный молот выковывает судьбы монархов! Как, мужчина, которого Хармиана любит, станет моим мужем?! Станет мужем женщины, которую он сам так самозабвенно любит? Этого Хармиана допустить не могла, попробуй опровергнуть мои слова, Хармиана, тебе это не удастся, ибо теперь я знаю все! И потому она принялась убеждать меня тончайшими, изощреннейшими доводами, что брак с Гармахисом был бы величайшей ошибкой и что мне следует плыть к Антонию, и сейчас, когда жить мне осталось какой-нибудь час, я признаюсь тебе, Хармиана: я бесконечно благодарна тебе за твой совет. Я и сама сомневалась, а ее слова окончательно склонили чашу весов в пользу Антония — я поплыла к нему. И чем все кончилось, что породила злая ревность красавицы Хармианы и страсть мужчины, который был послушен мне, как струны арфы пальцам музыканта? Октавиан захватил Александрию; Антоний потерял свои владения, свою былую славу и умер; и я сегодня ночью тоже умру! Ах, Хармиана, Хармиана, за многое тебе придется держать ответ — ведь ты изменила ход истории. И все-таки даже сейчас, в эти последние минуты, я повторю: какое счастье, что все случилось так, а не иначе! Она умолкла и закрыла глаза рукой; я поднял взгляд и увидел, что по щеке Хармианы медленно катится огромная слеза. — А что ж Гармахис? — спросил я. — Где он сейчас, моя царица? — Где он сейчас? Увы, в Аменти — наверно, искупает свою вину перед Исидой. В Тарсе я увидела Антония и полюбила его, и с этого мгновения мне стал ненавистен египтянин, я даже видеть его не могла без отвращения и поклялась убить — это лучший способ избавиться от опостылевшего любовника. А он, воспламененный ревностью, предрек мне гибель во время пира, когда я выпила жемчужину; и тогда я решила подослать к нему убийц в ту же ночь, но опоздала — он успел бежать. — Куда же он бежал? — Того не знаю. Бренн — он был начальником дворцовой стражи и всего год назад уехал к своим соплеменникам на север — так вот, Бренн клялся, что собственными глазами видел, как Гармахис улетел в небо; но я не верю Бренну: мне кажется, он питал к Гармахису дружбу. Гармахис бежал, его судно потерпело крушение неподалеку от Кипра, и он утонул. Быть может, Хармиана расскажет, как ему удалось бежать? — Я ничего не знаю, о царица; знаю только одно: Гармахис погиб. — К счастью для всех, Хармиана, ибо он нес людям зло — да, он был моим возлюбленным, и все же я рада его гибели. Он помог мне в тяжкие времена, но я не любила его истинной любовью и боялась, я даже сейчас его боюсь; мне кажется, во время битвы при Акциуме я сквозь шум и крики услышала его голос, он приказал мне бежать. Возблагодарим же богов, что он погиб, как ты уверяешь, Хармиана, и пусть он во веки не воскреснет. Но после этих слов я сосредоточил свою волю и, применив приемы искусства, которым я владею, окутал тенью моего духа дух Клеопатры, так что она почувствовала рядом с собой присутствие Гармахиса. — О, боги, что это? — воскликнула она. — Клянусь Сераписом! Мне страшно, страшно! Клянусь Сераписом, Гармахис здесь, я это чувствую, хотя уж десять лет, как он умер! Воспоминания о нем нахлынули на меня, точно волны, вот-вот затянут в водоворот! О, в такой миг это просто святотатство! — Не бойся, о царица, — сказал я, — ибо если он умер, его дух разлит повсюду, и в этот миг — миг твоей смерти, Гармахис может приблизиться к тебе, чтобы приветствовать твой дух, когда он отлетит от тела. — Не говори так, Олимпий! Я не желаю больше видеть Гармахиса; слишком велика моя вина перед ним, в ином мире нам, быть может, легче будет встретиться. Ну вот, ужас отступает! Я просто поддалась малодушию. Что ж, история этого злосчастного глупца помогла нам скоротать самый страшный час нашей жизни — час, который обрывает Смерть. Спой мне, Хармиана, голос твой нежен, он вольет покой в мою душу и усыпит ее. Странно, этот выплывший из прошлого Гармахис почему-то меня растревожил. Ты столько лет услаждала мой слух своими чудесными песнями. Теперь спой последнюю. — В столь горький час петь нелегко, о царица! — сказала Хармиана, но все-таки подошла к арфе и запела. Она выбрала плач по возлюбленной сладкогласного сирийца Мелеагра и пела его тихо, проникающим в самое сердце голосом:
Глава 32
Повествующая о прощании Хармианы с Гармахисом; о смерти Хармианы; о смерти старой Атуа; о возвращении Гармахиса в Абидос; о его признании в Зале Тридцати Шести Колонн и о приговоре, который вынесли Гармахису верховные жрецы.Хармиана выпустила мою руку, которую все это время судорожно сжимала. — Как страшна оказалась твоя месть, о сумрачный Гармахис, — хрипло прошептала она. — О Клеопатра, Клеопатра, ты совершила много преступлений, но ты была поистине великая царица!.. А теперь помоги мне, царевич: положим эту бренную оболочку на ложе и уберем по-царски, пусть эта последняя царица Египта своим безмолвием скажет посланцам цезаря все, что может сказать царица. Я ничего ей не ответил, на сердце была каменная тяжесть, и теперь, когда все свершилось, я чувствовал, что у меня нет сил. Но мы вместе с Хармианой подняли мертвую Клеопатру и положили на золотое ложе. Хармиана надела на ее матовый, как слоновая кость, лоб венец в виде золотого урея, расчесала волосы цвета безлунной и беззвездной ночи, в которых не было ни единой серебряной пряди, закрыла навсегда глаза, в которых еще совсем недавно синело и бушевало переменчивое море. Она сложила похолодевшие руки на груди, в которой оттрепетала страсть, выпрямила согнувшиеся в коленях ноги, расправила складки роскошного вышитого платья, поставила в головах цветы. Сейчас, в холодном величии смерти, Клеопатра была еще прекраснее, чем в лучезарном сиянии полноты жизни и счастья. Мы отошли и посмотрели на нее, на мертвую Ираду у ее ног. — Все, конец, — проговорила Хармиана, — мы отомстили, Гармахис, и что теперь? Пойдем за ней? — Она кивнула в сторону фиала, стоявшего на столе. — Нет, Хармиана. Я умру, но умру куда более мучительной смертью. Мой срок земного искупления еще не кончился, а сам я не могу его прервать. — Ты лучше знаешь, как тебе поступить, Гармахис. А я — я сейчас уйду из этой жизни, и крылья смерти унесут меня легко и быстро. Я свою игру сыграла. И тоже искупила свою вину. О, какая горькая мне выпала судьба — я принесла несчастье всем, кого любила, и вот теперь я умираю, и ни одна душа не вспомнит обо мне с любовью! Я искупила свою вину перед тобой, Гармахис; я искупила вину перед разгневанными богами; теперь мне надо заслужить прощенье Клеопатры там, в аду, где она сейчас и куда я последую за ней. Гармахис, ведь она меня любила; и теперь, когда ее нет, я поняла, что после тебя я любила ее больше всех на свете. И потому я наполню сейчас кубок, из которого она пила с Ирадой! — Хармиана взяла фиал и недрогнувшей рукой вылила в кубок остатки яда. — Подумай, Хармиана, — сказал я, — ведь ты еще так молода, перед тобою вся жизнь; ты спрячешь эти горестные воспоминания глубоко в сердце и будешь жить много, много лет. — Да, я могла бы, но не хочу. Жить, терзаемая памятью о сотворенном зле, носить в душе незаживающую рану скорби, которая будет год за годом кровоточить бессонными ночами, жить, умирая от стыда, жить под невыносимым бременем любви, которую я не в силах вырвать из сердца, жить одиноко, точно искалеченное бурей дерево на краю пустыни, которое скрипит от ветра и ждет, когда в него ударит молния, а молния все медлит, — нет, Гармахис, такая жизнь не для меня! Моя душа давно умерла, я лишь продолжала существовать, чтобы служить тебе; теперь я тебе больше не нужна и потому умру. Прощай, прощай навек! Никогда больше я не увижу твоего лица. Тебя не будет там, куда я ухожу. Ведь ты не любишь меня, ты по-прежнему любишь эту царственную женщину, которую ты загнал до смерти, как гончая. Но ее ты никогда не завоюешь, как мне никогда не завоевать тебя, — как беспощадно распорядилась нами Судьба! Послушай, Гармахис, пока я еще не умерла и не превратилась для тебя в постыдное воспоминание, я хочу молить тебя о милости. Скажи мне, что ты простил меня, насколько это в твоей власти — прощать, и в знак прощения поцелуй меня, не как влюбленный, о нет, просто поцелуй в лоб, и тогда я отойду с миром. Она подошла ко мне и протянула руки, губы ее дрожали от сдерживаемых слез, глаза не отрывались от моего лица. — Хармиана, в нашей воле выбрать путь добра или зла, — ответил я, — но я уверен, что нашими судьбами управляет иная, высшая Судьба, она, точно ураган, принесшийся неведомо откуда, вдруг подхватывает наши утлые ладьи, и, как бы мы ни боролись с ветром, разбивает их и топит. Я прощаю тебя, Хармиана, как, надеюсь, когда-нибудь боги простят меня, и этим поцелуем, первым и последним, скрепляю мир между тобой и мной. — И я коснулся губами ее лба. Она молчала, только стояла неподвижно, и долго, печально смотрела на меня. Потом подняла кубок. — Царственный Гармахис, этот яд я пью за твое здоровье. Мне надо было выпить его раньше, до того, как я увидела тебя! Прощай же, фараон! Когда минуют сроки искупления, ты будешь править высшими мирами, куда мне нет пути, и скипетр в твоих руках будет скипетром божества, царский жезл, которого я тебя лишила, — пустая игрушка рядом с ним. Прощай, навек прощай! Она выпила яд, бросила кубок и осталась стоять, глядя широко открытыми глазами в пустоту, словно искала в ней Смерть. И Смерть пришла, египтянка Хармиана упала ничком на пол, бездыханная. А я остался один средь мертвых. Потом я тихо приблизился к ложу Клеопатры, сел рядом с ней — никто ведь нас теперь не видел, — и положил ее голову к себе на колени, как много лет назад под сенью извечной пирамиды, в ту ночь, когда мы совершили святотатство. Я поцеловал ее ледяной лоб и покинул дом Смерти — отмщенный, но раздавленный отчаяньем. — Эй, врач, — окликнул меня начальник стражи, когда я выходил из ворот, — что происходит в мавзолее? Я слышал крики, не умер ли там кто-нибудь? — Там ничего не происходит, все уже произошло, — ответил я ему и ушел прочь. Скоро в темноте я услышал голоса и быстрые шаги людей цезаря. Я побежал домой и у ворот увидел Атуа, она ждала меня. Атуа тотчас же увлекла меня в дальнюю комнату в заперла засовы. — Ну что, все кончено? — спросила она, вглядываясь в меня при свете светильника, лучи которого падали на ее иссохшее лицо и белые, как соль, волосы. — Глупая, зачем мне спрашивать — я и так знаю, что кончено. — Да, Атуа, все кончено, мы не напрасно трудились. Все умерли: Клеопатра, Ирада, Хармиана, одинлишь я остался жить. Старуха выпрямила свои согбенные плечи и воскликнула: — Ну вот, теперь позволь и мне отойти с миром, ибо исполнились мои желания: твои враги и враги Кемета мертвы. Ах-ха! Не зря я жила на этом свете больше срока, отпущенного людям! Я выполнила назначенное мне богами: долго я собирала росу Смерти, и вот твои враги ее наконец выпили! Упала корона с этого надменного лба! Повержена в прах та, что столько лет бесславила Кемет! Ах, почему я не видела, как умирает эта распутница! — Довольно, Атуа, довольно! Мертвые принадлежат царству мертвых. Осирис тотчас призывает их к себе, и вечное молчание смыкает их уста. Не надо оскорблять великих после того, как они пали. Давай лучше поспешим, нам надо плыть в Абидос, ведь еще не все завершено. — Плыви, Гармахис, плыви, мой внук, я уже не буду сопровождать тебя. Я не могла позволить моей жизни оборваться лишь потому, что жаждала покарать твоих врагов. Теперь я развяжу узел, который держит мою жизнь, и отпущу мой дух на свободу. Прощай, царевич, паломница закончила свой путь. Гармахис, мое дитя, я любила тебя всю жизнь, с колыбели, люблю с такой же нежностью и сейчас, но больше в этом мире я не смогу делить с тобой твои невзгоды — иссякли мои силы. Прими мой дух, Осирис! — Ее дрожащие колени подогнулись, она медленно опустилась на пол. Я подбежал к ней, поднял на руки, стал вглядываться в ее лицо. Она была мертва, я остался один на этом свете, без единого друга, который поддержал бы меня. Я вышел из дому и пошел по улицам, никто меня не остановил, ибо весь город был в смятении, добрался до гавани, где меня ждало заранее приготовленное судно, и покинул Александрию. На восьмой день я высадился на берег и зашагал пешком мимо возделанных полей туда, где должна была решиться моя судьба — к священным храмам Абидоса. Я знал, что здесь, в святилище божественного Сети, возобновилось служение богам, это Хармиана убедила Клеопатру смягчиться и отменить запрет, а также вернуть храму земли, которые когда-то отняла, хотя с его богатствами Клеопатра не пожелала расстаться. Храм подвергся очищению, и вот сейчас, во время мистерий, посвященных Осирису и Исиде, здесь собрались верховные жрецы всех древних храмов Египта, чтобы отпраздновать возвращение богов в их священный дом. Я вошел в город. Был седьмой день празднеств в честь Осириса и Исиды. По улицам, которые я так хорошо помнил, вилась нескончаемая процессия. Я влился в нее, и когда мы прошли сквозь храмовые ворота между могучими пилонами и вступили в не подвластные разрушительной силе Времени залы, я вместе со всеми запел торжественные слова призывания. Как хорошо я их знал!
Глава 33
Повествующая о последних днях потомка египетских фараонов Гармахиса.Меня отвели в тюремную камеру, что находится высоко в привратной башне храма, и здесь я дожидаюсь часа моей казни. Мне неведомо, когда опустится меч Судьбы. Течет неделя за неделей, месяц сменяется месяцем, а Судьба все медлит. Но я каждую минуту чувствую, что меч занесен над моей головой. Он упадет, я знаю, не знаю лишь — когда. Быть может, я проснусь в глухой час ночи и услышу шаги крадущихся ко мне убийц. Быть может, убийцы уже близко, рядом. Меня повлекут в тайную гробницу! Потом настанет непереносимый ужас! Меня положат в безымянный гроб! И наконец все кончится! О, скорее! Смерть, я жду тебя, спеши! Я кончил свою повесть и ничего в ней не утаил — ни преступлений, которые я совершил, ни мести, которой покарал виновников. Теперь все поглотила тьма, все обратится в прах, я готовлюсь к тем мукам, что предстоят мне в иных мирах. Я ухожу из этого мира, но ухожу с надеждой: увы, я больше не вижу великую Исиду, она не отзывается на мои молитвы, но я знаю, что она со мной, она никогда меня не оставит, мы с нею встретимся, я снова увижу ее лик. И тогда наконец, в тот далекий день, мне будет даровано прощение; тогда с меня спадет тяжесть содеянного мною зла и чистота души вернется, озарит меня и принесет божественный покой. О дорогая сердцу страна Кемет, сколь ясно я провижу твое будущее! Я вижу, как чужеземцы, народ за народом, утверждают на берегах священного Сихора свои знамена, как надевают на твою шею ярмо. Я вижу, как на твоей земле одна вера сменяется другой, третьей, десятой… как твой народ зовут молиться иным богам. Я вижу, как твои храмы — твои великие святыни — обращаются в руины, и те, кому когда-то еще только предстоит родиться, дивятся их несравненной красоте, проникают в священные гробницы и подвергают поруганию останки твоих великих фараонов. Я слышу, как профаны глумятся над божественными таинствами твоих знаний, как твоя древняя мудрость развевается по ветру, точно пески пустыни. Я вижу, как римский орел ломает крылья и разбивается о камни, хотя с его клюва еще каплет кровь его жертв; я вижу, как пляшут отблески костров на копьях варваров, которые придут на смену римским легионам… И вот наконец ты снова обретешь величие, о мой Кемет, ты снова обретешь свободу, к тебе вернутся твои боги, — да, твои истинные боги, хотя у них будет иной облик, иные имена, но все же это будут боги, которые хранили тебя в древности! За Абидосом садится солнце. Закатные лучи Ра зажгли огнем крыши храмов, облили красным сиянием зеленые поля пшеницы, окрасили в пурпурный цвет воды бескрайнего животворящего Сихора. Вот так же в детстве я наблюдал закат, вот так же последний луч Ра с прощальной лаской касался хмурого чела пилона, и та же тень ложилась на гробницы. Ничто не изменилось! Изменился лишь я, один только я, я стал совсем другим — и все-таки я прежний! О Клеопатра! Клеопатра, погубившая меня! Если бы я мог вырвать твой образ из моего сердца! Среди всех моих несчастий ты — самое горькое: я никогда не разлюблю тебя. Я обречен вечно лелеять этот укус змеи в моем сердце. В моих ушах будет вечно звучать твой тихий торжествующий смех… журчанье струй фонтана… песнь соло… (На этом записи в третьем свитке обрываются. Есть основания предположить, что к пишущему в это мгновенье пришли палачи, чтобы вести его на казнь.)

ОДИССЕЙ (роман, соавтор Эндрю Лэнг)
Посвящается У. Б. Ричмонду [496]
Наверное, никто так сильно не любил свой дом, как Одиссей, сын Лаэрта. Он побывал в неведомых странах, переносился в Царство теней и снов. О первых его странствиях знает весь мир. Но без радости встретила родная земля Одиссея. Дико и пустынно было на берегу дорогого его сердцу острова. О последних, захватывающих воображение и дух приключениях легендарного Скитальца поведает вам эта повесть. Итак…
Предисловие
Действие романа «Одиссей» происходит во времена, когда, как заметила мисс Брэддон[497], имея, правда, в виду эпоху династии Плантагенетов, «могло случиться всё, что угодно». Открытия, сделанные недавно доктором Шлиманом и мистером Флиндерсом Петри, доказали, что между Грецией гомеровского периода, Грецией ахейцев, и Египтом Рамессидов существовали прочные и разносторонние связи. Эти связи, о которых рассказывается в греческих легендах, подтверждаются изделиями египетских мастеров, найденных в микенских захоронениях, и левантинской глиняной посудой глубочайшей древности, найденной во время современных раскопок в нынешнем Египте. У самого Гомера Одиссей рассказывает вымышленную, но вполне вероятную историю о военном походе ахейцев на Египет. Пока еще в памятниках египетской литературы не найдено упоминаний о египетском рабстве евреев и об их исходе из Египта, однако можно предположить, что это было одно из значительнейших событий того времени. Египтяне и доисторические ахейцы, которым была чужда религия сынов израилевых, естественно, совсем другими глазами смотрели на события, о которых мы знаем только из еврейских текстов. Этому посвящен роман доктора Эберса[498] «Иисус Навин». Когда погружаешься в столь отдаленные времена, фантазия разыгрывается, не зная пределов, но любопытно — в романе «Одиссей» наша фантазия, фантазия людей девятнадцатого века, удивительным образом совпала с фантазией древних греков. Когда вышла из печати первая часть «Большого мифологического словаря» Фуртвенглера со статьей о Елене Троянской, бóльшая часть нашего романа уже была написана, и в частности те «негреческие» чудеса, которые творила Елена. Авторы «Одиссея» прочли ее с чувством, близким к потрясению. Их самые дерзкие фантазии о божественности дочери Лебедя перекликаются с древнейшими легендами о ее происхождении. Многие легенды обвиняют Париса в том, что он соблазнил Елену, приняв с помощью колдовства образ ее мужа, Менелая. В средневековой литературе мы находим параллель в истории короля Утера Пендрагона и Игрэйн, матери Артура, всем известен классический пример Амфитриона, чья супруга Алкмена родила от Зевса Геракла. И еще: об источающем капли крови рубине Елены, который фигурирует в нашем романе, упоминает Сервий в своих комментариях к Вергилию (одному из авторов указал на это мистер Макейл). Но мы не знали, что в древнегреческих легендах наш рубин и в самом деле называли «звездным камнем». О том, что Елена может говорить множеством разных голосов, рассказывает сам Гомер в «Одиссее»: раньше у нее было еще и другое имя — Эхо. А раз так, почему бы не наделить ее даром являть каждому мужчине образ его первой любви? Гёте наделяет такой же способностью красавицу-ведьму в «Вальпургиевой ночи». Вполне достоверный портрет тайного советника царицы Мериамун на керамической вазе хранится в Британском музее, хотя мы обнаружили его только после публикации нашего романа, так уж случилось. Листригон в последней битве Одиссея — доисторический скандинав. Кажется, мистер Гладстон первый высказал предположение, что листригоны из «Одиссея», живущие среди фьордов в Стране Полуночного Солнца, навеяны рассказами путешественников о жителях северных стран, откуда они привозили янтарь по древнему Священному пути. Колдовские ритуалы Мериамун вполне соответствуют египетским магическим практикам, сцена, в которой она вызывает дух умершей Хатаски, удивительным образом напоминает ритуал, описанный Реджиналдом Скотом в его книге «Тайны колдовства» (1584 год), где заклинания «безмолвием ночи» не лишены поэтичности. Образ Елены как высшее воплощение женственности и идеал совершенной красоты утвердился благодаря графу Полю де Сен-Виктору и мистеру Дж. Э. Симондсу. Что касается остального, то некоторые сцены сражений, наносимых ран, которые «критики», не знакомые с греческой литературой, называют «негреческими», полностью заимствованы у Гомера.Г. Р. Х.Э. Л.
Хотите ненадолго забыть о настоящем, в котором вы живете, и стать свидетелями далеких событий, которых никогда не было да и, как вы сами знаете, не могло быть? Вы услышите в шуршании тростников на берегах священного Нила голоса давно забытых богов, соедините легенды Севера и Юга, фантазии Запада и Востока, воскресите в глубинах памяти отголоски древних сказаний, что будут жить вечно, повествуя под звуки лютни и лиры о самой прекрасной женщине на свете, в которой каждый мужчина видел свою единственную истинную любовь, Владычицу Сердец. И устремлялся к ней, забыв обо всем на свете, бродил, странствовал, скитался, ища ее… Засыпал, мечтая о Звезде, что горит у нее на груди, источая капли крови, и находил рядом с собой, проснувшись, лживую Змею, и все равно упорно продолжал свой путь — Звезда вечно зовет и манит.
Часть I
Глава 1
БЕЗМОЛВНЫЙ ОСТРОВ
Сквозь ночь, сквозь предрассветные сумерки и бледный рассвет скользит по вольно играющим волнам тихий корабль, огибая острова и лавируя между скалами. У корабля всего одна мачта, на широком коричневом парусе вышита золотая звезда; высокая корма выгнута, как птичий клюв, нос выкрашен в ярко-красный цвет. Гребцы налегают на весла, к тому же дует попутный западный ветер. На носу, на шканцах, одиноко стоит мужчина и смотрит вперед — вот уж и ночь прошла, занялся рассвет, наступило утро, а он не двинулся с места, не повернул головы. Ростом мужчина не слишком высок, но крепкого сложения, широкоплеч и явно необычайно силен. Синие глаза, темные завитки волос выбиваются из-под красной матросской шапочки и падают на пурпурный плащ, застегнутый золотой пряжкой. В темных кудрях серебряные нити, серебрится и борода. Кажется, вдаль устремлен не только его взгляд, но и вся его душа, сначала он надеялся увидеть во тьме ночи свет маяка на острове, потом, при свете утра, поднимающийся из-за далеких холмов дым. Но всматривался он напрасно, не горел огонь на маяке, не поднимался дым из-за гребня, сереющего на фоне высокого бледно-желтого неба. Ни звука голосов, ни крика птиц, остров был окутан зловещей тишиной. Корабль приближался к берегу, но там по-прежнему не было никаких признаков жизни, и лицо мужчины помрачнело, глаза, в которых было столько радостного ожидания, погасли, он словно постарел от тревоги, сомнений, тоски по родному дому, о котором так давно не получал вестей. Наверное, никто так сильно не любил свой дом, как он, Одиссей, сын Лаэрта, — иные называют его Улиссом, — вернувшийся после последних, никем еще не воспетых странствий. О первых его странствиях знает весь мир, знает, как он десять лет скитался по морям после падения Трои, как наконец возвратился на родину, один, преображенный Афиной в старика, старика-нищего, и, придя в свой дом, застал там бесчинства, как перебил своих оскорбителей и снова обрел любимую жену. Но и на родине ему не суждено было найти мир и покой, ибо над ним тяготело проклятье и он должен был выполнить повеление Посейдона. Ему надлежало снова отправиться в странствие и найти страну, жители которой не ведали вкуса соли и не слыхали, что на свете есть соленые моря. Там он должен был принести жертву владыке моря и только потом наконец мог пуститься в обратный путь. Он освободился от проклятья, но, как и было предсказано, разгневал, сам того не желая, богиню, которая ему покровительствовала, пережил множество приключений, о которых еще никто не поведал миру, и вот сейчас приближается к Итаке, родной остров уже на расстоянии полета стрелы. Он побывал в неведомых странах, видел Врата Солнца и Белую Гору, переносился в Царство теней и снов. Но родной остров сейчас показался ему более чужим и незнакомым, чем все неведомые страны. Даже в Царстве снов не было такой гнетущей тишины, даже вокруг Врат Солнца не было так дико и пустынно, как на берегу дорогого сердцу острова в этот рассветный час. О том, что встретило на родине Одиссея, сына Лаэрта, и о его последних приключениях, описанных в далекие от нас времена мудрым египетским жрецом Реи, мы и поведаем вам в этой повести. Итак… Корабль вошел в знакомую узкую бухту, защищенную от ветров высокими скалами, и пристал к берегу, где над ним склонилась раскидистая маслина. Не оглянувшись назад и не сказав ни слова на прощанье своим гребцам, Скиталец схватился за сук рукой и прыгнул на берег. Там он опустился на колени, поцеловал землю и, покрыв голову полой плаща, стал молиться, чтобы боги позволили ему найти дома мир и покой, чтобы его встретили любимая, верная жена и сын, которым он мог бы гордиться. Но боги не исполнили его молитву. Они даруют и карают, но вернуть на землю умерших не могут. Он поднялся с колен и поглядел назад, но в бухте уже не было корабля, и в море не мелькал парус. На острове по-прежнему царила тишина, даже птицы не приветствовали его своим криком. Солнце только что взошло, люди еще не проснулись, стал убеждать себя Скиталец и, укрепив сердце мужеством, начал подниматься по крутой тропинке на высокий берег, дошел по равнине до скалистого кряжа, который делит остров на две части, и снова стал подниматься по склону, надеясь, как встарь, зайти в хижину своего верного слуги, свинопаса и узнать у него о семье и о доме. На вершине он остановился перевести дух и поглядел вниз, на жилище пастуха. Крепкий дубовый палисад лежал на земле, из отверстия в крыше не поднимался дым, навстречу чужому не выбежали с грозным лаем сторожа-собаки, охраняющие свиней. Тропинку к хижине было почти не различить, так она заросла травой; даже чуткие уши собак не расслышали бы шаги идущего по ней человека. Дверь в хижину свинопаса была распахнута, но внутри было темно и пусто, пауки оплели эту темную пустоту поблескивающей паутиной, знак того, что в хижину давно никто не входил. Скиталец кликнул свинопаса — раз, другой, третий, но откликнулось ему только эхо в горах. Он вошел внутрь, надеясь найти какую-нибудь еду или хотя бы тлеющий под сухими листьями огонь. Но нигде ни крошки еды, в очаге холодный мертвый пепел. Скиталец вышел на теплый солнечный свет, поглядел еще раз на гребень холма и направил свои стопы к городу Итаке. Море сверкало, как и раньше, но ни одной рыбацкой лодки под бурым парусом он на нем не увидел. Поля, на которых должна бы сейчас колоситься пшеница, заросли сорняками. По пути ему встретились ольховая роща и бассейн, который наполнялся водой из фонтана возле грота нимф. Но не шли к бассейну за водой юные девы с амфорами, его стены разрушились и позеленели, вода просачивалась сквозь щели и убегала ручейками к морю. Путники не оставляли здесь в благодарность цветных лоскутков и камешков, огонь на алтаре давно погас. Сквозь пепел проросла трава, жертвенный камень обвил плющ. С тяжелым сердцем двинулся Скиталец дальше и наконец увидел вдали высокую кровлю своего дома, забор, окружающий просторный двор, и устремился вперед, полный недобрых предчувствий. И здесь над крышами не поднимался дым, двор по колено зарос травой. Посреди двора, где когда-то стоял алтарь Зевсу, была высокая серая куча, но не земли, а какой-то странной белесоватой пыли, смешанной с черным. Сквозь эту пыль пробивалась трава, жесткая и редкая, как волосы на голове прокаженного. Вдруг Скиталец задрожал — он увидел в этой куче обугленные человеческие кости. Подошел ближе и с ужасом понял, что это не куча пыли, это прах множества людей! Смерть потрудилась здесь на славу, жителей острова скосила чума. Умерших сожгли в одном погребальном костре, а те, кто остался жив, наверняка покинули остров, потому что вокруг не было никаких признаков жизни. Зияли распахнутые двери, но никто в них не входил и никто из дома не выходил. Дом был мертв, как и люди, когда-то жившие в нем. Вот место, где его встретил старый пес Аргус и умер от радости, что хозяин наконец-то вернулся. Скиталец остановился, опираясь на посох. Сегодня его никто не встречал. Вдруг что-то блеснуло в луче солнца, упавшем на кучу, и он дотронулся до нее концом посоха. На землю упала кость руки, на ней блестел полурасплавленный в огне золотой браслет. На внутренней стороне браслета по ободу было выгравировано:IKMAΛIOΣ MEΠOIEΣEΝ (Меня сделал Икмалиос).Увидев эту надпись, Скиталец упал на землю лицом в прах, он узнал золотой браслет, который когда-то привез из Эфира в подарок своей юной жене Пенелопе. И эта кость — о непереносимый ужас, о злое глумление судьбы! — всё, что осталось от прекрасных нежных рук, которые его когда-то обнимали! Силы покинули его, он зарыдал и, ничего не видя, стал собирать горстями прах любимой супруги и посыпать им голову, так что его темные волосы стали серыми от пепла. Ему хотелось умереть. Он лежал, кусая руки от горя и от гнева на богов и на судьбу. Высоко поднявшееся солнце беспощадно жгло его, но он ничего не чувствовал; на закате поднялся ветер, но он по-прежнему лежал, не шевелясь. Слез у него не было. Он пережил много бед и несчастий, плавая по морям и сражаясь на земле, но такого черного горя он и представить себе не мог. Солнце зашло, стемнело. На востоке медленно поднялась серебряная луна. Где-то далеко раздался крик ночной птицы, крик приближался, над грудой останков мелькнули черные крылья, и хищные когти впились Скитальцу в затылок. Тут он наконец ожил, вскинул руку и схватил птицу тьмы за шею, свернул ей голову и швырнул на землю. Эта неожиданная боль в затылке, такой, в сущности, пустяк, оказалась для обезумевшего от горя Скитальца последней каплей, он хотел вырвать из ножен кинжал и убить себя, но кинжала не было. Наконец он поднялся, что-то бормоча, и долго стоял, освещенный луной, похожий на льва в развалинах дворца давно забытых властелинов. Он ослаб от голода, был сломлен горем, но все же подошел к двери своего дома и помедлил на высоком каменном пороге, где когда-то сидел в обличье нищего — на том самом пороге, перешагнув который он убил стрелами судьбы оскорбителей своей жены и разорителей дома. Но сейчас жены нет, она умерла, все его странствия и приключения кончились здесь, все битвы и победы потеряли смысл. В холодном свете луны отчий дом казался призраком — страшный, незнакомый, лишенный тепла, любви, света. Столы в огромном пиршественном зале опрокинуты, кресла слоновой кости сломаны, на полу всюду валяются кубки и блюда с высохшими остатками похоронного пира. В лучах луны поблескивали развешанные по стенам стальные и бронзовые мечи, многие из них потемнели от ржавчины. Взгляд притянули знакомые очертания. Это был лук Эврита, лук, из-за которого могучий Геракл убил гостя в своем собственном доме, грозное оружие, дугу которого не мог согнуть ни один смертный, кроме Скитальца. Он берёг драгоценный лук как память о предательски убитом друге и никогда не брал его с собой, отправляясь воевать и странствовать. Навеки умолкли голоса жены, сына, верного пса Аргуса и слуг, и все же Скиталец услышал в тишине звук приветствия. Лук, который трепетал от азарта в могучих руках Геракла и рассылал его стрелы мести, был волшебным. В нем обитал дух, которому было открыто будущее, этот дух знал, когда начнется битва и люди станут убивать друг друга, и, предсказывая кровопролитие, он всю ночь пел свою зловещую песню. Голос лука был пронзителен и тонок — то звенела его тетива, гудела дубовая дуга. Скиталец подошел к луку, и вдруг — о чудо! — лук зазвенел под его взглядом. Сначала так тихо, что едва и различить, но звук стал расти, набирать силу, и в этой силе был и гнев, и торжество. Вот что услышал в этой песне без слов Скиталец:
Глава 2
ВИДЕНИЕ ОДИССЕЯ
Полная ароматов ночь была светла и тиха, тишину нарушал только лепет волн. Скиталец устало шел по улице и заглядывал в окна домов — не мелькнет ли где-нибудь огонь, но всюду было так же темно, как и в его собственном доме, многие были без кровли, стены рухнули, потому что вслед за чумой на остров обрушилось землетрясение и превратило город в руины. На дороге зияли глубокие ямы, сквозь трещины в стенах домов светила луна, руины отбрасывали причудливые тени. Наконец Скиталец дошел до храма Афины, богини войны. Крыша храма провалилась, колонны упали, разбитые плиты пола заросли диким тимьяном, он издавал терпкий запах под сандалиями Скитальца. Стоя у алтаря, на котором он принес столько жертв, он наконец-то увидел огонь — яркий огонь, он горел в большом храме на берегу моря. Храм был посвящен Афродите, богине любви, из него струился, смешиваясь с соленым дыханием моря, сладкий запах курений, золотистое сияние растворялось в серебряном свете луны. Медленно, словно в полусне, двинулся Скиталец к храму Афродиты, ноги подкашивались от усталости, и все же он сообразил, что в заброшенном святилище, возможно, пируют морские разбойники, и затаился в тени длинной миртовой аллеи. Но ни в храме богини, ни возле него никто не пел и не плясал, священное место было объято тишиной. Скиталец долго вслушивался в эту тишину, всматривался и ждал, наконец вооружился мужеством и, приблизившись к двери храма, вошел внутрь. В высоких бронзовых курильницах не тлели благовония, не горели факелы в руках золотых скульптур юношей и дев, стоящих в храме Афродиты, и все же весь он был залит ослепительным золотым сиянием — что это, неужели Скиталец заснул и видит сон, или лунный свет вдруг запылал огнем? У этого сияния не было источника, он ниоткуда не исходил — ни от алтаря, ни от статуи богини, сияние было разлито повсюду — божественное, неугасимое пламя. Как ярко оно освещало сцены любви людей и богов, резные капители колонн и карнизы, зеленый потолок! Скитальцу стало страшно, он почувствовал приближение богини, ибо знал, что боги появляются и исчезают в этом дивном неземном свете, и не раз этот свет видел. И потому он низко склонил голову, так что лица его не стало видно, и, сев у алтаря в этом священнейшем из всех святилищ, положил на край алтаря правую руку. Сон ли то был или явь, он и сам не мог бы сказать, но только скоро ему послышался шепот и шелест лавровых и миртовых кустов и шум в вершинах сосен, в лицо повеяло холодное дыхание — холоднее, чем предрассветный ветер, что прилетает будить зарю. Под этим ледяным дуновением Скиталец задрожал, волосы на голове зашевелились. Наконец в тишине раздался голос. Это был голос не смертной женщины, а богини, он это знал, ведь богини и раньше с ним разговаривали: он слышал звонкий, властный голос Афины, богини войны и мудрости, завораживающий лепет Цирцеи, дочери Солнца, чарующие песни Калипсо, которые она пела за своим золотым ткацким станком. Но голос, который он слышал сейчас, был нежнее воркованья голубки, слаще сна, — пригрезился он ему, или всё это происходит наяву? — Одиссей, ты не знаешь меня, я не твоя покровительница, и ты никогда не был моим слугой! Где же она, богиня Воздуха, Афина, и почему ты преклоняешь колена с мольбой перед дочерью Дионы? Скиталец ничего не ответил, лишь ниже склонил голову в своей глубокой скорби. А голос продолжал: — Ты видишь — твой дом разорен, очаг давно остыл. В нем поселилось семейство зайцев, под крышей гнездятся филины и совы. У тебя нет ни жены, ни сына, ни родины. Она, твоя покровительница, богиня Афина, забыла тебя. Много жертв приносил ты ей — и ноги баранов, и коров, а мне принес хотя бы двух голубей? Неужели она оставила тебя, как Эос оставила Тифона, потому что ты утратил молодость и в твоих темных кудрях сверкнули серебряные пряди? Неужели мудрая богиня так же переменчива и непостоянна, как лесные нимфы? Неужели способна любить мужчину только в расцвете юности? Возможно ли такое? Не знаю. Но знаю, Одиссей, что твоя старость не за горами, а старость безжалостна, она отнимает силы и красоту, дряхлость и болезни — такова участь всех смертных, и у богов это вызывает отвращение. И потому, Одиссей, пока еще не поздно, я желаю, чтобы ты тоже склонился передо мной и покорился моей воле. Ведь я властвую над всем живым — и над богами, и над людьми, и над зверями. Неужели ты думал, что тебе одному удастся ускользнуть от власти Афродиты? Ты никогда не любил той великой любовью, силу которой могу подарить мужчине только я. А ты — ты никогда не внимал мне, не знал, каким счастьем и каким горем я могу наполнить жизнь. Ты принимал ласки Цирцеи, дочери Солнца, скучал в объятьях Калипсо — дочь Океана так и не смогла тебя удержать. Что касается твоей умершей супруги, дорогой сердцу Пенелопы, ее ты любил спокойной любовью законного мужа, но не страстью пылкого любовника. Она была всего лишь твоей спутницей жизни, хозяйкой дома, матерью твоего сына. С ней связаны все твои воспоминания о любимой родине, и потому тебе кажется, что ты ее любил. Но она умерла, умер и сын, твой остров, где когда-то кипела жизнь, мертв, как пепел в давно погасшем очаге. Что дали тебе все твои битвы и странствия, твои труды и приключения? Чего ты искал и в мире живых, и в мире усопших? Ты жаждешь найти то, чего ищут все мужчины — свою великую истинную любовь. Никто не может ее найти, не нашел, Одиссей, и ты. Твои друзья погибли, твой остров опустошен, жива лишь надежда. Перед тобой открывается новая жизнь, ты оставишь прошлое в прошлом, но боль и горечь страданий ты не забудешь. Подари мне из своей новой жизни, которая еще не началась, то, чего никогда не дарил: стань моим слугой всего на час. Голос звучал всё ближе, всё нежнее, вот Скиталец слышит шепот богини у самого уха, ее дыхание коснулось его, овеяло дивным благоуханьем, золотые локоны богини смешались с темными завитками смертного. И Одиссей услышал: — А ведь ты уже служил мне однажды, Одиссей, хоть и недолго, вспомни! Но не бойся, сейчас ты меня не увидишь. Подними голову и взгляни на ту, к которой стремятся сердца всех мужчин! Скиталец поднял голову и увидел словно написанный на картине или отраженный в бронзовом зеркале образ девы. Выше смертных женщин ростом, в нежном цветении едва пробудившейся юности, совсем еще девочка, она была прекрасна, как богиня, сама Афродита могла бы позавидовать ее пленительному очарованию, ее несказанной прелести. Стройна и гибка, как молоденькая пальма, взгляд безмятежен и ясен, как у ребенка. На голове девушка держала блестящую бронзовую амфору, словно несла воду из колодца, за ее спиной зеленел платан. И Скиталец узнал ее — именно такой он увидел ее еще юношей, когда приехал ко двору ее отца, царя Тиндария. Он въехал в Спарту и, спустившись со склона Тайгета, переезжал на своей колеснице шумный Эврот, а она возвращалась от источника, куда ходила за водой. Юноша увидел несравненную красоту Елены, в юном сердце вспыхнула любовь к прекраснейшей из женщин, и он, как и все красивейшие и знатнейшие ахейские юноши и дети героев, пожелал взять ее в жены. Но Елену выдали за Менелая, сына Атрея, принадлежавшего к злосчастному роду, проклятому за вереницу страшных преступлений против членов своей же семьи. Глядя сейчас на юную Елену, Скиталец почувствовал, что к нему вернулась молодость. Под страстным взглядом Скитальца, влюбленного первым пылом юности, видение стало таять, заклубилось туманом. Но из тумана возникло новое видение, он увидел самого себя в лохмотьях нищего, избитого, раненого, в огромном, сверкающем позолотой покое, какая-то женщина омывала ему ноги и умащивала голову благовониями. У нее было лицо всё той же девушки, только еще более прекрасное, однако омраченное печалью и стыдом. И вспомнил Одиссей, как он когда-то проник в Трою из лагеря ахейцев, пробрался в дом Приама, переодевшись нищим, чтобы узнать о замыслах троянцев, и как прекраснейшая из женщин Елена омыла ему ноги и умастила благовонным маслом, а потом позволила уйти в память о той любви, что вспыхнула между ними в юности. Это видение тоже растаяло, растворилось в тумане, и снова Скиталец склонил голову и, пав на колени перед золотым алтарем богини, воскликнул: — Где, скажи мне, где живет Златокудрая Елена? Он жаждал одного: пока он жив, увидеть еще хоть раз прекрасную Елену. И голос богини прошептал ему, казалось, в самое ухо: — Разве я не сказала правду, Одиссей? Разве ты не служил мне, хоть и совсем недолго? Разве не любовь спасла тебя той ночью в Трое, когда даже мудрость не пришла к тебе на помощь? — О да, богиня, да! — ответил он. — Так слушай же, — продолжал голос. — Я еще раз проявлю милосердие и буду благосклонна к тебе, ведь если я тебе не помогу, тебе будет незачем жить на свете. Ты потерял всё — дом, семью, родину, тебя ждет горькая, одинокая старость. Но нет, я вдохну в твое сердце забвение всего, что тебя терзает, вдохну в твое сердце любовь к той, кого ты впервые полюбил на заре своей юности. Елена еще живет на земле. Я пошлю тебя искать ее, ты снова почувствуешь упоение боя и радость дальних странствий. Ты найдешь ее в неведомой тебе стране, среди неведомого народа, в жестокой распре богов и людей, и мудрейший и храбрейший из мужей наконец заснет в объятиях прекраснейшей из женщин. Но помни, Одиссей: ты отдашь свое сердце только Елене, никаких других женщин не должно быть. Вот знак, по которому ты ее узнаешь в стране магии и заклятий, где женщинам ведомы тайны колдовства: на груди Елены сверкает драгоценный камень — рубиновая звезда, я подарила ей ее перед первой брачной ночью с Менелаем. Эта звезда источает красные капли, похожие на кровь, они падают на ее одеяние и исчезают, не оставив на нем следа. Ты узнаешь ее по этой Звезде Любви и этой Звездой поклянешься в любви и верности. Но если ты не распознаешь истекающую кровью Звезду или, поклявшись на ней, нарушишь клятву, то никогда, Одиссей, не завоевать тебе Златокудрой Елены в этой жизни. Твоя смерть придет к тебе водяною дорогой, ты умрешь легко и быстро, как и было предсказано тебе умершей прорицательницей. Но перед тем как умереть, тебя заключит в объятия прекраснейшая из женщин. — О, богиня, разве такое возможно? — ответил Скиталец. — Ведь я один на этом затерянном острове, у меня нет корабля, нет спутников, мне не переплыть бескрайние просторы океана! — Об этом не тревожься! — ответила богиня. — Боги устраняют и не такие препятствия. Покинь мой храм, ляг и усни на моей священной земле, слушая шум волн. Спи, отдыхай. Силы вернутся к тебе, и еще до того, как зайдет солнце, ты будешьплыть в страну, где живет прекраснейшая из женщин. Но сначала выпей чашу, что стоит на моем алтаре. Прощай. Голос умолк, дивная музыка отзвучала. Скиталец очнулся и поднял голову, но божественный свет погас, в храм прокрались серые предрассветные сумерки. Но на алтаре стояла большая золотая чаша, до краев наполненная темным вином. Скиталец взял чашу в руки и осушил — в вино был добавлен волшебный напиток непенф, изгоняющий из сердца скорбь, напиток забвения. И в сердце Одиссея зажглась надежда, вытеснив воспоминания о пережитых несчастьях и тоску по любимым, которых уже нет на свете. Он взял два копья, укрепил на спине свой лук и легкой юношеской походкой пошел к утесу на берегу, лег у его подножья и заснул.Глава 3
ОДИССЕЙ УБИВАЕТ СИДОНЦЕВ
Разгоралась заря. Над спокойной гладью моря, наполняя мир светом и звуками, вставал новый день. Вот солнце наконец поднялось над вершиной холма, его лучи упали на спящего у подножья утеса Скитальца, и его золотые доспехи загорелись, словно вспыхнул костер. И в то же самое мгновенье из-за мыса показался черный корабль, команда гребцов дружно налегала на весла, и корабль бежал очень быстро. Одного взгляда было довольно, чтобы узнать в нем судно сидонских купцов, известных ненасытной алчностью и коварством, потому что его нос украшали две резные фигуры кривоногих карликов с огромными головами и широко раскрытыми ртами. Это были божества, которым поклонялись сидонцы. Судно возвращалось из Альбиона, острова, что лежит далеко за Геркулесовыми столбами, в великом океане, там добывают олово, и сейчас оно везло богатый груз. На шканцах рядом с кормчим стоял капитан, худой и необычайно зоркий, он посмотрел в сторону берега и увидел сверкающие на солнце золотые доспехи Скитальца. Издали ему было не разглядеть, что это именно золотые доспехи, но его притягивало всё желтое и блестящее, а уж золото его притягивало, как железо притягивает руки героев. И он приказал кормчему править прямо к утесу, благо море там было глубокое, и вскоре вся команда увидела спящего мужчину в золотых доспехах. Люди пошептались, хитро посмеиваясь, и попрыгали на берег, захватив с собой канат, сплетенный из полос воловьей шкуры, корабельный трос и крепкую веревку из стеблей папируса. Из них они смастерили аркан, чтобы издали накинуть петлю на спящего мужчину. Потом вскарабкались на утес — оттуда им будет легче захватить мужчину в золотых доспехах, они втащат его на корабль, увезут в устье египетской реки и продадут в рабство тамошнему царю. Всем был известен этот обычай алчных сидонцев — они ловили свободных мужчин и женщин кого силой, кого заманивали хитростью, продавали, а потом требовали за них выкуп золотом, серебром или стадами коров, свиней и коз. Немало царских сыновей продали они в рабство в Вавилон, в Тир, в Фивы, несчастные так и умерли в неволе, вдали от Аргоса. Итак, сидонцы бесшумно, осторожно подползали к Скитальцу по траве и наконец оказались так близко, что малый ребенок смог бы добросить до него камень. Их ловкости могли бы позавидовать пастухи, готовящиеся набросить сеть на спящего льва; но при всей их ловкости Скиталец почуял опасность во сне, повернулся на бок и сел, стряхивая с себя сон и оглядываясь вокруг. И тут петля аркана захлестнула его шею и стянула руки и грудь, сидонцы рванули канат и опрокинули его на спину. Но наброситься на него они не успели, он мгновенно вскочил на ноги и, издав свой грозный боевой клич, клич, от которого некогда зашатались башни Илиона, кинулся на них, сжимая рукоять своего меча. Сидонцы, которые стояли ближе к нему и держали канат, выпустили его из рук и бросились бежать, но остальные тянули канат изо всех сил. Будь у Скитальца свободны руки, он бы выхватил свой меч и покончил с ними со всеми, хоть их была целая толпа, потому что сидонцы трусливы и неискусны в бою, но его руки были стиснуты веревкой. И все же они не сразу одолели его, те, кто убежал, вернулись и тоже стали тащить его за канат. Скиталец сделал несколько шагов, но споткнулся о камень и упал. Тут они все кинулись на него, прижали к земле и связали хитрыми морскими узлами. Однако они дорого заплатили за свою добычу, не все вернулись на корабль — одного разбойника Скиталец раздавил коленями, другому сломал позвоночник ударом ноги. Наконец у него не осталось сил сопротивляться, его опутали веревками и с великими усилиями потащили на корабль, как птицу, попавшуюся в силки, а там бросили на палубу в носовой части. Какими только насмешками они его ни осыпали, хотя в глубине души боялись, ибо даже связанный Скиталец внушал им ужас. Они снова подняли парус, гребцы сели за весла. Ветер дул как раз в сторону Нила, там, в Египте, был невольничий рынок. Радости купцов не было границ: ветер попутный, они первые из всех завязали торговые отношения с дикими племенами острова Альбион и выменяли у них золото и олово на африканские морские раковины и грубые стеклянные бусы из Египта. И вот теперь, чуть ли не в самом конце плавания, поймали человека, за чьи золотые доспехи, да и за него самого можно получить царский выкуп. Удачное путешествие, как тут не радоваться, как не благодарить попутный ветер! Путь, однако, предстоял долгий, но они хорошо знали эти воды. Проплыли мимо Кефалонии, мимо скалистого Эгилипса, покрытого густым лесом Закинфа, Саме, мимо всех остальных островов, принадлежащих Скитальцу, которого они сейчас везли продавать в рабство. Но он лежал неподвижно, хотя дышал тяжело, пошевелился всего один раз, когда судно приблизилось к Закинфу. Он могучим усилием поднял голову и в последний раз посмотрел, как солнце садится за горами Итаки. Корабль быстро шел вдоль берега, мимо забытых городов. Позади остались Эхинидские острова, берега Элиса, живописной Эйрены, к Дориону они приблизились уже в сумерки, а Пилос проплывали глубокой ночью, свет факелов, горевших во дворце Писистрата, сына мудрого Нестора, был виден далеко в море. Но когда судно доплыло до южной оконечности острова, где встречаются друг с другом воды двух морей, разыгрался шторм, ветер подхватил и понес их на юг, мимо острова Крит, к устью Нила. Корабль кидало и швыряло, они сбились с курса, из тумана на миг выплывали похожие на призраки святилища, судно не могло войти ни в одну гавань, его несло все дальше и дальше. Люди хотели спасти корабль, выбросив груз за борт, но капитан защищал люки с мечом и копьями в руках. Он решил разделить судьбу корабля: утонет корабль — и он утонет вместе с ним, если они спасутся, он отвезет свое сокровище в город цветов Сидон, построит себе белый дом среди пальм на берегу реки и навсегда забудет о море, он в этом поклялся, и потому не позволил выбросить в море Скитальца, как того требовали люди, считавшие, что Скиталец принес им несчастье. «Мы возьмем за него хорошие деньги в Танисе!» — убеждал их капитан. Наконец шторм начал стихать. Люди приободрились и на радостях, что удалось спастись, принесли жертву карликам, фигурки которых украшали нос судна — налили вина и зажгли куренья на маленьком алтаре. Развеселившись, они принялись насмехаться над Скитальцем, повесили его меч и щит на мачту, а колчан и лук взяли себе — дескать, это их военный трофей. Они были уверены, что он не понимает их насмешек, однако он хорошо знал их язык, как и язык народа, живущего в Египте, ведь он побывал во множестве городов мира и разговаривал с капитанами и купцами из многих стран, когда воевал в великих войнах. А сидонцы, ничего не подозревая, злорадно судачили о том, как они приплывут в богатый Танис, что расположен на берегах Египетской реки, как капитан заплатит фараону дань, отдав ему доспехи Скитальца и заодно его самого в качестве раба. Желая, чтобы Скиталец выглядел более привлекательно и его не стыдно было бы подарить фараону, матросы слегка ослабили стягивающие его узлы и принесли ему немного вяленого мяса и вина. Скиталец подкрепился и почувствовал, что силы к нему возвращаются. И он знаками попросил матросов ослабить узлы на ногах — они у него и в самом деле онемели, а латы больно впились в тело. Матросы его пожалели и ослабили узлы, он смог лечь на спину и стал незаметно шевелить ногами, пока к ним не вернулась чувствительность. А судно неуклонно плыло на юг по успокоившемуся морю мимо островов, похожих издали на водяные лилии. Много странного встретилось им по пути: корабли везли невольников, чьи стенания не мог заглушить ни шум ветра, ни шум волн, это были юноши и девушки из Ионии и Ахеи, которых похитили работорговцы; иногда судно проплывало мимо приветливых гаваней мирных городов; случалось им целыми днями наблюдать, как на горизонте поднимается к небу черным облаком дым, а когда наступала ночь, оказывалось, что это дым огромного костра на маяке в осажденном врагами городе. Огонь освещал мачты вражеских кораблей, окрашивал в цвет крови их паруса, играл на золоченых щитах фальшбортов. Но сидонцы плыли мимо, мимо, и вот наконец однажды вечером бросили якорь у маленького острова близ устья Нила. Почти все перебрались с корабля на берег и заснули. И тут Скиталец стал обдумывать план побега, хотя эта затея была по меньшей мере безумием. Он лежал без сна в темном трюме, связанное веревками тело мучительно болело. На освещенной луной палубе под навесом Скитальца караулил матрос. Никому и в голову не приходило, что Скиталец может бежать, поэтому матросы только наведывались взглянуть на него по очереди, и так случилось, что дежуривший сейчас матрос заснул. О чем только ни передумал пленник, пока они плыли, и в конце концов пришел к мысли, что видение богини в храме было всего лишь сном, ему это всё приснилось, и сон пришел не через ворота из полированного рога, а через ворота из слоновой кости, а эти сны не сбываются. И стало быть ему, царю, суждено прожить всю жизнь в рабстве, гнуть спину на египетских рудниках в Синае или стоять на страже у ворот фараонова дворца, и так до самой смерти. Эти мрачные мысли прервал слабый, едва слышный, но проникший в самое его сердце звук, который прилетел от висевшего над его головой лука — лука, который он уже и не надеялся когда-нибудь взять в руки. Пела тетива лука, пела его дуга, они пели без слов, но Скитальцу и не нужны были слова, он ясно слышал:Глава 4
КРОВАВО-КРАСНОЕ МОРЕ
Битва была долгая и изнурительная, Скиталец устал. Он сидел у кормила и вел корабль на юг, туда, где стояло полуденное солнце, поднявшееся в зенит. Но вдруг яркое синее небо потемнело, воздух наполнился шумом и плеском бесчисленного множества крыл. Казалось, и все дикие утки и журавли, и все птицы, что гнездятся в бескрайних соленых болотах долины Меандра, разом снялись со своих мест и летят с юга на север, закрыв все небо, курлыкая, крякая, пронзительно крича и гомоня. Птицы закрыли небо таким плотным темным облаком, что белое оперение лебедей на их фоне казалось сияющим. Увидев лебедей, Скиталец с азартом схватил лук, натянул тетиву и, тщательно прицелившись, выпустил стрелу — она попала прямо в грудь птицы, летевшей высоко над мачтой. Дикий лебедь с лёта канул в воду за кормой, подняв фонтан кроваво-красных брызг и вспенив вокруг себя волны. Но что это? Скиталец был ошеломлен. Длинные серебристые крылья убитой птицы и белоснежное оперение были в кроваво-красных пятнах. Скиталец склонился над ограждением и стал пристально всматриваться в воду. Море вокруг корабля, насколько хватал взгляд, было покрыто кроваво-красной пеной. Местами пена словно бы вскипала, однако Скиталец разглядел между волнами, в глубине, под красным слоем крови серовато-зеленые струи. Разглядел он также, что красную пену волны несут с юга, потому что гуще всего красный цвет воды был за кормой судна, хотя во время сражения с сидонцами ни малейшего оттенка красного в волнах не было. А вот впереди вода светлела, словно из раны, которую омывала рука, вытекла вся кровь. И Скиталец решил, как наверняка решили бы все мужчины, что на берегах Египетской реки произошло великое сражение великих народов и что бог Войны разгневался великим гневом, и потому священная река окрасила кровью священное море, в которое несла свои воды. Война — единственное, что у него сейчас осталось, она заменила ему родину, семейный очаг, и он устремился навстречу тому, что уготовили ему боги. Птицы пролетели и скрылись, было два часа пополудни, день был светел и ярок, и вдруг снова стало темнеть, он поднял голову и увидел, что стоящее высоко в небе солнце стало маленьким и красным, как кровь. С юга на него медленно наползала дымка, легкая, но черная, как ночь. А дальше, на юге, круто поднималась вверх огромная, как гора, черная туча, окаймленная по рваным краям огненным сиянием, она надвигалась, нависала, из ее нутра вырывались вспышки непереносимой яркости, низ прочерчивали молнии, словно туча была свиток и молнии что-то на нем писали. Никогда за время своих странствий по морям и по великой реке Океан, омывающей землю и разделяющий мир мертвых и мир живых, — никогда еще Скиталец не видел такого черного мрака. Этот мрак поглотил его, точно волчья пасть, он не видел ни трупов на палубе, ни мачты, ни матроса, висящего на рее, ни капитана, который стонал внизу, взывая к своим богам. Но позади, на горизонте, виднелся просвет яркого синего неба и белел, словно вырезанный из слоновой кости, остров, где он сражался с сидонцами. Врата мира, в котором до сих пор жил Скиталец, закрывались за ним навсегда, но он этого не знал. На севере, там, откуда он плыл, сияло голубое небо, радовались солнцу острова, поднимались к облакам горы любимой Греции, белели храмы родных богов. А впереди, на юге, куда он держал путь, всё закрывала тьма и была земля, еще более черная, чем сам мрак. Впереди были приключения, каких не придумать и самым вдохновенным певцам-сказителям, война между народами, война между богами — истинными и самозваными, последнее объятие любви, любовь-ловушка и истинная любовь. Предчувствуя, какие опасности ждут его впереди, Скиталец ощутил искушение развернуть корабль и плыть обратно, туда, где светит солнце. Однако он был не из тех, кто отступает, уж если взялся за плуг, не выпустит его из рук, пока не вспашет всё поле, а ступив на дорогу, не сойдет с нее, пока не пройдет весь путь до конца, и уж тем более сейчас он понимал, что его путь предначертан свыше. И потому он привязал к кормилу веревку и ощупью добрался до палубы, где стоял алтарь божков-карликов, на котором все еще тлели остатки жертвоприношения. Здесь он расщепил своим мечом несколько сломанных стрел и древки пик на тонкие лучинки, положил их в медную жаровню и зажег снизу от тлеющих курений. Щепки скоро разгорелись, и огонь осветил полуденную ночь, заиграл на лицах мертвых сидонцев, которые перекатывались по палубе с борта на борт, потому что корабль то взлетал на гребень волны, то скатывался вниз, засверкал оранжевым пламенем на золотых доспехах Скитальца. Никогда еще не доводилось ему совершать такого странного путешествия, он плыл один, в обществе мертвецов, плыл в бескрайнюю, беспросветную черноту, в страну, о которой ничего не знал. На корабль то и дело налетали странные порывы ветра. Ветер вдруг яростно обрушивался и так же неожиданно стихал, тут же налетал с другой стороны, сзади, спереди и мчался прочь, гоня судно по волнам. Скиталец не знал, плывет ли он на юг или на север, не знал, сколько прошло времени, потому что солнца не было. Его окружала безрассветная ночь. И все же душа его ликовала, он снова чувствовал себя молодым, прошлые горести были забыты — такой могучей силой обладал напиток богини и такое упоение он испытал, сражаясь с сидонцами. — Преисполнись мужеством, сердце! — воскликнул он, как часто восклицал в былые времена. — Случались приключения и пострашнее. Схватил лиру, которая была на корабле мертвых сидонцев, и запел:Глава 5
ЦАРИЦА МЕРИАМУН
Вести о необыкновенных происшествиях разлетаются быстрее ветра, и очень скоро фараон Менепта, прибывший недавно со своим двором в отстроенный заново Танис, узнал, что в Кемет приплыл богоподобный воин в золотых доспехах, приплыл один, на корабле мертвых. В те времена на Египет часто нападали белые варвары с моря и с островов, опустошали поля, грабили, захватывали в плен женщин и исчезали на своих кораблях. Но чтобы хоть один воин аквайюша (так египтяне называли греков) дерзнул заплыть в полном боевом облачении в Сихор, да еще сойти на берег в городе фараонов! Такого еще никогда не случалось! Известие чрезвычайно взволновало фараона, а когда он узнал, что незнакомцу предложили гостеприимство в храме Геракла, он тотчас же послал за своим верховным советником. То был старый жрец Реи, его главный зодчий, а это очень высокий титул в стране. Он служил отцу нынешнего фараона, божественному Рамзесу Второму, все его долгое царствование. Реи любили и почитали и Менепта, и его супруга, царица Мериамун. Фараон повелел ему ехать в храм Геракла и привезти к нему чужестранца. Жрецу оседлали мула, и он поехал в храм Геракла, который находился за городской стеной. Там его встретил жрец и проводил в покой, где воин ел белый египетский хлеб и пил вино из виноградников дельты Сихора. Он встал при виде Реи — все еще в своем золотом облачении, потому что переодеться ему было не во что. Рядом с ним на бронзовом треножнике лежал его шлем — греческий двурогий шлем с бронзовым наконечником копья в золотом навершии. Взгляд Реи упал на шлем, и вдруг его глаза впились в него с таким изумлением, что он едва ли услышал приветствие Скитальца. Потом все же любезно ответил ему, но не мог оторвать взгляд от шлема. — Это твой шлем, сын мой? — спросил он дрожащим голосом и взял шлем в руки. — Да, мой, — ответил Скиталец, — хотя наконечник копья в нем появился недавно, в ответ на стрелы и несколько ударов мечом. И он улыбнулся. Старый жрец велел служителям храма удалиться, они повиновались и, уходя, услышали, что Реи шепчет молитву. — Мертвые сказали правду, — тихо проговорил он, глядя то на шлем, который он по-прежнему держал в руках, то на Скитальца. — Да, мертвые говорят редко, но никогда не лгут. — Сын мой, ты утолил голод и жажду, — обратился к Скитальцу Реи, верховный жрец и главный зодчий Кемета, — позволь же старому человеку спросить тебя, откуда ты родом, где твоя родина и кто твои родители? — Родом я из Алибаса, — начал придумывать Скиталец, ведь его имя было слишком хорошо известно во всем мире, к тому же он любил морочить собеседников. — Да, я родом из Алибаса, сын Афейдаса и внук Полипемона, имя мое Эперит. — Зачем ты приплыл сюда один, на корабле, полном мертвецов, с грузом несметных сокровищ? — Эти сокровища добыли сидонские купцы и за них же заплатили жизнью, — ответил Скиталец. — Они плавали за ними на край света, много времени потратили и сил, а потом вмиг все потеряли. Им показалось мало того, что они уже захватили, они еще напали на меня, спящего, и взяли в плен, это было на Крите. Но боги дали мне силы победить их, и я привез сюда в дар вашему фараону их кормчего, много белого металла, мечи, кубки, прекрасные ткани. Окажи мне честь, выбери подарок и для себя. Пойдем! И он повел старого жреца в сокровищницу храма, где хранились богатые дары путешественников — золото, бирюза, благовония из Синая и Пунта, покрытые тончайшей резьбой огромные слоновые бивни из неведомых стран, которые находятся где-то на юге и на востоке; серебряные вазы и чаши, изготовленные дружественным Египту племенем хеттов. Среди всего этого богатства дары Скитальца выделялись особенной роскошью, и при виде их глаза старого жреца заблестели. — Прошу тебя, выбери себе что-нибудь, — сказал Скиталец. — Разделим добычу врагов между друзьями. Жрец отказывался, но Скиталец заметил, с каким восхищением он рассматривал привезенную с берегов далекого северного моря чашу из прозрачного янтаря с вырезанными на ней забавными фигурками людей, богов и огромных рыб, какие не водятся в Средиземном море. Скиталец протянул чашу жрецу. — Ты должен ее взять, — сказал он, — пей из нее и вспоминай друга и гостя, когда меня здесь не будет. Реи взял чашу, поблагодарив Скитальца, и поднес к свету, чтобы полюбоваться ее золотистым цветом. — Мы до самой смерти остаемся детьми, — сказал он, грустно улыбаясь. — Ты видишь перед собой старого ребенка, который радуется подаренной игрушке. Но всему свое время: фараон велит тебе предстать перед ним, и я пришел за тобой. И если ты хочешь порадовать меня еще больше, чем порадовал бы самым дорогим подарком, то прошу тебя, сын мой, вынь из своего шлема наконечник копья прежде, чем явиться пред очами царицы. — Прости меня, отец, — ответил Скиталец. — Если я вырву наконечник силой, то испорчу свой шлем, а кузнечных инструментов у меня нет. К тому же он подтвердит, что мой рассказ — чистая правда, так что придется наконечнику еще дня два торчать в моем шлеме. Реи со вздохом склонил голову, сложил руки и стал молиться своему богу Амону: — О Амон, в твоей деснице начало и конец всего сущего, облегчи бремя постигших нас скорбей, не допусти, чтобы явленное во сне видение воплотилось. Молю тебя, о Амон, да не ляжет твоя десница всей тяжестью на дочь твою Мериамун, царицу Кемета! Помолившись, жрец вывел Скитальца из его покоя и велел служителям храма подать им колесницу. На этой колеснице они и поехали во дворец Менепта. За ними ехали жрецы с дарами, которые Скиталец выбрал для фараона и его супруги из награбленных сидонскими купцами сокровищ. Сзади влачился привязанный к колеснице кормчий. Провожаемые любопытными взглядами толпы, они вошли во дворец и проследовали в зал приемов, где между высокими колоннами сидел на золотом троне фараон. Подле него, по правую руку, сидела прекрасная царица Мериамун. Она рассеянно, со скукой поглядела на жрецов. Подойдя к трону, они поклонились, стукнувшись лбом об пол. Потом воины представили пред очи фараона кормчего сидонца, которого привез ему в дар Скиталец, и фараон благосклонно улыбнулся, приняв раба. Потом стали подносить другие дары — золотые чаши и кубки в виде головы льва или быка, мечи, на клинках которых были выгравированы и выложены цветным золотом сцены войны и охоты, янтарные ожерелья из северных стран, которые Скиталец выбрал для царицы и фараона. Были здесь и шелка, расшитые золотом, и искусные вышивки сидонских мастериц. Царица Мериамун прикоснулась к дарам в знак того, что принимает их, и улыбнулась благосклонно и рассеянно. Алчный сидонец застонал, увидев, что случилось с его богатством, с сокровищами, которые он добывал, плавая по неведомым морям и не зная, вернется живым или нет. И наконец фараон приказал привести Скитальца, и Скиталец предстал перед ним без шлема, во всем великолепии своей мужественной красоты, такого героя страна Кемет, наверное, никогда еще не видела. Ростом он был невысок, но могучего сложения и необычайно силен, по лицу видно, что мало кто на свете столько повидал и столько пережил, как он. Его не озаряла радостная надежда молодости, зато было мужество воина, привыкшего побеждать и на море, и на суше, в глазах сверкала непобедимая отвага. Не было на свете женщины, которая, увидев его, не пожелала бы стать его возлюбленной. Когда он вошел, в зале раздались приглушенные возгласы изумления, все взгляды устремились на него — все, кроме рассеянно блуждающих глаз скучающей царицы Мериамун. Но вот она устало повернула голову и взглянула на него, и те, кому интересно наблюдать за выражением лиц царственных особ, могли бы заметить, что она побледнела, как смерть. Даже фараон это заметил, хотя особой внимательностью не отличался, и спросил ее, что с ней, но она ответила: — Нет, ничего, просто здесь очень жарко и слишком густо накурили благовониями. Приветствуй же гостя. Однако ее скрытые складками мантии пальцы судорожно впились в золотой подлокотник трона. — Добро пожаловать, странник! — воскликнул фараон своим глубоким, низким голосом. — Приветствуем тебя. Как твое имя, где живет твой народ, где твоя родина? Низко поклонившись фараону, Скиталец назвал свое придуманное имя — Эперит, сын Афейдаса, родом из Алибаса, и повторил все то, что рассказывал жрецу Реи: как его захватили в плен сидонцы, как он сражался с ними в море и победил их. И в подтверждение показал шлем с вонзившимся в него наконечником копья. Увидев шлем, Мериамун поднялась с трона, словно хотела уйти, но тут же рухнула на него, как подкошенная, без кровинки в лице. — Царица… помогите, царице дурно! — закричал жрец Реи, который все это время не спускал с нее глаз. Одна из прислужниц царицы, очень красивая девушка, подбежала к ней, опустилась на колени и стала растирать кисти ее рук, пока та не пришла в себя. — Довольно! Оставьте меня! — сердито сказала она, садясь. — Сто палок по пяткам рабу, который разжег здесь столько курений! Я не уйду в свои покои, я останусь здесь. Оставьте меня! Прислужница в страхе попятилась. Фараон приказал увести сидонца и казнить предателя на рыночной площади, но сидонец, которого звали Курри, бросился к ногам Скитальца, моля пощадить его. Скиталец не знал пощады только в пылу битвы, когда кровь его кипела, и сейчас он сжалился над сидонцем. — Будь милосерден, о фараон Менепта! — воскликнул он. — Пощади этого человека. Он спас мне жизнь, когда матросы хотели выбросить меня за борт. Позволь мне заплатить ему свой долг. — Раз ты этого желаешь, я его пощажу, — ответил фараон, — но помни: злобная месть всегда крадется по пятам простодушного милосердия и взыскивает долги задолго до срока. Вот как случилось, что Курри отдали царице, он стал ее ювелиром и начал делать для нее украшения из золота и серебра. Скитальцу отвели покои в королевском дворце — фараон решил поставить его во главе своих телохранителей, ему нравилось, что он так красив и силен. Когда Скиталец покидал тронный зал вместе с Реи, царица Мериамун снова посмотрела на него и на этот раз долго не отводила глаз, ее бледное, цвета слоновой кости лицо зарделось тем алым цветом, каким сидонцы покрывают украшения из слоновой кости для сбруи царских лошадей. Скиталец заметил и неожиданное смятение царицы Мериамун, и ярко вспыхнувший румянец, и хоть она была очень хороша собой, ему все это очень не понравилось, в сердце закралось недоброе предчувствие. И потому, оставшись наедине с Реи, он заговорил о царице и попросил старого жреца объяснить, что означает ее поведение. — Мне показалось, что царице словно бы знакомо мое лицо, как будто она видела меня раньше, и даже испугалась, — сказал он, — но я никогда не видел ее, сколько ни странствовал. Да, она красавица, и все же… но нет, нельзя обсуждать царей и цариц, когда ты находишься в их царстве. Реи в ответ на слова Скитальца только улыбнулся. Однако Скиталец почувствовал, что он встревожен, и, вспомнив, как горячо Реи просил его вынуть из шлема наконечник копья, стал его настойчиво расспрашивать. И в конце концов Реи сдался, ему очень нравилсячужеземец, а тайна, которую он хранил, слишком долго жгла его сердце, и потому он отвел Скитальца в свои собственные покои во дворце и стал рассказывать историю царицы Мериамун.Глава 6
ИСТОРИЯ ЦАРИЦЫ МЕРИАМУН
Начал свой рассказ Реи, жрец Амона и главный зодчий фараона, медленно и словно бы неохотно, но скоро увлекся, как часто случается со старыми людьми, тем более что ему самому хотелось поделиться мучившей его тайной. — Царица прекрасна, — сказал он. — Уверен, ты не видел более красивой женщины во всех своих странствиях. — Да, она и в самом деле красавица, — согласился Скиталец. — Надеюсь, она счастлива со своим супругом-фараоном и радуется тому, что она — царица. — Об этом-то я и хочу рассказать тебе, хотя, может быть, мне придется заплатить за это жизнью, — сказал Реи. — Но что стоит жизнь старика, особенно если я смогу умереть с легким сердцем, а ты, Скиталец, когда все узнаешь, может быть, поможешь и ей, и мне. Ее повелитель фараон Менепта — сын божественного Рамзеса, вечноживущего фараона, сына Солнца, воссиявшего в Осирисе. — Это означает, что он умер? — спросил Скиталец. — Он воссиял в Осирисе, — ответил жрец, — а царица Мериамун — его дочь от другой наложницы. — Как, брат женился на сестре? — изумился Скиталец. — Таков обычай у наших фараонов с незапамятных времен, когда правили еще дети Гора. Очень древний обычай. — Чужестранцы должны уважать обычаи страны, которая оказывает им гостеприимство, — учтиво заметил Скиталец. — Да, древний, священный обычай, — продолжал Реи, — но женщины, которые обычаи устанавливают, часто их же и нарушают. И меньше всех склонна их чтить царица Мериамун, даже самые древние. Но однажды ей пришлось смириться, и вот как это произошло. У ее брата Менепта, нынешнего фараона, который был правителем Куша[499] при жизни своего божественного отца, было много единокровных сестер, но из всех из них Мериамун была самая красивая. Да, она хороша, народ называет ее Дочь Луны, и к тому же она умна и не ведает страха. Но это еще не все — она сумела постигнуть всю тайную мудрость нашей древней страны, а такое редко бывает доступно даже нашим царицам. Никто не владеет такими знаниями, как Мериамун, разве что в прежние времена царица Тайя… И всему научил ее я, я и еще один учитель. Жрец умолк и, судя по его лицу, задумался о чем-то печальном. — Я учил ее с детства, — наконец продолжал он, — и если бы только я был единственным ее наставником… После своего божественного отца и матери она больше всех любила меня. А любила она мало кого. Но из всех, кого она не любила, ей был особенно ненавистен ее царственный брат. Он косноязычен, а она остра на язык. Она бесстрашна, а он боится войны. Она его с детства презирала, издевалась над ним, язвила своими беспощадными насмешками. Даже в состязаниях на колесницах обгоняла — поэтому его отец фараон поручил ему командовать всего лишь пехотой, — быстрее его отгадывала загадки, которые у нас в Египте так все любят, и радовалась, побеждая его. А победить его было нетрудно, ведь божественный наследник — тяжелодум, а ум Мериамун остр и быстр, и она не уставала глумиться над ним. Еще маленькой девочкой она завидовала ему, потому что он будет носить двойную корону Египта и держать в руках хеку, нехех и уас[500], а она будет жить в праздности и тщетно жаждать власти. — Тогда почему из всех сестер он выбрал себе в жены именно ее? Очень странно, — сказал Скиталец. — И в самом деле странно, и вообще вся эта история очень странная. Отец царевича, божественный Рамзес, пожелал женить сына на Мериамун. Этот брак был ему так же ненавистен, как и Мериамун, но воля отца — воля богов. В одном только божественный царевич превосходил ее — он очень хорошо играл в шатрандж[501], это старинная египетская игра. Женщины в нее не играют, не их ума это дело, но Мериамун даже в этой игре решила превзойти своего брата. Велела мне вырезать фигурки в виде кошачьих голов из древесины кипариса. Я вырезал их собственными руками, и она каждый вечер играла со мной, а я, должен признаться, один из лучших игроков у нас в Кемете. И вот однажды на закате ее брат вернулся с охоты на львов. Охотился он в Ливийских горах, ни одного льва они не выследили, и он был настроен чрезвычайно злобно, приказал бить охотников по спине палками, а себе велел принести вина и стал пить прямо у ворот дворца, и чем больше он пил, тем больше мрачнел. Потом пошел в свои покои, раздавая удары плеткой своим собакам, и вдруг случайно оглянулся и увидел Мериамун. Она сидела под сенью трех раскидистых пальм и играла со мной в шатрандж, радуясь вечерней прохладе. В белом одеянии с пурпурной каймой, с золотым уреем в черных волосах, она была прекрасна, как богиня любви Хатор или даже сама Исида, играющая в шатрандж с великим фараоном древности в Аменти. Я старый человек, и я имею право сказать, что нет на свете женщины прекраснее Мериамун, разве что только та, которую люди называют Чужестранкой Хатор, хотя никто не знает, женщина она или богиня. Скиталец вспомнил, что рассказывал ему проводник, однако промолчал. — Царевич увидел ее, — продолжал Реи, — и ему захотелось сорвать свою злобу на ком-нибудь еще. Он подошел к нам, я встал и низко ему поклонился, а Мериамун небрежно откинулась на спинку своего кресла резной слоновой кости, легким движением своей маленькой ручки смешала на доске фигуры и велела своей прислужнице Хатаске собрать всё и унести. Но Хатаска украдкой наблюдала за царевичем. — Приветствую тебя, наша царственная сестра, — сказал он. — Что это ты тут делаешь? — И он указал концом кнута на деревянные головки кошек. — Это не женская игра, а фигурки — не слабые сердца мужчин, готовые подчиниться любой твоей прихоти. Эта игра требует глубокого ума! Занимайся своим вышиванием, как вам, женщинам, и положено. — Приветствую тебя, наш царственный брат, — ответила Мериамун. — Ну ты меня и насмешил — говоришь об игре, которая требует глубокого ума. У тебя была неудачная охота, так иди и предайся своей любимой игре — пируй до утра, тут, я слышала, тебе нет равных. — Что верно, то верно, — засмеялся царевич, бросаясь в кресло, с которого я встал. — Зато в игре в шатрандж я уступлю тебе храм, жреца и пятерых лучников — так называются фигуры в этой игре, Скиталец, — и всё равно выиграю. — Принимаю вызов! — воскликнула Мериамун, ибо она добилась от него именно того, чего желала. — Но я не хочу рисковать. Я сыграю с тобой три партии и ставлю на кон свою священную золотую диадему против твоего царственного урея, кто выиграет, тому достанутся оба венца. — Нет, нет, моя госпожа, — осмелился возразить я, — это слишком высокая ставка. — Высокая ставка или низкая, я принимаю вызов, — сказал царевич. — Слишком долго моя сестрица глумилась надо мной. Она убедится, что не ее куцему женскому умишку состязаться с моим в этой мужской игре и что сын моего царственного отца, правитель провинции Куш и будущий фараон, стократно превосходит женщину. Да, Мериамун, я согласен! — Договорились! — воскликнула она. — После захода солнца приходи в мой малый покой. И приведи писца, чтобы записывал ходы. Реи будет судья, он же вручит победителю награды. Но бойся золотого кубка Пахт! Не пей сегодня вина, а то я выиграю все три партии, и вовсе не потому что ты влюблен и готов потакать моим капризам и прихотям! Взбешенный царевич ушел, а Мериамун только рассмеялась ему вслед, но я чувствовал, что она готовит ему какую-то ловушку. Слишком высоки были ставки, слишком странную она затеяла игру, но Мериамун не желала меня слушать, ее своенравие не знало пределов. Два часа спустя после захода солнца принц Менепта, царственный правитель провинции Куш, пришел вместе со своим писцом в малый покой Мериамун. Она уже ждала его с доской и фигурами. Он молча сел, потом спросил, кому начинать игру. — Подожди, — возразила она, — сначала положим на кон наши заклады. — Сняла с головы золотую змею, распустив свои роскошные волосы, и отдала венец мне. — Если я проиграю, — сказала она, — никогда не носить мне золотого урея. — Тебе и так его никогда не носить, пока я жив, — отрезал царевич и тоже снял с головы свой символ царской власти и протянул мне. Венцы были разные: на лбу диадемы Мериамун была одна голова кобры, а на короне божественного царевича — две. — Как знать, Менепта, — пропела она, — быть может, Осирис, бог Смерти, уже ожидает тебя, ведь он любит самых великих и самых достойных и забирает их к себе. Твой ход первый, начнем же игру. Он нахмурился, услышав ее зловещее пророчество, однако сделал первый ход — он и в самом деле хорошо играл. Она в ответ передвинула какую-то фигуру, почти не глядя, и потом всю партию играла бездумно и небрежно, переставляя фигуры как попало, так что он быстро выиграл первую партию и, крикнув: «Фараон убит!», смахнул фигуры с доски. — Вот как надо играть! — с торжеством засмеялся он. — А ты все время только нападаешь и не защищаешься, как все женщины. — Не спеши хвастаться, Менепта, — ответила Мериамун. — У нас с тобой еще две партии. Фигуры расставлены, сейчас начинаю я. Теперь она играла совсем по-другому, царевичу удалось выиграть у нее только храм и двух лучников, и скоро настал черед Мериамун воскликнуть: «Фараон убит!» и смахнуть фигуры с доски. Менепта было не до хвастовства, он злобно хмурился, пока я расставлял на доске фигуры, а писец записывал проигрыш на его табличках. На этот раз первый ход принадлежал Менепта. — Да благословит меня великий бог Тот[502], которому я принесу великие дары в благодарность за победу! — воскликнул он. — Да благословит меня великая богиня Пахт[503], которой я каждый день возношу молитвы, — парировала она. Да, Мериамун-юная дева молилась богине Непорочности, а Мериамун-царевна — богине Мести. — Тебе сейчас стоит возносить молитвы богине Баст[504], — презрительно бросил Менепта. — Ты прав, еще как стоит, — отвечала она, — надеюсь, она одолжит мне свои когти. Начинай же, царевич Менепта. И он начал игру, да так удачно, что сначала она проигрывала. Сражались они долго, Мериамун теряла фигуру за фигурой, но вот ее глаза радостно сверкнули, казалось, она нашла решение, которое искала. Царевич велел принести ему вина, и пока он пил, она сидела, откинувшись на спинку своего кресла, и внимательно глядела на доску. Потом сделала такой хитрый ход в искуснейше продуманном плане, что он оказался в засаде и сдался. Увы, напрасно клялся он принести великие дары Тоту, напрасно обещал построить ему храм, великолепнее которого еще не было в Кемете. — Тот тебя не услышал, — с насмешкой сказала Мериамун, — он бог ученых людей. Менепта разразился проклятиями и снова взялся за вино. — Глупцы ищут мудрость в вине, но находят ее только мудрые, — продолжала она. — Вот так-то, наш царственный брат. Фараон убит, я выиграла и победила тебя в твоей любимой мужской игре. Слуга мой Реи, подай мне венец, нет, не моего урея, а двойного, того, что поставил на кон божественный царевич. Возложи его на мою голову, он теперь мой. Видишь, Менепта, и в этой игре, как и во всем другом, я превзошла тебя. И она встала, выпрямившись, освещенная ярким светом светильников, с царственным уреем на челе, и протянула ему свою маленькую ручку, чтобы он поцеловал ее, воздавая царскую почесть ей, выигравшей его венец. Она была так ослепительно хороша, что божественный принц, правитель провинции Куш, перестал клясть злых богов за свою неудачу и застыл, с изумлением глядя на нее. — А ты красавица, клянусь Пта! — воскликнул он. — Прощаю своего отца за то, что он пожелал сделать тебя моей царственной супругой. — А вот я никогда его не прощу, — сказала Мериамун. Царевич осушил еще один кубок. — Ты будешь моей царицей, — сказал он, — это решено, и потому я тебя поцелую. Уж тут-то я одержу верх над тобой. Мериамун не успела увернуться, он схватил ее, обнял за талию и крепко поцеловал в губы. Она побледнела, как смерть. На боку у нее висел кинжал. Она быстро выхватила его и ударила Менепта в сердце, крикнув: «А вот это, царевич, мой поцелуй!», и если бы он не успел отпрянуть, то наверняка был бы убит, но кинжал пронзил только его плечо, я схватил ее за руку, чтобы она не замахнулась снова. — Змея! — закричал царевич, побелев от ярости и страха. — Я еще буду целовать тебя, нравится тебе это или нет, а за удар ты мне дорого заплатишь. Она негромко рассмеялась, потому что гнев ее остыл, и я повел Менепта к лекарю, чтобы тот перевязал ему рану. А вернувшись, стал укорять ее, воздев руки: — О царевна, что ты сделала! Ты ведь знаешь, что твой божественный отец предназначил тебя в жены царевичу Менепта, а ты сейчас чуть его не убила! — Ну уж нет, Реи, чтобы я вышла замуж за этого недоумка, которого называют сыном фараона? К тому же он мой единокровный брат, а за братьев выходить замуж не положено. Природа вопиёт против этого кровосмесительного обычая нашей страны. — И тем не менее таков обычай династии фараонов и такова воля твоего отца. Так поступали великие боги, твои предки: Исида стала супругой Осириса; этот обычай чтили великий Тотмус и его великий сын Аменемхет, равно как и все их предки и все потомки. Подумай, прошу тебя, потому что я люблю тебя, как родную дочь! Ведь единственный путь к трону фараона — это его ложе. А ты любишь власть, и перед тобой дверь, ведущая к власти. Кто знает, быть может, тот, кто эту дверь открывает, умрет, и ты останешься на троне одна. — Ах, Реи, сейчас ты говоришь, как преданный советник царской особы. Если бы я только ненавидела его не так сильно! И все же я могу подчинить его себе. Я ведь не случайно затеяла нынешнюю игру, от ее исхода зависело мое будущее. Ты видишь — на моем челе его урей! Сначала победил он, это я решила позволить ему выиграть. Что ж, может быть, я и стану его женой, хоть ненавижу лютой ненавистью. Потом начну следующую партию, ставкой будет моя жизнь, любовь и всё, что мне дорого, и эту игру я выиграю, мне будет принадлежать двуглавый урей, двойная корона древнего Кемета, я буду править страной, как некогда правила великая царица Хатшепсут, ведь я сильна, а победа всегда достается сильным. — Это верно, — ответил я, — но берегись, царевна, как бы боги не обратили твою силу в слабость. У тебя слишком страстная душа, а страсть в душе женщины сродни безрассудству. Сегодня ты ненавидишь, но будь осторожна: завтра ты можешь полюбить. — Полюбить! — презрительно фыркнула она. — Мериамун не полюбит, пока не встретит мужчину, достойного ее любви! — И что будет тогда? — Тогда ее любовь разрушит все препятствия, и горе тем, кто встанет у нее на пути. Прощай, Реи. Она вдруг заговорила со мной на языке, который знают лишь очень немногие, кроме нее и меня, а читать на нем умеем только мы с ней, это мертвый язык исчезнувшего народа, который жил в глубокой древности в Стране Гор, откуда вышли и наши праотцы[505]. — Я пойду, — сказала Мериамун, и я задрожал, услышав, что она произнесла эти слова на мертвом языке, потому что на нем говорят, лишь замыслив недоброе. — Пойду просить совета, и ты знаешь, у кого. — Она дотронулась до золотой змеи, которую выиграла у царевича. Я бросился к ее ногам, обнял ее колени, я умолял: — Дочь моя, о дочь моя, не совершай этого великого преступления! За все царства мира не буди То, что спит, не вдыхай тепло жизни в То, что объято холодом смерти. Но она лишь покачала головой и отстранила меня. Старый жрец побледнел, вспоминая эту сцену. — Что же она задумала? — спросил Скиталец. — Нет, Скиталец, ты тоже не буди То, что спит, — после долгого молчания ответил он. — На моих устах лежит печать. Я и так рассказал тебе то, чего никому не рассказывал. Не спрашивай меня… Но что это? Они вернулись! Да проклянут их Ра, Пахт и Амон! Да сожрет их в Аменти мерзкая свинья Сета! Да вопьются в их плоть крокодильи зубы Себека, да длятся их терзания вечно! — Реи, на кого ты насылаешь такие ужасные проклятья? — спросил Скиталец. — И кто это к нам приближается? Я слышу топот толпы и пение. И в самом деле — мимо дворцовой ограды шла огромная толпа и победно распевала о том, что их бог победил богов Кемета и посрамил его фараона, наслав на страну десять страшных казней. — Это рабы, мерзкие богохульники и колдуны, — ответил Реи, когда шум шагов и пение стали тише. — Их магия даже сильнее нашей, их вождь был когда-то одним из наших жрецов и постиг тайны нашей древней мудрости. Если они ходят по улицам и поют, то непременно жди беды. Еще до рассвета мы узнаем, что они задумали. Да истребят их боги! Хорошо, хоть сейчас они ушли. Отпустила бы их царица Мериамун навсегда, они хотят уйти в пустыню, вот и сгинули бы там, но она не желает уступить фараону и нарочно его злит.Глава 7
СНЫ ЦАРИЦЫ МЕРИАМУН
Наконец гомонящая толпа удалилась, наступила тишина, и Реи успокоился, не слыша больше варварского пения и бряцания тимпанов. — Я должен рассказать тебе, Эперит, — заговорил он, — чем кончилась история божественного царевича и Мериамун. Она смирила свою гордыню перед отцом и братом, ибо воля отца — это воля богов; забыла, казалось, о своей тайной мечте, однако выдвинула условия: она должна быть во всем равной фараону, такова цена ее согласия на брак — во всех храмах всех городов Кемета ее должны торжественно провозгласить вместе с Менепта наследницей корон Верхнего и Нижнего Египта. Сделка была заключена, и цена заплачена. После того вечера, когда Мериамун выиграла у Менепта двойного урея, она сильно изменилась. Перестала издеваться над царевичем, заставила себя быть кроткой и покладистой. И вот наконец в назначенный срок, в день, когда начался разлив Сихора, состоялась свадьба. Ее отпраздновали с величайшей пышностью, и дочь фараона стала супругой сына фараона. Но рука ее, когда она стояла перед алтарем, была холодна, как рука воссиявших в Осирисе. С гордым и холодным выражением лица села она в золотую колесницу и выехала из больших ворот Таниса. И только когда услышала, что в приветственных кликах многотысячной толпы ее имя «Мериамун!» заглушает имя ее супруга, она наконец улыбнулась. Такая же холодная и неприступная сидела она в своих белых одеждах на свадебном пиру, который устроил фараон, и ни разу не взглянула на сидевшего рядом с ней мужа, хотя он нежно улыбался, взглядывая на нее. Наконец долгий пир кончился, в зал пришли певцы и музыканты, но Мериамун придумала какой-то предлог, встала и удалилась в сопровождении своих придворных дам и прислужниц. На сердце у меня было тяжело, я устал и тоже ушел к себе и занялся расчетами, ибо я, о странник, строю дома для царей и для богов. Вскоре в дверь ко мне постучали, и вошла женщина, с ног до головы закутанная в плотное покрывало. Она сбросила покрывало, и передо мной предстала Мериамун в своем свадебном уборе. — Не обращай на меня внимания, Реи, — сказала она. — У меня есть еще целый час времени, и я хочу посмотреть, как ты работаешь. Это мой каприз, пожалуйста, не прогоняй меня, я люблю смотреть на твое старое лицо, эти морщины выточены искусным резцом твоих знаний и долгих лет. И я с детства могу бесконечно смотреть, как ты чертишь планы величественных храмов, которые переживут не только нас, но, может быть, и память о богах, которым мы поклоняемся. Ты, Реи, мудрый человек, твоя стезя достойней моей, ведь ты созидаешь свои творения из прочного камня и украшаешь их стены по вольной воле своей фантазии. А я — я пытаюсь строить на зыбучих песках человеческого сердца, и ветер тотчас стирает плоды моей фантазии. Когда я умру, построй мне усыпальницу, красивее которой нет нигде на свете, и сделай над входом надпись: «Здесь, в этом последнем храме своей гордыни, покоится царица Мериамун, так ничего и не сумевшая построить». Безумные слова, и вид у нее был безумный! — Что ты такое говоришь, царевна? Ведь сегодня твоя брачная ночь! Зачем ты пришла сюда? — Зачем я пришла сюда? Да потому, что мне захотелось снова стать той маленькой девочкой, какой я была когда-то. Реи, Реи, во всем огромном Кемете нет сейчас женщины, так безвозвратно опозорившей и погубившей себя, как твоя любимая царевна Мериамун! Я пала ниже уличных потаскушек, которые продаются за кусок хлеба, ведь чем возвышенней дух человека, тем глубже его падение. Я продалась за власть, это еще более грязная сделка. О, будь проклята судьба женщины, которая может достичь власти только благодаря своей красоте! Будь проклят тот фараон, который узаконил в глубокой древности этот обычай, проклятье мне, разбудившей То, что спит, согревшей То, что холоднее смерти, теплом своего дыхания, на своей груди! Будь проклято преступление, на которое ожившее Зло меня толкнуло! Отринь меня, Реи, ударь меня по лицу, плюнь мне в глаза, мне, Мериамун, царственной шлюхе, продавшей себя за корону. Я ненавижу его, как же я его ненавижу, я заплачу ему позором за позор, этому шуту в царском одеянии. Смотри же! — Она выхватила из складок платья белый цветок, свойства которого были хорошо известны и ей, и мне. — Я сегодня два раза хотела положить конец своей жизни с помощью этого смертоносного цветка, смыть свой позор, расстаться с суетной жаждой власти. Но меня остановила мысль, что я, Мериамун, могу пережить его, и тогда я уничтожу все его изображения, сотру его имя со стен всех храмов Кемета, как было стерто ненавистное имя Хатшепсут. Я… И она вдруг залилась потоком слез — она, которая никогда раньше не плакала. — Не прикасайся ко мне, не надо, — сказала она. — Это злые слезы. Судьба не властна над Мериамун, Мериамун сама повелевает своей судьбой… А теперь я должна уйти, меня ожидает мой господин. Добрый, старый друг, поцелуй меня в лоб, пока я еще Мериамун, которую ты знаешь, и потом не целуй больше никогда. Хотя бы для тебя это обернется благом: когда Мериамун станет царицей Кемета, она сделает тебя первым сановником в стране, ты будешь стоять на ступенях моего трона. Прощай. Она подобрала свое покрывало, бросила белый смертоносный цветок в огонь жаровни и ушла. Сердце мое разрывалось. Я понял, что эта удивительная женщина не знает меры ни в добре, ни в зле.Назавтра вечером я снова сидел у себя и чертил, и снова в дверь постучали, вошла закутанная в покрывало женщина и сбросила его. Это была Мериамун, бледная, мрачная. Я встал, но она знаком велела мне сесть. — Значит, царевич… твой супруг… — пролепетал я. — Реи, слуга мой, не будем говорить о царевиче, — сказала она. — Вчера я была не в себе от волнения, говорила с тобой, как безумная, забудь мои речи — я жена, счастливая женщина. И она улыбнулась такой странной улыбкой, что я отшатнулся от нее. — Сейчас расскажу, зачем я пришла к тебе. Мне приснился сон, он меня очень встревожил, а ты мудр и учен, и я прошу тебя растолковать его. Мне снился мужчина, и во сне я любила этого мужчину, как никогда еще не любила никого. Мое сердце билось только для него, моя душа принадлежала одному ему, я жила только ради него, и я знала, что буду любить его всегда. Фараон был мой супруг, но во сне я его не любила. Потом появилась женщина, она поднялась из моря и была прекраснее, чем я, ее красота была нежней и переменчивей утренней зари в горах, и эта женщина тоже любила богоподобного мужчину, и он любил ее. Мы с ней боролись за его любовь, стараясь покорить его красотой, остротой ума, волшебством. Побеждала то одна, то другая, но в конце концов победа досталась мне. Я взошла в облачении невесты на брачное ложе — и обняла холодный труп. Я проснулась, потом снова заснула и увидела себя совсем в другом одеянии, и говорила я на другом языке. Передо мной был мужчина, которого я любила, и та, другая женщина, ослепляющая своей красотой, но я была уже не я, хотя оставалась все той же Мериамун, которую ты видишь перед собой. Мы снова вступили с ней в борьбу — кто кого победит и кому отдаст свое сердце мужчина, и на этот раз победила она… Я снова заснула и увидела себя не в родном Кемете, а в какой-то другой стране — чужой, неведомой, и все же мне казалось, что когда-то давно я была в ней, жила там среди гробниц, на меня смотрели темные лица, талию мою обвивало То, о ком ты знаешь. Каменные стены гробниц, в которых мы жили, были покрыты надписями на мертвом языке — на языке той страны, откуда пришли наши праотцы. У нас у всех было другое обличье, и все же мы оставались прежними, и снова я и та женщина старались победить друг друга, и я уже одерживала верх, как вдруг на меня хлынуло огненное море, и я проснулась… Снова заснула, и видение замелькало за видением, я даже не помню всего, что видела, но только наше соперничество повторялось снова и снова, в разных странах, в разных жизнях, мы говорили на разных языках, и этому не было конца. Однако последнего поединка мне не было явлено, я так и не узнала, кто победил. Я громко кричала во сне, моля милосердных богов прервать этот сон, я хотела понять, что все это означает. И вдруг мне показалось, что передо мной распахнулись врата Прошлого. И там, в этом прошлом, когда-то давно, в глубине тысячелетий я и этот мужчина из моего сна возникли из ничего, мы поглядели друг другу в глаза и полюбили друг друга любовью, которая никогда не кончается. Мы поклялись любить друг друга через времена, во всех мирах. Мы были тогда не смертные, а полубоги, красивее и сильнее самых красивых и самых сильных людей, и наше счастье было счастьем богов. И вдруг в наше счастье ворвался голос Того, кто тебе известен, Того, кого я, вопреки твоим увещеваниям, недавно потревожила. Поцелуй нашей любви разбудил То, что спит, огонь нашей любви согрел То, что сковано холодом смерти! Мы бросили вызов великим богам, потому что не поклонялись им, мы поклонялись друг другу, ведь мы считали, что мы боги и потому бессмертны. И боги разгневались и призвали нас к себе. С трепетом внимали мы их грозному голосу: «Вы, двое, живущие одной жизнью и слитые в единое целое, своими поцелуями вы разбудили То, что спит, огнем своей любви вы вдохнули тепло в То, что цепенеет в холоде смерти, вы забыли богов, даровавших вам жизнь, любовь и счастье, узнайте же наш приговор! Теперь вас будет не двое, а трое, и до конца времен вы будете стремиться к единению вдвоем. Прочь из этого священного места на землю, где муки и страдания, и хоть вы бессмертны, мы облекаем вас в земную оболочку смертных. Вы будете переходить из жизни в жизнь, жить, любить, ненавидеть и умирать, и в каждой жизни вам суждено пережить всё, что выпадает на долю смертных, и всё это забыть, и потом, в слепом забвении, вы, единое целое и два равных существа, будете терзать друг друга, подчиняясь закону земли, совершать преступления ради своей любви, нести бремя позора, погибать, возрождаться, побеждать, терпеть поражение — всегда втроем, как вам предопределено, и когда наконец по повелению Судьбы вечно повторяющийся круг замкнется, когда пелена спадет с ваших глаз и вы прозреете всю меру вашего неразумия и постигнете тайный смысл ваших страданий — вот тогда вас снова будет двое, и вы сольетесь в единое целое. Мы дрожали, прижавшись друг к другу, а грозный голос продолжал: — Вы, двое, слитые в единое целое! Пусть То, чьему голосу вы вняли, разделит вас и обовьет обоих! Отныне вас трое! Моя грудь разрывалась от муки, казалось, я вот-вот потеряю сознание, а рядом с мужчиной, которого я любила, вдруг появилась женщина из моего сна — в сиянии своей несказанной красоты и со звездным камнем на груди. Нас было трое! А между ним и мной, обвившись, однако, вокруг него и вокруг меня, извивалось То, чье имя тебе известно. И он, кого я любила, с восхищением глядел на прекрасную женщину, а она улыбнулась и протянула к нему руку, словно желая взять то, что принадлежит ей по праву, и в этот миг, Реи, хоть всё это происходило во сне, я испытала жгучую ревность смертных и проснулась, дрожа… Растолкуй, Реи, мой сон, ведь ты искушен в толковании сновидений, в царстве сна для тебя нет тайн. — Нет, госпожа, — ответил я, — твой сон выше моего разумения, я не могу его растолковать, хотя всегда и во всем рад тебе помочь. — Ты любишь меня, Реи, я знаю, — сказала она, — но твои слова не рассеяли мрак. И потому… и потому забудем всё! Ведь это был всего лишь сон, и если он прилетел ко мне из царства мертвых, значит, послали его не добрые боги, а убийца Сет или не знающая жалости Пахт, она бросила зловещую тень Судьбы на зеркало моего сна. А что Судьбой предначертано, то неминуемо свершится! Я словно песчинка, гонимая вихрем Судьбы; то она вознесет меня на самую высокую башню грандиозного храма, то швырнет под ноги толпе рабов, то утопит в пучине горя, то снова вынесет на поверхность. Я не люблю своего господина, который станет фараоном, а тот, кого я могла бы полюбить, никогда мне не встретится. Я рада, что не люблю фараона, ведь любовь делает нас рабами. Когда сердце холодно, то рука сильна, а я хочу быть первой царицей в нашей древней стране, за которой фараон пойдет, как послушная овца. Я рождена повелевать, а не покоряться. Что ж, буду править, пока смогу, пока не кончится мой срок. Смотри, Реи: Исида со своего трона заливает сиянием весь наш город, все улицы, дома, дворы, лучи дробятся и пляшут на лоне вод. Так и я, Дитя Луны, озарю своим светом нашу страну Кемет. И разве так уж важно, что перед восходом солнца Исида должна спуститься в свое царство мертвых и что голос Мериамун когда-то смолкнет и ее положат в гробницу? Она ушла. Как хотелось бы видеть на ее лице улыбку счастливой новобрачной, но нет, на нем играла странная загадочная усмешка, с какой божественный сфинкс Хоремху глядит на вечные пески пустыни. — Странная царица, — промолвил Скиталец, помолчав. — Но какое отношение имею я к этой истории с ее замужеством и к ее бредовым снам? — Гораздо большее, чем тебе хотелось бы, — ответил Реи. — Дослушай мой рассказ до конца и ты поймешь, какую роль назначила тебе судьба.
Глава 8
КА, БА И КУ[506]
Божественный фараон Рамзес умер и воссиял в Осирисе. Вот этими руками я закрыл его гроб и положил в великолепный саркофаг, где он будет покоиться до дня пробуждения. Правителями Кемета стали Мериамун и Менепта. Но она была очень холодна со своим супругом-фараоном, хотя он исполнял все ее желания; у них родился всего один ребенок, и довольно скоро ее красота перестала его волновать. Но эта женщина наделена выдающимся умом, и потому она властвовала не только всей страной, но и фараоном. А я — я был обласкан и высоко вознесен ею, она сделала меня главным зодчим Кемета и командующим легионом Амона, часто и подолгу беседовала со мной. Однажды Мериамун устроила пир в честь фараона, и рядом с ним во время пира сидела Хатаска — первая среди придворных дам в свите царицы, красивая, но наглая, она на короткий миг стала очередной фавориткой фараона. Фараон опьянел и, никого не стесняясь, стал гладить руку Хатаски, однако царица Мериамун не обратила на это никакого внимания, и Хатаска, тоже выпившая слишком много теплого вина из виноградников Нижнего Египта, повела себя и вовсе вызывающе, как это было ей свойственно. Она отпила несколько глотков из своего золотого кубка и приказала рабу отнести кубок царице, воскликнув: «Выпей за мое здоровье, сестрица!» Все поняли, что сделала эта приближенная Мериамун: Хатаска во всеуслышание объявила, что она жена фараона и считает себя равной царице. Мериамун было безразлично, кого берет себе в любовницы фараон, но чтобы кто-то покусился на ее власть? Этого она допустить не могла. Мериамун сдвинула брови, ее темные глаза сверкнули, однако она взяла кубок и прикоснулась к нему губами. Потом подняла свой кубок, полюбовалась им, сделала вид, что пьет, и ласково сказала королевской любовнице, пожелавшей, чтобы царица выпила за ее здоровье: — Выпей и ты за меня, прислужница моя Хатаска, ведь я предвижу, что скоро ты возвысишься и надо мной, царицей. Глупая женщина не поняла сказанных ее госпожой слов и взяла кубок из рук евнуха, который поднес его. Слегка кивнула царице, небрежно махнула ей своей маленькой ручкой и выпила вино, но тут же издала леденящий душу крик и упала, бездыханная, на стол. Все окаменели от ужаса, люди не смели произнести ни слова, но и молчать боялись, а Мериамун с презрительной усмешкой глядела на темноволосую голову, лежавшую на столе среди роз. Фараон вскочил, побелев от бешенства, и приказал стражникам схватить царицу, но она остановила их движением руки. — Осмельтесь только прикоснуться к коронованной царице Кемета, вас постигнет та же судьба, что покарала ее, — медленно, грозно произнесла она. — А ты, Менепта, не забывай своей брачной клятвы. Чтобы твоя девка бросала мне в лицо оскорбления и называла своей «сестрицей»? Никогда! Может быть, глаза мои слепы, зато слух острее острого. Молчи, она получила по заслугам, а ты выбирай себе любовниц попроще, не из знати! Фараон молчал, он боялся Мериамун, боялся все больше и больше. А она спокойно откинулась на спинку своего роскошного кресла и, играя золотым скарабеем на своем ожерелье, наблюдала, как рабы уносят тело Хатаски. Гости один за другим с почтительными поклонами удалились, радуясь, что наконец-то можно уйти, остались только фараон, царица Мериамун и я, жрец Реи, всех остальных прогнал страх. И тут фараон заговорил, не глядя ни на нее, ни на меня, и голос его срывался от страха и от ярости: — О, как я тебя ненавижу! Будь проклят тот день, когда я увидел, как ты красива! Да, ты победила меня, но берегись: я все еще фараон и твой господин. И если ты еще хоть раз дерзнешь мне перечить, то, клянусь Тем, кто покоится в священной земле острова Филэ[507], я свергну тебя с престола и отдам твое тело на истязания палачам, а душа твоя полетит следом за той, которую ты сейчас убила. — Запомни, фараон, — с презрением бросила Мериамун, — если ты хоть пальцем шевельнешь, чтобы причинить зло мне, царице, ты погиб. Тебе меня убить не удастся, а вот я легко уберу тебя со своего пути, клянусь той же клятвой, что клялся ты! Клянусь Тем, кто покоится в священной земле острова Филэ, посмей только поднять против меня руку, посмей только помыслить о предательстве, и ты умрешь. Меня невозможно обмануть, мне обо всем сообщают вестники, которых ты не видишь и не слышишь. Мне известны тайны колдовства царицы Тайи, жившей прежде меня. Выслушай меня, фараон Менепта, и сделай так, как я скажу, тогда мы перестанем ссориться и угрожать друг другу. Живи своей жизнью и не мешай мне жить моей. Я — царица и царицей я останусь, пока жива; во всех государственных делах мы равноправны, хотя о решении объявляешь ты. И это единственное, что нас связывает, отныне мы будем жить врозь, потому что ты боишься меня, Менепта, а я тебя не люблю, но и никого другого я тоже не люблю. — Что ж, пусть будет так, — согласился фараон, дрогнув, к нему вернулся прежний страх. — В злосчастный день мы встретились с тобой, дорогой ценой расплачиваюсь я за свою страсть. Отныне мы не делим ложе, мы навсегда чужие, и только в совете мы по-прежнему едины, потому что у нас одни и те же цели. Я знаю о твоем могуществе, Мериамун, дарованном тебе злыми богами. Не бойся, я не убью тебя, ибо копье, брошенное в богов, поражает того, кто его бросил. Слуга мой Реи, ты был свидетелем наших брачных клятв, теперь будь свидетелем того, как мы их расторгаем. Мериамун, царица древнего Кемета, отныне ты мне больше не жена. Прощай. И фараон ушел мрачный, терзаемый страхом. — Ну вот, свершилось, — произнесла Мериамун, глядя ему вслед, — я больше не супруга Менепта, но по-прежнему грозная царица Кемета. Старый мой друг Реи, как же мне всё постыло. Странная мне выпала судьба. У меня есть всё, что только можно пожелать, — всё, кроме любви, и мне ничего этого не нужно. Я жаждала власти, и вот власть в моих руках, и что такое власть? Суета, бессмысленная, нескончаемая суета. Мне невыносима эта жизнь без любви в однообразном круговороте повседневности. Один только час любви, и потом умереть! О, если бы Судьба согласилась поднять завесу и показала мне мое будущее! Послушай, Реи, ведь у тебя хватит смелости, ведь ты отважишься… — Она схватила меня за рукав и зашептала прямо в ухо на мертвом языке, который мы с ней знали: — Та, которую я убила… ты видел… — Да, царица, видел… зачем тебе она? То был жестокий, злой поступок. — Нет, я поступила правильно, поделом ей. Ты ведь знаешь, тело ее еще не остыло и еще сколько-то времени будет оставаться теплым, а я обладаю искусством вызывать дух умерших оттуда, где они находятся, пока их тело не сковал холод, и узнавать из их уст будущее, ведь они соединились в этот миг с Осирисом, и им открылось всё тайное. — Нет, нет! — воскликнул я. — Это кощунство, нельзя тревожить умерших, их боги-охранители разгневаются! — Я все равно вызову ее дух. Если ты боишься, Реи, не ходи со мной, я пойду одна. Я должна все узнать, а узнать я могу только у нее, другого способа нет. И если я умру, совершая этот страшный обряд, напиши, что царица Мериамун хотела узнать свою судьбу и встретила ее! — Нет, царица, — ответил я, — ты не пойдешь туда одна. Я тоже сведущ в искусстве волхвованья и, может быть, сумею охранить тебя от злых сил. И если ты действительно хочешь совершить это святотатство, то я, твой слуга, буду, как всегда, рядом с тобой. — Хорошо. Нынешнюю ночь тело, согласно обычаю, будет лежать в святилище храма Осириса, что возле больших ворот, ожидая прихода бальзамировщиков. Идем же, Реи, пока ее тело не стало холоднее моего сердца, идем со мной в храм царя загробного мира! Она ушла в свои покои, закуталась в темное покрывало, и мы поспешили к храму. У входа нас остановила стража. — Кто идет? Священным именем Осириса, отвечайте! — Реи, главный зодчий Кемета и верховный жрец, со спутником, — ответил я. — Откройте дверь. — Не откроем. В храме находится та, чей покой нельзя тревожить. — Кто же это? — Та, кого убила царица. — Царица послала нас взглянуть на ту, которую убила. Стражник вгляделся в закутанную фигуру, стоящую рядом со мной, и, отпрянув, крикнул: — Покажи знак, благородный Реи! Я показал ему свой перстень с королевской печатью, и он, поклонившись, отворил дверь. Войдя в храм, я зажег тонкие восковые свечи, которые принес с собой. При их слабом свете мы прошли через зал к святилищу, задернутому занавесями. Здесь я погасил свечи, потому что святилище не должен освещать никакой свет, кроме огня, который горит на алтаре перед умершим. Этот огонь был виден сквозь занавеси. — Открой! — приказала Мериамун. Я откинул занавес, и мы с ней вошли в святилище. Огонь на алтаре горел ярко. Святилище было небольшое, ведь это самый маленький из всех храмов Таниса, и все же свет не развеивал царящий здесь мрак, не достигал до стен, мы едва могли различить изображенные на них фигуры богов, однако он ясно освещал статую Осириса за алтарем, изваянную из черного сиенского камня[508], он сидел, завернутый в погребальные пелены, с короной Верхнего Египта на голове, и держал в руках символ божественной власти и наказующую плеть. На коленях бога лежало белое, внушающее ужас тело — обнаженное тело мертвой Хатаски, которую несколько часов назад убила Мериамун. Ее голова лежала на груди бога, длинные волосы свесились до полу, руки были скрещены на груди, открытые глаза, в которых едва успел погаснуть свет жизни, мертво глядели в темноту. Мы, в Танисе, до сих пор соблюдаем обычай класть внезапно умерших особ высокого происхождения и положения на колени статуи Осириса и оставлять их в храме на всю ночь. — Смотри, — сказал я царице шепотом, подавленный зловещей тишиной этого страшного места, — смотри: всего час назад эта хорошенькая распутница смеялась и веселилась, а сейчас, убитая твоей рукой, она лежит, осененная недосягаемым для смертных величием и красотой смерти. Подумай еще раз, царица, неужели ты все-таки дерзнешь вызвать дух той, которую освободила от бренного тела? Не так-то легко это сделать даже при всем твоем искусстве чародейства, и если она все же тебе ответит, то может произнести столь страшные слова, что мы не выдержим и погибнем. — Нет, я сильна в своем искусстве, — возразила она, — и ничего не боюсь. Я знаю, каким именем вызвать Ку, который витает на пороге чертога Правосудия, и как вернуть его обратно. Я не боюсь, но если тебе, Реи, страшно, уходи, я сумею все сделать одна. — Нет, — ответил я, — я тоже силен в этом искусстве, и я никуда не уйду. Но еще раз повторю: это святотатство. Больше Мериамун ничего не сказала, она воздела руки высоко к небу и застыла с таким же неподвижным лицом, какое было у мертвой Хатаски. Я, как того требует обряд, очертил своим посохом круг вокруг нас, вокруг алтаря и статуи Осириса с лежащей у него на коленях Хатаской. Потом произнес священное заклинание, которое должно охранить нас от зла в этот страшный час. Мериамун бросила в горящий на алтаре огонь горсть порошка, и от алтаря поднялся в воздух огненный шар. Трижды бросала она в огонь порошок, и трижды поднимался в воздух огненный шар, ибо только огонь может вызвать дух умерших к живым. Три огненных шара проплыли над головой Осириса и растаяли в воздухе, и тогда Мериамун трижды громко воскликнула: — Хатаска! Хатаска! Хатаска! Страшным именем заклинаю тебя! Повелеваю: явись от порога царства смерти! Явись от врат чертога Правосудия! Явись от двери Судьбы! Заклинаю тебя нитью жизни и смерти, которая связует нас с тобой, явись оттуда, где пребывает сейчас твой дух, и скажи мне то, что я хочу знать. Она умолкла, но никто не отозвался на ее призыв. Каменный холодный Осирис все так же улыбался, все так же глядела в пустоту лежащая у него на коленях мертвая Хатаска. — Не так-то легко это кощунство совершить, — прошептал я. — Но ты знаешь Страшное Слово. Произнеси его, если осмелишься, или уйдем отсюда. — Нет, я его произнесу, — сказала Мериамун. Подошла к статуе Осириса, закрыла голову накидкой и обеими руками сжала ногу убиенной Хатаски. Увидев это, я тоже распростерся на полу и спрятал лицо в складках плаща, ибо услышавший Страшное Слово с непокрытым лицом должен умереть. Тихо-тихо, шепотом, едва ли более слышным, чем дыхание, произнесла Мериамун Страшное Слово, которое нельзя написать, но звучание его способно лететь через миры и пространства и достигать слуха мертвых, обитающих в Аменти. Сорвавшийся с уст шепот взорвался раскатамигрома под священными сводами, на нас будто налетел ураган, стены храма закачались, точно деревья на ветру, крыша, казалось, сейчас рухнет. — Откройте лица, вы, смертные! — раздался грозный голос. — И взирайте с ужасом на тех, кого вы дерзнули вызвать! Я поднялся с пола и сбросил с лица полу плаща, но, подняв глаза, тут же снова в ужасе упал. Вокруг круга, который я очертил своим посохом, столпились сонмы мертвецов, их было больше, чем песчинок в пустыне, они смотрели на нас своими мертвыми глазами. Огонь на алтаре погас, но было светло — светились пустые глаза мертвецов, глаза мертвой Хатаски. Ужасные лица беспрерывно менялись, менялось их выражение, черты… Под моим взглядом они словно таяли, оставались только глаза, и тут же вокруг глаз словно появлялось лицо, но уже совсем другое. Лица плотно лепились друг к другу вокруг нас, от пола до потолка храма, точно стены пирамиды, и их горящие глаза ни на миг не отрывались от нас. Я, жрец Реи, посвященный в тайны древних знаний, знал, что поддаться страху нельзя, тогда я умру, и если выйду за пределы очерченного круга, тоже умру. И я воззвал в своем сердце к повелителю царства мертвых Осирису, моля его защитить нас, и едва я произнес священное имя, как сонмы лиц в благоговении склонились и потом обратились друг к другу, словно беседуя о чем-то, и снова стали меняться, еще быстрее, чем прежде. — Мериамун! — сказал я царице, собрав все свои силы. — Мериамун, не бойся, но будь осторожна! — Почему я должна бояться? — ответила она. — Только потому, что с чувств спала пелена и нам на короткий срок дано видеть тех, кто и без того всегда находится рядом с нами и знает все наши тайные мысли? Я не боюсь. И она смело подошла к черте круга и крикнула: — Приветствую тебя, о Сахус[509], приветствую вас, духи умерших, среди которых когда-нибудь буду и я! В то же самое мгновенье лица мертвецов раздвинулись, перед ней образовалось пустое пространство, и в этом пространстве возникли две огромные черные руки, они протянулись к Мериамун, но замерли на расстоянии трех зерен пшеницы от ее груди. Но Мериамун лишь рассмеялась, слегка подавшись назад. — Напрасно рвешься, злой дух, магическую преграду тебе не одолеть. Но не будем терять время. Хатаска, еще раз заклинаю тебя тайной, связующей жизнь и смерть, явись, — ты, бывшая при жизни непотребной девкой и поднявшаяся сейчас в своем величии выше царицы! От мертвого тела, лежащего на коленях Осириса, отделилась женщина, словно змея, вылезшая из старой кожи, и встала перед нами — точное подобие Хатаски: то же лицо, те же волосы, руки, ноги, взгляд. Но труп по-прежнему оставался лежать на коленях Осириса, ибо нам явилась Ка. И вот что произнес голос Хатаски устами Ка: — Что нужно от меня тебе, умертвившей мое тело своими руками? Я больше не пребываю в твоем мире, зачем ты меня потревожила? И Мериамун ей ответила: — Я хочу, чтобы ты сейчас, в присутствии всех слетевшихся сюда духов, открыла мне будущее. Говори, повелеваю тебе! — Нет, Мериамун, это мне неподвластно, ибо я — всего лишь Ка, я обитаю в гробнице и должна охранять дух убиенной тобой Хатаски во все время ее смерти до часа воскрешения. Будущее мне неведомо. Спроси тех, кто знает. — Отойди в сторону, — приказала царица, и обитательница гробницы повиновалась. Мериамун снова приказала Хатаске явиться, и едва ее голос умолк, как раздался шум крыльев, и на голову каменного Осириса опустилась большая птица в золотом оперении и с головой женщины, у нее было лицо Хатаски. Это была Ба, и вот что она сказала голосом Хатаски: — Что тебе нужно от меня, Мериамун? Ведь я больше не пребываю в мире живых и не должна тебе повиноваться. Зачем ты вызвала меня из загробного мира, меня, принявшую смерть от твоих рук? И Мериамун ответила: — Я хочу, чтобы ты открыла мне будущее. Говори, повелеваю. — Нет, Мериамун, я не могу открыть тебе будущее. Я всего лишь Ба той, которая в жизни была Хатаской, я летаю от Смерти к Жизни и от Жизни к Смерти, пока не наступит час пробуждения. Я ничего не знаю о будущем. Спроси тех, кто знает. — Оставайся там, где ты есть, — приказала царица, и ужасная птица осталась сидеть на голове Осириса. Мериамун снова приказала Хатаске предстать перед ней, где бы она сейчас ни пребывала. И в глазах покойной, что лежала на коленях Осириса, загорелся яркий огонь, такой же огонь загорелся в глазах обитательницы гробниц Ка и крылатой вестницы Ба, сидевшей на голове Осириса. Раздался вой, словно налетел порыв могучего ветра, и сверху, сквозь тьму спустился язык пламени и замер на челе мертвой Хатаски. Глаза бесчисленных духов приковались к языку пламени. И мертвая Хатаска заговорила, хотя губы ее не шевелились. — Зачем я тебе нужна, Мериамун, тебе, принадлежащей другому миру? — спросила она. — Как ты посмела потревожить меня, ты, убившая мое тело собственными руками, зачем вызвала от порога Чертога Истины в мир живых? — Ты спрашиваешь, Ку, зачем я вызвала тебя? Отвечу. Меня тяготит моя тоскливая жизнь, и я хочу узнать, что меня ждет в будущем. Да, я хочу узнать свое будущее, но раздвоенный язык Той, что спит, не произнес ни слова, и уста Того, кто цепенеет в холоде смерти, тоже немы. Так ответь же мне ты, Ку, которой ведомо всё, заклинаю тебя Страшным Словом, которое имеет власть отверзать уста умерших, ответь, радость или горе ожидают меня в будущем? — Тебя ожидает радость — ты полюбишь, тебя ожидает горе — смерть отнимет твоего любимого, — ответствовала Ку. — С севера приплывет мужчина, которого ты любила и будешь любить из жизни в жизнь, пока не свершится предначертанное. Вспомни сон, который тебе приснился на ложе фараона, в нем разгадка. Велика твоя слава, Мериамун, твое имя известно всей земле, его знают даже в Аменти. Высоко вознесла тебя судьба, но путь твой полит кровью и горькими слезами. Я всё сказала, теперь отпусти меня. — Отпущу, — сказала царица, — но помедли немного. Сначала открой мне, заклинаю тебя Страшным Словом и Священным Звуком, связующим Жизнь и Смерть, открой, будет ли мужчина, которого я полюблю, принадлежать мне здесь, на земле, в этой жизни? — Преступным коварством, злодейскими уловками привлечешь ты его к себе, Мериамун; стыд и жгучая ревность обрушатся на тебя, когда его отнимет та, что сильнее тебя, хоть ты и могущественна, та, что красивее тебя, хоть ты и красавица; и ты из мести погубишь его, и наградой тебе будет твое собственное разбитое сердце. Но на сей раз она ускользнет от тебя — та, что неразрывно связана с тобой и с мужчиной, который будет принадлежать и тебе, и ей. Однако наступит день, когда ты отплатишь ей мерой за меру, злом за зло. Я всё сказала. Отпусти меня. — Нет, Ку, повремени. Я еще не всё узнала. Покажи мне лицо моей соперницы и лицо мужчины, которого я полюблю. — Трижды, о дерзновенная царица, тебе дозволено обратиться ко мне, — ответил внушающий благоговейный ужас голос Ку, — и трижды я могу тебе ответить. А потом мы встретимся с тобой лишь на пороге Чертога Истины, откуда ты меня вызвала. Что же, смотри на лицо Хатаски, которую ты убила. Прощай. И под нашими взглядами лицо покойницы стало меняться, точно так же стало меняться лицо ее двойника, Ка, стоящей рядом, и лицо огромной птицы, Ба, распростершей крылья над головой каменного Осириса. Мы увидели женщину ослепительной, ошеломляющей красоты, которую не описать словами, и эта женщина спала. Потом над мертвой Хатаской возникла тень мужчины, казалось, он охраняет ее сон. Лица его, о Странник, мы не увидели, оно было скрыто забралом золотого двурогого шлема, а в навершии этого шлема торчал бронзовый наконечник сломанного копья! На мужчине были доспехи, какие носят аквайюша, что живут в странах за Северным морем, и на его плечи падали темные, как цветы гиацинта, кудри. — Гляди же на свою соперницу и на своего возлюбленного! Прощай! — произнесла Ку устами мертвой Хатаски, и едва эхо этих слов смолкло, как прекрасное лицо растаяло, язык пламени метнулся вверх и погас, глаза бесчисленных мертвецов вновь обратились друг к другу, казалось, они даже о чем-то шепчутся. Мериамун стояла и молчала, потрясенная. Наконец опомнилась и, взмахнув рукой, крикнула: — Прочь, Ба! Исчезни, Ка! И огромная птица с лицом Хатаски взмахнула золотыми крыльями и скрылась в темноте, а Ка, точный образ и подобие Хатаски, приблизилась к коленям покойной и вернулась в тело той, от которой отделилась. Сонмы мертвых лиц стали таять во тьме, хотя их горящие огнем глаза продолжали глядеть на нас. Мериамун накинула на голову покрывало и снова произнесла Страшное Слово, я тоже накрыл голову плащом. И хотя сейчас она произнесла Слово вслух, как того и требует магический ритуал, оно прозвучало почти шепотом, и все же стены храма содрогнулись, как от порыва бури. Мериамун сбросила с головы покрывало — на алтаре по-прежнему горел огонь, на коленях Осириса лежала Хатаска, холодная и мертвая, вокруг царили тишина и пустота. — Я сделала то, что хотела, — произнесла Мериамун, — и теперь мне страшно, я боюсь того, что было, и того, что будет. Уведи меня отсюда, Реи, сын Памеса, я не могу здесь больше оставаться. С тяжелым предчувствием вывел я из храма самую могущественную из всех заклинательниц Кемета. Теперь ты понимаешь, о Скиталец, почему царица так взволновалась, когда увидела мужчину в доспехах, какие носят люди, живущие на севере, и в золотом двурогом шлеме с наконечником копья в навершии.Часть II
Глава 9
ПРОРОКИ АПУРА
— Тут явно не обошлось без вмешательства богов, — промолвил Скиталец, назвавший себя Эперитом, выслушав рассказ жреца Реи, сына Памеса, главного зодчего Кемета, главного командующего легионом Амона. Долго сидел он, задумавшись, потом поднял голову и посмотрел на старого жреца. — Удивительную историю рассказал ты мне, Реи. По каким только морям я ни плавал, в каких только странах ни побывал, каких только народов ни видел, я слышал голоса бессмертных богов, меня посещали невероятные видения, вокруг происходили чудеса, по совету Цирцеи я спускался в Аид — царство мертвых, которое вы называете Аменти, и видел там тени умерших, но никогда до сего дня я не слышал ничего столь поразительного. Заметь, когда я предстал перед очами твоей красавицы царицы, мне показалось, что она как-то странно глядит на меня, как будто мое лицо ей знакомо. И если всё, что ты мне рассказал, Реи, правда, значит, она действительно думает, что видела меня в своих снах и колдовских видениях. Так скажи мне, кто был тот мужчина из снов царицы — мужчина с темными кудрявыми волосами, в золотых доспехах, какие носят греки, которых вы называете аквайюша, и в золотом шлеме с застрявшим в навершии бронзовым наконечником копья? — Этот мужчина сидит сейчас передо мной, — ответил Реи, — если только он мужчина, а не бог. — Нет, я не бог, — улыбнулся Скиталец, — хотя сидонцы и сочли меня за бога, когда запел мой черный лук и на них обрушилась лавина стрел. Разгадай эту загадку, Реи, ведь ты так мудр и учен. Старый жрец опустил взгляд, потом поднял его к небу и стал молиться дрожащими губами богу мудрости Тоту, а прочтя молитву, сказал: — Этот мужчина — ты. Ты явился к нам, чтобы внушить любовь моей госпоже Мериамун и найти здесь свою смерть. Только это мне и ведомо, остальное от меня скрыто. Молю тебя, чужеземец, приплывший к нам в золотых доспехах с севера, красивейший и сильнейший из мужей, умеющий заворожить всех сладкими, коварными речами, покинь нас, вернись туда, откуда прибыл, за моря и земли, по которым ты странствовал. — Человек не может уйти от своей судьбы, — возразил Скиталец. — Если мне суждено умереть, я умру. Но знай, Реи, мне не нужна любовь твоей госпожи. — Тем вернее ты ее обретешь, ибо любят не того, кто добивается любви, а того, кому она не нужна. — Я приехал, чтобы завоевать любовь другой женщины, — ответил Скиталец, — и буду искать эту женщину, пока я жив. — Тогда я буду молиться великим богам, чтобы ты нашел ее и спас Кемет от бед и страданий. Но здесь, в Египте, нет женщины прекраснее Мериамун, и потому тебе следует как можно скорее отправиться на поиски своей избранницы. А сейчас, Эперит, я должен вернуться в храм Амона, ведь я верховный жрец. Но сначала я отведу тебя во дворец на пир, так приказал фараон. И он провел Скитальца во дворец фараона в Танисе через боковой вход, который находился возле храма Пта. Во дворце Скитальцу уже были приготовлены покои — стены покрыты прекрасной росписью, кресла из слоновой кости, ложа из черного дерева и серебра, позолоченная кровать. В роскошных царских банях черноокие девушки вымыли Скитальца, умастили благовонными маслами и увенчали венком из цветов лотоса. Они попросили его не облачаться в золотые доспехи и оставить свой лук и колчан со стрелами, но Скиталец отказался, потому что, когда он положил свой черный лук на пол, тот тихо запел песнь войны. И Реи отвел его в шлеме, доспехах и с луком в небольшой зал, где и оставил, сказав, что вернется, когда закончатся приготовления к пиру. Скиталец стал ждать. Но вот затрубили трубы, раздался стук барабанов. Раздвинулись занавеси, вошли прекрасная царица Мериамун и божественный фараон Менепта в сопровождении своих придворных, на всех были венки из роз и цветов лотоса. Царица была в роскошном парадном одеянии — платье из вышитого шелка, на плечах пурпурная мантия, тончайшей работы золотое ожерелье, запястья, кольца. Величественная, ослепительная, с бледным лицом и прекрасными гордыми очами, которые, казалось, дремлют под сенью длинных, густых ресниц, она шла во всем блеске своей царственной красоты, за ней шел фараон, высокий, но с узкими плечами и впалой грудью, некрасивый, с мрачным лицом. Скитальцу подумалось, что и настроение у него наверняка такое же мрачное и что его вечно гнетет груз забот и терзают дурные предчувствия. Мериамун взглянула на Скитальца. — Приветствую тебя, чужестранец, — сказала она. — Ты пришел украсить наш пир в одеянии для боя. — О царственная госпожа, — ответил Скиталец, — я хотел оставить доспехи в своих покоях, но мой лук запел мне песню войны. И потому я пришел вооруженный, хоть это и твой пир. — Значит, твой лук умеет предсказывать? — спросила царица. — Я слышала о таком оружии, к нашему двору пришел однажды со своей лирой странствующий певец-сказитель с севера, он воспевал подвиги Одиссея и славил его волшебный лук. — Славил он кого-то или не славил — неважно, но ты, Скиталец, правильно сделал, что пришел вооруженный, — сказал фараон, — если твой лук поет о войне, то и мое сердце предсказывает, что без кровопролития не обойтись. — Следуй за мной, Скиталец, — сказала царица, — чему быть, того не миновать. И он последовал за ней и фараоном в великолепный зал, стены которого были расписаны сценами сражений, охоты и пиров: фараон Рамзес Миамун единолично обращает в бегство многотысячную армию хананеев, охотники с огромной кошкой в роли гончей настигают в болоте дичь. Никогда Скиталец не видел такого роскошного зала, разве что во дворце повелителя моря на волшебном острове. Фараон сел на возвышении, рядом с ним царица Мериамун, и рядом с ней Скиталец в золотых латах Париса; свой лук он прислонил к своему креслу из слоновой кости. Пир начался. Царица говорила мало, но не сводила со Скитальца глаз, прикрытых длинными густыми ресницами. В разгар пира двери зала неожиданно распахнулись, стражники в страхе отступили, и все увидели на пороге двух мужчин. Лица у них были смуглые, худые, иссушенные солнцем, как у всех кочевников пустыни, длинные орлиные носы, желтые глаза, как у льва. Одеты они были в звериные шкуры и подпоясаны кожаными ремнями. Оба были очень стары, один с большой седой бородой, другой бритый, как египетский жрец. Они высоко подняли свои голые костлявые руки и стали яростно размахивать кедровыми посохами, стражники отскочили, как испуганные собаки, пирующие закрыли лица руками — все, кроме Мериамун и Скитальца. Даже фараон не осмеливался взглянуть на них, лишь сердито пробормотал в бороду: — Клянусь Осирисом, опять эти волхвы явились сюда. Казнить тех, кто их впустил! Один из волхвов, с бритым, как у египетских жрецов, лицом и черепом, громогласно возгласил: — Фараон! Фараон! Фараон! Внемли слову Яхве. Отпусти народ наш! — Не отпущу, — ответил фараон. — Фараон! Фараон! Фараон! Внемли слову Яхве. Если ты не отпустишь наш народ, Яхве поразит всякого первенца в земле Египетской, от первенца фараона до первенца рабыни, и всё первородное из скота. Отпусти наш народ! Фараон задумался, а все его гости встали и громко закричали: — Отпусти их, о фараон! Апура навлекли на Кемет великие бедствия. Отпусти их! Сердце фараона смягчилось, он уже готов был согласиться, но тут к нему обратилась Мериамун: — Нет, ты не отпустишь апура. Все эти бедствия наслали на Кемет не эти рабы и не бог этих рабов, а чужеземная богиня, самозванка Хатор, что поселилась в Танисе. Не бойся, хоть ты и трус. Изгони самозванку Хатор, если хочешь, но эти рабы пусть останутся. Я хочу построить несколько городов, и трудиться там будут они. — Вон отсюда! — закричал фараон. — Сейчас же убирайтесь! Завтра ваши люди будут носить в два раза больше тяжестей, и их спины покроются кровавыми рубцами. Я не отпускаю вас! Старики что-то громко выкрикнули и, указывая своими посохами наверх, исчезли, никто не посмел их задержать, хотя сидящие за столом недовольно зароптали. Скиталец удивился, что фараон не приказал стражам убить непрошеных гостей, которые испортили им праздник. Мериамун заметила его удивление и обратилась к нему: — Да будет тебе известно, Эперит, что на страну Кемет обрушились великие казни — всех египтян облепили мошки, тучи пёсьих мух покрыли людей и наполнили дома, из вод вышли жабы, на Египет пала тьма, вода во всех водоемах превратилась в кровь. Наш господин, фараон, думает, что все казни наслали на нас колдуны и чародеи, которые есть среди рабов, строящих наши города, но я-то знаю, что на нас разгневалась богиня любви Хатор за то, что люди поклоняются самозванке, которая поселилась в Танисе и выдает себя за истинную Хатор. — Зачем же, о царица, вы терпите в своем прекрасном городе эту самозванку? — спросил Скиталец. — Мне ли не знать, что бессмертные боги не прощают тех, кто перестает их чтить и преклоняет колени перед чужими алтарями. — Зачем мы ее терпим? Спроси об этом моего господина, фараона. Наверное, потому, что нет на свете женщины прекраснее ее, так говорят мужчины, которые ее видели, но я не видела, а видят ее, да и то лишь издалека, только те мужчины, которые приходят к ее храму. Не подобает царице Верхнего и Нижнего Египта появляться в храме чужестранки, явившейся неведомо откуда, — как и ты, Эперит, — если она, конечно, женщина, а не злой дух из подземного царства. Если ты хочешь узнать больше, спроси моего супруга фараона, потому что он был возле храма самозванки Хатор и знает, кто его охраняет и почему в него нельзя войти. И Скиталец обратился к фараону со словами: — Могу я попросить тебя, о фараон, поведать мне эту таинственную историю? Мрачный Менепта посмотрел на него с сомнением и тревогой. — Охотно поведаю, о Скиталец, может быть, именно ты, человек, побывавший во множестве стран и повидавший лики многих великих богов, поможешь мне разгадать эту тайну. Всё началось еще при жизни моего отца, божественного Рамзеса Миамуна. Однажды утром жрецы храма божественной Хатор, проснувшись, увидели в святилище храма женщину в одежде аквайюша и несказанной красоты. Но странное дело — все описывали ее по-разному: одному казалось, что она темноволосая, другому — что белокурая, каждому она являла дивное, но всегда другое лицо. Она улыбалась людям и пела чарующим голосом, и в сердцах мужчин вспыхивала любовь, каждому казалось, что она — его, и только его возлюбленная. Но когда какой-нибудь мужчина подходил к ней и пытался обнять, то что-то его отшвыривало, а если он повторял попытку, то падал мертвый. Так что в конце концов мужчины укротили свои сердца и перестали ее домогаться, решили, что она — пришедшая на землю Хатор, и начали поклоняться ей как богине, приносили жертвы и молились. Прошло три года, и однажды утром жрецы храма увидели, что храм пуст, Хатор исчезла. Осталось лишь воспоминание о ней, но многие признавались, что это воспоминание — самое дорогое, что у них есть на свете. Прошло двадцать лет, я взошел на престол после смерти отца и был коронован двойной короной. И вот однажды прибегает во дворец вестник и возглашает: «В Кемет вернулась Хатор! В Кемет вернулась Хатор! Такая же прекрасная, как раньше, и никто к ней не может приблизиться!» Я пошел посмотреть на нее и увидел перед храмом Хатор огромную толпу, а на площадке пилона стояла сама божественная Хатор, сияя переменчивой красотой, точно разгорающаяся утренняя заря. Она, как и раньше, пела своим чарующим голосом, и каждому, кто слышал ее, казалось, что это голос его возлюбленной, которую он потерял, хоть она и жива, или потерял, потому что ее отняла смерть. И каждый воздвиг в своем сердце алтарь Хатор и поклоняется ее несказанной красоте, для всех глаз разной. Она уже давно здесь живет и один раз в месяц поднимается на крышу пилона и дивно поет, не счесть мужчин, которые пытались добиться ее любви, но у входа в храм невидимые стражи отгоняют их, а если они все же пытаются прорваться, раздается стук мечей, и они падают мертвыми, хотя на теле у них не оказывается никаких ран. И все это чистая правда, Скиталец, я сам хотел войти в храм, но меня оттолкнула ее стража. Я — единственный, кто видел ее и слышал ее пение и не рванулся к входу, потому я и остался жив. — Ты — единственный из всех мужчин, кому собственная жизнь дороже, чем любовь самой красивой женщины на свете, — с презрением отозвалась царица. — Ты возжаждал любви этой чужеземной колдуньи, но оказалось, что свою жизнь ты ценишь выше, чем ее красоту, и ты побоялся рисковать жизнью ради ее объятий. Да, Эперит, эта колдунья — истинное бедствие для нашей страны, все мужчины влюбляются в нее и теряют рассудок, и каждому она является в ином чарующем обличье и каждому поет иным, околдовывающим голосом. Когда она стоит на крыше пилона, всех их охватывает безумие: они рыдают, молятся, рвут на себе волосы, бегут, как одержимые, по двору храма к дверям, стража их отшвыривает, но некоторые в своем ослеплении кидаются обратно, раздается звон мечей, и они валятся на землю мертвые. Проклята наша страна, Скиталец, поверь мне, проклята из-за этой самозванки. Это она навлекла бедствия на Кемет, она, а не наши рабы и их безумные колдуны, наслала на нас страшные казни, от нее исходит всё зло. И все эти беды, все казни и зло будут продолжаться, пока не найдется мужчина, который прорвется сквозь стражу к злодейке и убьет ее. Быть может, Скиталец, ты и есть этот мужчина? — И она бросила на него загадочный взгляд. — Если это так, послушайся моего совета и не вступай с ней в беседу, иначе она околдует тебя, и мы потеряем великого человека. Скиталец задумался над ее словами, потом сказал: — Может быть, в этом поединке мне поможет моя собственная сила и милость богов, о госпожа. Однако мне кажется, что эту женщину легче победить любовными речами и поцелуями, острый меч здесь совсем не нужен, — если она, конечно, женщина, а не бессмертная богиня. Мериамун вспыхнула и нахмурилась. — Такие речи не для моих ушей, — сказала она. — Не сомневайся: если эту колдунью поймают, ее убьют, и она станет невестой Осириса. Скиталец понял, что царица Мериамун завидует красоте и славе той, которая обитает в храме и именуется Хатор-самозванкой, и главное — внушает мужчинам такую любовь и восхищение, и ничего не ответил, ибо знал, когда нужно говорить, а когда молчать.Глава 10
СТРАШНАЯ НОЧЬ
— Ты нам сегодня не нужен! — воскликнул он, приветствуя символ Осириса. — Смерть близка, мы и без тебя это знаем. Слишком близка, не нужно нам напоминать о ней! Он упал в свое золоченое кресло и, бросив кубок на пол, принялся теребить свою бороду. — Мужчина ты или нет? — произнесла Мериамун тихим, звенящим голосом. — И вы все, присутствующие здесь, неужели вы боитесь того, что неизбежно должно случиться с каждым? Разве вы сегодня в первый раз услышали, что существует смерть? Вспомните великого Менкаура, вспомните старого фараона, который построил пирамиду Херу![510] Он был добр и справедлив и боялся богов, и в награду они показали ему, какая смерть постигнет его через шесть коротких лет. И что же, разве он испугался и задрожал, как дрожите сейчас вы, услышав угрозы рабов? Он перехитрил богов, превратив ночь в день, и прожил в два раза дольше, чем боги ему назначили, он веселился и пировал и наслаждался радостями любви в священной роще, ярко освещенный светом светильников. Давайте же и мы будем веселиться, хоть бы нам был отпущен всего час жизни! Пейте и забудьте страх! — Да, ты права, — поддержал ее фараон. — Пейте и забудьте страх. Боги отнимают у нас жизнь, но они же дали нам вино. — И он стал мрачно вглядываться в лица гостей, ища насмешливой или презрительной гримасы. — А что же ты, Скиталец? — вдруг спросил он. — Ты не пьешь, я давно слежу за тобой. Ты пришелец с севера, под бледным солнцем твоей страны виноградные гроздья не вызревают. В твоих жилах течет холодная кровь, ты любишь воду, но час твой близок, зачем встречать смерть так неприветливо? Выпей за меня красное вино Кемета! Принесите кубок Пахт! — приказал он слугам. — Принесите кубок Пахт, фараон будет пить из него. Главный виночерпий фараона пошел в сокровищницу и принес оттуда огромный золотой кубок, отлитый в форме львиной головы и вмещающий двенадцать мер вина. Этот старинный кубок, посвященный богине Пахт, был подарен сирийцами Тутмосу Третьему, самому знаменитому из фараонов, носивших это имя. — Наполните его неразбавленным вином, — приказал фараон. — Вижу, Скиталец, пришедший к нам с севера, ты побледнел при виде кубка. Вот, я пью за тебя, выпей и ты за меня! — Нет, фараон, — возразил Скиталец, — я пил вино в разоренном мной Исмаре, пил как гость со своим диким хозяином, одноглазым людоедом Полифемом! — Он рассердился на фараона, и его прославленная мудрость изменила ему, однако царица не пропустила его слова между ушей. — Так выпей же и за меня из кубка Пахт! — настаивал фараон. — Прошу тебя, прости меня, о фараон, — отвечал Скиталец, — но от вина умные глупеют, а сильные теряют свою силу, а нам сегодня, я чувствую, понадобятся и ум, и сила. — Трус! — воскликнул фараон. — Подайте мне кубок. Я выпью за то, чтобы у тебя прибавилось храбрости. — И, подняв огромный золотой кубок, он стоя осушил его, но закачался и повалился в кресло, голова его свесилась на грудь. — Фараон мне бросил вызов, я не могу его не принять, хотя и не подобает гостю соревноваться с хозяином, — сказал Скиталец, побледнев от гнева. — Дайте мне кубок! Он высоко поднял его и, сделав возлияние своим богам, громко произнес, потому что гнев его был поистине велик: — Пью за чужеземную Хатор! И он осушил до дна гигантский кубок и поставил его на стол под полыхающим яростью взглядом царицы Мериамун, и в этот миг прислоненный к креслу Скитальца лук издал негромкий, но резкий звук — он запел песню войны, в которой слышался звон тетивы и свист летящих стрел. Скиталец ее услышал, и в его глазах вспыхнул азарт битвы, он знал, что его быстрые стрелы скоро вонзятся в сердца обреченных. Услышав песнь лука, фараон проснулся, услышала ее и царица Мериамун, она с изумлением посмотрела на Скитальца, потом на его поющий лук. — Странствующий сказитель не обманул нас! Нет никаких сомнений, это лук Одиссея, разрушителя городов, — сказала Мериамун. — Как громко поет твой огромный лук, Эперит, скажи, почему он запел? — Почему он запел, царица? Потому что птицы уже летят на кровавый пир. Скоро полетят стрелы смерти, и чьи-то души переселятся в подземное царство. Прошу тебя, вызови стражу, враги близко. Пьяный фараон от ужаса протрезвел, он приказал стражникам, стоявшим за его креслом, созвать всех, кто был во дворце. Они бросились выполнять его приказ, сидевшие за пиршественным столом гости словно окаменели. Воцарилась зловещая тишина, как перед грозой, страх ледяной рукой сжал гостям сердце и отнял волю. Один лишь Одиссей был сосредоточен и готов к встрече с врагом, хотя и не знал, откуда он появится, и Мериамун сидела, гордо выпрямившись, в своем кресле резной слоновой кости и смотрела в дальний конец роскошного зала. Тишина всё сгущалась, страх всё беспощаднее стискивал сердца людей… Вдруг по залу пронесся вихрь, какой могли бы поднять тысячи могучих крыл, и стены дворца зашатались от фундамента до крыши, а крыша словно бы разверзлась, и все увидели, как над их головами, высоко в небе, пролетел призрак Страха, сквозь развевающиеся одежды призрака были видны звезды. Потом крыша снова сомкнулась, на миг вернулась цепенящая тишина, люди ошеломленно глядели друг на друга, даже бесстрашное сердце Скитальца дрогнуло. Вдруг в разных концах стола поднялись один за другим несколько гостей и, издав пронзительный крик, упали мертвые, кто на пол, кто прямо на уставленный яствами стол. Скиталец схватил свой лук и принялся считать мертвых — двадцать один человек. Те, кто остался жив, оцепенело глядели в пустоту ничего не видящими глазами, их обуял такой ужас, что они не понимали, они это умерли или те, кто сидел с ними рядом. Одна лишь Мериамун бестрепетно взирала на происходящее холодным взглядом, ибо не боялась ни смерти, ни жизни, ни богов, ни людей. Вдалеке, за стенами дворца, давно уже слышался пока еще не слишком громкий шум и топот ног многотысячной толпы, он нарастал подобно грому, это катилась лавина ярости, жаждавшая растерзать фараона. Двери распахнулись, и в зал вбежала женщина в ночном одеянии с голым мертвым ребенком на руках. — Фараон! — закричала она. — Фараон и ты, царица! Смотрите, это ваш сын, это ваш первенец, он умер! О фараон, твой сын умер! О царица, твой сын мертв! Он умер у меня на руках, я его укачивала, пела ему колыбельную, а он вдруг умер! И она положила тельце мальчика на стол среди золотых блюд, гирлянд лотоса и чаш с красным вином. Фараон поднялся и, рыдая, разорвал на себе пурпурное одеяние. Мериамун тоже поднялась и, схватив мертвого сына, прижала его к груди; лицо ее было страшно из-за исказившего его выражения ярости и горя, но она не плакала. — Теперь вы видите, какое неслыханное проклятье навела на нас эта злобная самозванка, это исчадие, Хатор, — сказала она. Но гости стали вскакивать со своих кресел, крича: «Это не Хатор, которой мы поклоняемся, не великая богиня Хатор, это боги диких колдунов апура, которых ты, царица, не желаешь отпустить. Они наслали проклятье на твою голову и на голову фараона!» Толпа уже окружила дворец, люди обезумели от горя, от их диких пронзительных воплей сотрясались стены дворца. Трижды поднималась эта оглушительная волна, никогда еще Египет не слышал таких страшных воплей. Даже Скиталец побледнел и сердце его сжалось, и он мысленно вознес молитву своей покровительнице Афродите, дочери Дионы, прося ее поддержать его. Дверь позади возвышения снова распахнулась, и в зал вбежала стража — могучие мужи, нанятые на службу из разных стран, но сейчас лица их были бледны, глаза блуждали. Услышав звон их оружия, Скиталец почувствовал, что силы вернулись к нему, ибо он боялся мести богов, но мечи в руках людей его не пугали. Лук снова громко запел. Он схватил его, согнул могучим усилием, натягивая тетиву, и крикнул: — Очнись, фараон, проснись! Враги рядом! Эти люди и есть вся твоя стража? Ответил глава стражей: — Да, все, кто остался в живых во дворце. Остальных поразили разгневанные боги. В эту минуту в зал вбежал какой-то человек, это был старый жрец Реи, командующий легионом Амона, чьему попечению был поручен Скиталец. Он бежал, не замечая ничего вокруг, и лицо его было искажено страхом. — Фараон, твой народ умирает тысячами на улицах! — кричал Реи. — И на улицах, и в домах! Умерли почти все жрецы храма Пта и храма Амона! — Всё ли ты сказал, старик? — спросила царица. — Нет, царица, не всё. Солдаты обезумели от страха при виде мертвых и убивают своих начальников, мне едва удалось убежать от моих собственных солдат из легиона Амона. Они уверены, что эта смерть обрушилась на нашу землю, потому что фараон не отпускает рабов апура. Солдаты идут сюда, чтобы убить фараона и тебя, царица, а с ними тысячные толпы, они хватают по пути всё, что может служить оружием. Фараон со стоном упал в кресло, а царица обратилась к Скитальцу: — Твой лук, Эперит, только что пел песнь войны. Что ж, война на пороге! — Меня не страшит ни самая жаркая битва, ни ярость обезумевшей толпы, о госпожа, — ответил он, — но страшиться гнева богов никому не зазорно. Эй, стража, ко мне, встаньте вокруг меня! Да перестаньте вы трястись от страха, боги ведь вас не убили, а там всего лишь солдаты с мечами! Властный голос Скитальца, его горящие вдохновенной отвагой глаза, спокойствие, с которым он вынимал из колчана длинные стрелы и выкладывал их на столе, привели в чувство дрожавших стражников, они выстроились на краю возвышения в два ряда и тоже приготовили свои луки и стрелы. Всего их было пятьдесят один человек. Ревущая толпа ворвалась во дворец. Слуги фараона, придворные и те из гостей, кто уцелел, спрятались за спинами стражников. Толпа вышибла могучими ударами бронзовые двери и хлынула в зал. Здесь были взбунтовавшиеся солдаты; бальзамировщики, которых нынешний вечер завалил работой, но они всё бросили, смерть поразила даже кого-то из них, и оставшиеся в живых хотели отомстить за своих товарищей; черные от копоти кузнецы; писцы с согбенными от вечного писания спинами; красильщики с багровыми от въевшейся краски руками; рыбаки; низенькие, с длинными руками ткачи; прокаженные, собирающиеся у ворот храма. Все они озверели от страха за свою жизнь, скудную, нищенскую жизнь, которую грозил отнять у них фараон, не отпуская из страны апура. Они не хотели умирать. Здесь были их жены с мертвыми детьми на руках. Люди бросились ломать золоченую мебель, срывали шелковые драпировки и занавеси, швыряли золотые чаши, кубки и блюда в лицо дрожащим от ужаса придворным дамам, и громко кричали, требуя смерти фараона. — Где фараон? Где фараон и царица Мериамун? Смерть им! Наши первенцы умерли, как умерла рыба в Сихоре, когда его вода обратилась в кровь! Они умерли из-за проклятья, которое наслали на нас пророки апура, а фараон и его царица держат их народ в Кемете! Люди увидели фараона Менепта, который трусливо прятался за двумя рядами дворцовой стражи, и царицу Мериамун, которая никого не боялась и молча стояла среди воплей беснующейся толпы. Прижимая к груди мертвого сына, она раздвинула стражей и вышла к толпе, глаза ее горели ярче царственного урея на ее челе. — Прочь! — крикнула она. — Назад! Не фараон навлек на наш народ смерть, и не я! К нам тоже пришла смерть! — И она высоко подняла тело своего мертвого сына. — Виновата самозванка Хатор, которой вы поклоняетесь, эта многоликая сладкоголосая колдунья, вы все лишились разума от любви к ней. Из-за нее вы терпите все эти казни, она навлекла на всех нас смерть. Отомстите же ей, разрушьте ее храм, растерзайте ее и освободите Кемет от казней. Толпа затихла, слушая ее, словно лев, готовящийся к прыжку, а стоявшие сзади напирали на них с криками: «Убейте их! Убейте фараона и царицу!» Их заглушили другие голоса: «Мы любим Хатор, а тебя ненавидим! Это ты навлекла на нас страшные казни, ты умрешь!» Толпа вопила, орала, швыряла в стражников скамеечки для ног и камни. Один из толпы, высокий крепкий мужчина натянул тетиву лука, целясь прямо в грудь царице, и выпустил стрелу. Она заметила, как блеснул ее наконечник, и сделала то, чего не сделала бы ни одна другая женщина на свете: выставила перед собой мертвое тело сына, но не для того, чтобы защитить себя, нет, она выставила его, как воин выставляет перед собой щит. Стрела насквозь пронзила нежное тело ребенка и ранила Мериамун в грудь, от боли она выронила мертвого сына из рук. Наблюдавший эту сцену Скиталец ужаснулся, за всю свою жизнь он не видел подобного поступка. Испустив леденящий кровь боевой клич ахейцев, Скиталец вспрыгнул на стол, и его золотые доспехи зазвенели. Бросив быстрый взгляд вокруг, он взял стрелу, натянул тетиву лука, который никто, кроме него, не мог согнуть, и выпустил стрелу, тетива пронзительно крикнула, точно ласточка в полете, и стрела, пролетев через весь роскошный пиршественный зал, вонзилась в грудь мужчины, который стрелял в царицу, пробила его латы и, вылетев с окровавленным оперением из спины, поразила того, кто стоял за ним, у того подкосились ноги, и оба упали, мертвые. Толпа ошеломленно ахнула, но снова раздался пронзительный крик тетивы, снова завизжала летящая стрела и поразила того, кому была предназначена, пробив щит, который он выставил перед грудью. Толпа опомнилась и в ярости рванулась вперед, воздух потемнел от летящих стрел. Увидев, как метко стреляет Скиталец, дворцовые стражи воодушевились и храбро вступили в бой. Толпа сражалась отчаянно, на тех, кто стоял впереди, напирали сотни ломящихся в зал людей. Золотой шлем Скитальца сверкал, точно маяк во время бури. Зал застилал черный дым, ветер трепал загоревшиеся занавеси и драпировки. Светильники падали из рук золотых статуй, столы были покрыты вонзившимися стрелами, одна из них пробила золотую чашу Пахт. Но и во тьме, в дыму, заглушая своим грозным гудением вопли и крики мечущихся с пиками людей, летели длинные стрелы Эперита и настигали тех, кому было суждено умереть. А вот стрелы врагов были бессильны против золотых доспехов Одиссея, они причиняли им не больше вреда, чем град крыше храма, чем снег рогам оленя. Едва коснувшись золотой брони, они бессильно падали или отскакивали на стол. Пронзительно вскрикивала тетива, черный лук грозно гудел, меткие стрелы, свистя, летели во врагов. Но вот запас стрел у Скитальца истощился, и он стал думать, что дела их совсем плохи, потому что из двери за возвышением и из женской половины дворца в зал ворвались вооруженные люди и окружили их с тыла и с флангов. Но Скиталец был опытный боец, равных ему вряд ли найти. Начальник дворцовой стражи был убит ударом копья, и Скиталец встал на его место и приказал тем из стражи, кто остался в живых, выстроиться на возвышении кругом, а внутрь круга поставили членов семьи фараона и женщин, которые были на пиру. Фараону он вложил в руку меч убитого стража и велел сражаться за свою жизнь и за свой трон, хоть никогда раньше ему и не приходилось сражаться. Но потрясенный смертью сына и жестокостью разъяренной толпы, к тому же пьяный, фараон совсем растерялся. Царица Мериамун выхватила меч из его дрожащей руки и приготовилась защищать свою жизнь до конца. Она бы никогда не скорчилась на полу, как другие женщины; гордо выпрямившись, она встала позади Скитальца, не обращая внимания на летевшие со всех сторон смертоносные стрелы. Фараон закрыл лицо руками. Люди с воплями бросились на возвышение, пытаясь взобраться. Скиталец закрылся щитом и кинулся на них с мечом, он так быстро наносил удары, что люди не могли от него защититься, им казалось, что в руках у него не один меч, а три, и все три разили насмерть — таков был дар феака[511] Эвриала. Стражники тоже рубили направо и налево, они сражались не на жизнь, а на смерть, и враги стали отступать, топча убитых. Однако толпа снова ринулась к фараону и царице, и снова была отброшена. Почти все защитники были ранены, они держались из последних сил. Но Скиталец их все время подбадривал, хотя стал опасаться, что им не выстоять. Царица Мериамун тоже убеждала стражников быть мужественными и, если придется умереть, то умереть достойно, как подобает мужчинам. А в толпе снова вспыхнула ярость, и снова закипел кровавый бой. Железные наконечники копий в руках защитников сломались или треснули, и теперь Одиссей один отражал удары мечей, жаждущих крови царицы Мериамун и фараона, — истинный герой, такого в Кемете никто никогда не видел. Вдруг в дальнем конце зала раздался громкий крик, столь громкий, что он перекрыл стук мечей, стоны раненых и умирающих и шум боя. — Фараон! Фараон! Фараон! — воззвал зычный голос. — Ты отпустишь наконец наш народ? И занесенные для удара мечи застыли в воздухе, а поднятые для защиты щиты опустились. Бой прекратился, все повернулись туда, откуда раздался голос. В конце зала, среди мертвых и умирающих стояли два древних старца апура с кедровыми посохами в руках. — Это колдуны! Колдуны апура! — закричала толпа и начала расступаться, забыв о сражении. Старики двинулись вперед. Они не обращали внимания на мертвых и умирающих и шли по крови, разлитому вину, мимо опрокинутых столов и брошенного оружия и наконец остановились перед фараоном. — Фараон! Фараон! Фараон! — снова воззвали они. — Все первенцы страны Кемет умерли, пораженные рукой Яхве. Теперь ты наконец отпустишь наш народ? Фараон поднял голову и крикнул: — Убирайтесь! И вы, и всё ваше племя! Убирайтесь вон из Кемета, чтобы вашего духа здесь не было! Толпа слышала эти слова, и все, кто остался жив, ушли из дворца. На город опустилась тишина, она пришла и к тем, кто умер от меча, и к тем, кто умер от чумы. А с тишиной пришел и сон, принесший людям лучший дар богов — забвение.Глава 11
БРОНЗОВЫЕ ВАННЫ
Как ни страшна была эта ночь, но и она кончилась, настало утро. И Реи пришел к Скитальцу с письмом от фараона, но не застал его в покое, который был ему отведен. Дворцовые евнухи сказали ему, что гость давно встал и попросил отвести его к сидонцу Курри, который теперь стал ювелиром царицы. И Реи направился туда, где жили дворцовые слуги, а подойдя поближе, услышал, что кто-то бьет молотком по металлу. В маленьком дворике у дворцовой стены он увидел Скитальца, но не в золотых доспехах, а в короткой юбочке, какую носят египетские рабочие. Он стоял возле небольшого горна, из которого поднимались пламя и голубоватый дым, тающий в лучах утреннего солнца. В руке он держал молоток, а рядом стояла небольшая наковальня, на которой лежало золотое оплечье; кираса и остальные детали доспехов были сложены на земле возле горна. Рядом со Скитальцем стоял Курри, в руках он держал гранильник истамеску. — Приветствую тебя, Эпирит, — сказал Реи, назвав Скитальца тем именем, которое он для себя придумал. — Что ты тут делаешь возле горна и наковальни? — Что делаю? Чиню свои доспехи, — с улыбкой ответил Скиталец. — Вчерашний бой оставил на них немало следов. — И он указал на свой щит, прорубленный чуть не насквозь в середине, где был изображен белый бык — герб Приамова сына, Париса. — Сидонец, раздуй пожарче огонь! Курри присел на корточки и принялся раздувать огонь кожаными мехами, а Скиталец стал выправлять размягчившийся металл аккуратными ударами молотка, соединяя края прочно и красиво. Работая, он продолжал разговаривать с Реи. — Странное занятие для царя, ведь ты, конечно же, царь у себя в Алибасе, откуда ты приплыл, — сказал Реи, опираясь на свой длинный кедровый посох с лазуритовым яблоком в рукоятке. — У нас в Кемете знатные люди не работают руками. — В каждой стране свои обычаи, — отозвался Эперит. — У меня на родине братья не женятся на сестрах, а у вас женятся. Впрочем, такой же обычай существует на острове бога ветров Эола, меня однажды забросило туда во время моих странствий. И ему вспомнилось, как бог ветра Эол подарил ему мех, в котором были завязаны противные ветры, и как его спутники этот мех развязали. — Мои руки могут делать любую работу, — продолжал он. — Весной косить свежую траву, править быками, вести плугом ровную глубокую борозду в твердой, как камень, земле, строить дома и корабли, делать украшения из золота, ковать железо — всё, что может потребоваться. — И разить мечом врагов, как никто другой, — добавил Реи. — Уж в этом-то я убедился. Послушай, Скиталец, фараон Менепта и царица Мериамун прислали меня к тебе с письмом. — Он вынул свиток папируса, перевязанный золотым шнуром, поднес его к своему лбу и поклонился, словно творя молитву. — Что это за свиток? — спросил Скиталец, выбивая молотком бронзовый наконечник копья, который застрял в навершии его золотого шлема. Реи развязал золотой шнурок, развернул свиток и протянул его Скитальцу. — Великие боги, что это? — спросил Скиталец. — Какие-то крошечные рисунки — фигурки людей, кто-то стоит, кто-то сидит, красные змеи, топоры, птицы, жуки. Что всё это означает? — И он отдал свиток обратно Реи. — Фараон приказал главному писцу написать тебе, что назначает тебя командующим легионом Пахт и начальником дворцовой стражи, потому что вчера вечером наш начальник был убит. Он жалует тебе высокий титул, обещает дать три дома, земли, город на юге, который будет снабжать тебя вином, и город на севере, откуда тебе будут привозить зерно, и просит тебя согласиться служить ему. — Я никогда в жизни никому не служил, — отвечал Скиталец, и лицо его залилось краской гнева, — хотя меня чуть было не продали в рабство. Фараон оказывает мне слишком большую честь. — Ты хочешь уехать из Кемета? — с волнением спросил старый жрец. — Я хочу найти ту, которую ищу, где бы она ни была, — ответил Скиталец. — В Кемете или в какой-то другой стране. — Какой же ответ должен я передать фараону? — Я хотел бы подумать, — ответил Скиталец. — Хорошо бы посмотреть город, если ты согласен меня сопровождать. Много городов довелось мне повидать, но такого большого, как ваш, я еще не встречал. Пока мы ходим и смотрим, я решу, какой ответ дать фараону. Сейчас Скиталец занимался своим шлемом, всё остальное вооружение он уже привел в порядок. Вытащил из него бронзовый наконечник копья и, держа в руках, проверял, насколько остро он заточен. — Отличная работа, — сказал он, — острее не заточишь. И ведь был на волосок от цели. А теперь, сидонец, этот твой наконечник принадлежит мне, — обратился он к Курри, — твой наконечник и твоя жизнь. Жизнь я тебе подарил, а наконечник ты мне одолжил. Но возьми и его. И он бросил его ювелиру царицы. — Благодарю тебя, господин, — ответил сидонец и засунул наконечник за пояс, пробормотав про себя: — Дары врагов добра не приносят. Скиталец надел свои доспехи, шлем и обратился к Реи: — Ну что же, друг, пойдем, покажи мне город. От взгляда Реи не укрылась скользнувшая по лицу сидонца усмешка — жестокая, коварная, мстительная, под стать морскому разбойнику, шердану[512]. Однако он ничего не сказал, вызвал стражу, чтобы сопровождала их с Эперитом, и все они вышли из дворцовых ворот в город. Странное зрелище представилось их глазам. Не таким хотел старый жрец показать Скитальцу город, который он так любил. И из богатых домов, и из домов поскромнее неслись вопли и стенания — плакальщицы скорбели по умершим. А вот в кварталах бедняков, на чьих лачугах косяки дверей и перекладины были помазаны кровью, царило веселье и ликование. В городе жило два народа — один горевал, другой праздновал. Из лачуг, помеченных кровью, выходили женщины с пустыми руками, а возвращались нагруженные драгоценностями — серебряными и золотыми перстнями, кубками, чашами, пурпурными тканями. Богатой добычей поживились эти смуглые люди с пронзительными черными глазами и хищными лицами! Они с криками и хохотом нагло расталкивали египтян, оплакивающих своих детей, и никто их не прогонял, никто не сопротивлялся. Какой-то высокий мужчина хотел вырвать посох из рук Реи. — Одолжи мне свой посох, старик, — глумливо крикнул он, — ишь какой в нем драгоценный камень! Одолжи, я как раз собрался странствовать. Иаков вернется из пустыни, и ты его получишь обратно. Но Скиталец посмотрел на наглеца с такой яростью, что тот попятился. — Я тебя видел, — сказал он со смехом, отступая. — Видел вчера на пиру и слышал, как поет твой лук. Ты не из местных, народ Кемета незлобив, они благосклонно относятся к Иакову. — Старик, что происходит в твоем обезумевшем городе? — спросил Скиталец. — Я много чего повидал в своих странствиях, но такой дикости и представить себе не мог! Никто не пытается защитить свое добро от грабителей! Жрец Реи громко застонал. — Тяжкие времена переживает Кемет, — сказал он. — Апура уходят в пустыню, а перед уходом грабят египтян. В эту минуту они увидели плачущую знатную даму, у которой в один день умерли от чумы муж, сын и брат. Она принадлежала к царскому дому, и на ней было много прекрасных золотых украшений с драгоценными камнями, даже у рабов, которые провожали ее с опахалами к храму Пта, куда она шла молиться, были на шеях золотые цепи. Ее увидели две женщины апура и кинулись к ней, крича: — Отдай, отдай нам свои золотые украшения! Дама молча сняла с себя браслеты, ожерелья и кольца и бросила на землю у своих ног. Апура их подобрали и принялись со смехом глумиться: — Ну да, в тебе течет царская кровь, и что? Где твой муж? Где твой сын? Где твой брат? Ты сейчас расплачиваешься с нами за наш тяжкий труд, за то, что мы вот этими руками лепили кирпичи без соломы, собирали на палящем солнце листья и тростник. За то, что надсмотрщики били нас палками. Где теперь твой муж, где сын, где брат? И они со смехом убежали от несчастной. Скитальца ошеломила эта сцена, хотя потом ему пришлось наблюдать немало подобных. Сначала ему хотелось отобрать у мародеров отнятое и вернуть хозяевам, но жрец Реи умолял его не вмешиваться, иначе проклятье падет и на них тоже. И они двигались сквозь толпу, на каждом шагу наблюдая все новые проявления человеческой алчности и скорби. Здесь мать рыдала над трупом грудного ребенка, там новобрачная оплакивала мужа — нынешней ночью его отняла у нее смерть, пронзительно вопящие апура со злобными лицами срывали серебряные безделушки с детей что победнее, священные амулеты с мумий, приготовленных к захоронению, водонос рыдал над мертвым ослом, который помогал ему зарабатывать на пропитание… Наконец они пробились сквозь толпу и вышли к храму, что стоял поблизости от храма Пта. Пилоны этого храма были обращены в сторону домов, двор и внутренние помещения окружала городская стена Таниса, за которой открывался речной простор. Храм был невелик, но мощной постройки и прекрасной архитектуры. Он был построен из черного сиенского камня, и его полированная поверхность была покрыта изображениями богини Хатор. То она была с головой коровы, то с лицом женщины, и неизменно в руках у нее был жезл, увенчанный цветами лотоса, и священный символ жизни анх, а на шее широкое ожерелье богини. — Здесь, Эперит, обитает чужеземная Хатор, в честь которой ты вчера осушил чашу, — сказал жрец Реи. — Ты бросил дерзкий вызов царице, она ведь клянется, что все эти страшные казни навлекла на Кемет самозванка. Но, конечно, она в них неповинна, хотя из-за ее прекрасного лица многие лишились жизни. Казни наслали на нас апура и их колдун, жрец-вероотступник, которого мы сами посвятили в священные знания. — Хатор сегодня появится? — спросил Скиталец. — Спросим об этом жрецов. Следуй за мной, Эперит. И они прошли по аллее сфинксов, стоявших за кирпичной стеной, в сад богини и вошли в ворота между пилонами. Местный жрец широко распахнул их по знаку главного зодчего страны Реи, которого так любил и почитал фараон, и путники вступили во внешний двор. Перед вторыми пилонами они остановились, и Реи показал Скитальцу место на крыше пилона, где обычно стоит и поет Хатор, пленяя сердца слушающих. Здесь они снова постучали, и их впустили в большой зал Совета, где собравшиеся здесь жрецы посыпали головы пеплом, скорбя вместе с теми, кто потерял своих первенцев. Когда жрецы увидели Реи, посвященного в тайны древней мудрости провозвестника Амона, и пришедшего с ним Скитальца в золотых доспехах, они перестали плакать и старейший из них вышел вперед приветствовать Реи, а потом спросил, что привело его к ним. Реи взял Скитальца за руку и объяснил жрецу, кто это, а также рассказал о его подвигах — как он спас жизнь фараону и его родным, сидевшим вместе с ним в пиршественном зале. — Однако скажи мне, когда госпожа Хатор будет петь на крыше пилона? — спросил Реи жреца. — Чужестранец хочет увидеть ее и послушать ее пение. Жрец храма низко поклонился Реи и печально ответил: — Божественная появится на крыше храма на третье утро, считая от нынешнего. Но ты, мужественный господин, приплывший к нам из далекой страны, ты послушайся моего совета и откажись от желания увидеть ее несказанную красоту, если ты, конечно, не бессмертный бог. Ведь если ты взглянешь на нее, тебя постигнет судьба всех, кто увидел Хатор, ты полюбишь ее и умрешь ради этой любви. — Нет, я не бог, — ответил со смехом Скиталец, — но все же, может быть, осмелюсь взглянуть на нее и даже вступить в бой с ее стражей, если мне захочется разглядеть ее поближе. — Ты погибнешь, и кончатся все твои странствия, — ответил жрец. — Что ж, следуй за мной, я покажу тебе несчастных, мечтавших завоевать сердце Хатор. Он взял Скитальца за руку и повел по узким переходам, вырубленным в стенах. Наконец они оказались в темной мрачной камере, где золотое вооружение Скитальца засияло, как светильник в сумерках. Камера была пристроена к городской стене, и между стеной и крышей не было даже самой маленькой щелочки, в которую мог бы пробиться луч света. В камере рядами стояли отлитые из бронзы ванны, и в них лежали смутно различимые смуглокожие мужчины-египтяне. В слабом свете можно было разглядеть, как прислужники со скорбными лицами моют их и натирают благовонными маслами, — Скитальцу сразу вспомнились бани у него на родине, сверкающие ванны, веселые девы, умащивающие крепкие, мускулистые тела мужчин. Но вот Реи и Эперит подошли ближе, и скорбноликие прислужники стыдливо отпрянули, как собаки отскакивают ночью от украденного мяса, услышав шаги прохожего. Дивясь странному зрелищу, Скиталец стал внимательнее разглядывать купающихся в ваннах и их банщиков, и как ни мужественно было его сердце, оно похолодело. В бронзовых ваннах лежали мертвецы, и лежали они не в воде, а в отвратительно пахнущем соляном растворе. — Здесь лежат последние из тех, кто пытался приблизиться к божественной Хатор, — объяснил храмовый жрец, — прорваться в святилище храма, где она день и ночь поет и ткёт на своем золотом станке с золотым челноком. Их тут десять. Один за другим устремлялись они к ней, желая обнять, и один за другим падали мертвые. Здесь их готовят к погребению, мы всем им устраиваем богатые похороны. — Вот уж истинно я покинул мир солнца и света, когда увидел, что море покраснело от крови, и поплыл в непроглядную тьму, окутавшую Фаросский маяк, — сказал Скиталец. — Много страшного и чудесного видел я в своих путешествиях по разным морям и странам, но такие ужасы, какими полна ваша безумная страна, и в кошмарном сне не приснятся. — Я тебя остерёг, — отвечал ему жрец. — Если ты будешь рваться туда, куда рвались они, если возжелаешь того, что возжелали они, ты тоже будешь лежать в одной из этих ванн и вымачиваться в соляном растворе. Одно я тебе скажу, и эту истину никто не оспорит: тот, кто гонится за любовью, часто встречает смерть. А у нас он ее встречает особенно часто. Скиталец еще раз посмотрел на мертвецов и бальзамировщиков и содрогнулся так, что его латы зазвенели. Он не боялся встретиться лицом к лицу со смертью во время боя или шторма на море, но тут было что-то совсем другое. Ему очень не понравились бронзовые ванны и лежащие в них трупы. Захотелось на солнце, на свежий воздух, и он быстро пошел прочь из камеры, а жрец, глядя ему вслед, усмехнулся. Выйдя на воздух, Скиталец успокоился и снова начал расспрашивать о Хатор — где она живет, кто убивает влюбившихся в нее мужчин. — Я тебе покажу, — ответил жрец и повел его через большой зал Совета к узкому проходу во двор. В середине двора стояло святилище Хатор. Это было большое здание, сложенное из алебастра, с верхним светом, с медными дверями, перед которыми висели тончайшие занавеси пурпурного цвета. С крыши святилища на крышу храма была перекинута по воздуху лестница, и еще одна такая же лестница — на крышу пилона с внутренней стороны. — Здесь, Скиталец, в этом алебастровом святилище, обитает бессмертная богиня, — сказал жрец. — По этой лестнице она поднимается на крышу храма, а потом на площадку пилона. Перед этим занавесом мы каждый день ставим ей еду, ее уносят в святилище, но кто это делает и как — мы не знаем, потому что никто из нас не входил туда и не видел лица Хатор. Когда богиня кончает петь перед собравшимися внизу толпами, она возвращается в святилище, медные ворота храмового двора распахиваются, и в безумии своем обреченные кидаются один за другим к опущенным занавесям. Но прорваться внутрь им не удается, их отбрасывает назад неведомая сила, они снова кидаются к занавесу, и тогда раздается звон мечей, и они падают мертвыми, а Хатор в своем святилище продолжает петь свою чарующую песню. — Кто же ее охраняет? — спросил Скиталец. — Этого мы, чужеземец, не знаем, те, кто их видел, умерли. Подойди к двери святилища, послушай, может быть, ты услышишь, как поет Хатор. Не бойся, тебе не надо подходить слишком близко. Скиталец недоверчиво приблизился, жрец Реи остался стоять поодаль, хотя жрецы храма подошли к святилищу совсем близко и, остановившись у занавеса, стали слушать. И до них донеслось пение — страстное, завораживающее, тревожное, удивительный голос проник в самое сердце Скитальца и странно взволновал его, ему вспомнилась Итака, где он был царем и куда ему уже никогда не суждено воротиться, вспомнились счастливые дни юности, возведенные богами стены Трои, овеваемой всеми ветрами… Он и сам не понимал, почему эти воспоминания нахлынули на него и так сильно разбередили душу. — Слушай же! — сказал жрец. — Хатор поет и плетет судьбы людей. В эту минуту пение смолкло. Скиталец задумался: сейчас ли, не медля ни минуты, ворваться в двери и испытать судьбу, или сколько-то времени выждать? В конце концов он решил подождать и сначала собственными глазами увидеть, что происходит с теми, кто рвется напролом. И он в большой задумчивости отошел от святилища. Попрощавшись со старым храмовым жрецом, он вышел из храма вместе с Реи, главным зодчим страны Кемет. Они прошли по улицам Таниса, где по-прежнему мародерствовали апура, и вернулись во дворец, где ему были отведены покои. Там он стал размышлять, как бы ему увидеть таинственную женщину, обитающую в храме, и не оказаться в бронзовой ванне. Размышлял он до вечера, пока к нему не пришел слуга звать к фараону на ужин. Тогда он поднялся и пошел к пиршественному залу и по пути встретил фараона и царицу Мериамун. Они все уселись на возвышении, которое он вчера защищал от разъяренной толпы. Убитых давно унесли, и если бы не пятна на мраморном полу, которые не удалось отмыть, да несколько стрел, вонзившихся в стены под потолком и в высокий потолок, ничто бы не напоминало о кровавом побоище, которое разыгралось здесь всего лишь вчера. Лица у фараона и у тех немногих, кто сидел за столом, были скорбные, все они потеряли близких, любимых людей, в покрытой позором стране Кемет воцарилось горе. Но царица Мериамун не пролила ни единой слезы по своему единственному сыну. Ее сердце разрывалось не от горя, а от гнева, потому что фараон позволил апура уйти. И все то время, что они сидели за своей скорбной трапезой, они слышали топот многотысячной толпы, идущей мимо дворца, мычанье скота и торжествующую песнь апура. Песня была такая дикая и злобная, вопили и орали они так воинственно, что Скиталец попросил у фараона позволения покинуть зал и встать на страже у ворот дворца, ведь апура могут ворваться к ним и разграбить царскую сокровищницу. Фараон кивнул в знак согласия, а Мериамун поднялась из-за стола и пошла вместе со Скитальцем, который взял свой лук, к дворцовым воротам. Они встали в их тени, и вот какое зрелище представилось их глазам. Впереди шло множество людей с факелами, ярко освещая путь. За ними двигалась толпа мужчин, вооруженных грубыми пиками, и свет факелов ярко вспыхивал на их наконечниках и золотых шлемах, которые апура отняли у солдат Кемета. За мужчинами, кружась в диком, исступленном танце под звуки бубнов и злобно-ликующее пение, приближалась толпа женщин. На небольшом расстоянии от них шагали восемь крепких чернобородых мужчин, на плечах они несли большой золоченый гроб, украшенный резьбой и цветными рисунками. — В нем тело их пророка, который привел их всех сюда из их страны, где они умирали от голода, — прошептала Мериамун. — Жалкие рабы, в пустыне вы будете подыхать с голода и затоскуете по сытой жизни в Кемете. Тут она сорвалась на крик, не в силах справиться со своим гневом, и бросила свое пророчество в лицо несущим гроб: — Ни один из вас не увидит землю, в которую ведет вас ваш колдун! Вы будете изнывать от жажды, изнемогать от голода, будете взывать к богам Кемета, но они не услышат вас! Вы все умрете, и ваши кости будут белеть среди песков пустыни! Ступайте же прочь! Прочь, туда, где вас ждет смерть! Слова ее были так ужасны, а в глазах полыхала такая ярость, что апура задрожали, а их женщины перестали петь. Скиталец смотрел на царицу и дивился. «Никогда не встречал женщины с таким жестоким сердцем, — думал он. — Горе тому, кто полюбит ее или станет ее врагом!» — Больше они не будут петь у моих ворот. — Мериамун усмехнулась. — Идем, Скиталец, нас ждут на пиру. И она подала ему руку, чтобы идти вместе. Так они и вошли в пиршественный зал рука об руку. Долго они сидели за столом, чуть не до рассвета, и все это время мимо дворца шли апура, их было не счесть, как песчинок в пустыне. Но наконец исход кончился, шум шагов замер вдали. И тогда царица Мериамун язвительно бросила фараону: — Ты трус, Менепта, да, трус, у тебя сердце раба. В своем страхе перед проклятьем, которое наслала на тебя самозванка Хатор, хотя ты так ее почитаешь, ты отпустил из Кемета рабов — позор тебе! Разве поступил бы так наш отец, великий Рамзес Миамун, гроза хананеев? Теперь они в злобе своей проклинают страну, которая дала им кров, когда они были бездомные, грабят тех, кто заботился о них, как мать заботится о родных детях. — Что же теперь делать? — спросил фараон. — Поздно, фараон, сделанного не воротишь, — отрезала Мериамун. — А ты что думаешь, Скиталец? — Чужестранец не должен давать советов, — ответил Скиталец. — И все же говори, — настаивала Мериамун. — Я не знаю богов вашей страны, — ответил он. — Если они благоволят к этим людям, то ничего делать не надо. Если же нет, пусть фараон соберет свое войско и бросится за ними следом и, застав врасплох, разобьет наголову, — сказал мудрый и опытный воин Скиталец. — Это будет нетрудно, ведь они всего лишь беспорядочная толпа, да еще у них столько скарба. Ответ Скитальца пришелся царице по душе. Она захлопала в ладоши и крикнула: — Вот это мудрые речи, фараон, внимай же им! Теперь, когда апура ушли, фараон перестал их бояться, и чем больше он хмелел, тем храбрее становился, и наконец так раскуражился, что вскочил на ноги и поклялся Амоном, Осирисом и Пта, а также своим отцом, великим фараоном Рамзесом, что догонит апура и перебьет их всех до единого. И тотчас же послал слуг за военачальниками и приказал им незамедлительно явиться в тронный зал. Все собрались, обсудили, как действовать, и разослали гонцов во все крупные города с приказом градоначальникам собирать силы и присоединяться к войску фараона уже во время похода. После этого фараон обратился к Скитальцу: — Ты ничего не ответил мне по поводу письма, которое отнес тебе утром Реи. Ты согласен поступить ко мне на службу и командовать моим войском? Скитальцу очень не нравилось слово «служба», но в нем билось сердце воина, и азарт битвы приводил его в упоение. Он не успел произнести ни «да», ни «нет», в разговор вмешалась царица Мериамун. — Я считаю, Менепта, что, пока ты будешь уничтожать апура, господину Эпериту следует оставаться здесь, в Танисе, — взволнованно проговорила она, — и командовать отрядом моих телохранителей. Время такое тревожное, и я не могу остаться без защиты, а если я буду знать, что меня охраняет мужественный воин, я буду чувствовать себя в безопасности и смогу спать спокойно. Скиталец вспомнил о своем желании увидеть Хатор, а он больше всего на свете любил новые страны, новые лица, новые приключения. И потому ответил, что охотно останется, если это будет угодно фараону и царице, и возглавит отряд телохранителей. И фараон сказал: «Быть по сему».Глава 12
В ПОКОЯХ ЦАРИЦЫ
Назавтра в полдень фараон и его войско с большой пышностью и торжественностью выступили из Таниса в поход и двинулись через пустыню к Чермному морю в том направлении, куда ушли апура. Скиталец больше часа провожал войско вместе с Реи в его колеснице, потому что Реи тоже оставался в Танисе. Огромная армия фараона поразила ахейца, ведь он привык иметь дело с небольшими отрядами, какие способны собрать два-три скалистых острова и несколько разрозненных племен. Однако он не показал Реи своего изумления, зачем людям думать, что его народ малочислен. Даже сделал вид, будто ничего другого и не ожидал, и спросил жреца, вся ли это армия фараона. Реи ответил, что это лишь четвертая часть, потому что ни наемники, ни силы Верхнего Египта не присоединились к походу против апура. И тут Скиталец понял, что попал в страну с великим множеством народа, ничего подобного он не встречал во время своих странствий ни на море, ни на суше. Он доехал с войском до развилки дороги и направил их с Реи колесницу к колеснице фараона, чтобы попрощаться. Фараон позвал его в свою колесницу и сказал: — Поклянись мне, Скиталец, назвавшийся именем Эперит, хотя откуда ты прибыл и где твоя родина — никому неведомо, поклянись мне, что ты будешь верой и правдой защищать царицу Мериамун и не причинишь зла ни мне, ни моему дому, пока я нахожусь вдали от него. Ты мужественен и красив, и сильнее всех других мужей на свете, но мое сердце точит сомнение. Оно твердит мне, что ты коварен и причинишь мне большое зло. — Что ж, фараон, если ты сомневаешься во мне, не поручай мне охранять царицу, — ответил Скиталец. — И все же мне кажется, я причинил тебе не такое уж большое зло две ночи назад, когда озверевшая толпа хотела зарубить мечами и тебя, и всех твоих родных, потому что умерли все перворожденные в твоей стране. Фараон устремил на Скитальца долгий, недоверчивый взгляд. Потом протянул ему руку. Скиталец пожал ее и поклялся своими собственными богами — Зевсом, Афродитой, Афиной и Аполлоном, — что честно выполнит свой долг. — Я верю тебе, Скиталец, — сказал фараон. — Знай же, если ты выполнишь свою клятву, я награжу тебя великой наградой и сделаю первым сановником в стране Кемет. Если же изменишь клятве, тебя ждет страшная смерть. — Награды мне не нужны, — ответил Скиталец, — а смерти я не боюсь, потому что знаю, какой именно смертью умру. Однако клятву свою я выполню. И, поклонившись фараону, он выпрыгнул из его колесницы и вернулся в колесницу Реи. Они поехали обратно мимо идущих солдат, и солдаты кричали ему: «Не покидай нас, Скиталец!» Он был так великолепен в своих золотых доспехах, что казался им богом войны, и они не хотели, чтобы бог их оставил. Сердцем Скиталец был с ними, ибо любил войну, а апура вызывали у него отвращение. Но надо было возвращаться, и к вечеру он прибыл во дворец. За ужином он сидел рядом с царицей Мериамун. Когда трапеза кончилась, она велела ему следовать за ней в ее покои, где любила проводить время одна. Воздух здесь благоухал, неярко горели светильники, заправленные ароматными маслами, стояли ложа резной слоновой кости с золотом, стены были расписаны сценами из жизни неведомых ему богов и царей, они рассказывали об их военных подвигах и любовных приключениях. Царица опустилась на вышитые подушки и велела многомудрому Одиссею сесть как можно ближе, дабы охранять ее, — так что складки ее платья закрыли его поножи. Он с большой неохотой повиновался, хоть и не был женоненавистником. В глубине души он не доверял черноокой царице и все время был настороже, ведь царица была необычайно красива, красивее всех смертных женщин, кого ему довелось в своей жизни видеть, — всех, кроме Златокудрой Елены. — Скиталец, мы в неоплатном долгу перед тобой, — заговорила царица, — и я была бы счастлива узнать, кого нам следует благодарить за спасение нашей жизни. Расскажи мне о себе, где ты родился, об отчем доме, о странах, которые ты видел, о войнах, в которых воевал. Расскажи о падении Трои, о том, как тебе достались эти золотые доспехи. Такие же носил несчастный Парис, если верить тому певцу-сказителю с севера. Скиталец мысленно проклял и певца-сказителя с севера, и его сказания. — Разве можно верить сказителям, госпожа, — возразил он. — Они подбирают обрывки разных историй и потом обязательно всё переврут. Может быть, мои доспехи и в самом деле когда-то носил Парис, а может быть, кто-то другой. Я купил их у торговца на Крите и не спрашивал, кто владел ими до меня. Что до Троянской войны, я действительно принимал в ней участие в юности, когда служил критянину Идоменею, но мне досталось слишком мало военной добычи. Все ценности и женщин забирают себе цари, а мы, воины, лишь проливаем кровь. Такова война без прикрас. Мериамун выслушала рассказ Скитальца, в котором он изобразил себя грубым, алчным наемником, загадочно глядя на него, потом так же загадочно улыбнулась. — Странная история, Эперит, очень странная. А теперь расскажи мне, как попал к тебе в руки твой волшебный лук, лук, поющий песнь войны? Если сказитель с севера говорил правду, этот лук когда-то принадлежал царю Ойхалии Эвриту. Скиталец растерянно огляделся вокруг, словно попал в засаду и его окружил отряд врагов с обнаженными мечами, которые ярко сверкают на солнце. — Как ко мне попал лук, госпожа? Это тоже необыкновенная история, — мгновенно опомнившись, начал рассказывать он. — Я перевозил груз железа на западное побережье и подплыл к какому-то острову, кажется, кормчий сказал, что он называется Итака. На этом острове мы не нашли ни одного живого человека — всех скосила чума; в одном из полуразрушенных домов я увидел этот лук и решил взять себе. Славное оружие! — И верно, необыкновенная история, поистине необыкновенная, — отозвалась царица Мериамун. — Ты случайно купил доспехи Париса, случайно нашел лук Эврита, тот самый лук, из которого богоподобный Одиссей, мне помнится, расстрелял в своем доме женихов Пенелопы. Признаюсь тебе, Эперит, что, когда ты стоял на возвышении пиршественного зала и твой лук гудел, а длинные стрелы градом летели в толпу и люди один за другим падали, я вспомнила рассказ сказителя об Одиссее, перебившем женихов, которые пировали и бесчинствовали в его доме. Слава Одиссея облетела многие страны, дошла даже до Кемета. И она посмотрела ему прямо в глаза. Скиталец нахмурился и пожал плечами. Да, он слышал что-то подобное, но считает всё это выдумками бродячих сказителей. Разве может один человек убить сотню врагов, как они уверяют? Царица приподнялась со своего ложа, где лежала, точно свернувшаяся змея, сверкая переливчатой чешуей, потом встала гибким, змеиным движением, не спуская с него задумчивого взгляда. — Странно, поистине странно, что Одиссей, сын Лаэрта, Одиссей, царь Итаки, не знает, что он, Одиссей, убил женихов своей жены Пенелопы. Да, Эперит, странно: ты — Одиссей, и сам этого не знаешь. Ловушка захлопнулась, Скиталец это понимал, однако и не думал сдаваться. — Я слышал, Одиссей действительно когда-то странствовал на севере, — сказал он, равнодушно глядя на нее, — но возвращаться не собирается. Я его видел во время войны. Он гораздо выше меня ростом. — А я слышала, и слышала много раз, что Одиссей лжив и коварен, ему верить нельзя. Посмотри мне в глаза, Скиталец, посмотри мне в глаза, и я покажу тебе, кто ты — Одиссей или не Одиссей. И она склонилась к нему, так что ее волосы упали ему на лоб, и устремила свой взгляд прямо в его глаза. Скиталец был не из тех, кто отведет глаза от взгляда женщины, встать и уйти он тоже не мог, поэтому он продолжал смотреть ей в глаза и вдруг почувствовал, что голова у него странно закружилась, а сердце бешено стучит, потом вдруг остановилось. — Оглянись, Скиталец, — услышал он голос царицы словно бы откуда-то издалека или, может быть, из-за толстой стены, которая их разделяла, — оглянись и скажи мне, что ты видишь. Он оглянулся и посмотрел в неосвещенный угол покоев. Там, в темноте, забрезжил слабый свет, похожий на первое свечение рассвета, в нем вырисовался силуэт, он был похож на огромного деревянного коня, за ним поднимались черные квадратные башни, сложенные из огромных камней, ворота, городские стены, дома… Вот в боку лошади отворилась дверца, и из нее осторожно выглянула голова в шлеме. Огромная яркая звезда сорвалась с неба и на миг осветила лицо человека в шлеме — это было его лицо! И он вспомнил, как выглянул наружу из брюха деревянного коня, когда конь уже стоял внутри стен Трои, и увидел падающую на обреченный город звезду — дурное знамение, предвещающее гибель Трои. — Смотри еще, — прозвучал далекий голос Мериамун. Скиталец стал снова вглядываться в темноту и увидел вход в грот, перед входом в тени пальм сидели двое — мужчина и женщина. Полная луна освещала дремлющее море, высокие пальмы, грот и сидящих перед ним людей. Женщина была прекрасна, с заплетенными в косы волосами, в переливающемся одеянии, и глаза ее были затуманены слезами, но пролить их она не могла, ибо это была богиня Калипсо, дочь Атласа. Мужчина из видения Скитальца поднял голову, и он увидел его худое, усталое, измученное тоской по дому лицо — свое собственное лицо. И он вспомнил, как сидел рядом с прекрасной Калипсо в ту последнюю ночь после семи лет, проведенных на ее острове в самой середине огромного моря. — Смотри еще, — снова приказал голос царицы Мериамун. И снова он стал вглядываться во мрак. Перед ним возникли развалины его родного дома на Итаке, погребальный костер во дворе, обугленные человеческие кости. Возле этих останков на земле лежал человек, скорчившийся в пароксизме горя… Вот человек поднял голову — и Скиталец узнал себя. Темнота в дальнем углу покоя в мгновение ока рассеялась, кровь снова живым током потекла по жилам, Скиталец увидел перед собой царицу Мериамун. Она загадочно улыбалась. — Странные видения тебя сейчас посетили, согласись, Скиталец, — сказала она. — Да, царица, поистине странные. Окажи мне милость, открой, как ты вызвала их перед моими очами? — Силой чар, Эперит, которыми я владею. В Кемете нет чародея искуснее меня, я умею видеть прошлое тех, кого я… кого я люблю. — Она снова загадочно посмотрела на него. — Я умею вызвать прошлое из глубин их памяти и заставить пережить всё снова. Скажи мне, чье лицо ты видел? Не лицо ли Одиссея, сына Лаэрта и царя Итаки? И разве это не твое собственное лицо? Скиталец понял, что отрекаться бесполезно, и признался, не потому, что так любил правду, а потому, что ничего другого не оставалось. — Да, царица, я видел лицо Одиссея, царя Итаки, и это было мое лицо. Признаюсь тебе, что я — Одиссей, сын Лаэрта, это мое истинное имя. Царица громко рассмеялась. — Да, велика сила моих чар, раз мне удалось перехитрить хитроумнейшего из смертных, — сказала она. — Теперь ты знаешь, Одиссей, что глаза царицы Мериамун видят очень далеко. Открой мне правду, зачем ты приплыл к нам? Кого ищешь? Скиталец стал быстро соображать. Вспомнил сон Мериамун, который рассказал ему Реи, хотя ей было о том неведомо, сон, в котором ей был явлен мужчина, которого ей суждено полюбить, вспомнил слова мертвой Хатаски, и ему стало страшно. Он ясно понимал, что этот мужчина — он, свидетельством тому был наконечник копья в шлеме. Но он не мог принять ее любовь и потому, что дал клятву фараону, и потому, что должен был найти ту, кого показала ему на Итаке Афродита, прекраснейшую в мире женщину — Златокудрую Елену. Какой тяжелый выбор ему предстояло сделать — нарушить клятву или оскорбить женщину, отвергнув ее любовь. Он дорожил своим словом, но и боялся гнева Зевса, бога-покровителя хозяев и гостей. И потому решил, что безопаснее всего сказать правду. — Госпожа, я расскажу тебе всё, как было. Я вернулся на Итаку с покрытого снегами севера, где оказался по воле разгневанных богов, и увидел, что мой дом в запустении, семья и слуги умерли, во дворе погребальный костер с прахом жены. Но ночью мне явилась во сне богиня, которой я молился не слишком часто, Афродита Идалийская, вы в вашей стране называете ее Хатор, она повелела мне отправиться в путь и выполнить ее волю. В награду она обещала мне, что я встречу женщину, которая ждет меня и станет моей бессмертной возлюбленной. Больше Мериамун слушать Скитальца не стала, она была уверена, что она и есть та женщина, встречу с которой ему обещала Афродита. Змейкой скользнув к нему, она обвилась вокруг него, как змея, и прошептала так тихо, что он скорее угадывал ее мысли, чем слышал ее слова: — Неужели это правда, Одиссей? Неужели богиня и в самом деле послала тебя искать меня? Знай же, она являлась не только тебе. Я тоже искала тебя. Я тоже ждала, что придет тот, кого мне суждено полюбить. Как тягостно влачились дни, как пусто было мое сердце, как страстно я тосковала все эти годы, ожидая встречи с тем, кто назначен мне судьбой. И вот наконец мы встретились, наконец-то я вижу того, кто являлся мне в сновидениях! И она приблизила свои уста к устам Одиссея, ее сердце, ее глаза, ее губы говорили ему: «Люблю!» Но сердце у Одиссея было стойкое и неколебимое, его разум не могли затуманить ни опасность, ни любовь. Никогда еще не оказывался он в таком запутанном хитросплетении, этого узла ни мечом не разрубить, ни самым изощренным искусством не развязать. Предаться любви и наслаждению, значит нарушить клятву и навеки потерять свою бессмертную любовь. Полюбив другую женщину, он потеряет Елену, так сказала ему Афродита. Но если он оскорбит царицу, отвергнув ее любовь… нет, при всей твердости своего характера он не осмелится признаться ей, что не она была явлена ему в его видении, не ее он приехал сюда искать. И, как всегда, ему пришли на помощь его спокойное мужество и изворотливый ум. — Госпожа, нам обоим приснились сны, — сказал он. — Во сне тебе казалось, что ты любишь меня, но проснулась ты супругой фараона. А я — я гость фараона и дал ему клятву охранять тебя от всякого зла. — Да, я проснулась супругой фараона, — с отчаянием повторила она и, разомкнув обнимавшие его руки, откинулась на ложе. — Но супруга фараона — всего лишь мой титул, на самом деле я ему вовсе не жена. Я не люблю его, Скиталец, он ничего для меня не значит. — Зато моя клятва, царица Мериамун, значит для меня очень много, моя клятва и благодарность гостя хозяину, — ответил Скиталец. — Я поклялся Менепта оберегать тебя от всякого зла и сдержу клятву. — А если фараон больше не вернется, что тогда, Одиссей? — Тогда мы и поговорим. А сейчас, госпожа, заботясь о твоей безопасности, я должен проверить стражу. И с этими словами он покинул ее покои. Царица проводила его взглядом. — Странный мужчина, — размышляла она сама с собой. — Воздвиг из своей клятвы преграду между собой и мной, женщиной, которую он любит и ради которой приехал чуть не с края земли! Но, кажется, я за это уважаю его еще больше. Супруг мой, фараон Менепта, ешь, пей, веселись — недолго еще тебе осталось наслаждаться жизнью, это я тебе обещаю.Глава 13
ПЕРЕД ХРАМОМ ХАТОР
«Быстра, как птица, остра, как мысль», — любил повторять в своих сказаниях знаменитый древний певец севера. Мысли проснувшегося утром Скитальца метались, как ночные птицы, он старался осмыслить то, что увидел и что услышал в покоях царицы. Опять ему предстояло сделать выбор — эта женщина или клятва, священнее которой для него не было ничего на свете. Да у него и не было искушения ее нарушить — конечно, Мериамун красива и умна, но он страшился ее любви и ее колдовских чар ничуть не меньше, чем ее мести, а месть ее будет поистине страшна, если он ее отвергнет. Нужно оттягивать время, это мудрее всего; дождаться, когда вернется фараон, и, как ни трудно найти предлог, уехать из Таниса и продолжать поиски прекраснейшей из женщин. Он поплывет вверх по течению этой удивительной реки, о которой рассказывают столько чудес. Она течет из страны добрых эфиопов, самых справедливых людей на свете, сами боги приходили к ним и садились вместе с ними за трапезу. Может быть, там, на берегах этой священной реки, в стране, где людям неведомо зло, он встретит, если судьбе будет угодно, Златокудрую Елену. Да, если судьбе будет угодно… но ведь и всё, что с ним происходит, тоже угодно Судьбе, ведь это она показала его Мериамун в ее снах. Он размышлял и размышлял обо всем этом, но решения не находил. И казалось ему, что, как он плыл в кромешной тьме по кровавому морю к берегам Кемета, так и дальше ему суждено через тьму и кровь добираться до берега, где боги определили ему встречу с Судьбой. Немного погодя он все же прогнал грустные мысли, совершил омовение, умастился благовонным маслом, расчесал свои темные кудри и надел золотые доспехи. Он вспомнил, что сегодня чужеземная Хатор поднимется на площадку пилона в своем храме и предстанет перед толпой, а Скиталец был полон решимости увидеть ее и, если потребуется, сразиться с теми, кто ее охраняет. Он помолился Афродите, прося ее о помощи, сделал жертвенное возлияние из чаши с вином в ее честь и стал ждать. Однако ждал он напрасно, ибо она не отозвалась на его молитву. Но когда он, повернувшись, случайно увидел свое отражение в широкой золотой чаше, из которой сделал возлияние, ему показалось, что он стал красивее, следы прожитых лет исчезли, морщины разгладились, перед ним было лицо молодого Одиссея, который много лет назад уплыл на черном просмоленном корабле, глядя на дымящиеся развалины овеваемой всеми ветрами Трои. Он увидел в этом вмешательство Афродиты и понял, что она не оставляет его, хотя в этой стране чужих богов не может показываться открыто. При мысли об этом на душе у него стало легко, как у юноши, которому еще неведомы ни горе, ни печаль, а смерть словно бы и вовсе не существует. Он утолил голод и жажду и надел пояс с мечом — даром Эвриала, но дубовый лук оставил в чехле дома. Он уже собрался идти, но тут к нему как раз пришел жрец Реи. — Куда ты направляешься, Эперит? — спросил Реи, мудрый ученый жрец. — И что произошло, ты так красив и молод, как будто сбросил с плеч десяток-другой лет. — Просто я хорошо выспался, — ответил Скиталец. — Спал всю ночь крепко и сладко, и сон стер следы усталости от моих странствий, сейчас я такой, каким был до плавания во тьме по кроваво-красному морю. — Продай секрет своего сна знатным дамам Кемета, — сказал с улыбкой Реи, — и проживешь всю жизнь в богатстве и довольстве. Он шутил, делая вид, что поверил Скитальцу, но на самом деле знал, что без вмешательства богов тут не обошлось. — Я иду в храм Хатор, — сказал Скиталец, — ты ведь помнишь, сегодня она поднимется на площадку пилона и явится перед людьми. Ты пойдешь со мной, Реи? — Нет, Эперит, не пойду. Хоть я и стар, но кровь в моих жилах еще не совсем остыла, и если я увижу ее, быть может, меня тоже охватит безумие и я тоже ринусь навстречу смерти. Можно услышать голос Хатор, для этого нужно завязать себе глаза, многие так и делают. И все равно потом срывают с глаз повязку, смотрят на нее и погибают, как и все остальные. Не ходи туда, Эперит, заклинаю тебя, не ходи. Я очень полюбил тебя, сам не знаю, почему, и совсем не хочу, чтобы ты умер. Хотя — кто знает? — быть может, твоя смерть была бы благом для тех, кому я служу, Скиталец, и в чьих глазах я читаю судьбу, — добавил он словно бы про себя. — Не бойся, Реи, — улыбнулся Скиталец, — ничего со мной не случится, мне ведомо, какой именно смертью я умру. — А про себя подумал: «Чтобы тот, кто не устрашился морского чудовища Сциллы, бежал от опасности и испугался любви? Нет, такому не бывать!» Реи ломал руки и чуть не плакал, он не мог допустить, чтобы этот красивый, как бог, муж, этот великий герой умер такой жалкой смертью. Но Скиталец вышел из дворца в город, и Реи пошел проводить его. Они дошли до аллеи сфинксов, которая начиналась у кирпичной городской стены и вела к садам храма Хатор. По улице спешили разномастные, разноплеменные толпы мужчин всех возрастов от совсем зеленого юноши до глубокого старца. Был тут отпрыск царского рода, которого несли в паланкине, молодой вельможа в колеснице, работающие на полях рабы, с ног до головыпокрытые пылью, калеки на костылях, слепые с собаками-поводырями… И каждого провожали женщины: кого жена, кого мать, кого сестры, кого невеста. Они с плачем и страстными мольбами хватали своих любимых за руки, пытались их удержать. — Сын мой, о мой сын! — кричала мать. — Внемли словам своей матери. Не ходи туда, не смотри на богиню, ведь если ты ее увидишь, ты умрешь, а у меня, кроме тебя, никого не осталось на свете. Было еще два сына, твои братья, но оба они умерли. Неужели ты тоже хочешь умереть и оставить меня одну, старую, беспомощную, убитую горем? Опомнись, сынок, я ли не любила тебя, я ли не заботилась, ты самое дорогое, что есть у меня на свете! Вернись, умоляю, давай вместе вернемся домой! Но сын не слышал свою мать — не слышал и не слушал, он одержимо рвался к воротам храма. — Супруг мой, любимый мой муж! — взывала молодая, красивая женщина высокого происхождения, одной рукой она прижимала к себе младенца, другой вцепилась в дорогое вышитое платье мужа. — Вспомни, как я всегда любила тебя, как заботилась и угождала, неужели ты отвернулся от меня, неужели пойдешь смотреть на гибельную красоту Хатор? Говорят, ее красота смертоносна. Ведь ты любишь меня больше, чем любил дочь Ройса, Меризу, хотя и ее ты тоже любил, но она пять лет назад умерла. Взгляни, это твое дитя, ему всего неделя, но я встала с постели роженицы, еще не оправившись после родов, и иду за тобой в такую даль и, может быть, заплачý за это жизнью. Вот твое дитя, смотри, оно молит тебя вместе со мной. Пусть я умру, если так суждено, но не ходи туда, где тебя ждет смерть. Ты увидишь не богиню, ты увидишь злого демона, вырвавшегося из царства мертвых, и погибнешь. Если я тебе чем-то не угодила, возьми себе еще одну жену, я радушно приму ее в дом, только не ходи туда, только не умирай! Но мужчина и не видел, и не слышал ее, его глаза были устремлены на крышу пилона. Обессилевшая женщина упала на дорогу, и ее вместе с ребенком раздавили бы колесницы, но Скиталец успел поднять их и вынести из толпы. Трудно себе представить зрелище более душераздирающее — женщины с рыданьями молят мужчин остаться, а те одержимо рвутся навстречу смерти. — Ты видишь, Скиталец, как велика власть любви над людьми, видишь, что красивая женщина может погубить любого мужчину, перед ней никто не устоит, — сказал жрец Реи. — Да, странное зрелище, поистине странное, — отозвался Скиталец. — Много крови на руках у этой твоей Хатор. — И ты, Скиталец, хочешь ради нее пролить и свою кровь. — Нет, кровь проливать я не намерен, — возразил он, — но на лицо ее я обязательно взгляну, так что не будем больше говорить об этом. Они подошли к бронзовым воротам между пилонами, за которыми находился двор храма. Здесь уже собралась тысячная толпа. Пока они разглядывали толпу, к воротам подошел жрец — тот самый, что показывал Скитальцу трупы в бронзовых ваннах. Он выглянул за решетку ворот и провозгласил: — Все, кто желает видеть божественную Хатор, подойдите ближе. Знайте, что Хатор будет принадлежать тому, кто ее завоюет. Если же он не прорвется к ней, он умрет, будет похоронен под храмом и никогда больше не увидит солнца. Я вас предостерег. С тех пор как Хатор вернулась в Кемет, ее пытались завоевать семьсот три мужа, и в подвалах этого храма лежат в соляных растворах семьсот два трупа, потому что живым вернулся один только фараон Менепта. Но места для желающих много. И все, кто желает видеть Хатор, входите! Воздух огласился оглушительными воплями обезумевших женщин, они мертвой хваткой вцеплялись в своих любимых, повисали на шее, и некоторым даже удалось их удержать, решимость мужчин ослабла, они не побежали к воротам. Однако несколько мужчин, которые раньше видели Хатор издалека, оттолкнули от себя женщин и бросились к входу, их было человек десять. — Но ведь ты-то, конечно, не пойдешь? — убеждал Скитальца Реи, крепко держа его за руку. — Отврати лицо свое от смерти, вернись со мной, молю тебя. — Нет, — ответил Скиталец. — Я войду в ворота. Жрец Реи посыпал себе голову пылью и, громко рыдая, быстро пошел обратно, остановился он, только когда дошел до дворца, где его ждала царица Мериамун. А жрец храма Хатор отомкнул бронзовые ворота, и те, кто был одержим безумием, один за другим вошли во двор. Все они много раз видели Хатор издали, из-за стены, и сейчас более не могли противиться своей страсти. Когда они входили в ворота, два других жреца отводили их в сторону и завязывали им глаза, так что видеть прекрасную Хатор они не могли, разве что сорвут повязки, но могли слышать ее чарующий голос. Двое не пожелали, чтобы им завязывали глаза, один из них был тот самый мужчина, чья жена упала без чувств на дорогу, другой ослеп еще в юности. Он не мог видеть красоты богини, но его свел с ума ее колдовской голос. Во двор вошли все, кроме Скитальца, и тут вдруг толпа заколыхалась, из нее выбежал еще один мужчина. Он был покрыт дорожной пылью, черная всклокоченная борода, черные пронзительные глаза, хищный, как у грифа, нос. — Стойте! — кричал он. — Подождите! Не запирайте ворота! День и ночь спешил я сюда, бросив свой народ, который ушел в пустыню. День и ночь я мчался, оставив жену, свое стадо, детей, забыв про Землю обетованную, чтобы еще раз взглянуть на несравненную Хатор. Не запирайте же ворота! — Входи, — сказал жрец, — входи же, пусть умрет еще один из тех неблагодарных, кого страна Кемет вскормила, а они ее ограбили. Апура вошел, жрец уже хотел задвинуть засов, но в последний миг в ворота шагнул Скиталец, и его золотые доспехи звякнули, задев бронзовые прутья. — Неужели, могущественный господин, ты в самом деле ищешь встречи со смертью? — спросил жрец, хорошо его запомнивший. — Да, я войду, но может быть, и не для встречи со смертью, — ответил Скиталец. Он вошел, и бронзовые ворота закрылись за ним. Подошли два жреца, чтобы завязать ему глаза, но он отказался. — Не надо, я пришел сюда увидеть всё от начала до конца. — Иди же, безумец, иди и смотри! Умрешь, как и все! Жрецы отвели всех на середину двора, откуда была видна площадка пилона. Они завязали глаза и себе и распростерлись на земле. И во дворе храма, и снаружи воцарилась тишина, все ждали появления Хатор. Скиталец посмотрел сквозь бронзовую решетку на толпу, оставшуюся на площади. Люди стояли молча, даже женщины перестали плакать, все замерли, устремив взгляд вверх. Он посмотрел на мужчин, стоящих рядом с ним. Все они подняли головы, и хотя на их лицах были повязки, они, казалось, видят всё сквозь ткань. Слепой тоже смотрел на крышу пилона, его бледные губы беззвучно шевелились. Тень у основания пилона была уже совсем маленькая, она всё уменьшалась и уменьшалась по мере приближения солнца к зениту, вот осталась совсем тоненькая полоска, но и она исчезла — красный диск солнца встал в синем небе прямо над крышей пилона. И в этот миг издалека до всех донеслось тихое чарующее пение, и при первых же звуках из уст толпы вырвался вздох. Те, кто стоял рядом со Скитальцем, тоже вздохнули, их губы и пальцы судорожно зашевелились, вздохнул и Скиталец, сам не зная почему. Чарующее пение приближалось, чудный голос звучал всё ближе, и наконец те, кто стоял за воротами на пригорке, увидели ее. И над толпой пронесся глухой рев, люди обезумели. Мужчины бросились к бронзовым воротам и высокой стене ограды, стали исступленно бить по ним кулаками, биться головой, лезли друг другу на плечи, грызли решетку зубами и кричали, чтобы их впустили, а женщины, обхватив их руками, проклинали колдунью, чья красота превращает мужчин в безумцев. Наконец Скиталец тоже поднял голову и увидел на площадке пилона, у края, женщину. При ее появлении все снова смолкли. Она была высока и стройна, в белом облегающем одеянии, на ее груди сверкал кроваво-красный рубин в форме звезды, с него падали на белую ткань красные капли, но следы их мгновенно исчезали, не пятная сияющей белизны ее одежд. Золотые волосы были распущены и горели на солнце, руки до плеч и шея обнажены. Она прикрывала глаза и лоб ладонью, словно желая притушить блеск своей ослепительной красоты. И она была поистине живое воплощение совершенной красоты. Те, кто еще не любил, видели в ней свою первую любовь, которая всегда и у всех остается безответной; те же, кто уже любил, видели в ней ту свою первую любовь, которую они потеряли. От нее исходило неизъяснимое очарование, подобное очарованию гаснущего дня. Она пела о любви, обещая подарить счастье, и в ее томящем душу голосе каждый слышал голос своей единственной, назначенной только ему возлюбленной, и сердце Скитальца задрожало, точно струны арфы под искусной рукой.Глава 14
СТРАЖИ
Шум толпы то усиливался, то опадал, как волны, люди выкрикивали имена женщин — кто живых, кто умерших, кто разлюбивших их. Иные молчали, оцепенев при виде столь совершенной красоты, словно увидели некогда любимое лицо во сне. Скиталец взглянул на Хатор всего один раз, потом опустил глаза и закрыл лицо руками. Он единственный из всех сохранил присутствие духа и пытался осмыслить случившееся, все остальные были охвачены безумием страсти. Что он сейчас увидел? Ту женщину, которую искал всю свою жизнь, искал на море и на суше, и сам не знал, что ищет именно ее? Это по ней тосковало его сердце в бесконечных странствиях, и неужели он наконец-то обретет смысл и цель своих скитаний? Их разделяет незримая преграда, между ними невидимая смерть. Должен ли он преодолеть эту ничем не обозначенную границу, ворваться в охраняемые стражами врата и взять в награду то, чего тщетно домогались другие? А может быть, он стал жертвой колдовских чар? Может быть, это было всего лишь видение, образ, вызванный каким-то тайным колдовством из страны его воспоминаний? Он вздохнул и снова поднял взгляд. Еще одно видение — на крыше пилона стояла прелестная юная девушка, на голове у нее была сверкающая на солнце медная амфора. Теперь он ее узнал. Такой он увидел ее, когда жил при дворе царя Спарты Тиндария и встретил ее на берегу бурного Эврота, такой же она явилась ему во сне на острове безмолвия. Он снова вздохнул и снова поднял взгляд. Он увидел сидящую в кресле женщину, у нее было лицо девушки с амфорой, но только еще более прекрасное, одухотворенное печалью и раскаянием. Такой он видел ее за стенами Трои, куда прокрался из лагеря ахейцев, переодетый нищим, такой он видел ее, когда она спасла ему жизнь, подсыпав мужу в вино снотворное. Еще раз вздохнул Скиталец и снова поднял глаза, и на этот раз он увидел Елену Златокудрую. Она стояла на крыше пилона, раскинув руки и глядя в небо, на ее светозарном лице сияла неуловимая улыбка, подобная расцветающей улыбке рассвета. Перед Скитальцем было живое воплощение Красоты — чистый, первозданный образ Любви, посланный бессмертными богами на счастье и на погибель людям, чтобы столкнуть их в жестоком соперничестве, конец которого никому не ведом. А Елена Златокудрая стояла, открыв объятья иным мирам — миру гармонии, в котором нет места соперничеству и распрям, тайне, которая открывается за чертой смерти. Люди замерли, едва смея дышать, а она призывала их всех прийти и взять то, что смертным на земле недоступно. Она снова запела и, продолжая петь, стала медленно удаляться и наконец скрылась из глаз, только чарующий голос доносился издали.Глава 15
ТЕНЬ В ЛУЧАХ СОЛНЦА
Разорванная ткань упала — последний покров, скрывающий самозванку Хатор. Она упала, и прорвавшиеся золотые и пурпурные нити, свиваясь и струясь, легли вокруг ног Скитальца и вокруг ткацкого станка. Прозрачная ткань была разорвана, завеса сорвана, труд погублен, вытканные с таким искусством картины любви и сражений уничтожены. Но в серебристом сумраке алебастрового святилища он увидел Елену, невесту и дочь Тайны, прекраснейшую из женщин, к которой стремятся сердца мужчин всего мира. Она сидела, сложив руки на коленях и опустив голову, сияя красотой, которую воспели прославленные поэты, ради которой совершали высочайшие подвиги и величайшие преступления, рядом с которой любое чудо меркло. В ее голосе слышались отзвуки всех сладкозвучных женских голосов мира, в ее лице слились отражения всех прекрасных женских лиц, и сама ее переменчивая красота, как все считали, была рождена вечно меняющейся луной. Елена сидела в кресле резной слоновой кости, лучезарная, в сияющем ореоле своих распущенных золотых волос. Белое одеяние падало к ногам мягкими складками, на груди мерцал звездный камень — рубин, рожденный в глубинах моря и тающий на солнце, но на груди Елены он не таял. С рубиновой звезды медленно стекали красные капли на ее белоснежное одеяние, падали и тотчас исчезали, не оставляя кровавых следов. Она подняла голову, и Скиталец посмотрел на ее лицо, ее приводящая в трепет красота ошеломила его, он окаменел, как каменеют все мужчины, увидев это несказанное лицо. Глаза Елены широко раскрылись, губы, на которых только что замерла песня, задрожали от страха. Так бывает с человеком, когда он идет лунной ночью один и вдруг встречает ненавистного врага, который давно умер, — призрак вернувшегося на землю, чтобы жестоко отомстить. Ее ужас был так велик, что Скиталец тоже испугался. Что она могла увидеть в этом охраняемом тенями святилище, где были только он и она? Неужели сюда проник еще кто-то? И тут он заметил, что взгляд Елены прикован к золотым доспехам, которые когда-то носил Парис, она смотрит на золотой щит с его гербом, на золотой шлем с опущенным забралом, которое скрывало не только глаза, но и лицо Скитальца… Наконец из груди ее вырвался крик: — Парис! Парис! Парис! Неужели смерть потеряла свою власть над тобой? Неужели ты явился, чтобы снова увлечь меня к себе, на стыд и позор? Парис, мертвый Парис, кто дал тебе мужество победить тени героев, с которыми ты никогда не осмелился бы встретиться в бою на земле? Она в отчаянии заломила руки и горько засмеялась. В голове многоумного Одиссея мелькнула неожиданная мысль, и он ответил ей не своим голосом, а мягким, вкрадчивым, лживым голосом предателя Париса, который он слышал, когда тот давал ложную клятву в Трое. — Значит, госпожа, ты все еще не простила Париса? Ты ткешь, как и прежде, на своем станке и поешь всё те же песни, — неужели ты так же сурова, как и в прежние времена? — Ты вернулся, чтобы глумиться надо мной? — сказала она, и в голосе ее почувствовался страх, который когда-то владел ею, а ведь она уже так давно была свободна. — Разве не довольно того, что ты обманул меня, явившись в облике моего законного супруга? Зачем ты меня преследуешь? — В любви все средства хороши, — отозвался Скиталец голосом Париса. — Многие любили тебя, госпожа моя, и все умерли из-за твоей красоты, только моя любовь оказалась сильнее смерти. Сейчас никто не сможет нас обвинить, никто нам не помешает. Троя пала, герои обратились в прах, жива только любовь. Ты хочешь узнать, госпожа, какова любовь тени? Все это время она слушала его, опустив голову, но сейчас рванулась вперед, лицо ее вспыхнуло от гнева, в глазах сверкала ярость. — Прочь! — крикнула она. — Да, герои, к моему стыду, погибли за меня и из-за меня, но стыд мой еще жив. Уходи! Никогда больше, ни в жизни, ни после смерти, мои уста не прикоснутся к твоим лживым устам, опорочившим мою честь, к твоему лицу, вероломно надевшему маску моего мужа! Как рассказывают поэты, Парис обольстил прекрасную Елену, перевоплотившись с помощью колдовства в ее супруга. Скиталец снова заговорил льстивым, вкрадчивым голосом Париса, Приамова сына: — Когда я подошел к святилищу, где ты обитаешь, я услышал, о Елена, как ты поешь. Ты пела, что твое сердце пробудилось, что в твоей душе расцветает любовь, о том, что придет тот, кого ты ждешь, кого давно любишь и будешь любить вечно. И всё так и случилось — я пришел, я, Парис, единственный, кого ты любила, любишь и будешь любить, будь я мужчина или призрак! Неужели ты меня прогонишь? — Да, я пела, пела то, что внушили мне боги, то, чем было полно мое сердце, я чувствовала, что пришел тот, кого я любила когда-то, единственный, кого мне суждено любить вечно. Но не тебя, лживый, вероломный Парис, не тебя ждало мое сердце! Я назову тебе его имя, и ты, струсив, убежишь обратно в Аид. Мое сердце принадлежит тому, кого я встретила совсем юной девушкой, я несла из источника воду, а он переезжал в своей колеснице бурный Эврот. Тому, кого я встретила в Трое, куда он пробрался в обличье нищего. Да, Парис, я назову тебе его имя, и хоть его давно уже нет на свете, я знаю, что полюбила его с первой встречи, всегда любила его одного и буду любить до конца моего бессмертия: это Одиссей, сын Лаэрта, царь Итаки, славнейший из мужей. Он был в моем сердце, когда я пела, в моем сердце он и пребудет вечно, хотя боги в гневе своем отдавали меня другим, к моему стыду и позору, вопреки моей воле. Одиссей услышал свое имя из ее уст, услышал ее признание, поверил, что Златокудрая Елена любит его одного, и его сердце чуть не вырвалось из груди. Он не мог вымолвить ни слова, только поднял забрало своего шлема. Она посмотрела на него и узнала — да, это Одиссей, царь Итаки, и, закрыв лицо руками, обрушила на него свой гнев: — Парис, Парис, ты всегда был коварен, тень ты или человек, но из всех твоих предательств это самое гнусное. Ты принял облик погибшего героя и услышал признание, которого Елена никогда до сих пор не произносила. Будь ты проклят, Парис! Ты сейчас обманул меня, как когда-то давно, явившись в облике моего супруга, Менелая, и опозорил. Я воззову к Зевсу, чтобы он поразил тебя молниями. Нет, я воззову не к Зевсу, я воззову к самому Одиссею. Одиссей! Одиссей! Явись из царства теней и порази этого злобного предателя, Париса, ведь он даже после смерти глумится надо мной! Она подняла глаза и, протянув руки, прошептала: — Одиссей! О, Одиссей, приди! Скиталец медленно приблизился к прекрасной Златокудрой Елене — медленно, очень медленно, шаг за шагом, и погрузил взгляд своих темных глаз в ее синие очи. Наконец голос к нему вернулся, и он произнес: — Елена, аргивянка Елена, я не тень, явившаяся из царства мертвых, чтобы мучить тебя, и о троянце Парисе мне ничего не известно. Я Одиссей, царь Итаки, я человек, живущий на земле под солнцем. Я пришел сюда, потому что искал тебя, искал, чтобы завоевать твое сердце. На моей далекой Итаке мне явилась во сне Афродита и повелела странствовать по морям, пока я не найду тебя, о Елена, и не увижу рубиновую звезду на твоей груди. И я приплыл сюда, одолел твою стражу, услышал твою песню и разорвал завесу Судьбы, я увидел твою рубиновую звезду и наконец-то, наконец-то нашел тебя! Я понял, что ты узнала доспехи Париса, который был твоим супругом, и решил испытать тебя: заговорил голосом Париса, как в былые времена ты говорила голосами наших жен, когда мы прятались внутри деревянного коня в стенах Трои. Так я выманил из твоего сердца тайну твоей любви, она открылась мне, как благоуханный цветок открывается навстречу солнцу. Верь мне, я — Одиссей в доспехах Париса, Одиссей, совершивший свое последнее путешествие, чтобы завоевать твою любовь и стать твоим супругом. Дрожа, она недоверчиво смотрела на него. — Я хорошо помню, — наконец произнесла она, — когда я омывала ноги Одиссея в Трое, я заметила большой бледный шрам ниже колена. Если ты и в самом деле Одиссей, а не призрак из царства теней, покажи мне этот шрам. Скиталец улыбнулся и, прислонив свой щит к станку, снял золотой наголенник, и Елена увидела большой бледный шрам от раны, которую нанес ему на Парнасе клыком кабан, когда он был еще мальчик. — Вот, госпожа, смотри, — сказал он. — Этот шрам ты видела много лет назад во дворце в Трое? — Да, — сказала Елена, — это тот самый шрам. Теперь я верю, что ты не призрак в обманчивом облике, а сам Одиссей, который пришел ко мне, чтобы стать моим возлюбленным и моим супругом. И она с нежностью поглядела ему в глаза. Отбросив все сомнения, Скиталец обнял ее и прижал к груди. Теперь рубиновая звезда лежала у него на груди, и красные капли стекали с нее на его панцирь, а лицо той, к кому стремятся сердца всех мужчин на свете, расцвело нежностью в тени его шлема, глаза под его поцелуями наполнились слезами. О, если бы боги дарили такое счастье всем влюбленным! Она с тихим вздохом нежно высвободилась из его объятий и хотела что-то сказать, но вдруг ее лицо изменилось. Она смотрела на окно алебастрового святилища, в которое лился солнечный свет и дробился золотыми пятнами на мраморном полу, и сияющее в ее глазах счастье сменилось страхом. Почему солнечный свет дробился? Что плясало в солнечных лучах? Неужели всего лишь мошки? За окном не было ничего, что могло бы отбрасывать тень, почему же она смотрела так, будто увидела кого-то, кто подглядывал за свиданием влюбленных? Что бы это ни было, она подавила свой страх, и, когда снова заговорила с ним, на губах ее даже играла улыбка и в глазах были искорки смеха. — Ты, Одиссей, поистине хитроумнейший из смертных. Ты хитростью выманил у меня мою тайну. Кто, кроме тебя, способен хитрить в такую минуту? Когда я приняла тебя за Париса, ибо лицо твое было скрыто забралом, меня охватил такой ужас, что я стала звать Одиссея, как ребенок зовет мать. Я всегда доверяла Одиссею, он всегда приходил на помощь в беде, хотя боги пожелали, чтобы мое собственное сердце не догадывалось о моей любви и узнало о ней только сейчас. И я невольно позвала Одиссея, его именем я хотела прогнать вероломного Париса в мир теней, откуда он пришел. Но вместо того, чтобы прогнать Париса в Аид, это имя бросило Одиссея в мои объятья. И уж коль так случилось, я не отрекусь от своих слов, ведь своим поцелуем мы поклялись друг другу в верности, поклялись перед бессмертными богами, и свидетели нашей клятвы — тени, которые охраняют Елену и которые пропустили к ней одного лишь тебя, как было предопределено судьбой. Теперь эти тени уйдут, охранять прекрасную Елену больше не надо. Теперь она принадлежит тебе, ты будешь ее охранять, она снова стала женщиной, ибо твой поцелуй разрушил проклятье. Ах, дорогой друг, сколько мне пришлось перестрадать по воле богов, сколько я видела жестокости и преступлений после того, как в милой сердцу Спарте умер мой супруг. И вот что я тебе скажу, Одиссей, а ты постарайся меня понять. Ты никогда в жизни не касался моих уст своими устами, однако я знаю, что это был не первый наш поцелуй. И еще я знаю знанием, которое вдохнули в мое сердце боги, что любовь наша будет длиться недолго и мы подарим друг другу мало счастья, но она не кончится с нашей смертью. Ведь я, Одиссей, дочь бессмертных богов, и хотя я засыпаю и потом забываю свои сны, которые мне снились, а мой облик меняется, как сейчас менялся в глазах тех, кто был обречен умереть, но сама я не умираю. А для тебя, Одиссей, хоть ты и смертный, смерть будет подобием короткой летней ночи, за которой наступает новый яркий день. Ты снова возродишься к жизни, Одиссей, как возрождался и раньше, и в каждой новой жизни мы будем встречаться и любить друг друга — до скончания времен. Слушая ее речь, Скиталец снова вспомнил сон царицы Мериамун, который рассказал ему жрец Реи. Но Елене он ничего о нем не сказал, решил, что мудрее будет промолчать. — Какое счастье жить, госпожа моя, если в каждой новой жизни я буду встречать тебя и быть твоим возлюбленным. — Да, Одиссей, ты будешь встречать меня в каждой новой жизни, в этом облике или в другом, ведь у красоты много обличий, а у любви много имен, но каждый раз ты будешь находить меня и снова терять. Признаюсь тебе: когда ты пробился сквозь ряды тех, кто защищает меня, с моих мыслей спала пелена и я провидчески прозрела, я всё вспомнила и поняла, что я, любимая столь многими, не могу полюбить никого. Я поняла, Одиссей, что я всего лишь игрушка в руках богов, которые используют меня в своих целях. И еще я поняла, что любила тебя, одного лишь тебя, эта любовь родилась еще до того, как я появилась на свет, и она не сгорит в пламени погребального костра. — Так тому и быть, госпожа, — отвечал Одиссей. — Я тоже знаю, что никогда не любил ни одну женщину, ни одну богиню так сильно, как люблю тебя, ты — сердце в моей груди, разве человек может жить без сердца? — Ах, говори, — улыбнулась она, — твои речи точно сладкая музыка. — Да, госпожа, с радостью. Но ты сказала, что любовь наша будет длиться недолго, и мое сердце тоже вещает мне, что отпущен нам короткий срок. Мне ведомо, что сейчас я совершаю свое последнее странствие и что смерть придет ко мне водною дорогой, это будет очень быстрая смерть. Поэтому я осмеливаюсь тебя спросить, когда же мы соединимся? Ведь если нам осталось жить так мало, будем же любить друг друга, пока мы живы. Золотые волосы Елены закрыли ее лицо, точно вуаль невесты, она долго молчала. — Мы не можем стать супругами здесь, в этом священном месте, где я живу, Одиссей, иначе вызовем гнев богов и людей. Скажи мне, где твой дом в городе, и я к тебе приду. Нет, Одиссей, лучше сделаем по-другому. Завтра, за час до полуночи, ты будешь ждать меня возле пилона у ворот моего храма, я выйду к тебе, ведь я теперь свободна, и ты узнаешь меня по звездному камню на моей груди, что светится в темноте, — помни, только по камню! — и поведешь меня к себе. И ты станешь моим супругом, а я твоей супругой. А потом мы уедем туда, куда укажут нам боги. Знай же, я давно желаю покинуть странуКемет, где боги столько времени принуждают людей умирать из-за меня. А теперь прощай, Одиссей, прощай, мой наконец-то обретенный возлюбленный. — Пусть так и будет, госпожа, — отвечал Одиссей. — Завтра вечером я встречу тебя у внешних ворот возле пилона. Я тоже хочу покинуть эту страшную страну, бежать от ее злых чар и колдовства, но мне нельзя бежать, пока не вернется фараон. Он ушел воевать и взял с меня клятву, что я буду охранять его дворец. — Об этом мы поговорим после, а сейчас ступай. Тебе нужно уйти как можно скорее, потому что здесь нам не должно говорить о земной любви, — сказала Златокудрая Елена. Он поцеловал ее руку и ушел, и веря, и не веря тому, что произошло. В своем чрезмерном хитроумии он, увы, ничего не рассказал ей о царице Мериамун.Глава 16
ДУХ РЕИ ОТДЕЛЯЕТСЯ ОТ ТЕЛА
Жрец Реи бежал со всех ног от врат смерти, которые охраняли прекрасную Елену и открывались только перед теми, кто был обречен умереть. На сердце у старого жреца было непереносимо тяжело, ведь он полюбил Скитальца. Среди сумрачных сынов Кемета он не встретил никого, кто мог бы сравниться с этим ахейцем, — он так мужественно красив, так силен, такой бесстрашный и искусный воин. Разве забудешь, как он спас жизнь той, которую он, Реи, любит больше всех на свете, — царице Мериамун, дочери лунного света, прекраснейшей из всех цариц, восходивших когда-либо на трон Египта, прекраснейшей и искуснейшей в тайнах древних знаний, если не считать царицу Тайю. А как красив был сам чужеземец, когда стоял в пиршественном зале на возвышении, а в него со всех сторон летели копья! Вспомнился сон Мериамун, который она рассказала ему лично много лет назад, вспомнилась тень в золотом шлеме, которая явилась духу Хатаски… И чем дольше он размышлял, тем больше изумлялся и недоумевал. Что замыслили боги? Одно было несомненно: властелины снов посмеялись над Мериамун. Мужчина, которого она видела во сне, никогда не станет ее возлюбленным: он пошел к храму самозванки Хатор встретить там свою смерть. Спотыкаясь, спешил Реи во дворец, и там, пройдя через торжественные залы, хотел уединиться в своих покоях. Но у дверей, ведущих в покои Мериамун, его встретила сама царица. Она стояла, точно изваянная из мрамора в сиянии своей царственной красоты, в парадном одеянии царицы и в венце с золотыми уреями. Черные волосы падали длинными мягкими волнами, темные глаза на бледном, матовом лице казались огромными, и взгляд их был загадочен. Реи низко поклонился ей и хотел пройти к себе, но она его остановила. — Куда ты идешь, Реи? — спросила она. — И почему твое лицо так печально? — Иду заниматься делами, царица, — ответил он. — А печален я потому, что от фараона нет известий, мы не знаем, успешно ли он сразился с апура. — Да, ты сказал мне правду, — отозвалась она, — но только не всю правду. Входи, я желаю говорить с тобой. Он вошел в ее покои, и она велела ему сесть подле нее в то самое кресло, где утром сидел Скиталец. А царица Мериамун вдруг опустилась перед ним на колени, из ее глаз хлынули слезы, грудь сдавили рыдания. Он подумал, что наконец-то она дала волю своему горю по сыну, умершему, как и все первенцы в Египте. Она закрыла лицо руками, всё тело ее содрогалось. — Любимое мое дитя, почему ты так горюешь? — спросил Реи. Но она не ответила, только взяла его руку и сжала. Глаза старого жреца наполнились слезами. Она долго молчала, потом подняла лицо, но не могла вымолвить ни слова. Он погладил ее прекрасную царственную голову, которая никогда не склонялась ни перед одним мужчиной. — Что с тобой, царица? — снова спросил он, и она наконец ответила: — Я расскажу тебе, мой добрый друг, единственный друг, который есть у меня на свете, я не могу не рассказать, иначе сердце мое разорвется, рассудок погибнет, в нем воцарится мрак, где будет клубиться зловещий туман, и лишь блуждающие огни будут иногда бросать свой слабый свет на хаос, в который превратился некогда блестящий ум царицы. Ты помнишь ночь — ту ненавистную для меня ночь, когда я стала женой фараона, — помнишь, как я тогда прокралась к тебе и рассказала сон, что мне приснился, — приснился в насмешку надо мной, лежащей рядом с фараоном? — Да, царица, я хорошо его помню, — ответил Реи. — Странный то был сон, моей мудрости не хватило, чтобы его разгадать. — А помнишь, как я описала тебе мужчину из моего сна, которого мне суждено полюбить, — мужественный красавец, воин в золотых доспехах, в золотом шлеме застрял бронзовый наконечник копья? — Да, помню, — ответил Реи. — А имя, его имя? — прошептала она, глядя в его глаза своими широко раскрытыми глазами. — Не Эперит ли, не Скиталец? Разве не он явился к нам в золотом шлеме с застрявшим в нем бронзовым наконечником копья? Разве не свершилась судьба Мериамун? Слушай же, Реи, слушай! Я полюбила его, как мне и было предсказано судьбой. Лишь только я увидела его, когда он вошел в зал приемов во всем блеске своей мужественной красоты, я узнала его. Узнала мужчину, на которого в незапамятные времена было наложено проклятье, — на него, на ту женщину из сна и на меня, когда вместо двоих нас стало трое и всех нас обрекли страдать из жизни в жизнь и причинять друг другу мучения в земной жизни. Я узнала его, Реи, хотя он не узнал меня, при звуке его шагов вся моя душа устремилась ему навстречу, мое сердце расцвело, как расцветает плодородная земля Кемета, когда разлившийся Сихор возвращается в свои берега. На меня нашло озарение, Реи, я обратилась взором в прошлое и увидела сквозь тьму времен, что любила его всегда; я обратила взор свой в неведомое будущее и увидела, что буду любить его до скончания времен. Но когда я вернулась в настоящее, оно было застлано мраком, я услышала стоны умирающих и чистый, хрустальный голос женщины, которая что-то пела. — Не сулит добра твое видение, царица, — молвил Реи. — Увы, Реи, не сулит. Но я рассказала тебе не всё. Слушай же меня, Реи, слушай. Хатор Атаргатис[514], богиня любви, наслала на меня безумие страсти. Я полюбила его, полюбила страстно, я, которая никогда никого не любила! Ах, Реи, Реи! Я покорю этого мужчину. Не смотри на меня так сурово, так угодно Судьбе. Вчера вечером я беседовала с ним и назвала ему имя, которое он скрывает от нас, его истинное имя, он — Одиссей, сын Лаэрта, царь Итаки. Ты удивлен, но это так. Я узнала его тайну благодаря своему искусству магии, вынудила сказать правду хитроумнейшего из смертных. Но мне показалось, что он не хочет приближаться ко мне, хоть я и выведала у него, что он приплыл издалека, чтобы найти меня, супругу, обещанную ему богами. Жрец вскочил с кресла. — Госпожа! — воскликнул он. — Царица, которой я служу и которую люблю с колыбели, помутился твой разум, а не твое сердце. Тебе не дóлжно любить его. Неужели ты забыла, что ты — царица Кемета и супруга фараона? Неужели втопчешь в грязь свою честь ради никому не ведомого бродяги? — Да, я царица Кемета и супруга фараона, но никогда я не была его возлюбленной. Честь! Зачем ты говоришь мне о чести? Как Нил, разливаясь в половодье, сметает все вокруг, так любовь разрушила твердыню моей чести, заставила забыть, что это такое. Она сейчас похожа на сломанную лилию, которую швыряют бешено кипящие волны. Не говори со мной о чести, Реи, лучше научи меня, что делать, чтобы привести моего героя в мои объятья. — Ты поистине лишилась рассудка, — простонал он. — И все же… я забыл… ничему этому не бывать, тебя ждут одни лишь только слезы, Мериамун. Я пришел с дурными вестями. Тот, кого ты так страстно желаешь, погиб для тебя навек — и для тебя, и для всего мира. Мериамун вскочила со своего ложа и прыгнула на него, как лев на раненого оленя, ее прекрасное лицо исказилось от ярости и страха. — Он умер? — прошипела она над самым ухом Реи. — Умер! И я этого не знала? Значит, это ты его убил, и я сейчас отомщу убийце! Она выхватила из-за пояса кинжал — тот самый кинжал, которым она нанесла однажды удар своему брату, когда он хотел ее поцеловать, — и занесла над старым жрецом Реи. Но тут же опустила и сказала: — Нет, это слишком легкая смерть, ты будешь умирать долго, медленно, в муках! Да, Реи, ты попадешь в руки самых изощренных палачей! Она умолкла, руки ее дрожали, грудь судорожно вздымалась, глаза сверкали, как звезды. — Остановись! Опомнись! — вскричал он. — Я не убивал этого Скитальца! Если он и в самом деле умер, то лишь от собственной глупости. Ведь он захотел увидеть самозванку Хатор, а те, кто ее увидел, бегут сражаться с невидимыми мечами, а те, кто с ними сразился, попадают в бронзовые ванны с соляным раствором, а души их отправляются в царство теней. Лицо Мериамун стало белее алебастровых стен ее покоя, она пронзительно вскрикнула и упала на свое ложе. Стиснув голову руками, она забормотала: — Как мне его спасти? Как спасти его от этой проклятой колдуньи? Увы, поздно… но я хотя бы узнаю, как он умер, услышу о красоте злодейки, которая убила его… Реи, не гневайся на меня, — прошептала она не на языке Кемета, а на древнем мертвом языке мертвого народа, — сжалься над моей слабостью. Ты ведь умеешь освобождать свой дух от тела? — Да, я владею этим искусством, — отвечал ей Реи на том же мертвом языке, — и я же обучил этому искусству тебя, я и Первозданное Зло, к которому ты порой обращаешься. — Верно, Реи, ты открыл мне это тайное знание. Ты всегда любил меня, ты сам говоришь мне об этом, и много страшных тайн нас с тобой связывает. Позволь мне послать твой дух в храм самозванки Хатор и узнать, что там происходит, узнать, как умер тот, кого мне суждено любить. — Недоброе дело ты задумала, Мериамун, недоброе и опасное, — отвечал ей Реи. — Ведь там мой дух может встретиться со стражами врат, и кто знает, чем кончится встреча духа, ненадолго покинувшего свое живое тело на земле, с духами, давно лишившимися своей земной оболочки? — И все равно, Реи, ты должен это сделать из любви ко мне, — умоляла его Мериамун, — ты единственный, кто владеет этим искусством. — Я никогда ни в чем не мог тебе отказать, Мериамун, не откажу и сейчас. Но прошу тебя об одном: если мой дух не вернется, похорони меня в гробнице, которую я приготовил для себя близ Фив, а если хватит силы твоих чар, вырви меня из власти стражей, охраняющих Хатор. Что ж, я готов. Ты знаешь заклинание, произнеси его. Он лег на ложе резной слоновой кости и устремил взгляд вверх. Мериамун склонилась над ним и, впившись взглядом в его глаза, стала шептать ему на ухо заклинание все на том же мертвом языке. Лицо Реи бледнело, отрешенно застывало и наконец утратило все признаки жизни. Мериамун выпрямилась и громко спросила: — Дух Реи, ты отделился от тела? Губы Реи произнесли: — Да, Мериамун, я свободен от тела. Куда я должен лететь? — Во двор храма Хатор, тот, что перед святилищем. — Я уже здесь, Мериамун. — Что ты видишь? — Вижу мужчину в золотых доспехах. Он стоит перед входом в святилище, подняв над собой щит. Вход защищают тени погибших героев, но он не видит их своими очами живого смертного. Из святилища доносится песня, он ее слушает. — Что она поет? Отделившийся от тела дух жреца Реи стал повторять царице Мериамун слова песни, что пела Елена. И Мериамун поняла, что в святилище храма Хатор живет аргивянка Елена, ее сердце чуть не остановилось, колени подломились. Но еще страшнее ей стало, когда в своей песне Елена повторила слова, которые она слышала в своем давнем сне, — об утраченном счастье, о ненависти богов, о вечных, из жизни в жизнь, поисках единственного возлюбленного. Но вот песня смолкла, Скиталец бросился на невидимых стражей. Дух Реи, говоря устами лежащего на ложе Реи, рассказывал Мериамун всё, что происходило, а она слушала его, затаив дыхание, и даже громко вскрикнула от радости, когда Скиталец прорвался сквозь строй призраков с невидимыми мечами. Снова зазвучал чарующий голос, и отделившийся от тела дух Реи повторил ей слова песни, и она услышала в них пророчество. А потом дух Реи пересказал ей слова, которые говорили друг другу Скиталец и призраки. Когда призраки исчезли, Мериамун приказала духу Реи следовать за Скитальцем в святилище и узнала, что он сорвал завесу, и услышала из уст Реи всё, что говорила Елена, узнала о хитрой уловке Скитальца, притворившегося Парисом. Но вот он сорвал ткань, сотканную Еленой, и глаза духа Реи увидели ту, кого эта ткань скрывала. — Опиши мне лицо самозванки Хатор, — приказала царица. И дух Реи ответил: — В ее лице я вижу ту красоту, что преобразила лик мертвой Хатаски, что была на лице Ба и на лице Ка, когда ты разговаривала с духом той, кого убила. У Мериамун вырвался громкий стон, она поняла, что судьба вынесла ей приговор. Потом она услышала, как Одиссей и Елена, ее вечная соперница, говорили о любви, узнала об их поцелуе, о том, что они обручились и что завтра вечером они станут мужем и женой. Царица Мериамун не произнесла ни слова, но когда влюбленные расстались и Скиталец покинул святилище, она прошептала на ухо Реи заклинание и вернула его дух в лежащее на ложе тело. Он пробудился, как после крепкого сна. Открыл глаза и увидел сидящую рядом царицу, она была бледна как смерть, вокруг глаз большие темные круги. — Ты слышала, Мериамун? — спросил он. — Слышала, — ответила она. — Ты услышала что-то страшное? — снова спросил он, потому что не знал, что видел и что слышал его отделившийся от тела дух. — О том, что я слышала, не дóлжно рассказывать, — ответила она, — скажу тебе только, что тот, о ком мы говорили, прошел мимо невидимых стражей, встретился с самозванкой Хатор, с этим живым проклятьем, и невредимый возвращается сюда. А теперь, Реи, ты можешь удалиться.Глава 17
ПРОБУЖДЕНИЕ ТОЙ, ЧТО СПИТ
Реи ушел в недоумении и с тяжестью на сердце, а царица Мериамун прошла в свою опочивальню и приказала евнухам никого к ней не пускать, заперла двери и, кинувшись на ложе, спрятала лицо в вышитые золотом подушки. Долго лежала она не шевелясь, точно мертвая, вот уж и вечер настал, в опочивальне стало темно. Она не шевелилась, но сердце ее сжигал огонь, он то яростно полыхал, раздуваемый страстью, то мрачно и зловеще тлел, когда ей удавалось залить его горючими слезами. Теперь она знала, что сбылось давно томившее ее предчувствие, порой пугавшее ее, порой манившее, порой ускользавшее, как сон. Поняла, что к ней пришла всепоглощающая любовь, эта любовь разрушит ее жизнь и будет терзать даже в могиле. И ее соперница — не зыбкий туманный образ из сна, а живая женщина, прекраснейшая из всех живущих на земле и всеми желанная, Елена Троянская, Елена аргивянка, самозванка Хатор, женщина, из-за которой разрушали города, любви которой жаждали все мужчины и тысячами из-за нее погибали. Конечно, Мериамун была прекрасна, но рядом с Еленой Златокудрой красота ее меркла, как меркнет огонь факела в сиянии солнца. Никто с ней не сравнится в искусстве чародейства, но что ее искусство против волшебства этих чарующих глаз? Скиталец искал Елену, ради нее странствовал по морям и землям. Но когда он рассказал ей, Мериамун, к кому стремится его сердце, кого он жаждет найти, она решила, что она и есть эта женщина, и открылась ему. Вспомнив об этом, она в бешенстве расхохоталась — ее жег непереносимый стыд. Он улыбался, говорил о ее супруге, фараоне, а сам в это время думал не о ней, а о Елене Златокудрой! И она поклялась: раз он не может принадлежать ей, Мериамун, то не будет принадлежать и Елене. Пусть он лучше умрет у нее на глазах — пусть они оба умрут, и он, и Елена! Но как это сделать? Завтра вечером они встретятся и завтра же вечером вместе покинут Кемет. Значит, завтра Скитальца следует убить. Но как его убить, да так, чтобы никто не заподозрил в убийстве ее? Можно дать ему яд и обвинить сидонца Курри, а потом убить сидонца — он-де ненавидел Скитальца, потому что тот отнял у него его сокровища и его свободу. Но что же это, неужели она убьет своего возлюбленного? Если она его убьет, она тоже должна будет умереть и искать радость в царстве Осириса, а чего там нет, так это именно радости. Что же делать? Сердце не находило ответа. Но в душе ее жил некто, кто должен его найти. Наконец она поднялась с постели и стала вглядываться в темноту. Потом ощупью добралась до огромного ларца из резного оливкового дерева и слоновой кости, достала из-за пояса ключ и отперла ларец. Внутри хранились драгоценные украшения, зеркала, алебастровые баночки с мазями — с мазями и со смертельными ядами, но она до них не дотронулась. Засунув руку до самого дна, она достала шкатулку из темного металла — это был чугун, люди называют его «костью Тифона»[515] и относятся к нему с суеверным ужасом. Мериамун нажала тайную пружину, и крышка открылась. Внутри была другая шкатулка, поменьше. Она поднесла ее к губам и стала шептать заклинание на мертвом языке мертвого народа, и в душной, насыщенной запахом благовоний темноте опочивальни вспыхнул слабый огонек, осветил трепетным светом ее шепчущие губы. Крышка шкатулки медленно открылась, словно пасть живого существа, и изнутри выполз луч света. Мериамун заглянула в шкатулку и содрогнулась. Но все же опустила в нее руку и, прошептав: «Явись, явись, Изначальное Зло», вынула что-то и положила на ладонь. И в темноте опочивальни на ее ладони затеплился живой огонь, точно уголек в золе очага. Оранжевый, как янтарь, он налился красным цветом, зеленым, белым, серовато-синим, и все эти цвета излучала свившаяся в кольцо змейка, вырезанная, как казалось, из опала и изумруда. Мериамун зачарованно глядела на нее, дрожа всем телом и не смея решиться. — Наверное, лучше не будить тебя, тварь, — прошептала она. — Дважды я смотрела на тебя, и этого довольно… Нет, все же я решусь, я разбужу тебя, дар древней мудрости, оледеневший огонь, спящий порок, живая смерть древнего города, ибо лишь в тебе обитает мудрость. Она расстегнула пряжку платья и положила себе на грудь сверкающую игрушку, похожую на змейку из драгоценных камней. От ледяного прикосновения она вздрогнула, потому что змейка была холоднее смерти. Ей пришлось обеими руками обхватить колонну, ее сотрясали судороги, похожие на родовые схватки. Так продолжалось, пока То, что было холоднее смерти, не согрелось и не стало светиться сквозь шелк ее платья, как пламя светильника светится сквозь алебастр вазы. Долго, очень долго стояла она потом, словно окаменев, и вдруг сбросила с себя платье, сорвала все золотые украшения и распустила свои черные волосы, которые закрыли ее, точно покрывало. Опустив голову, она стала дышать на То, что лежало у нее на груди, ибо Первозданное Зло может ожить только под дыханием человека. Трижды она дохнула на него и каждый раз, дохнув, шептала: «Пробудись!» Когда Мериамун дохнула на змейку в первый раз, змейка шевельнулась и засверкала. После второго развернула свои переливающиеся кольца и потянулась головой к лицу Мериамун. После третьего призыва соскользнула с ее груди на пол, обвилась вокруг ее ног и стала медленно расти, как растет волшебное дерево под взглядом колдуна. Змея становилась все больше и больше и при этом светилась, точно факел в гробнице. Она обвивала тело Мериамун огненными кольцами и наконец обняла ее талию, потом высоко подняла голову, и из глаз хлынул свет — свет это был, или пламя? — но только Мериамун увидела перед собой прекрасное женское лицо, и это было ее собственное лицо, лицо царицы Мериамун! Лицом к лицу, глаза в глаза… Бледная и неподвижная, как изваяние богини, стояла царица Мериамун, а вокруг ее тела в плаще темных волос горели огненные кольца змеи. Наконец змея заговорила — заговорила человеческим голосом, голосом Мериамун, но на мертвом языке мертвого народа. — Назови мое имя, — сказала она. — Твое имя — Зло, — отвечала царица Мериамун. — Что меня породило? — спросила змея. — Зло, которое живет во мне, — отвечала Мериамун. — Куда ты пошлешь меня? — Ты пойдешь туда, куда я пойду, ведь я отогрела тебя на своей груди, и ты обвилась вокруг моего сердца. Змея высоко подняла свою человеческую голову и зловеще рассмеялась. — Ты хорошо усвоила науку, — сказала она. — И потому я люблю тебя так же, как ты любишь меня. — Змея нагнула голову и поцеловала царицу в губы. — Да, я — Изначальное Зло, Жизнь, рожденная первой смертью, Смерть, живущая в живой жизни. Это я сделала твоей соперницей самую прекрасную женщину на свете и причинила страдания, какие испытывают только в аду. Из жизни в жизнь я служу тебе то в одном обличье, то в другом. Я научила тебя чародейству, которым ты владеешь. Научила тебя, как добыть трон! Чего ты желаешь от меня теперь, Мериамун, моя мать, моя сестра, моя дочь? Из жизни в жизнь я рядом с тобой, и в каждой жизни ты то отвращаешься от меня, то пользуешься моей древней мудростью, а я черпаю у тебя силы, потому что ты можешь жить без меня, но я без тебя умру. Так скажи, что ты хочешь сейчас? Скажи, и я назову цену, которую ты за это заплатишь. Лишнего я не потребую, я так счастлива, что ты пробудила меня и я снова живу, как приятно сжимать твою душу моими сверкающими кольцами, быть такой же красивой, как ты, и такой же порочной! — Приблизь свои губы к моему уху и свое ухо к моим губам, — сказала царица Мериамун, — и я открою тебе, о Первозданное Зло, чего жду от тебя. И женская голова змеи приблизила ухо к устам Мериамун, а Мериамун приблизила свои уста к ее уху, и они заговорили еле слышным шепотом. Они шептались в темноте, и колдовской свет играл на серых переливающихся кольцах змеи, бил ей в глаза, сиял на темных волосах царицы и ее белоснежной груди. Но вот они кончили шептаться, и змея высоко подняла свою женскую голову и снова расхохоталась. — Он ищет Добра, а найдет Зло, — сказала она. — Ищет Света, но будет блуждать во Мраке! Он жаждет Любви, но его погубит Вожделение. Он жаждет соединиться с Еленой Златокудрой, которую искал, странствуя по морям и странам, но сначала он встретится с тобой, Мериамун, и потому умрет! Ибо должен поклясться Звездой, а даст клятву Змее. Долго и далеко он странствовал, но будет странствовать еще дольше, ибо твое преступление станет его преступлением! Мрак скроет свой лик под маской Света — Зло будет сиять так же ярко, как Добро. Я отдам его тебе, Мериамун, но вот моя цена: я не буду больше лежать во тьме, холодная и мертвая, тогда как ты ходишь по земле под солнцем, я буду жить, обвившись вокруг твоего тела. Не пугайся, все будут думать, что это всего лишь драгоценное украшение — пояс искусной работы, достойный твоего царственного стана. Отныне я всегда буду с тобой, и когда ты умрешь, я тоже умру, но пока ты жива, мы будем неразлучны — вместе с тобой я буду засыпать, с тобой просыпаться, и так до конца, пока я не одержу победу, или ее одержишь ты, или она, наша соперница. — Я согласна, — сказала царица Мериамун. — Ты уже соглашалась однажды, — ответила змея, — давно это было, под золотым небом и в другой стране. Ты была счастлива с тем, кого любила, но я вползла в твое сердце, и вместо двоих вас стало трое, и родились все страдания, что на вас обрушились. Вот что сотворила ты, женщина, и так тому и быть во веки веков. Ты — та, в ком собрались все беды и несчастья, в ком воплощается любовь. Я отняла у тебя счастье, женщина, лишила тебя доброты и подарила ее земле, и на земле ее назвали Красотой. Красота — сущность Елены Златокудрой, ее стремятся завоевать все мужчины, ради нее ведутся нескончаемые войны, люди страдают, надеются, возносят молитвы, умирают от тоски. Твоя сущность — Зло, ты причастилась коварству и всегда будешь приносить зло тому, кого жаждешь. Почему, почему? Ты не знаешь, так пусть разгадает эту загадку кто-то другой и объяснит тебе, царице Мериамун, хоть ты и меньше, чем царица, и в то же время больше. Кто ты? Кто та, кого называют Еленой Прекрасной? Кто Скиталец, приплывший в поисках ее издалека? И кто я? Что такое я? Загадка, которую тебе не разгадать! А ведь ответ так прост, его можно прочесть на небе, на земле, на море, в людских сердцах… Теперь слушай меня. Завтра вечером ты возьмешь меня, обовьешь вокруг своего стана и, делая всё, что я велю, примешь на время образ Златокудрой Елены — твое лицо станет в точности таким, как ее лицо, глаза — как ее глаза, голос — как ее голос. Дальше ты будешь действовать сама, в образе Елены ты обольстишь Скитальца и на одну ночь — всего лишь на одну ночь! — станешь супругой того, кого так страстно желаешь. Что будет дальше, я тебе не скажу, я всего лишь даю советы! Но знай: могут прийти великие страдания, смерть, начнутся войны, будет литься кровь… Но стоит ли об этом думать, если ты удовлетворишь свое желание, если он совершит предательство и поклянется не Звездой, как должно, а Змеей, если он будет связан с тобой нерасторжимыми узами? Решай же, Мериамун, решай! Если ты не последуешь моему совету, то завтра ты потеряешь мужчину, которого любишь, он окажется в объятьях Елены, а ты будешь долгие годы терзаться муками неразделенной любви. А примешь совет он хоть на одну ночь да будет твой, а там будь что будет. Подумай хорошенько и прими решение. Так говорило Древнее Изначальное Зло, искушая женщину, носившую имя Мериамун, а женщина слушала искусительные речи и молчала. — Я решилась, — наконец произнесла она. — Я приму облик Елены и стану супругой того, кого люблю, и пусть весь мир рухнет! А теперь, Изначальное Зло, засни. Засни, ибо я не могу видеть мой страх на твоем лице и огонь безумия в твоих глазах, ведь это мои собственные глаза! Тварь снова подняла свою женскую голову и засмеялась торжествующим смехом. Потом медленно распустила свои сверкающие кольца, медленно скользнула на пол, начала сжиматься, съеживаться, точно клочок горящего папируса, и наконец превратилась в драгоценную безделушку из опалов и аметистов.А Скиталец между тем, выйдя из тайного святилища Хатор, не встретил у ворот охранявших их стражей и не услышал звона невидимых мечей, ибо боги отдали Елену Прекрасную Одиссею, царю Итаки, как и было предсказано. За занавесом собрались недоумевающие жрецы храма, они не могли понять, как герою, который назвал себя Эперитом, удалось пройти в святилище живым, почему невидимые мечи его не поразили. А когда он вышел целый и невредимый, и к тому же сияющий от счастья, они разразились воплями ужаса. Но он засмеялся и стал их успокаивать: — Не бойтесь. Побеждает тот, кому даруют победу боги. Я сразился со стражами-охранителями врат и прошел в святилище. Думаю, они исчезли навсегда. Я видел лицо Хатор, и больше меня ни о чем не спрашивайте. Дайте мне что-нибудь поесть, силы мои на исходе. Жрецы низко поклонились ему и повели в свою трапезную, поставили перед ним всё лучшее, что у них было из еды и питья, и стали смотреть, как он утоляет голод и жажду. Насытившись, он встал, и жрецы снова низко ему поклонились. Они попросили его считать их храм своим домом и дали ключи от всех помещений, хотя и понимали, что ни в каких ключах он не нуждается и, если захочет, войдет куда угодно. Скиталец с ликующим сердцем вернулся во дворец. Возле его покоев стоял жрец Реи и, увидев его, бросился к нему и заключил в объятья, так он был счастлив, что Скиталец остался жив и вернулся. — Я думал, что никогда тебя больше не увижу, — сказал он. — Если бы не царица, Эперит… — Он спохватился и прервал себя на полуслове. — Как видишь, я цел и невредим, ни призраки, ни люди не причинили мне никакого вреда, — засмеялся Скиталец и вошел в свой покой. — Так что ты хотел сказать о царице? — Нет, нет, Эперит, ничего, просто она очень горевала, когда узнала, что ты пошел к храму Хатор, была уверена, что ты там умрешь. Не знаю, Эперит, человек ты или бог, но клятвы связывают и богов, и людей, а ты дал клятву фараону, ты ведь помнишь? — Еще бы, Реи. Я поклялся фараону защищать царицу до его возвращения. — И ты сдержишь свою клятву, Эперит? — спросил Реи, с тревогой глядя на него. — Ты будешь оберегать честь царицы, супруги фараона, — честь, которая дороже ее жизни? Надеюсь, ты понимаешь меня, Эперит? — Думаю, что понимаю, — ответил Скиталец. — Не сомневайся, Реи, я сдержу клятву. — Я чувствую, царицу Мериамун поразил некий недуг, и она желает, чтобы ты ее исцелил, — угрюмо сказал Реи. — Да, все складывается так, как было предсказано в сне царицы, о котором я тебе рассказывал. Но если ты нарушишь клятву, данную тому, кто оказал тебе самое радушное гостеприимство, тогда, Эперит, бог ты или смертный, ты — презренный негодяй. — Разве я не сказал тебе, что у меня и в мыслях нет отступиться от своей клятвы? — возразил Скиталец и опустил голову, прислушиваясь к тому, что говорит ему его искушенное в делах любви сердце, а Реи смотрел на него, не отрывая глаз. Наконец Скиталец поднял голову и сказал: — Реи, я расскажу тебе странную историю, но все это — чистая правда, потому что мы с тобой желаем одного и того же, я это вижу. Ты можешь помочь мне, и тем самым поможешь и себе, и фараону, которому я дал клятву, и той, чьей честью ты так дорожишь. Но знай: если ты выдашь меня, ни твой почтенный возраст, ни высокий сан, ни дружба, которую ты питаешь ко мне, не спасут тебя — ты умрешь. — Говори, Одиссей, сын Лаэрта, царь Итаки, — отозвался Реи, — клянусь жизнью, что сохраню твою тайну, если только она не грозит злом тем, кому я служу. Скиталец вскочил с кресла. — Откуда ты знаешь это имя? — воскликнул он. — Оно мне давно известно, и я признаюсь тебе в этом, хитроумнейший из мужей, чтобы ты знал: меня ты не обманешь. Конечно же, Реи не хотел говорить ему, что это имя произнесла царица. — Ты слышал имя, которое на устах у многих, — отвечал Скиталец. — Может быть, оно мое, а может быть, принадлежит кому-то другому, но это неважно. Важно другое: я боюсь твою царицу. Я приплыл сюда в поисках женщины, но эта женщина — не твоя царица. Однако приплыл я сюда не напрасно, здесь, Реи, именно здесь, в храме Хатор, нашел я ту, которую искал, она ждала меня, надежно защищаемая стражами-охранителями. Завтра вечером я пойду к храму и там, у ворот, встречу ту, к которой стремятся сердца всех мужчин мира, но которая любит одного-единственного мужчину — меня, так пожелали боги. Я приведу ее сюда, и мы станем супругами. Если ты хочешь мне помочь, приготовь к отплытию судно с матросами, чтобы на рассвете мы могли покинуть твою страну, и храни всё в тайне, пока мы не выйдем в море. Да, я поклялся фараону охранять царицу до его возвращения, но сам видишь — обстоятельства сложились так, что я вернее защищу ее своим побегом, а если фараон разгневается на меня — что ж, пусть гневается. И еще я прошу тебя встретиться со мной завтра за час до полуночи возле пилона храма Хатор. Там мы обсудим всё с той, кого называют Хатор, и приготовимся к побегу, а ты пойдешь к судну, которое будет нас ждать. Реи немного подумал, потом сказал: — Я страшусь увидеть эту богиню, но все же выполню твою просьбу. Скажи мне, как я узнаю ее, когда приду к воротам храма? — Ты узнаешь ее по алой звезде, которая будет гореть у нее на груди. Но не страшись, Реи, я уже буду там. Ты приготовишь для нас судно? — Судно будет вас ждать, и, хотя я всей душой полюбил тебя, Эперит, я был бы рад, если бы оно уже сейчас летело по волнам моря, омывающего берега Кемета, и уносило прочь и тебя, и ту, кого называют Хатор, богиню, столь страстно тобой любимую.
Глава 18
КЛЯТВА СКИТАЛЬЦА
В тот вечер Скиталец не виделся с царицей Мериамун, но утром она прислала к нему слугу сказать, что вечером приглашает его на пир. Идти на пир ему никак не хотелось, но приглашение царицы — это приказ, и на закате он направился к ней. Реи тоже был приглашен, и по пути они встретились. Реи прошептал Скитальцу, что к побегу все готово, на берегу его ждет доброе судно — то самое, которое он отобрал у сидонцев, и что он, Реи, придет к воротам храма за час до полуночи. Едва он успел сообщить Скитальцу все это, как двери распахнулись и в сопровождении евнухов и придворных дам появилась царица Мериамун. Она была в парадном царском одеянии, лицо бледное, застывшее, глаза ярко сверкают. Скиталец низко поклонился ей. Она склонила голову в ответ и протянула ему руку, чтобы он вел ее к столу. Сели они рядом, но царица говорила очень мало и то лишь о фараоне и об ушедших из Кемета апура, о которых до сих пор не пришло никаких известий. Когда пир наконец кончился, Мериамун позвала Скитальца в свои покои, и он скрепя сердце был вынужден последовать за нею. Реи с ними не пошел, и Скиталец остался с царицей наедине, потому что она отпустила своих придворных дам. Сначала они долго молчали, но Скиталец все время чувствовал на себе ее взгляд, казалось, она хотела проникнуть в его мысли и чувства. — Мне скучно, — наконец произнесла она. — Расскажи мне о своих странствиях, Одиссей, царь Итаки… Нет, лучше расскажи об осаде Трои и о многогрешной Елене, из-за которой произошло столько бед и несчастий. Расскажи, как ты в лохмотьях нищего пробрался из лагеря ахейцев в город и встретился с этой распутницей Еленой, которую боги справедливо покарали, лишив жизни. — Да, поистине справедливо, — согласился лукавый Скиталец. — Сколько замечательных героев погибло из-за этой красивой, но вероломной женщины. Когда я разговаривал с ней в Трое, мне самому хотелось ее убить, но боги удержали мою руку. — Неужели, Одиссей, неужели? — промолвила царица, загадочно улыбаясь. — Уверена, если бы она сейчас была жива и ты встретился с ней, ты бы ее убил. Так ведь, Одиссей? — Но ее нет в живых, о царица, — отозвался он. — Да, Одиссей, ее нет в живых. Вчера ты ходил в храм Хатор, расскажи мне, что ты там видел. — Видел красивую женщину, а может быть, бессмертную богиню, она стояла на площадке пилона и пела, а те, кто глядел на нее, теряли рассудок, некоторые пытались пробиться к ней через заслон стражи, охраняющей эту женщину, и падали мертвые под ударами невидимых мечей. Странное это было зрелище. — Поистине странное. Но ведь ты, Одиссей, не потерял рассудка, не пытался прорваться сквозь заслон призраков? — Нет, Мериамун. В молодости я видел Елену аргивянку, она была прекраснее, чем женщина, что стояла на крыше пилона. Если мужчина видел Елену, он не станет добиваться любви Хатор. — Но если мужчина видел Хатор, он, возможно, станет добиваться любви Елены, — медленно проговорила она, и он не нашелся что ей ответить, он чувствовал на себе власть ее чародейства. Они еще немного побеседовали, и Мериамун, которой было все известно, только дивилась лукавству Скитальца, но никак своего удивления не выказывала. Наконец он встал и, поклонившись ей, сказал, что должен проверить стражу у дворцовых ворот. Она бросила на него загадочный взгляд и позволила удалиться. Он ушел, от души радуясь, что наконец-то от нее избавился. Но лишь только занавес за ним опустился, как царица Мериамун спрыгнула со своего ложа, и в ее глазах сверкнул пугающий огонь решимости. Она хлопнула в ладоши и приказала явившимся на зов прислужницам идти спать, их услуги ей больше не нужны, она устала и тоже ложится спать. Служанки ушли, оставив ее одну, а она прошла в свою опочивальню. — А теперь невеста должна убрать себя для брачной ночи, — сказала Мериамун и, не медля ни минуты, открыла резной ларец, вынула из шкатулки Изначальное Зло и, положив себе на грудь, стала вдыхать в него дыхание жизни. И змея, как и вчера, стала расти и обвилась вокруг нее, а обвившись, прошептала ей на ухо, что она должна одеться в белое, как и подобает невесте, и опоясаться ею, змеей, как поясом. А потом велела Мериамун вызвать в памяти красоту, которую она видела на лице мертвой Хатаски в храме Осириса, на лице Ба и на лице Ка. Мерамун без страха выполнила все, что приказывала ей змея, потому что в сердце ее пылала любовь, но оно разрывалось от ненависти и ревности, и что ей было до бед и несчастий, которые обрушит на всех ее предательство! Омывшись в благоуханиях, она распустила свои сияющие волосы, надела белое платье и погляделась в серебряное зеркало — как же она была хороша! Сердце ее наполнилось горечью, и она воскликнула, обращаясь к Злу, которое тихо лежало возле нее и словно бы спало: — Неужели моей собственной красоты мало, чтобы завоевать сердце того, кого я люблю? Скажи, Зло, неужели я и в самом деле должна красть чужую красоту, иначе мне его не покорить? — Да, должна, — ответило Зло, — иначе потеряешь его, и он окажется в объятьях Елены. Да, ты прекрасна, но она — воплощение Красоты, и он любит ее, потому что она исполнена нежности и доброты, а ты — сама гордыня. Решайся, не медли, Скиталец уже идет на встречу с Еленой Златокудрой. Отбросив сомнения, Мериамун схватила сверкающую змею и прижала к себе. Змея с леденящим душу хохотом обвилась вокруг нее и вдруг уменьшилась до размеров узенького золотого пояса в виде золотой змейки с двумя головами и горящими рубиновыми глазами. А царица Мериамун в это время вызывала в памяти красоту мертвой Хатаски, красоту Ба и прекрасное лицо Ка, не отрывая глаз от своего отражения в зеркале. Сначала ее лицо побледнело до синевы и застыло в смертной неподвижности, потом начало медленно оживать, но красота ее изменилась — темные волосы стали золотыми, черные глаза стали синими, гордое, неприступное выражение лица сменилось нежной, чарующей улыбкой Елены. Минуту назад царица Мериамун была прекраснейшей из женщин на земле, но сейчас она стала еще прекраснее, она стала воплощением совершенной красоты, у нее даже голова закружилась от восхищения. — Так вот какая она, Хатор, — произнесла она и не узнала собственного голоса. Ее голос тоже изменился. Он стал нежнее шелеста тростника на ветру, слаще жужжания пчел в ласковый солнечный полдень. Теперь пора! Страшась собственной новой красоты, с тяжестью на сердце от сознания предательства, но со странным ликованием в душе, выходит Мериамун из своих покоев и скользит, точно звездный луч, по безмолвным залам своего дворца. В них пробивается бледный свет луны и падает на лица грозных богов, на зловещие улыбки сфинксов, на изображения ее предков, давно умерших фараонов и цариц. Ей чудится, что она слышит, как они шепчутся о страшном преступлении, которое она совершает, и о бедах, которые оно повлечет. Но она отмахивается от них и спешит дальше. Ее сердце охвачено пламенем, скоро в ее объятиях будет Скиталец — возлюбленный, которого она жаждала встретить жизнь за жизнью и встретила после многих смертей. А Скиталец тем временем ждет в своем покое часа, когда нужно будет идти на встречу с Еленой Златокудрой. Сердце его пылает, в памяти мелькают странные видения прошлого, странные сны о долгой, бесконечной любви. Сердце, словно факел в темноте, освещает все дни его прошлой жизни, все сражения, в которых он победил, все моря, по которым он плавал. И он понимает наконец, что все это и вправду не более чем сон, обман чувств, мираж, потому что в жизни мужчины есть только одна действительность, и эта действительность — любовь, что совершенно только одно — красота, в которую облачается любовь, что единственное, к чему стремятся все мужчины и что должны обрести, — это сердце Елены Златокудрой, ибо она — мир, радость и покой. Он надевает доспехи — кто знает, какой враг поджидает его в темном городе, и берет лук Эврита и колчан со стрелами смерти — быть может, война еще не кончена и ему придется сражаться на своем пути к счастью. Расчесывает кудри, надевает золотой шлем и, помолившись богам, которые его не слышат, выходит из своего покоя. Перед ним огромный зал колонн и статуй. Как и всегда, выходя ночью куда-нибудь один, Скиталец настороженно оглядел погруженный в сумрак зал, но рассмотреть что-нибудь в такой темноте было невозможно. Но через окно в крыше лился лунный свет и падал в середину зала, так что белый пол казался сияющей поверхностью озера среди черных, заросших тростником берегов. Скиталец снова бросил вокруг себя быстрый, острый взгляд, чутье говорило ему, что он не один в этом зале, хотя кто на него смотрит — человек ли, призрак или, быть может, бессмертные боги, он не знал. Вот ему показалось, что далеко, среди колонн движется светлая тень. Он сжал свой черный лук и схватился за колчан, стрелы в нем звякнули. Наверное, тень услышала этот звук или, может быть, увидела, как в лунном свете блеснули золотые доспехи Скитальца, только она стала приближаться и подошла к лунному озеру. Здесь она остановилась и замерла, как замирает купальщица прежде, чем опуститься в фонтан. Скиталец тоже замер, пытаясь понять, что бы это могло быть. Хорошо бы проверить, пустив в тень стрелу из лука, но он удержал руку и продолжал наблюдать. Тень вступила в освещенное луной пространство, и он увидел, что это женщина в белом одеянии, перехваченном на талии сверкающим поясом из драгоценных камней, которые горели, точно глаза змеи. Женщина была высока ростом и прекрасно сложена, как статуя Афродиты, но кто она или что это такое, он не мог понять, потому что голова ее была низко опущена и лицо скрыто. Тень стояла неподвижно, и тогда недоумевающий Скиталец двинулся к ней и тоже оказался в потоке лунного света, облившего сиянием его золотые доспехи. Вдруг тень подняла голову и протянула к нему руки, свет упал на ее лицо — это было лицо аргивянки Елены, в поисках которой он приплыл сюда. Он стал вглядываться в него — да, это ее прекрасные черты, синие глаза, золотые волосы, белые, словно изваянные из мрамора, руки… Потом медленно, очень медленно, не произнося ни слова, потому что язык ему не повиновался, он подошел ближе. Она тоже молчала, застыв в такой неподвижности, что, казалось, грудь ее не дышит. Живыми были только сверкающие глаза змеи, обнимающей ее талию. Скиталец снова остановился в страхе, чутье подсказывало ему, что это призрак, желающий заманить его в ловушку, но женщина по-прежнему молчала и не шевелилась. Наконец он обрел дар речи и шепотом спросил: — Госпожа, это в самом деле ты? Я в самом деле смотрю на аргивянку Елену, или ты дух, которого в насмешку надо мной прислала царица подземного царства Персефона? И он услышал голос Елены, тихий и чарующий: — Разве не сказала я тебе, Одиссей, царь Итаки, разве не сказала тебе вчера в храме Хатор, когда ты победил духов-охранителей, что нынче ночью мы станем супругами? Почему же сейчас ты принимаешь меня за бесплотный дух? Скиталец вслушивался в ее голос. Да, то был голос Елены, на него смотрели глаза Елены, однако сердце подозревало обман. — Да, госпожа, все это Елена аргивянка мне говорила, но она также сказала, что я должен встретить ее у ворот храма и увестиоттуда как невесту. Туда я сейчас и направляюсь, чтобы встретиться с ней. Но если ты — Елена, как ты оказалась в залах этого дворца? И где, госпожа, твой звездный камень, который должен сиять на твоей груди, где рубиновая звезда, которая источает кровавые слезы? — Знай, Одиссей, что звезда, которая была у меня на груди, больше не источает кровавую росу, ведь ты завоевал меня, и мужчины больше не умирают, потеряв разум из-за моей красоты. Звезда войны закатилась, смотри — теперь меня окружает символ Мудрости, бессмертная змея, означающая вечную любовь. Ты спрашиваешь, как я оказалась здесь, я, бессмертная дочь богов? Не пытайся узнать, Одиссей, ведь если Судьбе угодно, чтобы я пожелала где-то оказаться, боги тотчас же перенесут меня туда. Ты хочешь, Одиссей, чтобы я покинула тебя? — Этого я хочу меньше всего на свете, — сказал Одиссей, ибо он утратил свою всегдашнюю настороженность и забыл предостережение Афродиты, что только один знак поможет ему узнать Елену, это рубиновая звезда на ее груди, с которой стекают капли крови погибших из-за нее мужчин. Сейчас он больше не сомневался, что перед ним Елена Златокудрая. А та, что приняла облик Елены, протянула к нему руки и улыбнулась так нежно, что Скиталец забыл обо всем на свете, он только ощущал, что она привлекла его к себе. Всё с той же улыбкой она медленно заскользила, увлекая его за собой, и он, словно во сне, двинулся за ней, околдованный ее красотой. Она вела его по залам и коридорам, мимо статуй богов, мимо сфинксов с человеческими головами, мимо изображений давно умерших фараонов и цариц. И ей снова чудилось, что она слышит, как они с ужасом шепчут друг другу о ее преступлении и о бедах, которые на всех обрушатся. Но она отмахивалась от их укоров, ведь она ведет его к себе, а он, идущий за ней, ничего не слышит! Наконец они пришли в опочивальню царицы и остановились возле золоченого супружеского ложа, а он ничего вокруг не видел и не понимал. И тут она сказала: — Одиссей, царь Итаки, тот, кого я люблю с начала времен и буду любить до скончания времени, перед тобой стоит совершенная красота, и боги предназначили ее тебе. Сделай же свою невесту супругой, но сначала положи руку на золотую змею, что обвивает мою талию, этот новый свадебный подарок богов, и произнеси супружеский обет, дай нерушимую клятву. Повторяй за мной, Одиссей: «Я люблю тебя, женщина ты или бессмертная богиня, люблю тебя одну, каким бы именем ты ни называлась и в каком бы облике ни являлась; я прилеплюсь к тебе и буду верен тебе, одной тебе, до скончания времен. Я буду прощать твои прегрешенья, буду утешать тебя в горе и никому не позволю встать между мной и тобой. Клянусь тебе, женщина ты или богиня, тебе, стоящей передо мной. Клянусь тебе, женщина, что так будет отныне и вовек, и здесь, и в бесконечности, в каком бы облике ты ни явилась на земле и каким бы именем ни звалась среди людей». Клянись же, Одиссей, царь Итаки, сын Лаэрта, или оставь меня и уходи! — Ты просишь меня дать страшную клятву, госпожа, — отвечал Скиталец, он хоть и перестал бояться обмана, но его многомудрому сердцу эта клятва не понравилась. — Тебе решать, но решай скорей, — сказала она. — Клянись или уходи, и тогда ты меня больше никогда не увидишь. — Я не уйду, не могу уйти, даже если бы хотел, — сказал он. — Я дам тебе эту клятву, госпожа. И он положил руку на голову змеи, что обвивала ее талию, и произнес страшную клятву. Увы, он забыл и предупреждение Афродиты, и слова Елены, и поклялся змеей, хотя должен был клясться звездным камнем. Поклялся бессмертными богами, поклялся символом зла и коварства, поклялся красотой своей невесты… Он произносил слова клятвы, а глаза Змеи сверкали, а глаза той, что приняла облик Елены, сияли торжеством, а черный лук Эврита тихо гудел, предсказывая кровопролитие и смерть… Но Скиталец не думал ни об измене, ни о кровопролитии, ни о смерти, уста той, кого он считал Златокудрой Еленой, прильнули к его устам. И он опустился на золоченое ложе царицы Мериамун.Глава 19
ПРОБУЖДЕНИЕ СКИТАЛЬЦА
Жрец Реи, как и было условлено, пришел к воротам храма Хатор и стал ждать Скитальца. Настал условленный час, но Скиталец не появился. Реи подошел к пилону и спрятался в тени ворот. Вот отворилась дверца в медных воротах, и из нее вышла закутанная в покрывало женщина, на груди у нее сиял, точно звезда в ночи, красный драгоценный камень. Женщина подождала немного, глядя на освещенную луной аллею между рядами черных сфинксов, но вокруг не было ни души, и она затаилась в тени пилона, так что Реи не мог ее разглядеть, он видел только красную звезду, горящую у нее на груди. Старого жреца охватил страх, ведь он знал, что смотрит на чужеземку Хатор, несущую смерть мужчинам. Быть может, и он погибнет, как и все, кто увидел ее лицо и вынес себе смертный приговор. Бежать, бежать прочь, но он не осмелился и стал смотреть на дорогу, надеясь увидеть там Скитальца, однако в лунном свете не мелькнуло ни тени. Время шло, Хатор по-прежнему стояла, затаившись, в тени, и на груди ее все так же светилась кроваво-красная звезда. Как могло случиться, что женщина, которой жаждут обладать все мужчины мира, пришла на свидание и ждет, как брошенная возлюбленным деревенская девушка? Прижавшись к стене пилона, жрец Реи молился, чтобы тот, кого всё еще нет, поскорее пришел, и вдруг услышал нежный голос, подобный звукам лютни: — Кто ты, затаившийся в тени? Он знал, что это к нему обратилась Хатор, и его обуял такой ужас, что язык прилип к гортани. Голос снова заговорил: — Ах, Одиссей, полно хитрить и испытывать меня. Зачем ты явился на встречу со мной в обличье старого жреца? Когда-то я узнала тебя в лохмотьях нищего, узнала тебя в стане твоих врагов. Так неужели я не узнаю тебя в темном плаще и одеянии жреца? Реи понял, что прятаться и таиться бесполезно. Весь дрожа, он подошел к ней и, упав на колени, заговорил срывающимся голосом: — О могущественная царица, я не тот, чьим именем ты меня назвала, и я не переодевался в чужую одежду, дабы обмануть тебя. Клянусь, я — Реи, главный зодчий фараона, главнокомандующий легионом Амона, главный казначей и хранитель сокровищницы Амона, мое имя произносят с уважением в стране Кемет. И если ты и вправду богиня, обитающая в этом храме, — а это так, насколько я могу судить, ибо на твоей груди сияет драгоценное украшение, — молю тебя: будь милостива к твоему слуге и не казни меня своим гневом, ведь не по своей воле пришел я сюда, но исполняя повеление героя, чьего появления я здесь жду. Прояви же милосердие и удержи свою карающую руку! — Не бойся, Реи, — произнес чарующий голос. — Я не хочу причинять зло ни тебе, ни вообще кому бы то ни было на свете, и, хотя много, очень много мужчин спустились из-за меня в темное царство Аида, не я их обрекла на смерть, такова была воля бессмертных богов, которые используют меня как оружие. Поднимись с колен, Реи, и расскажи мне, зачем ты пришел сюда и где тот, чьим именем я тебя назвала? Реи встал и, подняв взгляд, увидел сияющие сквозь вуаль глаза Елены. В них не было гнева, их свет был ласков, как мерцание звезд на вечернем небе. И в душу к нему снизошел покой. — О бессмертная, я не знаю, где Скиталец, — промолвил он. — Знаю только, что он просил меня встретиться с ним здесь за час до полуночи, и потому я пришел. — Наверное, он тоже скоро придет, — произнес чарующий голос. — Но зачем тот, кого ты называешь Скитальцем, просил тебя встретиться с ним здесь? — Сейчас расскажу, о Хатор. Он сказал мне, что нынешней ночью вы станете супругами и тайно покинете Кемет. А я — его друг, и он хочет обсудить со мной и с тобой все подробности побега. Однако его до сих пор нет. Реи поднял голову, и Елена Златокудрая поглядела ему в глаза. — Послушай, Реи, — сказала она, — вчера я, подчиняясь велению богов, вышла на крышу пилона и пела для тех, кто был обречен умереть, а потом вернулась в святилище и села за свой станок, а обреченные на смерть умирали от мечей стражей, которые должны были охранять мою красоту, но теперь стражи ушли. И пока я ткала, один из обреченных прорвался сквозь заслон призраков, разрубил мечом занавес и явился передо мной. Это был тот, кого я сейчас жду, — Одиссей, царь Итаки, сын Лаэрта, хоть я не сразу его узнала. Когда мы разговаривали с ним, я увидела, что за нами наблюдает некий дух, хоть он и не знал, что я его вижу, лицо его мне было незнакомо, я никогда не встречала этого мужчину. Но сейчас, Реи, я поняла, что лицо этого духа — твое лицо, и его одежды — твои одежды. Реи в ужасе замер. — А теперь, Реи, приказываю тебе рассказать мне правду, иначе тебя постигнет кара, но не я покараю тебя, ибо я никому не желаю причинять зло, тебя покарают бессмертные, которые любят меня. Что делал твой дух в моей священной обители? Как ты осмелился проникнуть ко мне, любоваться моей красотой и слушать мои речи? — О великая царица, — отвечал Реи, — я расскажу тебе всю правду и молю тебя — не допусти, чтобы на меня обрушился гнев бессмертных богов. Не по своей воле мой дух проник в твою священную обитель, и я не знаю, что он там видел и слышал, об этом в моей памяти не осталось следа. Мой дух послала та, кому я служу и кто владеет высшим искусством магии и колдовства, ей мой дух всё и рассказал, но что он рассказал, я не знаю. — А кому, Реи, ты служишь? И зачем она послала твой дух ко мне подсматривать и подслушивать? — Я служу царице Мериамун, и она послала мой дух узнать, что случилось со Скитальцем, когда он пошел сражаться с призраками. — А он ни словом не обмолвился об этой Мериамун. Скажи мне, Реи, она красива? — Красивее всех женщин, живущих на земле. — Красивее всех, ты говоришь? Смотри же, Реи, и повтори теперь, что Мериамун, которой ты служишь, красивее аргивянки Елены, которую ты называешь именем Хатор. Она подняла вуаль, и он увидел лицо, до той минуты скрытое. Ее имя, сияние ее совершенной красоты, в которой воплотилась высшая гармония, ослепили Реи, он пошатнулся и чуть не упал. — Нет, — проговорил он, закрыв глаза рукой, — нет, ты прекраснее, конечно, ты. — Тогда скажи мне, — молвила она, опуская вуаль, — и ради своего собственного блага, скажи правду: почему царица Мериамун, которой ты служишь, пожелала узнать, что случилось с тем, кто пошел сражаться с призраками? — А ты сама, дочь Амона, разве не догадываешься? — отвечал Реи. — Конечно, я скажу тебе правду, потому что ты одна можешь спасти от стыда и позора ту, кому я служу и кого люблю. Мериамун тоже любит мужчину, чьей супругой ты желаешь стать. Услышав это признание, Елена Златокудрая прижала руку к сердцу. — Я этого боялась, — прошептала она, — и не напрасно. Она его любит, поэтому он не пришел. Если бы я знала!.. Что ж, Реи, мне хочется отплатить твоей царице коварством за коварство и послать твой дух следить за ней… Но нет, я этого не сделаю, никогда Елена не унизится до постыдных хитростей и колдовства. Пойдем туда, Реи, пойдем во дворец, где живет моя соперница, и там узнаем правду. Не бойся, я не причиню зла ни тебе, ни той, кому ты служишь. Не будем же медлить, Реи, идем.А Скиталец меж тем спал в объятиях Мериамун, принявшей облик аргивянки Елены. Его золотые доспехи лежали на полу у золоченого ложа, тут же стоял и черный лук Эврита. Ночь близилась к рассвету, и вдруг Лук пробудился, его тетива запела:
Часть III
Глава 20
МЩЕНИЕ КУРРИ
Скиталец и жена фараона стояли друг перед другом в рассветных сумерках супружеской опочивальни. Оба молчали. Боль, ярость, стыд жгли сердце Скитальца и сверкали в его глазах. Лицо Мериамун было холодно и спокойно, как маска смерти, на губах улыбка сфинкса. Однако грудь ее порывисто вздымалась, словно она торжествовала победу, и вся она трепетала, как тростник на ветру. — Почему, мой господин и возлюбленный супруг, ты так странно смотришь на меня? — наконец произнесла она. — И зачем ты надел свои боевые доспехи? Ведь лучезарный Ра едва поднялся с груди Нут, а ты, Одиссей, уже покинул ложе любви. Он не произнес ни слова, лишь смотрел на нее испепеляющим взглядом. Тогда она протянула к нему руки и хотела обнять. — Прочь от меня! — крикнул он страшным, сдавленным голосом. — Прочь! Не смей прикасаться ко мне, ведьма, прелюбодейка, иначе я забуду, что я мужчина, а ты женщина, и убью тебя своим мечом. — Ты не можешь убить меня, Одиссей, — проворковала она, — может быть, я и ведьма, и прелюбодейка, и все же я — твоя жена, и ты связан со мной навек. Не ты ли мне клялся в этом всего несколько часов назад? — Да, я клялся, но не тебе, Мериамун, а аргивянке Елене, которую люблю, а проснувшись, увидел рядом с собой на ложе тебя, ненавистная. — Нет, Одиссей, ты клялся мне, ибо я перехитрила тебя, хитроумнейшего из смертных. Мне, женщина я или бессмертная богиня, клялся ты любить меня отныне и вовеки веков, в каком бы обличье я ни явилась и каким бы именем меня ни называли люди. Не гневайся, мой господин, но выслушай меня. Разве не все равно, в каком облике ты видишь меня? И разве я не прекрасна? И разве красота не подобна ларцу, в котором хранится драгоценность? Ты завоевал мою любовь, а моя любовь бессмертна, она не подвержена тлену, подобно нашей земной оболочке. Я любила тебя, а ты любил меня еще в глубине времен, в других жизнях, и знай, что мы будем любить друг друга, когда ты уже не будешь Одиссеем, царем Итаки, а я Мериамун, царицей Кемета, мы будем являться в мир в других обликах и нас будут называть другими именами. Я — твоя судьба, Скиталец, и куда бы ты ни отправился странствовать по полям жизни и смерти, я всегда буду рядом с тобой. Ты — часть меня, а я — часть тебя, и хоть боги разделили нас, нам все равно суждено плыть вместе по реке жизни, пока она не впадет в море, которое известно только духу. И потому не отталкивай меня и не вызывай во мне гнева, да, я привлекла тебя в свои объятья силой своих чар, но так было суждено. И она снова шагнула к нему. Скиталец выхватил из колчана стрелу и нацелил ее острый наконечник в грудь Мериамун. — Что ж, подойди теперь, — сказал он. — Только так я заключу тебя в свои объятия. Слушай, что я тебе скажу, Мериамун, злая колдунья, Мериамун, распутница, жена фараона и царица Кемета! Да, я действительно дал тебе клятву, и из-за того, что твое коварство оказалось сильнее моей мудрости и я клялся не Звездой, что сияет на груди Елены, а Змеей, что обвилась вокруг тебя, я, быть может, потерял мою возлюбленную. Так предостерегала меня богиня на далеком острове Итаке, а я, на свою беду, забыл ее слова. Но помни: потеряю я ее или обрету, люблю я ее, и только ее, а тебя ненавижу всей силой ненависти. Ты обольстила меня своим черным колдовством, ты украла образ совершенной красоты и посмела облечься в него, ты вынудила меня поклясться страшной клятвой и стать твоим супругом. Но ведь ты — царица Кемета, ты — супруга фараона, которому я поклялся защищать тебя, и ты навлекла на меня величайший позор, я обесчещен, ибо совершил преступление против хозяина дома, приютившего меня, и против бога гостеприимства. И потому я сейчас созову стражу, которая находится под моим началом, и расскажу всем о твоем позоре и о моем несчастье. Буду кричать об этом на улицах, с крыш храмов, а когда вернется фараон, расскажу и ему, пусть все живущие в Кемете узнают, что ты — блудница, и увидят твой омерзительный позор. На лицо Мериамун было страшно смотреть. Она стояла, словно в раздумье, прижав одну руку к голове, а другую к груди. — Это твое последнее слово, Скиталец? — наконец спросила она. — Да, царица, последнее, — ответил он и сделал шаг к дверям. Рукой, лежащей на груди, Мериамун разорвала на себе ночное одеяние, разметала вокруг себя благоухающие волосы и бросилась мимо него к дверям с пронзительными воплями. Она отдернула занавес, распахнула двери, и в опочивальню вбежали стража, евнухи, прислужницы. — На помощь! На помощь! — кричала она, указывая на Скитальца. — Спасите! Защитите мою честь от этого негодяя, от чужеземного вора, которому фараон поручил охранять меня! И вот как он меня охраняет! Этот трус посмел прокрасться в опочивальню ко мне, царице Кемета, и подойти к супружескому ложу фараона! И она бросилась на пол, стала рвать на себе волосы, стеная и заливаясь слезами, словно умирала от стыда. Поняв, что произошло, стражи с яростными криками набросились на Скитальца, точно стая волков на загнанного оленя. Но Скиталец отпрыгнул к ложу и успел вставить стрелу и натянуть тетиву своего огромного черного лука. Когда он подвел руку с оперением стрелы к своему уху, тетива запела, и стрела, вылетев, насмерть поразила того, кто стоял на ее пути. Второй раз запела тетива, выпуская стрелу, и еще один страж упал мертвый. Третья стрела тоже отправила еще одну душу в царство Аида. Нападавшие отхлынули назад, точно волна от скалы, ни один не желал встретиться со смертоносными стрелами. Они метали в него копья и стрелы, укрывшись за колоннами, но стрелы или отскакивали от его доспехов, или он отражал их щитом и оставался невредим. Среди вбежавших в опочивальню на крики Мериамун был и тот самый Курри, злосчастный кормчий сидонцев, кого Скиталец пощадил и потом подарил царице, чтобы он делал для нее золотые украшения. Увидев Скитальца, попавшего в такую страшную беду, он с тоской и алчностью вспомнил об утраченных сокровищах, о том, что он, некогда владелец судна и богатый сидонский купец, сейчас всего лишь раб. И в нем вспыхнуло желание отомстить Скитальцу, отомстить любой ценой. Заря еще не разгорелась, стены огромной опочивальни были окутаны тенью, и Курри стал красться вдоль стен, держа в руке длинное копье с бронзовым наконечником, который раньше торчал в шлеме Скитальца. Скиталец, конечно же, его не видел, он отражал удары копий и пик, летевших спереди, и сидонцу удалось незамеченным пробраться к золоченому ложу фараона сзади и вспрыгнуть на него. Скиталец стоял спиной к ложу на расстоянии копья от него, в шелковых драпировках застряли стрелы и копья. Сначала Курри хотел убить Скитальца ударом в спину, но нет, вдруг копье не пробьет золотой панцирь, и тогда Скиталец обернется и прикончит его, Курри, и вообще пусть лучше Скиталец умрет под пытками, а он будет одним из заплечных дел мастеров, ведь сидонцы славятся искусством изощренно пытать людей. И Курри дождался, когда Скиталец опустит щит и станет натягивать тетиву со стрелой. Не успел он довести руку с оперением стрелы до уха, как Курри выбросил из-за драпировок копье и ударил по тетиве острым наконечником, тетива лопнула, и стрела упала на мраморный пол. Скиталец отшвырнул лук и с криком бросился на того, кто перерезал тетиву, ибо он краем глаза уловил блеск летящего наконечника, но Курри схватил с ложа шелковое покрывало и ловко набросил его на голову героя, как сеть. Увидев опутанного покрывалом Скитальца, солдаты и евнухи осмелели и, не дав ему времени сбросить с себя ткань и схватить меч, накинулись на него. Хоть Скиталец ничего и не видел, они не сразу одолели его, но все же в конце концов повалили на пол и так крепко прижали, что он не мог шевельнуть пальцем. Один из солдат крикнул Мериамун: — Лев запутался в сетях, о царица! Прикажешь убить его? Мериамун хоть и закрыла лицо руками, но все видела сквозь неплотно сдвинутые пальцы. Услышав этот вопрос, она содрогнулась и сказала: — Нет, не убивайте, но заткните ему рот, снимите с него доспехи и закуйте в кандалы, а потом отведите в темницу и прикуйте к стене самыми крепкими бронзовыми цепями. Держите его там до возвращения фараона. Он покусился на честь фараона и покрыл себя позором, нарушив клятву, которую ему дал, и потому пусть фараон сам решит, какой смертью он должен умереть. Услышав эти слова и поняв, какая страшная участь ожидает Скитальца, Курри нагнулся к нему и сказал: — Это я, сидонец Курри, перерезал тетиву твоего знаменитого лука, Эперит, я, ведь ты перебил моих людей, а меня сделал рабом. И знаешь, чем я перерезал тетиву? Тем самым наконечником копья, который ты мне отдал. И я буду просить фараона о милости, чтобы он отдал тебя мне на пытки и мучения, ты будешь умирать медленной смертью и проклинать день, когда ты родился на свет. Скиталец поглядел на него и сказал: — Лжешь, сидонская собака. У тебя на лице написано, что ты сам скоро умрешь, не пройдет и часу, и умрешь страшной смертью. Курри отпрянул со злобным рычанием. Это всё, что успел произнести Одиссей, ему раздвинули челюсти и всунули в рот железный кляп, сорвали с него доспехи и надели кандалы, как приказала царица. Мериамун же ушла к себе в уборную, поспешно задрапировалась в покрывало, скрыв разорванное ночное одеяние, и препоясалась золотой Змеей, которую ей суждено теперь носить всегда. Но волосы она оставила в беспорядке и не стала смывать с лица слез, пусть все видят, как она убита позором и как горько скорбит. Так она и будет убиваться и скорбеть до возвращения фараона.Реи и Елена Златокудрая дошли по улицам города до дворцовых ворот. Но здесь Реи понял, что им придется ждать до рассвета, ведь он должен был вернуться во дворец вместе со Скитальцем, у которого дворцовая стража была под началом, а сам он пароля не знал. — Мне было бы легко заставить их открыть эти огромные ворота, — сказала Елена стоявшему рядом с ней Реи, — но, думаю, лучше нам подождать. Может быть, тот, кого мы ожидаем, выйдет к нам сам. И они поднялись на портик храма Осириса, который стоял против ворот дворца, и стали ждать, пока восток посветлеет. Елена молчала, но не спускающий с нее глаз Реи знал, что на сердце у нее мучительная тревога, хотя он и не видел ее скрытого вуалью лица, — она время от времени взволнованно вздыхала, и алая звезда на ее груди поднималась и опускалась. Но вот первые лучи восхода осветили портик храма, и она сказала: — Теперь войдем, пора. Сердце мое предвещает большую беду. Много горя мне пришлось пережить, но раз так судили боги, я должна следовать их воле. Они подошли к воротам, и стражник, внимательно оглядев их, открыл ворота перед жрецом Реи и скрытой под вуалью и закутанной в покрывало женщиной, которая пришла с ним, — его поразила красота ее облика. — Где же вся остальная стража? — спросил Реи солдата. — Не знаю, — ответил тот, — недавно во дворце поднялся сильный шум, и начальник нашего караула пошел туда, я один остался охранять ворота. — Ты видел господина Эперита? — снова спросил Реи. — Нет, я не видел его со вчерашнего вечера, он после ужина не пришел проверять стражу, хоть и должен. Реи удивился. Они с Еленой вошли в ворота. Во дворце они увидели, что люди бегут к пиршественному залу, который находился близ покоев царицы. У кого-то в руках было оружие, кто-то не был вооружен, но все бежали туда, откуда неслись громкие крики. Реи и Елена дошли до пиршественного зала и увидели в его дальнем конце, там, где были двери, ведущие в покои царицы, огромную толпу. — Спрячься, госпожа, спрячься, — прошептал Реи своей спутнице, — я чую смерть. Смотри, вот тут драпировка, встань за ней, а я узнаю, почему такой шум и переполох. Елена зашла за занавес, висящий между колоннами, послушная просьбе Реи, ее сердце трепетало от страха, она была точно во сне. Едва она успела скрыться от людских глаз, как мимо Реи пробежал человек, в котором он узнал своего слугу. — Стой! — крикнул Реи. — Иди сюда и расскажи мне, что тут происходит. — Творятся страшные дела, господин, — отвечал слуга. — Эперит, тот самый чужестранец, которого наш фараон поставил начальником своей стражи, когда ушел воевать с взбунтовавшимися апура, так вот этот самый Эперит покушался на честь царицы, которую он должен охранять! Но она от него убежала, ее крики разбудили стражу, и стража застигла его прямо в опочивальне фараона. Некоторых он убил стрелами из своего заколдованного черного лука, но сидонец Курри перерезал тетиву, и тогда толпа его одолела. Сейчас на него надели кандалы и тащат в темницу, там он будет ждать приговора фараона. Смотри, его несут! Мне пора, я послан с поручением к смотрителю тюрьмы. Елена Златокудрая услышала рассказ об этом позорном событии, и ее охватило такое горе, что, будь она смертной женщиной, она бы умерла. Так вот каков мужчина, кого ей суждено было полюбить, чьей супругой она должна была вчера вечером стать. Боги снова над ней посмеялись. Так было всегда, так будет и впредь. Не зная любви, прожила она всю свою жизнь, и вот теперь, когда она наконец узнала, что такое любовь, и полюбила навсегда единственного мужчину на свете, каким отвратительным позором всё кончилось! Она схватилась за складки драпировки, чтобы не упасть, потом, услышав шум, украдкой выглянула. По залу двигалась толпа. Впереди десять солдат несли на плечах носилки. На носилках лежал мужчина с кляпом во рту и так жестко скованный бронзовыми цепями, что не шевельнуться — казалось, это охотники несут загнанного оленя или дикого быка, чтобы принести в жертву. Но даже скованный, поверженный, Скиталец был так могуч, глаза его так гневно сверкали, что толпа в испуге отшатнулась. Таким увидела Елена своего возлюбленного во второй раз — его, беспомощного, опозоренного, пронесли мимо нее в темницу. Из глубин ее сердца вырвался стон, стон великого горя, что ее постигло, потом она крикнула, потрясенная позором и неверностью того, кого ей суждено любить: — Ах, Одиссей, как низко ты пал, ты, некогда достойнейший из мужей! Он услышал эти слова, узнал голос Елены и стал искать ее взглядом. На его шее и на лбу надулись жилы, он изо всех сил рванулся и упал с носилок. Но встать он не мог, потому что был скован, и крикнуть тоже не мог, ведь во рту у него был кляп, так что солдаты снова уложили его на носилки и унесли. За ними ушла и вся толпа, остался один только Реи. Он был раздавлен горем и стыдом — человек, которого он так любил, оказался способным совершить столь низкий поступок. Этому простодушному человеку и в голову не пришло усомниться, что так всё и было на самом деле. И он стоял, закрыв лицо руками, не в силах двинуться с места. Подошла Елена и, тронув Реи за плечо, сказала: — Уведи меня отсюда, старик. Проводи в мой храм. Я потеряла свою любовь, но буду жить там, где ее обрела, пока боги не явят мне свою волю. Он молча поклонился и пошел за Еленой, но в середине зала остановился, потому что навстречу им шла царица, волосы ее развевались, одежда была в беспорядке, лицо залито слезами. Она шла одна, вернее, не шла, а бежала, словно сама не зная куда и зачем, и вид у нее был дикий, безумный, Курри едва поспевал за ней. — Кто эта царственная женщина? — спросила Елена. — Это царица Мериамун, госпожа, — ответил Реи, — та, на чью честь покусился Скиталец. — Тогда остановись, я хочу поговорить с ней. — Нет, нет, не надо, госпожа! — воскликнул Реи. — Она тебя ненавидит, она тебя убьет. — Меня невозможно убить, — отвечала Елена.
Глава 21
ВОЗВРАЩЕНИЕ ФАРАОНА
И тут Мериамун увидела Реи и стоявшую рядом с ним женщину под вуалью, увидела и алый драгоценный камень на ее груди, похожий на пылающее сердце. Сердце самой Мериамун вспыхнуло, точно факел, — она узнала аргивянку Елену, ту самую Елену, чей образ она предательски украла, как самый низкий вор. — Скажи мне, Реи, кто эта женщина? — крикнула она Реи, который склонился перед ней в поклоне. Реи с ужасом посмотрел на царицу и осторожно сказал: — Это богиня, которая живет в храме Хатор, о царица. Позволь ей уйти с миром. — Да, она уйдет, и уйдет навсегда из этого мира! — закричала Мериамун. — Что ты такое сказал, старый болван? Богиня! Нет у нас здесь никакой богини, есть злая колдунья, которая навлекла на Кемет бесчисленные кары. Вот уже много месяцев как из-за нее умирают мужчины, подземелья храма Хатор уже не вмещают их трупы. Из-за нее на нашу страну обрушивается казнь за казнью, вода превращается в кровь, урожай побивает град, по всей земле распространяется тьма, умирают все первенцы и среди них мой единственный сын. А ты, Реи, ты осмелился привести это исчадие зла в мой дворец! Клянусь Амоном, если бы я всю свою жизнь не любила тебя, ты заплатил бы за это своей жизнью. А ты! — Она протянула руку в сторону Елены. — Как ты дерзнула сюда прийти? Знай же, ты больше не причинишь Кемету бед и несчастий. Эй, раб! — обратилась она к сидонцу Курри. — Возьми свой кинжал и вонзи его по самую рукоятку в грудь этой женщины. Ты получишь за это свободу, и я верну тебе все твои богатства. И тогда Елена в первый раз заговорила. — Прошу тебя, госпожа, — тихо и спокойно произнесла она, — не заставляй своего слугу совершать это черное дело. Я никому из людей не желаю причинять зла, но наносить мне безнаказанно обиду нельзя. Курри с кинжалом в руке в нерешительности отступил. — Убей же ее, трус, убей! — закричала Мериамун. — Я тебе приказываю, или самого тебя убьют этим кинжалом! Сидонец закричал от ужаса, он знал, что, если царица пригрозила убить его, его и в самом деле убьют. Он высоко замахнулся своим длинным кинжалом и бросился на женщину под вуалью. Но Елена подняла вуаль и посмотрела ему в глаза, он увидел ее прекрасное лицо, и ее чарующая красота так поразила его, что он замер, точно пронзенный копьем. Его охватило безумие, он с криком занес кинжал и вонзил его не в ее сердце, а в свое собственное, и упал, мертвый. Такой жалкой смертью умер сидонец Курри, которого сразил образ совершенной красоты. — Видишь, госпожа, — сказала Елена, отворачиваясь от мертвого сидонца, — ни один мужчина не может причинить мне зла. Царица от изумления словно окаменела, Реи шептал благодарственные молитвы богам. Наконец она воскликнула: — Убирайся вон, ты, живое проклятье! Зачем ты пришла в этот дом? Здесь и так довольно горя и смертей, ты хочешь их умножить? — Не бойся, — ответила Елена, — я уйду и больше тебя не потревожу. Я пришла сюда, чтобы встретиться с тем, кого люблю и чьей супругой должна была вчера вечером стать, но кому боги позволили покрыть себя несмываемым позором, — это Одиссей, сын Лаэрта, царь Итаки. Вот зачем я пришла и осталась здесь, я хотела увидеть женщину, чья красота оказалась способна вытеснить из сердца Одиссея мой образ и вынудила величайшего героя и достойнейшего из всех мужей, живущих на земле, совершить подлый поступок и покрыть свое славное имя гнуснейшим позором. Чутье подсказывает мне, Мериамун, что не так-то тут все просто, потому что чем красивее женщина, тем сильнее ее власть и сила, это истина, в которой никто и никогда не усомнится. Да, Мериамун, ты красавица, но смотри сама, красивее ли ты аргивянки Елены? И, сбросив с лица вуаль, она осветила сиянием своей лучезарной красоты сумрачное, недоброе лицо прекрасной египтянки. Глядя на этих двух женщин, стоящих друг против дружки, Реи подумал, что одна из них сама Жизнь, а другая — сама Смерть, как будто в этих женщинах воплотились свет дня и мрак ночи. — Да, ты прекрасна, истинно так, — сказала царица, — но твоя красота, злая колдунья, на сей раз не удержала твоего возлюбленного от самого отвратительного бесстыдства. Не так уж сильно любил тебя этот мужчина, раз прокрался ко мне в спальню, как вор, и хотел украсть мою честь! Елене вспомнилось признание Реи, что Мериамун полюбила Скитальца, и она снова обратилась к царице: — Я начинаю понимать, египтянка, что в твоих речах правда переплетается с ложью. Трудно поверить, чтобы Одиссей, царь Итаки, мог совершить столь трусливый поступок и попытаться овладеть тобой против твоего желания. К тому же я вижу по твоим глазам, что ты сама любишь мужчину, которого называешь негодяем. Не горячись, не гляди на меня с таким негодованием, ты ведь знаешь, что не можешь причинить мне зла, и потому спокойно меня выслушай. Не знаю, правда то, что ты говорила, или ложь, я не прибегаю к помощи колдовства, чтобы что-то узнать, мне ведомо лишь то, что открывают мне боги. Но несомненно, что Одиссей, чьей супругой я должна была стать, смотрел на тебя глазами любви в тот час, когда я ждала его, чтобы сочетаться с ним браком. И потому любовь, которая расцвела в моем сердце всего лишь два дня назад, умерла, а если еще не умерла, я вырву ее из сердца и растопчу. Такую судьбу определили мне боги — быть самой обездоленной из женщин, прожить жизнь страстно любимой многими, но никого не любя, наконец-то полюбить и стать жертвой черного предательства. Теперь я возвращаюсь в свой храм, в святилище. Но ты не страшись, Мериамун, я недолго буду тревожить тебя и твою страну, и мужчины больше не будут умирать, теряя разум от моей красоты, я скоро уйду туда, куда укажут мне боги. А тебя я прошу: прояви доброту к человеку, который предал меня, ведь он так поступил из любви к тебе. Не так-то просто завоевать сердце царя Итаки Одиссея и отнять его у аргивянки Елены. Прощай, Мериамун, пожелавшая убить меня. Пусть боги пошлют тебе более светлые и счастливые дни, чем выпали на долю Елены, которая больше не увидит твоего лица. Она опустила вуаль и повернулась, чтобы уйти. Царица стояла и молчала, пристыженная кроткими речами Елены, которые упали, как капли освежающей росы, на ее жгучую ненависть. Но не отошла Елена и на длину копья, как ярость Мериамун вспыхнула снова. Неужели она позволит уйти этой чужеземке, единственной на земле женщине, еще более прекрасной, чем она, Мериамун, и чью красоту она украла, чтобы соблазнить Одиссея, а потом услышала от него слова такого непереносимого презрения? Нет, пока Елена жива, Мериамун не знать ни сна, ни покоя. Но если Елена умрет, тогда, может быть, всё еще удастся исправить, она сумеет привлечь Скитальца к себе, ведь если мужчине не досталась первая красавица, он соглашается на вторую. — Затворите ворота и заприте их! — приказала царица воротившейся в зал страже, они бросились выполнять ее приказ, и когда Елена подошла к выходу из зала, двери уже были заперты, и с лязгом захлопнулись тяжелые медные ворота. Елена подошла к дверям. — Не выпускайте эту ведьму! — закричала царица охранявшим их стражам, и они, удивившись, скрестили копья, преграждая путь Елене. Но она всего лишь подняла вуаль и посмотрела на них. Оружие выпало у них из рук, они застыли, ошеломленные ее красотой. — Прошу вас, откройте, — сказала Елена своим нежным голосом, и стражи тотчас распахнули двери, она вышла из зала, за ней стража, царица Мериамун и Реи. Но один из стражников не видел прекрасного лица Елены, он не хотел открывать двери и пытался схватить ее, когда она проходила мимо. А Елена уже подходила к воротам. — Стреляйте в колдунью! — закричала царица Мериамун. — Клянусь своим словом царицы, если она выйдет из ворот, вы все умрете. Стреляйте в нее! Трое стражников натянули свои луки. У одного лопнула тетива и стрела разлетелась в щепки, стрела второго сорвалась и вонзилась в его ступню, стрела третьего повернула обратно, не долетев до груди Елены, и попала в самое сердце стражника, который стоял рядом с царицей, он упал мертвый. Это был тот самый стражник, который пытался удержать Елену в дверях. Елена обернулась и сказала царице: — Прикажи своей страже, чтобы не стреляли в меня, не то стрела может попасть в твое сердце. Знай, Мериамун, ни один мужчина не может причинить мне вреда. — Она снова подняла вуаль и обратилась к стражникам, охраняющим ворота: — Прошу вас, отомкните ворота и позвольте Хатор пройти. Они увидели, как она прекрасна, оружие выпало у них из рук, и они поспешно отворили ворота. Тяжелые створки с лязгом откатились, и она прошла мимо стражников, за ней и все остальные. Но она мгновенно смешалась с толпой и затерялась в ней. Мериамун побелела от ярости — Елена, ненавистная Елена ускользнула из ее рук! Повернувшись к стражам, которые отворили перед Еленой ворота, позволили ей уйти и до сих пор стояли, как в столбняке, и тупо глядели друг на друга, она прошипела, что их всех казнят. Но Реи опустился перед ней на колени и стал умолять ее пощадить их. — О царица, тебе не миновать беды! Вспомни, что случилось с сидонцем и с солдатом, который стоял возле тебя, нельзя даже пытаться причинить зло этой богине и тем, кто проявляет к ней доброту. Не убивай этих людей, о царица, иначе жди дурных вестей! Взбешенная царица закричала на него: — Замолчи, Реи! Еще раз посмей сказать такое, и клянусь — я первого тебя убью, хоть я тебя всегда любила и ты был первым среди слуг фараона. Ты и без того передо мной неискупимо виноват уже одним тем, что привел в мой дворец эту омерзительную колдунью. Ты слышал, что я сказала, и мои слова не пустая угроза, тебе это хорошо известно. Убирайся с моих глаз, убирайся вон, иначе я убью тебя прямо сейчас. Отнимаю у тебя все почести, лишаю всех высоких должностей и забираю твои богатства в свою казну. Отныне ты нищий, ступай просить милостыню и никогда больше не попадайся мне на глаза! Реи не произнес ни слова, он повернулся и поспешно пошел прочь, уж лучше встретиться с львицей, у которой отняли детенышей, чем попасться под руку разъяренной Мериамун. Ворота захлопнулись, начальника стражи, которая их охраняла, потащили к тому месту, где стояла царица, и тотчас отрубили голову — и он молча, не прося пощады, равнодушно принял смерть, потому что душа его была полна созерцанием красоты Елены, точно кубок с драгоценным вином. Увидев эту отвратительную казнь, Реи громко застонал и ушел из дворца, царица же приказала солдатам казнить всех стражей. Но тут за воротами дворца раздались плач и стенания. Солдаты с недоумением переглядывались. Плач и стенания слышались все громче, чей-то голос выкрикнул: «Фараон вернулся! Фараон вернулся!», в ворота громко застучали. Мысли Мериамун на миг отвлеклись от вины стражников, она велела им отворить ворота, они бросились выполнять приказание. В ворота вошел путник в грязной, запыленной одежде, волосы всклокочены, глаза безумные, лицо искажено отчаянием и страхом. Никто бы не узнал в путнике фараона. Фараон посмотрел на царицу, посмотрел на казненного стражника, что лежал у ее ног, и громко захохотал. — Что это? — закричал он. — И здесь трупы! Всюду смерть, всюду убитые, неужели этому нет конца? Здесь, я вижу, смерть не слишком потрудилась, видно, рука у нее устала. Давай, царица, покажи своих убитых! Где они, вели их принести! — Что случилось, Менепта? Что за безумные речи я слышу? — спросила царица. — Здесь прошла та, кого называют Хатор, и это следы, которые она оставляет на своем пути. Рассказывай же! — Да, царица, я все тебе расскажу. Потешу тебя веселой историей. Ты говоришь, здесь прошла Хатор, и это следы, которые она оставила на своем пути. Я расскажу тебе про другие следы, куда более страшные. Тот, кого апура называют Яхве, прошел по Чермному морю и оставил после себя тысячи трупов. — Твое войско! Где твое войско? — воскликнула царица. — Не всё же оно погибло? — Всё, царица, всё! Все полегли, все остались там, спасся я один. Мои воины тысячами качаются на волнах Чермного моря, лежат на его берегах, чайки выклевывают им глаза, львы пустыни терзают их плоть. Они лежат непогребенные, их стоны уносит морской ветер, их кровь уходит в соленый песок, Осирис встречает их в царстве мертвых… Я настиг воинство апура на берегу Чермного моря, был еще ранний вечер, но я не мог напасть на апура, потому что между моим войском и народом апура возникло облако и мрак. И всю ночь сквозь эту завесу мрака и пронзительные крики чаек до меня доносился словно бы топот тысячных толп, лязг оружия, команды начальников, блеянье и мычанье стад, скрип колес. Рассвело, и я увидел, что море расступилось и стало стенами по правую и по левую сторону, а между стенами суша, и по этой суше идут апура. Я приказал своим военачальникам немедленно подняться и броситься за ними вслед, все устремились в погоню, но колеса вязли в песке, и когда мои воины спустились на полосу суши, апура уже прошли через море на тот берег. И когда наконец я последним спускался на дно, грозный ветер вдруг стих и стены воды по обе стороны суши схлестнулись с оглушительным грохотом. Я повернул назад свою колесницу и помчался прочь, но моих воинов, мои колесницы, моих коней поглотила пучина. Они на миг всплывали на гребнях черных волн, мелькая, точно отблеск света на грозовой туче, вопль смертельного ужаса несся к небесам, потом всё смолкало, наступал конец. Из всего моего войска я один остался жив. Все, кто слышал рассказ фараона, громко застенали. Не стенала только Мериамун, она спокойно сказала: — И мы будем терпеть все эти беды, пока из страны Кемет не уберется эта самозванка Хатор. В это время в ворота снова застучали, раздался крик: «Отворите! Гонец! Пришел гонец с вестями!» — Впустите его, — приказала царица. — Даже если он принес дурные вести, вряд ли они будут страшнее того, что мы сейчас узнали. Ворота открыли, гонец вошел. В его глазах был ужас, он всю дорогу бежал, и его горло так пересохло от жажды и пыли, что он стоял перед ними, тяжело дыша, и не мог произнести ни слова. — Принесите ему вина, — приказала царица. Вино принесли, он выпил его и опустился на колени перед царицей, потому что не узнал фараона. — Говори же! — крикнула царица. — Что за вести ты принес? — Да простит меня великая царица, — произнес он. — Да отвратит от меня свой гнев. Вот с какими вестями я пришел. Огромное войско приближается к городу Он. В этом войске солдаты из всех стран севера, оттуда, где живут тулиши, шакалишу, лику, шардана. Двигаются они быстро и всё уничтожают на своем пути, грабят и разоряют, после них остаются лишь пожарища и трупы, над которыми кружат стервятники. — Ты всё сказал? — спросила Мериамун. — Увы, царица! Вместе с войском по восточному рукаву Сихора плывет огромный флот, на судах двенадцать тысяч лучших воинов аквайюша, это сыновья героев, разрушивших Трою. У всех, услышавших эту весть, вырвался вопль отчаяния. А Мериамун спокойно сказала фараону: — Ты твердил, что казни на нас насылают апура, но вот они ушли, а проклятье осталось и будет тяготеть над нашей страной, пока в ней живет самозванка Хатор.Глава 22
В КАМЕРЕ ПЫТОК
Наступил вечер, фараон сидел за трапезой, Мериамун с ним рядом. Мысли у фараона были чернее черного. Его огромное войско погибло, волны Чермного моря кидают и швыряют сейчас трупы его воинов, в живых остался он один, он один только и может рассказать о том, что произошло. Как жестоко посмеялись над ним апура там, в пустыне! Но страшнее всего была весть, которую принес гонец: на них наступает воинство варваров и по восточному рукаву Сихора приближается флот аквайюша. Весь день фараон не выходил из зала совета, рассылая гонцов на восток, на север и на юг с приказанием собирать наемников во всех городах, чтобы отразить врагов, потому что здесь, в его белокаменном Танисе, осталось всего пять тысяч воинов. И сейчас, сев наконец за трапезу, он, разбитый, измученный усталостью, вдруг вспомнил о чужестранце, которому он поручил охранять царицу. — А где, скажи, тот доблестный Скиталец в золотых доспехах? — спросил он. — Мне есть что рассказать тебе об этом человеке, — помедлив, отвечала Мериамун. — До сих пор не рассказала, потому что дурные вести забили нам всем уши, как песок при урагане в пустыне. — Рассказывай же, — сказал фараон. Склонившись к нему, Мериамун стала шепотом рассказывать ему на ухо свою историю. Фараон почернел, как грозовая туча, и, не дослушав ее до конца, вскочил с кресла. — Клянусь Амоном и Пта! — закричал он. — Этого-то врага мы можем уничтожить. Мы с тобой, Мериамун, моя сестра и моя царица, далеки друг от друга, как небо и крыша храма, нас больше не связывает любовь. Но я сотру пятно позора с твоей чести, ведь это не только твоя честь, но и моя! Веселую ночку этот Скиталец сегодня проведет, не заснуть ему ни на мгновенье, пожалеет, что на свет родился, зато к вечеру заснет вечным сном. Фараон хлопнул в ладоши, вызывая стражу, велел им идти в темницу, куда бросили связанного Скитальца, и доставить его в камеру пыток, а палачам приготовить орудия своего ремесла и ждать его, фараона. Стражники ушли, а фараон погрузился в мрачное молчание и пил кубок за кубком, пока ему не доложили, что все готово. Менепта встал и спросил Мериамун: — Ты пойдешь со мной? — Нет, я не хочу больше видеть этого человека, — отвечала она. — И вот что я скажу тебе. Не ходи к нему сегодня. Пусть его положат на ложе пыток и пусть палачи дадут ему еды и вина, так ему будет еще мучительнее умирать. Пусть зажгут у него в головах и в ногах светильники и оставят одного в камере до рассвета. Пусть он тысячу раз умрет еще до того, как палачи лишат его жизни. — Как пожелаешь, — согласился фараон. — Кому, как не тебе, выбирать для него наказание. А я как следует высплюсь и завтра утром пойду погляжу на его мучения. И он велел слугам распорядиться так, как пожелала царица. Скитальца привели в камеру пыток, вынули изо рта кляп и дали ему еды и вина, как приказал фараон. Он подкрепился и почувствовал, что силы к нему вернулись. Тюремщики снова надели на него кандалы и цепи и зажгли светильники в ногах и в головах, потом ушли, осыпая его оскорбительными насмешками. Он лежал на каменном ложе пыток, и сердце его переполняла горечь. Вот каким оказался конец его странствий, а это ложе пыток — грудь Елены Прекрасной, чьи объятия и любовь обещала ему Афродита. Если бы только он был сейчас свободен и мог встретиться со своими недругами лицом к лицу с оружием в руках и в золотых доспехах! Увы, ему не освободиться от оков, не в силах человеческих их сбросить, даже сил Одиссея, Лаэртова сына, мало. Где сейчас все боги, которым он поклонялся? Неужели он никогда больше не услышит боевой клич Афины Паллады? Зачем он отвратился от нее и принес жертву на алтарь лживой Афродиты? Вот как она сдержала свою клятву, вот как вознаградила того, кто посвятил себя ей! И не было исхода его горьким мыслям. Умереть на этом каменном ложе пыток! Он простонал в бессильной тоске: — Будь я проклят, Афродита, за то, что стал поклоняться тебе, будь проклят за ту жертву, что тебе принес! Из-за тебя я умру в застенке! Он открыл глаза и увидел в камере сияющее облако. «Что это?» — изумился он, и тут из облака раздался голос — чарующий голос Афродиты: — Напрасно, Одиссей, ты винишь меня. Не я привела тебя в этот застенок, а ты сам. Во всем виноват ты, Одиссей, сын Лаэрта. Вспомни, не я ли тебе говорила, что ты узнаешь Елену Златокудрую по алой звезде на ее груди, по рубину, с которого одна за другой стекают красные капли, — только по звезде и ни по чему другому? И не сказала ли тебе она тоже, что ты узнаешь ее по рубиновой звезде? А ты, увидев перед собой женщину, на чьей груди не было никакой звезды, но чью талию опоясывала змея, забыл мои слова и отдался страсти, она увлекла тебя, ослепила, и ты не сумел отличить истинную красоту от подделки. Красота многолика, она воплотилась и в Елене, и в Мериамун, каждый видит ее такой, какой хочет видеть. И все же звезда есть звезда, а змея есть змея, и тот, кто в опьянении страсти клянется не звездой, как ему велели, а змеей, получает в награду змею. Скиталец издал горестный стон. — Я виноват, о бессмертная! Неужели моей вине нет прощения? — Прощение есть, Одиссей, но сначала ты должен понести наказание. Выслушай свой приговор. Никогда в этой жизни ты не станешь супругом Златокудрой Елены, ибо ты поклялся Змеей и потому Змее и принадлежишь, Звезда для тебя недостижима. Но она продолжает светить. И будет светить тебе сквозь завесу смерти. И когда ты пробудишься в новой жизни, ты ясно увидишь ее сияние. И еще, Одиссей, я хочу успокоить тебя. Ты не умрешь в этой темнице под пытками, смерть придет к тебе водяною дорогой, как предсказал покойный ясновидец, и ты еще раз увидишь Елену Златокудрую, услышишь слова любви из ее уст и почувствуешь сладость ее поцелуя, хотя твоею она не станет. Узнай также, что к стране Кемет приближаются несметные полчища варваров, и плывет флот твоих соплеменников, ахейцев. Иди им навстречу и сражайся против них, не думая о том, что в их руках сверкают мечи, под ударами которых пали защитники Трои. Так предопределила Судьба: тебе суждено сражаться против своего собственного народа, против сыновей тех, с кем ты бок о бок бился под стенами Илиона. И в этой битве, Скиталец, ты найдешь свою смерть, а в смерти найдешь то, что жаждут все мужчины на свете — любовь и объятья бессмертной Елены. Считается, что здесь, на земле, она живет вечно, но люди видят лишь тень ее красоты — каждый то, что желает видеть. А на самом деле она обитает в чертогах смерти, в садах царицы подземного мира Персефоны, и только там можно обрести ее любовь, ведь там нет стражей, которые охраняют красоту и стоят непреодолимой преградой между мужчиной и его счастьем, там нет Змеи, которая прикидывается Звездой, и измена бессильна разлучить тех, кто составляет единое целое. Укрепи свое сердце мужеством, Одиссей, и поступай так, как велит тебе твоя мудрость. Прощай! Произнеся эти слова из светозарного облака, богиня исчезла. Но сердце Скитальца преисполнилось радостью — он знал, что Елена не потеряна для него навеки, и больше не боялся позорной смерти под пытками.* * *
Наступила полночь, фараон заснул. Но царица Мериамун не спала. Она поднялась с ложа, закуталась в черное покрывало, скрыв под ним лицо, взяла светильник и крадучись пошла по анфиладе пустых залов. Вот и потайная лестница. Она спустилась вниз, к железной двери, возле которой спал стражник. Она толкнула его ногой, тот проснулся и кинулся было к ней, но она показала ему перстень с печатью — старинный перстень великой царицы Тайа, на котором была изображена Хатор, поклоняющаяся солнцу. Стражник поклонился Мериамун и отворил перед ней дверь. Мериамун быстро спускалась подземными ходами все ниже и ниже, чуть не в самое сердце земли, и наконец оказалась перед дверью маленькой камеры, где тускло горел светильник. В камере разговаривали мужские голоса, и она стала вслушиваться в разговор. Говорили они очень громко и весело хохотали. Она подошла к двери камеры и увидела шестерых эфиопов, усевшихся на полу вокруг восковой фигуры человека. Злобно сверкая глазами, они резали ее ножами, жгли раскаленными докрасна железными прутьями, рвали щипцами, протыкали иглами, всюду были отвратительные орудия пыток, от одного вида которых бросало в дрожь. Это были заплечных дел мастера, они упражнялись в своем искусстве, предвкушая, как разгуляются завтра, когда им отдадут Скитальца на растерзание. Пылающая любовью Мериамун содрогнулась и прошептала: — Ну нет, гнусные душегубы, вы сами умрете завтра под этими самыми пытками, клянусь бессмертными богами! И, войдя в камеру, она показала им перстень в высоко поднятой руке, эфиопы тотчас же распростерлись на чреве перед ее величеством. Царица прошла мимо них и по пути растоптала своими сандалиями восковую фигуру. В противоположном конце камеры был еще один ход, и она двинулась по нему дальше. Вот наконец и каменная дверь, она оказалась полуотворенной. Перед этой дверью Мериамун помедлила — из камеры, что была за этой дверью, доносилось пение, она узнала голос Скитальца, и вот что он пел:Глава 23
СОН ФАРАОНА
Изнемогший от усталости, горя и тревог, фараон спал в своей опочивальне тяжелым сном. Мериамун вошла к нему, встала в изножье золоченого ложа и, воздев руки, стала с помощью своих чар навевать фараону видения — лживые сны, что приходят через врата из слоновой кости. И вот какие видения к нему слетелись: ему снилось, что он спит на собственном ложе, а гигантская статуя творца всего сущего Пта спускается со своего пьедестала перед храмом и подходит к нему, он просыпается во сне и, простершись на полу перед богом, спрашивает, что означает его приход. И Пта ему отвечает: «Менепта, возлюбленный сын мой, слушай, что я тебе скажу. Разноплеменные варвары надвигаются на древнюю страну Кемет, враги всё уничтожают на своем пути. Выполняй мои повеления, и я дарую тебе победу. Ты с такой же легкостью разобьешь разноплеменных варваров, с какой крестьянин срубает сгнившую пальму. Враги падут, и ты заберешь их добычу. Но ты ни в коем случае, мой сын, не должен выступать во главе своего войска. В подземной темнице твоего дворца лежит на ложе пыток могучий воин, прославленный своими победами над варварами, Скиталец, повидавший в своих странствиях многие страны и земли. Ты освободишь его от оков и поставишь во главе своего войска, а о проступке, который он совершил, забудешь. Проснись, Менепта, проснись! Вот лук, которым ты победишь врагов». И Мериамун положила на ложе фараона лук Скитальца — черный лук Эврита, а сама ускользнула в свою опочивальню, и на этом лживое виденье рассеялось.Рано утром к царице пришла одна из ее служанок и сказала, что ее желает видеть фараон. Царица вышла в небольшой зал и увидела там фараона с черным луком Эврита в руках. — Тебе знакомо это оружие? — спросил он. — Конечно, знакомо, — ответила она, — уверена, что и тебе тоже знакомо, ведь оно спасло нас от разъяренной толпы в ту ночь, когда умерли все первенцы Кемета. Это лук Скитальца, который лежит сейчас на ложе пыток и ждет казни за то, что покушался на мою честь. — Это верно, покушался, но ему суждено спасти нашу страну от варваров, — отвечал фараон. — Послушай, какой сон мне приснился. И он рассказал ей видение, которое она ему навеяла. — Какая вопиющая несправедливость: человек, который пытался нанести мне такое гнусное оскорбление, с почетом встанет во главе фараонова войска! — возмутилась Мериамун. — Но что ж, раз так пожелали боги, так тому и быть. Пошли к нему слуг и вели освободить его из темницы, пусть он наденет свои доспехи и предстанет перед тобой. И фараон ушел, а со Скитальца сняли цепи и оковы, он снова облачился в свои золотые доспехи и явился к фараону во всём блеске своей мужественной красоты. Но оружия ему не отдали. Фараон рассказал ему свой сон и объяснил, почему приказал освободить его из рук палачей. Скиталец слушал молча, с его уст не сорвалось ни слова. — А теперь, Скиталец, решай, — заключил фараон, — решай: вернуться ли тебе в темницу на ложе пыток и умереть в руках палачей или встать во главе моих войск и сражаться против разноплеменных варваров, которые разоряют страну Кемет. Клятвам твоим нет веры, поэтому я не беру с тебя клятвы, но сам клянусь: если ты мне изменишь, я найду тебя, где бы ты ни был, и верну в камеру, из которой ты только что вышел. И тут Скиталец заговорил: — О фараон, я ничего не отвечу на обвинение, которое бросают мне в лицо, хотя, предстань я перед судьями, которые стали бы его разбирать, я смог бы оправдаться. Ты не берешь с меня клятвы, и я ее тебе не даю, но если ты дашь мне десять тысяч воинов и сотню колесниц, я разобью твоих врагов, хоть и тяжело поднимать руку на своих единоплеменников, они никогда больше не приблизятся к Кемету, а если они разобьют меня, пусть твои люди лишат меня жизни и отправят в Аид. Говоря это, Скиталец обводил глазами зал, ища кого-то. Он надеялся увидеть жреца Реи и послать с ним весточку Елене. Но искал он его тщетно, Реи покинул дворец и скрывался от гнева Мериамун. Фараон приказал своим военачальникам посадить Скитальца в колесницу и везти в город Он, где собиралось его войско. Они должны денно и нощно охранять его с обнаженными мечами и при попытке бежать тотчас же зарубить. Но когда начнется сражение, отдать ему его меч и огромный черный лук и повиноваться беспрекословно. Если же он поднимет меч против воинов фараона, убить, и если солдаты фараона станут отступать под напором варваров, тоже убить. Скиталец выслушал этот приказ и усмехнулся волчьим оскалом, однако не промолвил ни слова. Военачальники фараона увели Скитальца из дворца и посадили в колесницу, колесницу сопровождала тысяча всадников. Скоро стоявшая на городской стене Мериамун увидела длинное облако пыли, стелющейся по пустыне за отрядом, увозившим Скитальца прочь от города, который ему никогда больше не суждено увидеть. Скиталец тоже оглядывался на Танис, и на душе у него было тяжело. Там, далеко, за желтым разливом вод сияет подобный кристаллу храм Хатор. А он идет на смерть и не может послать весть той, кто обитает в этом святилище и считает его изменником и предателем. Горькую судьбу избрали для него боги, тяжкую ношу возложили на его плечи. Погруженный в мрачные мысли, ехал Скиталец в своей колеснице к городу Он, где собиралось войско фараона, и стук копыт громом отдавался у него в ушах. Вот он поднял голову и увидел впереди на песчаном бархане на расстоянии полета стрелы верблюда, сидящий на нем всадник, казалось, поджидал здесь движущийся отряд. «Кто бы это мог быть?» — рассеянно подумал Скиталец, и в эту минуту всадник двинулся на своем верблюде к колеснице Скитальца и, остановившись перед ней, громко крикнул: — Стойте! — Кто ты такой? — закричал командующий колесницами. — Как смеешь требовать, чтобы воины фараона остановились? — У меня есть вести о варварах, — отвечал всадник, по-прежнему сидя в седле. Скиталец посмотрел на него. Он был очень мал ростом и стар, лицо покрыто глубокими морщинами, кожа темная, словно опаленная солнцем, на плечах нищенское рубище, хотя седло верблюда из мягкой дорогой кожи и украшено серебром. Скиталец вгляделся в старика внимательнее. Нет, он его не знал, и все же что-то в его облике показалось ему знакомым. Начальник отряда приказал конникам остановиться и крикнул старику: — Подъезжай ближе и рассказывай, что знаешь! — Расскажу только тому, кто поведет войско фараона в бой. Пусть он сойдет с колесницы и подойдет ко мне, мы с ним потолкуем. — Это невозможно, — возразил начальник, ведь фараон приказал не позволять Скитальцу разговаривать с кем бы то ни было. — Дело твое, — отозвался старик, — иди куда идешь, там тебя ждет погибель. Ты не первый гонишь прочь вестника богов. — А вот я сейчас прикажу своим лучникам застрелить тебя! — злобно закричал начальник. — Приказывай, недоумок! Тогда моя тайная весть утечет с моей кровью в песок и развеется с моим последним вдохом ветрами пустыни. Начальник растерялся. Судя по виду старика, он был явно послан богами. Египтянин посмотрел на Скитальца, но тот не проявлял никакого интереса к происходящему или, по крайней мере, делал вид, что не проявляет. Он отлично понимал, что это верный способ вынудить египтянина согласиться. Египтянин долго советовался с начальником конницы, потом сказал Скитальцу: — Сойди с колесницы, господин, и пройди двенадцать шагов вперед, там ты будешь разговаривать с этим человеком. Но если ты сделаешь на один шаг больше, мы убьем и тебя, и его стрелами. Те же самые слова он прокричал старику на верблюде. Старик сошел с верблюда и прошел вперед двенадцать шагов, Скиталец тоже сошел с колесницы и тоже прошел двенадцать шагов, но с таким видом, будто изо всех сил принуждает себя идти. Они оказались лицом к лицу, и подслушать их никто не мог, хотя воины стояли, нацелив на них стрелы натянутых луков. — Приветствую тебя, Одиссей, сын Лаэрта, царь Итаки, — сказал старик в рубище нищего. Скиталец вгляделся в него и узнал Реи, несмотря на преображение. — Приветствую тебя, Реи, жрец, командующий войском Амона, казначей и хранитель сокровищ Амона. — Да, я Реи, и я жрец, — ответил старик, — но всё остальное ко мне не относится, царица Мериамун лишила меня всех званий, почестей и богатств из-за тебя, Скиталец, и из-за бессмертной богини, любовь которой ты завоевал, а потом так жестоко предал. Но слушай: благодаря искусству магии, которым я владею, я узнал о сне фараона и о том, что тебя посылают сражаться с варварами. Я преобразился в тот облик, который ты сейчас видишь, сел на самого быстроходного из всех верблюдов Таниса и поспешил кружным путем сюда, чтобы встретиться с тобой. Хочу узнать только одно. Как случилось, что ты в ту ночь предал бессмертную богиню? Ты же знал, что она ждет тебя у ворот пилона. Там я ее и встретил и отвел во дворец, за что Мериамун лишила меня моих богатств и званий, а та, в ком воплотилась совершенная красота, вернулась в свое святилище, хоть я и не знаю, как ей это удалось, и горько скорбит о твоей измене. — Мне показалось, что я слышал ее голос, когда эти негодяи тащили меня в темницу, — сказал Скиталец. — Бессмертные боги, она думает, что я изменил ей! Скажи мне, Реи, ведь тебе известно, каким искусством колдовства владеет Мериамун. Ты знаешь, что она овладела мною, приняв облик Елены Златокудрой? И он очень коротко рассказал Реи, как он поддался колдовским чарам Мериамун и поклялся ей Змеей, а должен был клясться Елене Златокудрой ее рубиновой Звездой. Реи содрогнулся, услышав, что Скиталец клялся Змеей. — Теперь я знаю всё, — сказал он. — Не страшись, Скиталец, не на тебя падет вся тяжесть зла, и не на бессмертную богиню, которую ты любишь; Змея, тебя обольстившая, за тебя же и отомстит. — Реи, прошу тебя, выполни мою одну-единственную просьбу. Я знаю, что иду на смерть. Пожалуйста, найди ту, кого вы называете Хатор, и расскажи ей, в какую гнусную ловушку меня заманили. Тогда я умру счастливым. Скажи ей также, что я молю ее о прощении и что люблю только ее, ее одну. — Скажу, если удастся, — обещал Реи. — Но мне пора уходить, солдаты уже недовольно ропщут. Знай, что силы варваров двигаются вдоль восточного рукава Сихора. На расстоянии одного дня пути горы спускаются к берегу реки, их прорезает скалистое ущелье, и, без сомнения, они пойдут по этому ущелью. Устрой им там, у Прозописа, засаду и перебей всех. А теперь прощай. Я постараюсь найти Хатор и всё ей расскажу. Но знай: Судьба чревата грозными переменами, она вот-вот разрешится от бремени. Ночью мне снились зловещие сны, они предвещают смерть. Прощай. Реи вернулся к своему верблюду, сел в седло и, взяв курс в сторону, скрылся в облаке пыли. Скиталец тоже вернулся к солдатам и поднялся на колесницу под злобное ворчание начальника, который сердился из-за остановки. Но он не рассказал ему о том, что узнал от Реи, сказал только, что этот старик — вестник из царства мертвых, он дал ему наставления, как следует сражаться с варварами. Скиталец в колеснице и отряд конницы снова двинулись в путь и время спустя прибыли в город Он, где войско фараона собиралось в огромном, обнесенном стеной лагере перед храмом Ра. Они раскинули свой лагерь возле гигантских обелисков у внутренних ворот, которые возвел по велению божественного Рамзеса Муамуна зодчий Реи во славу Ра, да сияет его слава во веки веков.
Глава 24
ГОЛОС МЕРТВОГО ФАРАОНА
Долго смотрела Мериамун вслед колеснице, увозившей Скитальца из Таниса, но вот вьющееся за отрядом облако пыли улеглось вдали, и Мериамун спустилась с крыши дворца и уединилась в своих покоях. Там она провела весь день до темноты, лелея черные замыслы, и сердце ее разрывалось от любви к мужчине, которым она овладела и тут же его потеряла. Всё рухнуло, она жестоко просчиталась, совершила преступление, которому нет прощения. И все же слабая надежда теплилась. Ведь он поклялся, что станет ее супругом, когда фараон умрет и аргивянка Елена последует за ним в царство теней. Так неужели Мериамун остановится перед убийством? Ну нет, она пойдет по трупам! Мериамун положила руку на двуглавую змею, которая обвивала ее стан, и произнесла, глядя в сгущающийся мрак: — Менепта, Осирис призывает тебя! Осирис ждет тебя, Менепта! Елена, у врат ада собрались тени тех, кто умер, домогаясь твоей любви! Ваша участь решена. Фараон, ты умрешь нынешней ночью. Завтра ночью расстанешься с жизнью ты, Златокудрая Елена. Мужчины не могут причинить тебе вреда, но огонь не откажется заключить тебя в свои объятья, а женщины с ликованьем зажгут твой погребальный костер. Мериамун решительно встала со своего ложа, кликнула прислужниц и приказала облачить себя в самые роскошные царские одеяния, голову увенчала символом царской власти — золотым уреем, талию под сердцем опоясывала змея — символ мудрости. Незаметно спрятав что-то на груди, она вышла в небольшой зал, где царская семья собралась, чтобы идти ужинать. Фараон посмотрел на нее и замер в восхищении. Она была так прекрасна в сиянии своей царственной красоты, что он забыл о нанесенных ею обидах, и в сердце его снова вспыхнула страсть, как несколько лет назад, когда она выиграла у него игру в шатрандж и он обнял ее, а она ударила его кинжалом. Мериамун заметила этот влюбленный взгляд на его мрачном лице, и ее душу захлестнула вся накопившаяся в ней ненависть, но она нежно улыбнулась фараону и ласково заговорила с ним. Сели за стол. Фараон осушал кубок за кубком. А она нежно улыбалась, глядя на него своими темными загадочными глазами, шептала ему нежные слова, и голова у него закружилась, он забыл обо всем на свете, охваченный неистовством страсти. Ужин кончился, все разошлись, в зале остались только Менепта и Мериамун. Он приблизился к ней и взял ее за руку, заглядывая ей в глаза, и она от него не отстранилась. На золоченом столике лежала лютня и почему-то, как ни странно, доска для игры в шатрандж и фигуры, сделанные из золота, а также кости. Фараон взял с доски золотую фигуру царя и стал вертеть в руках. — Мериамун, вот уже пять лет, как мы с тобой живем каждый своей жизнью, — сказал он. — Твою любовь я потерял, как теряют победу в игре, сделав один-единственный неверный ход или неудачно бросив кости; сын наш умер; войско погибло, на нас надвигаются варвары и вот-вот затопят страну, как воды Сихора, когда он выходит из берегов. Что у нас осталось, Мериамун? Только любовь. Она кротко смотрела на него, казалось, беды и страдания смягчили ее сердце, но не произнесла ни слова. — Скажи, Мериамун, может ли умершая любовь воскреснуть, а оскорбленная любовь — простить? Она взяла со столика лютню и стала рассеянно перебирать пальцами струны. — Не знаю, — наконец произнесла она. — Да и можно ли это знать? Помнишь, что пел о воскресшей любви Пентаур? Помнишь Пентаура, великого сказителя, которого так любил наш отец Рамзес Миамун? Фараон поставил на доску золотую фигуру царя и стал рассеянно бросать кости. Выпало счастливое сочетание «Хатор» — две шестерки, и он подумал, что это доброе предзнаменование. — Ты помнишь эту песню, Мериамун? Я давно не слышал, как ты поешь. Она провела по струнам лютни пальцами, едва касаясь их, и запела, мысленно обращаясь к Скитальцу, хотя фараон думал, что она поет о нем:Солнце заиграло на башнях фараонова дворца, люди просыпались и шли заниматься своими дневными трудами. Лежа без сна на своем золоченом ложе, Мериамун прислушивалась к звукам пробуждающейся жизни и ждала, когда во дворце раздадутся крики. И вот наконец услышала — захлопали двери, забегали люди, раздался громкий, пронзительный крик. — Фараон умер! Проснитесь! Просыпайтесь! Бегите скорее! Смотрите, что случилось! Фараон умер! Сюда, скорее! И тогда Мериамун встала и с толпой своих прислужниц выбежала из опочивальни. — Кому приснился этот дурной сон? — сказала она. — Кому привиделся кошмар, кто кричит, объятый демонами? — О царица, это не сон, не кошмар! — ответили ей. — Пройди в зал и погляди сама. Фараон лежит мертвый, на нем нет ни единой раны, никто не знает, от чего и как он умер! Мериамун издала пронзительный вопль и начала рвать на себе волосы, из ее глаз полились потоки слез. Она вошла в зал — там, на полу, лежал на спине фараон в парадном одеянии, холодный, застывший. Царица остановилась над ним и словно окаменела от горя. Потом закричала: — Вот оно, проклятье! Оно все еще тяготеет над страной Кемет и его народом! Фараон лежит мертвый, он умер,а на его теле нет ни одной раны, но я знаю, почему он умер, его извела своим колдовством та, кого мужчины называют Хатор. О господин мой, мой царственный супруг! — Мериамун опустилась на колени и положила руку ему на сердце. — Клянусь твоим мертвым сердцем, я отомщу убийце. Поднимите его. Поднимите бренные останки того, кто был величайшим из правителей. Заверните его в погребальные пелены и положите на колени Осириса в храме Осириса. Потом идите на улицы и возгласите по всему городу, что царица приказывает всем женщинам Таниса, у кого самозванка Хатор убила своим колдовством сына, мужа, брата, отца, жениха, возлюбленного, кто погиб от казней, насланных ею на страну Кемет или сражаясь с апура, которых она вынудила бежать из Кемета, — царица приказываем всем им собраться на закате перед храмом Осириса и предстать пред ликом бога и великого фараона, воссиявшего в Осирисе. Слуги обвили Менепта-Осириса погребальными пеленами, отнесли в храм и положили на колени статуи Осириса, где ему предстояло покоиться весь нынешний день и грядущую за ним ночь. А глашатаи вышли на улицы Таниса и стали призывать женщин прийти на закате к храму Осириса. Мериамун же разослала две тысячи рабов группами по десять и двадцать человек собрать все дрова, какие найдутся в городе, всё масло и всю смолу, связать несколько сотен снопов тростника, каким кроют крыши, и сложить всё во дворе рядом с храмом Хатор. Работа кипела весь день, а женщины ходили по улицам и причитали, оплакивая смерть фараона.
Спеша вернуться в Танис, жрец Реи загнал своего верблюда, пришлось ему идти дальше пешком. Достиг он ворот Таниса только к вечеру, едва держась на ногах от усталости. Услышав причитания женщин, он спросил прохожего, что за новое бедствие обрушилось на Кемет, и услышал в ответ, что умер фараон. Реи сразу понял, от чьей руки фараон принял смерть, и сердце его исполнилось печалью, потому что та, кому он служил и кого любил, Мериамун, дитя Луны, — убийца. Он сразу решил, что пойдет к царице во дворец и разоблачит перед всеми ее преступление, а потом примет смерть, но услышав, что Мериамун созывает всех женщин Таниса к храму Осириса и что она сама туда придет, передумал — нет, он поступит по-другому. Пришел в дом, где скрывался от гнева Мериамун, подкрепился едой и вином, сбросил с себя нищенские лохмотья и надел чистую одежду, а поверх накинул покрывало, какие носят старые женщины, — он услышал от глашатаев, что в храм не пропустят ни одного мужчину. День уже клонился к закату, небо на западе окрасилось в красный цвет, и Реи вышел на улицу и смешался с толпой женщин, спешивших к воротам храма. — Кто же убил фараона? — раздавались голоса в толпе. — Почему царица созывает нас и о чем хочет поведать? — Фараона убила эта злобная колдунья, самозванка Хатор, — говорил другой голос, — царица созывает нас, чтобы мы все решили, как от нее избавиться. — Не говорите об этой проклятой колдунье, — негодовал третий. — Она своими чарами погубила моего мужа и моего брата, а сын умер, когда она наслала смерть на всех первенцев Кемета. Если бы ее на моих глазах разорвали на части, я была бы счастлива перейти в царство Осириса! — Некоторые говорят, что не Хатор наслала мор и казни на Кемет, а боги апура, а есть такие, кто считает, будто фараона убила сама царица, собственными руками, потому что полюбила великого воина Скитальца, который приплыл к нам недавно. — Да как у тебя язык поворачивается говорить такое! Разве может царица любить негодяя, который хотел ее обесчестить?! — Еще как может! Может быть, он вовсе и не пытался ее обесчестить, может быть, она сама его соблазнила, она ведь женщина. Да такое на каждом шагу случается. Я давно живу на свете, много чего повидала на своем веку. — Да, конечно, ты старуха, и у тебя нет ни сына, ни мужа, ни отца, ни любовника, ни брата. Ты никого не потеряла из любимых и дорогих людей по злой воле Хатор. Не смей клеветать на нашу царицу, не то мы вырвем твой лживый гнусный язык! — Перестаньте ссориться! Мы уже у ворот храма. Клянусь Исидой, в жизни не видела такую огромную толпу женщин без единого мужчины, до чего же унылое зрелище… Да проходите же, двигайтесь вперед, а то нам места не хватит… Не бойся, солдат, мы тут все женщины, не сомневайся, нам не надо обнажать перед тобой грудь, ты лучше посмотри на наши глаза, они ослепли от слез по умершим… Проходите, живее! Они прошли мимо стражей и вошли в ворота храма, Реи вместе с ними, никто не обратил на него внимания. Храм был уже плотно забит собравшимися женщинами. День еще не совсем погас, но всюду были зажжены факелы, чтобы осветить сумрачный зал храма, и в их свете Реи увидел, что завеса перед святилищем задернута. В зале уже было не повернуться, так он был набит людьми. Двери закрыли и заперли, и из-за завесы раздался громкий голос: — Внемлите мне! Огромная толпа смолкла. Пляшущее пламя факелов освещало неверным светом поднятые вверх лица, белые, точно морская пена. Завеса святилища Осириса медленно раздвинулась, и все увидели горящий на алтаре огонь. Он осветил стоявших впереди женщин и каменную статую Осириса. На коленях Осириса полулежал мертвый фараон Менепта, его голова покоилась на груди бога. Тело фараона было обвито погребальными пеленами, как и тело каменного Осириса, в руки бога были вложены скипетр, посох и бич. Холодна и неподвижна была статуя бога — холодно и неподвижно тело фараона, лежащее у него на коленях; холодно и страшно было лицо Осириса — холодно и страшно было лицо Менепта, ставшего Осирисом. Перед статуей, чуть сбоку, стоял трон из черного мрамора, на нем сидела царица Мериамун. Она была ослепительно прекрасна в парадном одеянии цариц Кемета, в двойной золотой короне Верхнего и Нижнего Египта с двумя уреями, в руке у нее был хрустальный ключ жизни, из-под пурпурной мантии сверкали глаза змеи, опоясывающей ее талию. Она застыла, словно изваяние, и не произносила ни слова, а женщины в храме дивились ее царственной красоте и содрогались от ужаса, глядя на мертвого фараона. Наконец она заговорила, тихо, почти шепотом, но каждое ее слово было ясно слышно даже в дальних углах храма. — Женщины Таниса, я, царица, обращаюсь к вам. Пусть каждая из вас посмотрит в лицо всем, кто стоит с вами рядом, и если кто-то обнаружит среди собравшихся здесь мужчину, выволоките его из храма и разорвите на части. Нельзя допустить, чтобы о нашем замысле узнал хоть один мужчина, ибо он, увлекаемый своим безумием, непременно нас выдаст. Женщины стали внимательно вглядываться друг в дружку, а та, что стояла рядом с Реи, стала так упорно его разглядывать, что он уже был готов проститься с жизнью, однако отодвинулся в тень и впился в нее таким подозрительным взглядом, будто сомневался, что она и в самом деле женщина, однако не сказал ни слова. Наконец все друг дружку оглядели, и когда выяснилось, что среди них нет ни одного мужчины, царица Мериамун снова обратилась к толпе. — Слушайте меня, женщины Таниса, слушайте вашу сестру и царицу. Бедствие за бедствием обрушиваются на великий Кемет. Казнь за казнью опустошают древнюю страну. Наши первенцы умерли, наши рабы ограбили нас и бежали в пустыню, наше войско поглотили волны Чермного моря, варвары наступают на нас по берегам Сихора и уничтожают всё, как саранча. Разве это не правда, женщины Таниса? — Правда, царица, правда! — единодушно закричала толпа. — В стране Кемет воцарилось зло. Здесь поселилась богиня-самозванка и губит страну своим колдовством. Уже сколько времени мужчины ходят день за днем любоваться ее красотой, которая сводит их с ума, а потом их убивают ее прислужники-призраки. Она отнимает мужа у любящей его жены, возлюбленного у невесты, рабы убегают от своих хозяев, чтобы умереть у ее порога, жрецы бросают свои алтари и приносят себя в жертву ей — да, даже жрецы Исиды отрекаются от своей богини! Все сходят с ума от ее ведьминской красоты, всем она является в разных обличьях и всем она дарит одно — смерть! Разве это не правда, о женщины Таниса? — Увы, царица, правда! — ответил дружный хор голосов. — Беды обрушились и на вас, и на Кемет, мои дорогие сестры, но самая горькая участь выпала мне. Мой народ истребляют; моя страна — моя любимая страна! — опустошена и разорена казнями; мой сын, мое единственное дитя, умер страшной смертью; меня, царицу Кемета, пытались обесчестить! Ведь вы все женщины, вы поймете меня! Мои рабы убежали, мое войско поглотила морская пучина, но и это еще не всё — у меня отняли моего возлюбленного супруга, моего господина и повелителя, прославленного фараона, сына великого Рамсеса Миамуна! Так смотрите же, смотрите! Смотрите на того, кто был вашим фараоном и моим возлюбленным супругом. Вот он лежит на коленях Осириса, и сколько бы я ни лила слез, сколько бы ни молилась, его остановившееся сердце не откликнется мне ни единым биением. Он тоже пал жертвой проклятья. Его тоже постигла безмолвная смерть и погрузила в вечное безмолвие. Смотрите на него, вы, женщины, жены, и плачьте вместе со мной, мы все стали вдовами. Женщины посмотрели на мертвого фараона, и из груди у всех вырвался вопль горя. Мериамун закрыла лицо рукой. Потом она снова заговорила. — О сестры, я долго молилась, я даже осмелилась воззвать к великим богам, которые вещают устами умерших, и они мне открыли, кто навлекает на всех нас неисчислимые беды и страдания. Я умолила их, чтобы они поведали об этом вам, перенесшим столько же горя, сколько перенесла и я, но не моими смертными устами, а устами умершего, который вещает гласом богов. Женщин объял трепет, а Мериамун повернулась к телу фараона, лежавшего на коленях каменного Осириса, и обратилась к нему: — О, мертвый фараон! О великий, воссиявший в Осирисе, властелин подземного царства, внемли мне! Внемли мне, Осирис, правитель Запада, царь мертвых, вершащий суд в подземном мире! Внемли мне, Осирис, и возгласи истину устами того, кто был величайшим из правителей на земле. Возгласи истину его холодными устами и языком смертных, чтобы люди тебя услышали и поняли. Заклинаю тебя духом, что живет во мне, хоть я пока обитаю на земле и хожу под солнцем! Говори! Открой нам, кто насылает беды и несчастья на Кемет? Скажи, о владыка царства смерти, кто тот бессмертный? Огонь на алтаре погас, в храме воцарилась зловещая тишина, святилище окуталось мраком, в этом мраке призрачно светились золотая корона Мериамун, холодная мраморная статуя Осириса и белое лицо мертвого Менепта. Вдруг пламя на алтаре полыхнуло, точно летняя молния, и ярко осветило лицо умершего — о ужас, его мертвые губы шевелились, он говорил! Голос его был так ужасен, что всех охватила дрожь. — Гнев богов навлекает на Кемет та, что была проклятьем ахейцев, что погубила Трою, та, что обитает в храме Хатор и несет гибель мужчинам, но ни один мужчина не может причинить зла ей. Теперь вы знаете! Страшные слова утонули в безмолвии храма. Леденящий ужас охватил женщин, кто-то из них пал ниц на пол, кто-то закрыл лицо руками. — Встаньте, о сестры! — воскликнула Мериамун. — Вы услышали это не из моих уст, а из уст умершего фараона. Поднимитесь с пола, идемте к храму Хатор. Вы узнали, кто источник наших бед и страданий, забьем же этот источник навеки камнями. Мужчины, которым она несет смерть, не могут причинить ей вреда, у мужчин мы и не просим помощи, ибо они — ее рабы; потеряв разум от ее красоты, они бросают нас. Но мы сделаем то, что должны были бы сделать они. Пусть материнское молоко иссякнет в нашей груди, мы обагрим наши нежные руки кровью. Ожесточенные неиссякаемыми бедами, мы забудем о нашей кротости и доброте и выгоним эту несущую погибель красавицу из дома, где она гнездится! Сожжем храм Хатор великим огнем, ее жрецы сгорят у алтаря, а красота богини-самозванки растает, как воск, в горниле нашей ненависти. Скажите, о сестры, вы пойдете со мной, чтобы отомстить злобной, бесстыдной убийце за наш позор, за наше горе, за наших погибших мужей, сыновей и братьев? Она умолкла, и тут стены огромного храма, казалось, задрожали от пронзительного крика ярости, который вырвался из груди собравшихся с нем женщин: — Да, Мериамун, мы пойдем с тобой! Мы отомстим! Веди нас к храму Хатор! Возьмем с собой факелы! Сожжем ее! Веди нас, Мериамун!
Глава 25
ПОЖАР В ХРАМЕ ХАТОР
Жрец Реи всё видел и всё слышал. Он выбрался из обезумевшей толпы женщин и поспешил, насколько ему позволяли его старые, уставшие ноги, прочь от храма. Его сердце трепетало от страха, и в то же время его жег стыд, ведь он-то знал, что фараон умер не от руки Хатор, а от руки царицы Мериамун, которую он любил. Знал, что мертвый Менепта вещал не голосом грозных богов, а при помощи черной магии Мериамун — древних сакральных знаний, в тайны которых со времен царицы Тайи ни одна женщина на свете не проникла так глубоко, как она. Знал, что Мериамун хочет убить Елену по той же причине, по какой убила фараона: она хочет завоевать любовь Скитальца, а пока Елена жива, любви Скитальца ей не добиться. Реи был честный и праведный человек, чтил богов, любил добро и ненавидел зло, и сердце его разрывалось от того, что женщина, которую он с детства любил как родную дочь, так жестока и порочна. И он дал сам себе клятву, что, если только успеет, то предупредит Елену о пожаре и попросит бежать из храма, если только она согласится, и расскажет ей о коварном замысле ее врага — Мериамун. Спотыкаясь на каждом шагу, он доплелся до ворот храма Хатор и постучался. — Чего тебе, старая? — спросил жрец, который охранял ворота. — Отведи меня, пожалуйста, к Хатор, — попросил он. — Ни одна женщина еще не приходила к Хатор, — ответил жрец. — Женщины не хотят ее видеть. Реи сделал тайный условный знак, и жрец его пропустил, дивясь, что женщине известна тайна посвященных. Реи подошел к внутренним воротам. — Чего тебе? — спросил жрец, охраняющий внутренние ворота. — Я хочу видеть Хатор. — Ни одна женщина еще не выражала желания видеть Хатор, — сказал жрец. Реи и ему сделал условный тайный знак, но жрец продолжал сомневаться. — Пропусти меня, глупый ты страж, — сказал Реи. — Я — вестник богов. — Если ты — смертный вестник, женщина, прощайся с жизнью, — ответил жрец. — Если нужно, то и прощусь, — ответил Реи, и удивленный жрец его пропустил. Реи подошел к дверям мраморного святилища, внутри которого ярко горели светильники. Реи не стал останавливаться, только прошептал молитву, прося богов защитить его от невидимых мечей, отодвинул бронзовый засов и осторожно вошел. Но никто на него не набросился, никто не поразил его невидимыми мечами. Перед ним колыхался прозрачный занавес, но никто за ним не пел. В святилище царила тишина. Раздвинув занавес, Реи вошел внутрь и оглядел святая святых храма. В ярком свете множества светильников он увидел Елену Златокудрую. Она сидела за своим станком, но не ткала. Ткань из нитей судьбы, разорванная рукой Скитальца, лежала возле нее на полу, вся в блестках золота. Бессмертная богиня Елена молча сидела в своем одиноком святилище, и на ее груди горела рубиновая звезда, плачущая каплями крови. Подперев голову рукой, она глядела в пустоту своими синими, как море, глазами. Она не заметила появления Реи, а он с трепетом приблизился к ней и упал на колени. Тут она наконец увидела его и с удивлением спросила своим нежным свирельным голосом: — Кто ты, осмелившийся нарушить мое уединение в час горькой печали? Неужели ты в самом деле женщина и пришла поглядеть на ту, кто волею богов стала смертельным врагом всех женщин на свете? Реи поднялся с колен и ответил: — Нет, бессмертная, я не женщина. Я — старый жрец Реи, тот самый, что встретил тебя две ночи назад возле пилона и отвел во дворец фараона. Я осмелился прийти к тебе в святилище, чтобы рассказать, какая опасность грозит тебе от царицы Мериамун, и передать слова, сказанные для тебя тем, кого называют Скитальцем. Елена с недоумением посмотрела на него и сказала: — Не ты ли, Реи, только что назвал меня бессмертной? Разве может грозить какая бы то ни было опасность той, что бессмертна, той, кому не может причинить вреда ни один мужчина? Против которой бессильна сама смерть? Не говори, что мне грозит опасность, я, увы, не умру, пока не настанет конец времен, однако расскажи об изменившем мне Скитальце, кого мне суждено любить всей силой нежности, таящейся в женской душе, и всей душой, облеченной в нежность и страсть. Боги, обрекшие меня на бессмертие, в гневе своем приговорили меня к пытке неумирающей любовью. Ах, когда я увидела его здесь, где стоишь сейчас ты, моя душа узнала свою половинку, и я поняла, что муки, которые я причиняла другим, вернулись ко мне сторицей. — Но Скиталец не предавал тебя, госпожа, — сказал Реи. — Выслушай меня, я все тебе расскажу. — Рассказывай, — сказала она. — Прошу тебя, рассказывай скорей. И Реи рассказал Елене всё, что просил его рассказать Скиталец: как Мериамун соблазнила Эперита, приняв образ Елены, как он попался в ее ловушку и поклялся ей Змеей, хотя должен был клясться Звездой; как он узнал правду и проклял колдунью, которая погубила его, как его схватили стражи и потащили в темницу, где приковали к ложу пыток; как коварная Мериамун спасла его и отправила воевать с варварами, поставив во главе армии Кемета. Всё ей рассказал, не утаил ни единой мелочи. Елена слушала его, затаив дыхание. — Воистину добрую весть ты мне принес, — сказала она, когда Реи завершил свой рассказ. — И я его прощаю, хоть он и поклялся Змеей, а не Звездой, и потому никогда в этой жизни Елена не назовет его своим супругом. И все же мы с тобой последуем за ним… Но что это, Реи? Ты слышишь? Жуткие, пронзительные крики, словно духи зла вырвались из Аида! — Это царица Мериамун, — ответил Реи, — царица Мериамун собрала всех женщин Таниса, и они идут сюда, чтобы сжечь тебя в твоем храме. Она убила фараона, теперь хочет убить и тебя, и тогда Скиталец достанется ей. Беги, госпожа, беги! — Нет, Реи, я никуда не побегу, — сказала Елена. — Пусть приходят. Но ты, Реи, иди, выйди из ворот храма, смешайся с толпой и жди меня, а когда я появлюсь, приблизься ко мне без страха, мы с тобой последуем за Скитальцем, я укажу тебе путь. Ступай! Спеши и скажи тем, кто охраняет меня, чтобы тоже ушли с тобой. И Реи поспешил прочь. У дверей святилища собралась толпа жрецов. — Бегите! — крикнул им Реи. — Женщины Таниса хотят убить вас и сжечь храм! Заклинаю вас, бегите! — Старуха сошла с ума, — сказал один из жрецов. — Мы охраняем Хатор и никуда не побежим, пусть хоть все женщины мира сбегутся сюда. — Это вы сошли с ума, а не я, — ответил Реи и вышел из ворот, ворота за ним захлопнулись. Реи огляделся и решил притаиться в тени у стены храма и наблюдать за тем, что происходит. Ночь была темная, но со всех сторон к святилищу приближались тысячи факелов, это было похоже на ночь праздника огней, когда по водам Сихора плывут целые флотилии фонариков. Теперь Реи мог рассмотреть и тех, кто несет факелы, это были женщины Таниса, и у каждой в руке был горящий факел. Их были сотни, тысячи, впереди несметной толпы ехала на золотой колеснице Мериамун, женщины вели с собой ослов, волов, верблюдов, нагруженных дровами, горючим маслом, снопами тростника. Толпа подошла к воротам, женщины вышибли их пальмовыми бревнами и ворвались во двор храма во главе с царицей Мериамун. Поручив свою колесницу тем, кто был рядом, она подошла к внутренним воротам и громко приказала жрецам распахнуть их. — Кто ты такая, что посмела подойти с факелом к священному храму Хатор? — спросил страж-охранитель. — Я — Мериамун, царица Кемета, — ответила она, — пришла с женщинами Таниса убить колдунью, которую ты охраняешь. Отомкни ворота и распахни их настежь, иначе умрешь вместе со своей колдуньей! — Может быть, ты и царица Кемета, но царица, которую мы охраняем, могущественней тебя. Так что прочь отсюда! Как ты посмела, Мериамун, пойти войной против бессмертных богов? Уходи, иначе на тебя обрушится проклятье! — Вперед, женщины, вперед! — закричала Мериамун. — Вышибем ворота и растерзаем на части этих наглецов! Женщины с дикими воплями стали вышибать ворота бревнами, ворота упали, и обезумевшая толпа хлынула внутрь, накинулась на жрецов Хатор, точно свора собак на волка, и растерзала их. Теперь никто не преграждал им вход в святилище. — Не ломайте двери! — крикнула Мериамун. — Несите дрова и огонь, сожжем святилище вместе с той, что в нем обитает! Отойдите от двери, не надо смотреть на лицо колдуньи, сожжем ее в ее собственном логове. Женщины принялись стаскивать дрова и снопы тростника к святилищу и складывать их вокруг стен, навалили чуть не в два человеческих роста. Принесли лестницы и стали лить горючее масло на крышу, залили всю поверхность; потом вылили на дрова смолу, и тогда Мериамун приказала кидать горящие факелы. Женщины кидали их и с визгом отскакивали. Сначала факелы мирно тлели, но вдруг в небо взметнулись гигантские языки пламени. Святилище со всех сторон охватил огонь, а женщины всё продолжали лить масло и смолу, чтобы горело как можно жарче, и теперь уже никто не мог подойти к святилищу. Сначала оно горело, как костер, но вот огонь добрался до крыши, разлитое масло вспыхнуло, и святилище превратилось в гигантский ревущий факел, огонь, точно солнце, осветил белокаменный город и водный простор Сихора. От жара мраморные стены святилища стали еще белее, начали трескаться, ломаться, вот-вот упадут. — Теперь ведьме конец! — закричала Мериамун, и женщины разразились дикими, ликующими воплями. Но в этот миг из расплавившихся дверей вырвался огромный, шагов тридцать-сорок в длину, язык пламени — точно огненное копье кто-то метнул. На его пути стояла толпа поджигательниц, они вспыхнули, почернели и рассыпались на земле кучками пепла. Реи посмотрел туда, откуда вырвалось пламя. Там, в дверном проеме, стояла окутанная огненным облаком Хатор Златокудрая, расплавившаяся медь текла под ее сандалиями. Огонь бушевал вокруг нее, не оставляя ни малейших следов ни на ее коже, ни на белых одеждах, ни на развевающихся волосах, Реи даже видел сквозь колышущееся марево свет рубиновой звезды на ее груди. Языки огня плясали вокруг ее лица и стана, вплетались в волосы, словно играя, изумленные поджигательницы в ужасе пятились прочь — все, кроме царицы Мериамун. Вдруг Златокудрая Хатор запела своим чарующим и нежным голосом, который заглушил рев пламени, и женщины, забывшие от страха о своей ненависти, услышали ее песню. Она пела о красоте, которую мужчины ищут в женщинах и не находят, о вечной войне между мужчинами и женщинами во имя красоты, самой грозной войне в мире.Глава 26
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА ОДИССЕЯ, ЛАЭРТОВА СЫНА
Армия фараона выступила из Она навстречу разноплеменным варварам. Перед тем как выступить, к Скитальцу пришли военачальники, как им повелел фараон, и, положив руки на его руку, поклялись повиноваться ему во всем и во время похода, и во время сражения. Отдали ему прославленный черный лук Эврита, его острый бронзовый меч, дар Эвриала, и несколько колчанов со стрелами, и сердце Скитальца возрадовалось при виде доброго оружия. Он взял в руки лук и, настроив, стал натягивать тетиву, и тетива снова запела — запела в последний раз, резко и пронзительно, о приближающейся смерти. Военачальники услышали песнь лука, но то, о чем он пел, было понятно лишь Скитальцу, им казалось, что это всего лишь крик, напоминающий далекий отчаянный вопль человека, тонущего далеко в открытом море. Они подивились этому чуду и решили, что человек этот не принадлежит к смертным, конечно же, это бог, явившийся к ним из потустороннего мира. А Скиталец сел в бронзовую колесницу, которую для него приготовили, и дал команду выступать. Всю ночь войско двигалось быстрым шагом, на рассвете разбили лагерь под прикрытием невысокой длинной гряды. Но когда взошло солнце, Скиталец взял с собой несколько военачальников, поднялся с ними на вершину и стал осматривать местность. Внизу лежало узкое горное ущелье не меньше трех тысяч шагов длиной, и по нему проходила дорога. Спускающийся к дороге склон порос чахлым кустарником, там и сям на его поверхности выступали растрескавшиеся под солнцем и отполированные песчаными бурями скалы. Слева был Сихор, но пройти между горой и рекой было невозможно. Скиталец спустился вниз и, пока воины завтракали, быстро доскакал на своей колеснице до конца ущелья и снова осмотрел местность. Здесь Сихор поворачивал налево, оставляя на берегу просторную равнину, и на этой равнине Скиталец увидел стан варваров — такого огромного войска ему еще не доводилось видеть. Каждое племя разбило свой отдельный лагерь, и в каждом лагере было по двадцать тысяч солдат, а дальше, за сверкающим копьями станом варваров он увидел крутобокие суда ахейцев с изогнутыми носами. Их вытащили на берег великого Сихора, как некогда, во время осады Трои греки вытащили свои суда на берег Скамандер. Он внимательно оглядел равнину, ущелье, по которому шла дорога, гору и реку, прикинул численность вражеской армии, с которой предстоит сражаться. И в его сердце вспыхнул азарт боя, проснулся опытный, искусный воин. Да, в искусстве боя ему поистине не было равных, и сейчас он хотел, чтобы эта битва — его последняя битва — стала славнейшей в его жизни. Повернув коней, Скиталец вернулся к войску фараона и стал выстраивать его в боевом порядке. В сравнении с армией варваров солдат было очень мало — двенадцать тысяч копьеносцев, девять тысяч лучников, две тысячи всадников, триста колесниц. Скиталец объехал ряды, взывая к мужеству солдат и убеждая их, что они разобьют варваров и навсегда изгонят из пределов Кемета. Пока он воодушевлял воинов, в небе показался сокол, камнем упал на цаплю и убил ее прямо в воздухе. Воины закричали, что сокол — это священная птица Ра, Скиталец тоже обрадовался счастливому предзнаменованию и воскликнул: «Смотрите, воины, смотрите! Птица Ра убила у нас на глазах болотного воришку. Точно так же мы уничтожим сегодня морских разбойников!» Потом Скиталец созвал начальников на совет, и было решено послать несколько надежных людей на разведку в лагерь варваров под видом перебежчиков. Им было велено распространять слухи, что армия фараона малочисленна и слаба и что солдаты будут поджидать варваров под прикрытием горы на той стороне ущелья. Начальникам лучников Скиталец приказал замаскировать своих людей на склонах среди скал и кустарника по обе стороны ущелья и ждать, когда ему удастся заманить вражескую армию в ущелье. Вместе с лучниками на склоне расположились и копьеносцы, а вот колесницы он расположил за выступами горы по обе стороны прохода. Все разошлись по своим местам, засада была готова, осталась только конница, и тут вернулись посланные на разведку лазутчики и доложили, что варвары уже выступили из лагеря, однако ахейцы остались на берегу охранять лагерь и корабли. Тогда Скиталец приказал коннице проскакать по ущелью на равнину и остановиться на виду у неприятеля. Варвары бросятся к ним, они сначала немного отступят, а потом помчатся в ущелье, словно бы в великом страхе. Сам он будет мчаться впереди в своей колеснице, всадники за ним, куда бы он их ни повел. Итак, конница фараона выехала из ущелья на равнину и там построилась в боевом порядке. Враг приближался, сверкая лесом копий и пик на полуденном солнце. Конницы у варваров было немного, зато колесниц, меченосцев, копьеносцев, пращников не счесть. Каждый народ, каждое племя шли отдельными отрядами, в середине каждого отряда ехал в роскошной золотой колеснице и под шелковым балдахином царь или вождь со своими наложницами и евнухами, которые овевали его опахалами. Скиталец держался в тылу своей конницы, словно бы прятался. Но вот он послал гонца к командующему конницей с приказом завязать бой с первым отрядом варваров, но не сражаться в полную силу, а когда солдаты увидят, что он, Скиталец, повернул свою колесницу и помчался назад по ущелью, броситься вслед за ним, но не слишком быстро, чтобы варвары могли преследовать их по пятам. Командующие наемной конницей всё в точности выполнили. Конница бросилась в атаку, потом отступила, снова начала наступать, но не слишком уверенно, словно потеряла боевой кураж. Враги в ярости накинулись на них, и тут Скиталец повернул колесницу назад и помчался по ущелью, конница за ним, но не на полном скаку. Увидев, что конница фараона бежала, варвары разразились таким громовым хохотом, что впору земле под ногами треснуть, и бросились их догонять. Скиталец оглянулся и тоже засмеялся. Он и его конница уже были у другого конца ущелья, а мчавшиеся за ними варвары заполнили ущелье, точно разлившаяся в половодье река. Но Скиталец ждал, пока всё ущелье заполнится тысячами варваров, пока хотя бы половина их втиснется в узкое пространство между крутым склоном и устьем ущелья. И тогда, быстро поднявшись на вершину, он встал во весь рост в своей колеснице и подал сигнал. Высоко подняв свой золотой щит, он трижды взмахнул им, и всадники издали громкий клич. После первого взмаха щита из-за кустов и из расщелин скал на склоне горы поднялись шлемы лучников. После второго загудели натягиваемые тетивы луков, после третьего воздух почернел от летящих стрел. Как дремлющие на одиноком утесе чайки разом просыпаются от громких голосов матросов и тысячами взлетают с высоких скал, так стрелы невидимых лучников фараона полетели в варваров, стуча по их доспехам, точно град. Варвары поначалу пытались сохранить порядок и двигались вперед по телам убитых и раненых. Но обезумевшие от боли раненые кони начали метаться, давя и топча людей, волоча за собой опрокинувшиеся колесницы. Кто-то рвался вперед, кто-то пытался бежать назад, но тучи безжалостных стрел летели на варваров со всех сторон, они тысячами падали под налетевшим на них ураганом смерти. Могучее разноплеменное войско, разбитое и разрозненное, стало отступать обратно на равнину. И тогда Скиталец скомандовал коннице и колесницам покинуть укрытие и мчаться вслед за ними, чтобы добить тех варваров, кому удалось вырваться из ловушки. И они ударили по варварам с тыла с «Песней Пентаура»[517] на устах. Среди этих варваров был вождь племени либу — черный великан устрашающего вида. Скиталец натянул тетиву лука, стрела пронзила грудь вождя, и он, мертвый, упал со своей колесницы. И тут же весь его отряд, сумевший выбраться из ловушки, бросился бежать, но колесница Скитальца врезалась в их ряды, за ней конница фараона и его колесницы. Остатки вражеского войска бежали, объятые страхом; копьеносцы метали в варваров копья, как охотники мечут их в убегающего быка, кони топтали их копытами. Во всем ущелье, от входа и до выхода, кипела кровавая бойня, в разгаре яростной схватки мелькали и исчезали шлемы, стяги, штандарты, наконечники стрел, мечи… Наконец каменный проход был освобожден от врагов, в нем остались только мертвые. Равнина чернела бегущими людьми, солдаты всех племен смешались, отступая, как смешиваются песок и глина в руках гончара. Вот всё, что осталось от несметной армии разноплеменных варваров, от ее могущества и славы. Скиталец снова собрал и выстроил в боевом порядке пехоту и воинов на колесницах, а конницу послал добить бегущих варваров и ждать возле лагеря, когда подойдет пехота. От огромного вражеского войска осталось тысяч двадцать, да еще на берегу на страже своих судов плотными рядами, щит к щиту, стояли ахейцы. Скиталец медленно провел свое войско по песчаной равнине и остановился на расстоянии полета двух стрел от лагеря варваров, который был выстроен дугой, в форме лука, а тетивой этого лука был Сихор; лагерь окружал глубокий ров и земляной вал. Но это еще не всё: внутри лагеря, ближе к берегу, варвары вырыли еще один ров и насыпали еще один вал, и за ними виднелись изогнутые носы кораблей аквайюша, его собственного народа, который он так горячо любил. Те же гербы и эмблемы, он помнил их со времен Троянской войны. Два льва на кораблях, которыми предводил Агамемнон, живущий в Микене, кентавр на кораблях Полипета, сына Пирифоя, лебедь на кораблях царя Лакедемона, бык на кораблях царя Крита Идоменея, роза на кораблях, предводимых царями Родоса, змея на кораблях, предводимых Менесфеем, сыном Петея, царем Афин… много других благородных символов, принадлежащих его старым добрым друзьям и родственникам. Но сегодня они были символами врагов, а Скиталец сражался за чужого царя, сражался по собственной воле, под знаменем армии Ра с раскинувшим крылья соколом. Скиталец послал к вражескому лагерю глашатаев, предлагая тем, кто в нем укрылся, сдаться войску фараона, но варвары считали, что воды Сихора — надежная защита, и потому решительно отказались. Они были в ярости от того, что потеряли такую огромную часть войска в кровавом ущелье, и к тому же знали, что лучше умереть, чем сдаться в плен и стать рабами. Видели они также, что их силы еще свежи, а солдаты фараона изнемогают от усталости после изнурительного перехода по пустыне и жестокого боя. Военачальники фараона подошли к Скитальцу и стали просить его прекратить на сегодняшний день военные действия, люди нуждаются в отдыхе, да и лошадей нужно накормить и напоить. Но он им ответил: — Я поклялся фараону, что разобью и уничтожу войска разноплеменных варваров и что их следа не останется на берегах Сихора. Здесь мы разбить лагерь не можем, нечем накормить людей и лошадям негде пастись, а если мы вернемся в прежний лагерь, варвары соберутся с силами и ударят, выступит и флот ахейцев, больше нам их в засаду не заманить, они усвоили урок. Возвращайтесь к своим людям. Будем брать их лагерь штурмом. Военачальники поклонились и ушли, они видели Скитальца в сражении, восхищались его искусством ведения боя и считали, что в этом ему нет равных, и потому никто не осмелился возразить. Скиталец разделил своих людей на три части, выстроил их в боевом порядке и двинулся на лагерь. Сам он шел в среднем отряде прямо к воротам лагеря — если эти хорошо защищенные ворота удастся взять, в лагерь смогут ворваться колесницы. По его команде отряды фараона атаковали лагерь с трех сторон. Однако их встретили градом пик и стрел, многие были убиты, и отряды откатились от лагеря, как волна от утеса. Но Скиталец снова приказал наступать справа и слева, выставив перед собой убитых, как щиты, и забросать ров трупами. Сам он пока держался поодаль и наблюдал за ходом боя, он ждал, когда защитники ворот вынуждены будут отвлечься. И вот наемники фараона ворвались в лагерь справа, и половина защищавших ворота варваров кинулась туда, чтобы отразить нападение. Скиталец приказал своим людям снять дышла колесниц и идти с ними выбивать ворота. И ворота удалось выбить, хоть и с большим трудом и большими потерями, потому что лучники варваров осыпали нападающих стрелами. Но все же ворота пали, и Скиталец ворвался в лагерь на своей колеснице. Но в этот миг варвары вытеснили из лагеря наемников фараона, которые ворвались справа, и отряд людей фараона, нападавший слева, отступил. Солдаты, которые должны были ворваться в лагерь вслед за Скитальцем, дрогнули, и толпа варваров кинулась к воротам и загородила их, так что внутрь лагеря уже никто не мог попасть. Скиталец остался в лагере один, повернуть назад он уже не мог. Но страха он не чувствовал, напротив, его отважное сердце наполнял радостный азарт битвы. Он швырнул свой щит на бронзовый пол колесницы и, вынимая из колчана длинные стрелы, громко крикнул возничему: «Вперед, мой возничий, вперед! Шакалы заманили льва в западню! Вперед, навстречу славной смерти! Одиссей умрет, как герой!» Вознося молитву богам, возничий изо всех сил хлестнул коней кнутом, и кони бешено понеслись, давя врагов, а могучий черный лук громко пел свою песню смерти — Скиталец выпускал одну стрелу за другой, и каждая упивалась кровью убитого им варвара. Одна из них вонзилась в грудь вождя какого-то племени, он упал из колесницы на землю, словно в воду нырнул, и вонзил свои зубы в песок. — Глубже ныряй, морской разбойник, на самое дно! — крикнул Скиталец. — Там ты найдешь сокровища! Вперед, возничий, пусть шакалы смотрят, как умирает лев! Варвары глядели на Скитальца, едва смея верить глазам. Его колесница носилась по лагерю, давя и топча врагов, сея смерть стрелами черного лука, но стрелы варваров отскакивали от его золотых доспехов, не причиняя никакого вреда. Ошеломленные враги кричали, что это не человек, а сам бог войны сражается за страну Кемет, могучий Сет, грозный Ваал, во всей ярости своего гнева, и в ужасе порывались бежать. Скиталец был воистину подобен Рамсесу Великому Миамуну, когда тот сражался с хеттами, казалось, это сам Монту[518] слетел к ним в разгар битвы. Он гнал обезумевших от ужаса врагов, как пастух гонит покорное стадо. Но вот выпущенный из пращи камень попал в возничего Одиссеевой колесницы, он ударил его в переносицу между глаз, и тот, мертвый, упал с колесницы. Не управляемые никем кони заметались, и кто-то из варваров вонзил копье в грудь правого коня, и тот пал, мертвый, дышло колесницы разломилось пополам. Тут варвары осмелели, перестали отступать, даже попытались поднять мертвого возничего и снять с него вооружение. Но Скиталец спрыгнул с колесницы и встал над телом возничего, закрыв его щитом и подняв копье. Среди сгрудившихся вокруг Скитальца варваров произошло какое-то движение, кто-то протискивался вперед сквозь толпу. И Скиталец увидел над колышущимися султанами шлемов и поднятыми щитами золотоволосую голову без шлема, к нему приближался мужчина на целую голову выше самых высоких варваров. На нем не было ни шлема, ни доспехов, он не держал в руках щита. Кожа у него была очень светлая, почти белая, тело покрыто синей татуировкой, изображавшей людей, лошадей, змей и разных морских тварей. На плечах у него была шкура белого медведя, скрепленная золотой пряжкой, по форме напоминающей дикого кабана. Его голубые глаза злобно сверкали, в руке он держал вместо оружия дубину из ствола молодой сосны, на конец которой был насажен тяжелый каменный топор, грубый, даже не отполированный. — Дорогу! Прочь с дороги! — кричал он. — Расступитесь, карлики, уроды, я хочу поглядеть на этого героя! Варвары расступились, встав крýгом, и, притихнув, наблюдали, как Скиталец и великан будут меряться силой друг с другом. — Кто ты такой? — с презрением спросил великан. — Из какой страны и города? Кто твои родители? — Люди называют меня Одиссеем, громителем городов, я сын Лаэрта, царь ахейцев, — отвечал Скиталец. — Теперь скажи мне ты — кто ты такой, в какой стране родился, ведь городов у вас, как я понимаю, нет? Неторопливо размахивая своим огромным каменным топором, гигант запел дикую песню:Глава 27
КОГДА ОДИССЕЙ ВЕРНЕТСЯ…
Да, Одиссей смеялся, как бог, хоть и знал, что конец близок, что враги в лагере и друзья за его пределами смотрят на него в растерянности и не знают, что делать. — Убить его! Убить! — кричали разноплеменные варвары каждый на своем языке. — Убить его! Кричать они кричали, однако приступить к делу боялись и кружили вокруг Скитальца, точно гончие вокруг загнанного матёрого вепря. — Пощадите его! — кричал вождь ахейцев, который наблюдал за поединком из-за земляного вала, потому что ахейцы не принимали участия в битве, они оставались возле своих кораблей, чтобы защищать их, если понадобится. — Отпустите его! — кричали военачальники фараоновой армии, но спасать Скитальца никто не бросался. Жизнь Скитальца висела на волоске, и вдруг в дальних рядах солдат фараона раздался громкий крик — крик ужаса и изумления, он катился всё ближе, как волна, и наконец уже можно было различить, что люди выкрикивают имя — имя Хатор. — Хатор! Хатор! — кричали они. — Смотрите, едет Хатор! Скиталец быстро повернул голову и увидел золотую колесницу, которая мчалась по песчаному склону к воротам лагеря, и была забрызгана кровью. Она неслась по залитой кровью земле, точно летящая по кроваво-красному небу. Правил колесницей худой, иссохший старичок, он сидел, весь подавшись вперед, рядом с ним стояла Елена Златокудрая. На ее груди сияла рубиновая звезда, ветер развевал ее длинные волосы и легкие, струящиеся одежды. Она напряженно всматривалась в даль и наконец увидела среди толпы врагов его, Одиссея, царя Итаки, своего возлюбленного, и с уст ее сорвался крик. Елена сбросила вуаль, скрывавшую ее лицо, и красота ее ослепила мужчин, точно вынырнувшее из туч солнце. Она указала на ворота и протянула руки к солдатам фараона, призывая их взглянуть на нее и следовать за ней. Солдаты с криком бросились вслед за ее колесницей, ибо мужчины должны следовать за Еленой, куда бы она их ни повела, — через Жизнь к Смерти, через Войну к Миру и Покою. Колесница подлетела к воротам лагеря, сопровождаемая воинами фараона. Защитники ворот увидели, как прекрасна та, что стоит в колеснице, и закричали каждый на своем языке, что это богиня Любви, она явилась, чтобы спасти бога войны. Варвары стали в беспорядке разбегаться, кто-то остался стоять, ошеломленный ее красотой, их сбили кони и раздавили колеса колесницы. Елена въехала в ворота, за ней хлынули в лагерь люди фараона. Реи притормозил коней возле разбитой колесницы Скитальца, и Скиталец с радостным криком прыгнул в колесницу Елены. — Ты примчалась, чтобы быть рядом со мной в моем последнем бою? — прошептал он. — И ты в самом деле аргивянка Елена, та, кого я люблю, или я опьянен пролитой кровью и ослеплен сверканьем мечей и мне перед смертью боги явили видение? — Нет, Одиссей, я не видение, я — Елена, — сказала она нежно. — Мне стала известна правда, и я легко простила твою вину, она невелика. Но ты забыл слова бессмертной богини, которая отныне стала моим вечным врагом, она коварно заманила тебя в эту ловушку, и потому не судьба, Одиссей, Елене стать твоей супругой в этой жизни. Это твой последний бой, Одиссей. Веди же своих солдат, они ждут, враги надвигаются, точно черная грозовая туча, готовая метать копьи молний. Вперед, Одиссей, вперед! Пусть свершится твоя судьба и исполнится предсказанное богами! Скиталец призвал к себе военачальников, военачальники выстроили солдат, и, следуя за рубиновой звездой, они устремились на приготовившегося к битве врага, точно гонимая ураганом приливная волна, и, как вода поднимается, затапливая прибрежные скалы, так солдаты фараона набросились на врагов, смяли и разгромили их ряды. И там, где кипел особенно жаркий бой, сверкала рубиновая звезда на груди Елены, и ее чарующий голос возвышался над стонами и криками умирающих. Войско разноплеменных варваров было уничтожено, солдаты фараона приблизились к валу, который возвели вокруг своего лагеря ахейцы, чтобы защищать корабли, впереди на золотой колеснице ехали Скиталец и Елена. Командующие флотом ахейцев с изумлением наблюдали из-за вала, как гибло в кровавой бойне войско их союзников. — Смотрите, кто это? — воскликнул один из ахейцев. — На нем золотые доспехи, какие носим мы, ахейцы, но он ведет солдат фараона, и они побеждают! Другой капитан, по виду старше всех, вгляделся в Скитальца и сказал: — Да, когда-то я видел в точности такие доспехи, и воин, который их носил, был подобен этому. Такие доспехи были на Парисе, сыне Приама, — Парисе Троянском, только его уже давно нет на свете. — А кто она? — воскликнул первый. — Та, на чьей груди горит рубиновая звезда? Та, что едет в колеснице с воином в золотых доспехах, та, что прекрасней всех женщин на свете, что поет, когда солдаты вокруг умирают? Самый старший из капитанов снова стал пристально вглядываться, потом сказал: — Да, такую женщину я тоже видел. Она тоже любила петь и тоже была прекрасней всех женщин на свете — сама красота, и на груди у нее тоже горела звезда. Елена Троянская ее носила, Елена аргивянка, Елена Прекрасная, из-за которой в мире пролилось столько крови. Но и Елена тоже давно умерла. Скиталец поднял голову и увидел плюмажи на шлемах ахейцев, увидел эмблемы на щитах воинов, с чьими отцами он сражался под стенами Трои. Сердце его готово было разорваться на части, из глаз хлынули слезы. — Какая злая, какая горькая выпала мне судьба! — воскликнул он. — В своем последнем бою я вынужден сражаться наемником чужого владыки против моего собственного народа, против сыновей моих старых дорогих друзей! — Не плачь, Одиссей, — сказала Елена, — так повелевает Судьба, она жестока и непреклонна, ей нет дела до людей с их любовью и ненавистью. Не плачь, Одиссей, иди сражаться против ахейцев, ибо ты примешь смерть от их рук. И Одиссей, с трудом преодолевая себя, двинулся дальше, он не выпустил ни одной стрелы, не нанес ни одного удара, за ним двигались уцелевшие остатки фараонова войска. Но вот он приказал им остановиться и велел Реи медленно ехать вдоль земляного вала, хотел найти место, где было бы легче прорваться внутрь, и, пока колесница ехала, ахейцы обстреливали ее из-за укрепления стрелами, камнями из пращи, метали в нее копья. Но час Скитальца еще не настал. Ни один камень, ни одна стрела в него не попала, не попала ни в Реи, ни в коней, везущих колесницу, что до Елены, то стрелы смерти знали, что она бессмертная богиня, и облетали ее стороной. Реи тем временем рассказал Скитальцу о том, как умер фараон, о том, как сожгли храм Хатор, и о том, как Елена бежала. Скиталец слушал молча, потом только и сказал, увидев во всем этом руку Судьбы: — Конец близок, Реи, скоро Мериамун начнет искать нас, а найти нас очень легко — вон какой я оставил за собой след! — И он кивнул на бескрайнюю равнину, заваленную горами трупов. Колесница доехала до того места, где стоял за валом старый капитан-ахеец, который при виде доспехов Скитальца вспомнил Париса, а при виде красавицы в его колеснице — Елену аргивянку. Ахеец выпустил в колесницу стрелу и устремился всем телом вперед, провожая ее полет взглядом. Стрела летела прямо в грудь Елене, но вдруг, к его великому изумлению, свернула в сторону, не причинив ей ни малейшего вреда. Она подняла голову и посмотрела на него, и он узнал Елену, которую видел, когда служил у царя критян Идоменея на одном из его кораблей, когда пала осажденная Троя и дым от горящих развалин поднимался к небесам. Он снова вгляделся и увидел на золотом щите Скитальца белого быка, эмблему Париса, сына Приама, которую он так часто видел на стенах Трои! Его обуял великий страх, он воздел руки и громко закричал: — Бегите, ахейцы, бегите! Скорей на корабли и прочь из этой проклятой земли! На колеснице стоит давно умершая аргивянка Елена и с ней Парис, сын Приама, они явились отомстить за гибель Трои сыновьям тех, кто ее разрушил! Бегите, иначе нас поразит проклятье! В стане ахейцев раздались громкие крики ужаса, да и как не ужаснуться, если рать фараона ведут духи Париса Троянского и аргивянки Елены, и потому они побеждают. Сначала ахейцы замерли, глядя на колесницу, как испуганное стадо овец глядит на подкрадывающихся волков, потом очнулись и со всех ног кинулись к своим кораблям. Солдаты фараона устремились за ними, смели заграждение и набросились на бегущих, как волки на овец. Ахейцы отчаянно защищались, вокруг кораблей закипела ожесточенная битва, люди падали, как подкошенные. Часть кораблей сожгли, часть бросили на берегу, но часть все же столкнули в воду и, стоя на веслах, ждали, когда кончится схватка. Солнце закатилось, сражающимся стало труднее наносить меткие удары. Скиталец стоял в своей колеснице и наблюдал за ходом сражения, он смертельно устал, и ему не хотелось убивать своих соотечественников. Но вот столкнули в воду последний корабль, и наконец великая битва кончилась. Среди команды корабля был молодой воин, превосходивший всех остальных ахейцев мужественной красотой и силой. Он один сдерживал натиск нападающих египтян, пока его товарищи волокли корабль по берегу, и, глядя на него, Скиталец подумал, что это самый храбрый воин среди ахейцев и самый достойный. Он стоял на корме и смотрел, как пламя горящих кораблей играет на золотом шлеме Скитальца. И вдруг выхватил из колчана стрелу, заряженную смертью, и натянул тетиву могучего лука. — Дух Париса, прими дар Телегона, сына Цирцеи и Одиссея, который был врагом Париса! — громко крикнул он. Роковые слова едва достигли слуха Одиссея и Елены, как из его лука вылетела стрела, направляемая богами. Они направили ее в грудь Одиссея, в то место, где оплечье соединяется с кирасой, и она пронзила его навылет. И Одиссей понял, что судьба его свершилась, да, смерть пришла к нему водяною дорогой, как и предсказал ему дух Тиресия в Аиде. Превозмогая боль, он бросил свой щит и черный лук Эврита, простившись с ними навсегда, одной рукой сжал поводья, другой обнял Елену за плечи, и под ее тяжестью она согнулась, как лилия от порыва ветра. — О Телегон, сын Цирцеи! — крикнул он. — Какое черное злодейство ты сотворил, что разгневанные боги наложили на тебя такое страшное проклятье — убить отца, который тебя породил? Узнай же, сын Цирцеи, я не Парис, я Одиссей, царь Итаки, давший тебе жизнь, а ты убил меня, смерть пришла от тебя ко мне водяной дорогой, как и предрек дух Тиресия! Услышав эти слова и поняв, что он убил своего отца, прославленного Одиссея, которого он искал по всему свету, Телегон хотел броситься в реку и утопиться, но товарищи удержали его силой, течение подхватило корабль и унесло прочь. Так боги позволили Телегону в первый и в последний раз увидеть своего отца, Одиссея, и услышать его голос. Когда ахейцы узнали, что войском фараона в сражении с разноплеменными варварами предводительствовал давно исчезнувший Одиссей, они перестали дивиться искусству, с которым он заманил их в ловушку, и великой победе, которую одержала рать фараона. Между тем колесницы Мериамун, бросившейся вслед за Еленой и Реи, приближались. Они промчались по залитому кровью ущелью, по заваленной трупами равнине, ворвались в лагерь, но и в лагере, освещенном пламенем подожженных кораблей аквайюша, все увидели только мертвых. — Воистину фараона перед смертью осенило мудрое решение! — воскликнула Мериамун. — На свете есть только один человек, который с таким малочисленным войском смог победить такую несметную рать! Он спас корону Кемета, и клянусь Осирисом — он будет ее носить! Колесницы Мериамун миновали лагерь варваров и въехали в лагерь ахейцев, солдаты фараона приветствовали ее громкими криками. Скиталец лежал на берегу Сихора и умирал, в зареве горящих кораблей ярким пламенем пылали его золотые доспехи и звездный камень на груди Елены. — Почему кричат солдаты? — спросил он, приподняв голову с груди Елены. — Они приветствуют царицу Мериамун, — ответил Реи. — Пусть подойдет, — сказал Скиталец. Царица Мериамун спрыгнула со своей колесницы и пошла через толпу благоговейно расступающихся перед ней солдат к лежащему на земле Скитальцу, а подойдя, в безмолвии над ним застыла. Но вот Одиссей приподнял голову и произнес слабеющим голосом: — Приветствую тебя, царица… Я выполнил долг, возложенный на меня фараоном. Рать разноплеменных варваров разбита и уничтожена, корабли аквайюша сожжены, те, что не сожжены бежали, земля Кемет освобождена от врагов. Где фараон, я хочу доложить ему обо всем, пока я еще жив. — Фараон умер, о Одиссей, — отвечала она. — Но ты должен жить, ты будешь жить! Ты сам станешь фараоном! — Ах, царица Мериамун, я знаю всё, — ответил Скиталец. — Ты сама убила фараона, желая овладеть мною, но мною овладела смерть. В той стране, куда я ухожу, Мериамун, и куда очень скоро последуешь за мной и ты, ты горькими муками заплатишь за убийство фараона. Да, Мериамун, кровь фараона на твоих руках, ты хотела убить и Елену, которую я потерял из-за твоих злых чар, но против нее ты бессильна — она бессмертна. А я умираю, кончилось всё — любовь, война, странствия. Смерть пришла ко мне водяною дорогой. Мериамун онемела от горя, сердце ее разрывалось, она забыла даже о своей ненависти к Елене и о гневе на жреца Реи. И тут раздался голос Елены: — Да, Одиссей, ты умираешь, но ненадолго, ты вернешься, и мы встретимся — я буду ждать тебя. — Я тоже вернусь, Одиссей, — сказала царица Мериамун, — и тогда ты будешь любить меня. О, я сейчас прозреваю будущее, я вижу то, чему суждено свершиться! Мы встретимся вновь, Одиссей, когда покров с Истины будет снят. — Мы встретимся вновь, Одиссей, и тогда ты откроешь лик Истины, — сказала Елена. — Да, — прошептал умирающий Скиталец, — мы будем встречаться с тобой снова и снова, и всякий раз любовь и ненависть будут побеждать и терпеть поражение, умирать и возрождаться вновь. Но поединок, который начался в других мирах, задолго до появления нашего, еще не кончен, он будет продолжаться, пока зло не растворится в добре, пока мрак не утонет в свете. Вспомни, Мериамун, сон, что приснился тебе в твою брачную ночь, ты хочешь разгадать смысл этого сна? Что ж, я разгадаю его, умирая, ибо боги одарили меня мудростью. Когда вместо троих нас снова станет двое, это будет значить, что мы искупили совершенное нами зло и обрели мир, лик Истины откроется. Елена, любимая, прощай! Я совершил преступление, предав тебя, поклялся Змеей, хотя должен был клясться Звездой, и потому потерял тебя. — Ты потерял меня здесь, но снова найдешь, когда перед тобой распахнутся врата Запада, — нежно прошептала она. И, склонившись к нему, заключила его в объятия и стала целовать и шептать ему на ухо слова любви, и капли крови падали с ее рубиновой звезды ему на лоб, точно роса, и тут же исчезали. Она шептала Скитальцу о счастье, которое их ждет, — священные слова, которых не дóлжно сметь предать бумаге, и его лицо светлело, точно лицо бога. Вдруг его голова откинулась назад, он умер, умер на груди самой прекрасной и нежной женщины в мире, к которой стремились сердца всех мужчин. Исполнилось предсказание Афродиты — Одиссей наконец-то покоился в объятиях Елены Златокудрой. Мериамун судорожно стиснула грудь руками, ее губы стали серыми, как пепел. Но Елена поднялась и, стоя в головах Скитальца, посмотрела на Мериамун, стоявшую у его ног. — Сестра, ты видишь, пришел конец всему, — обратилась Елена к царице. — Тот, кого мы любили, потерян и для меня, и для тебя. Чего ты добилась своим коварством и предательством? Напрасно ты смотришь на меня с такой ненавистью. Ты бессильна причинить мне зло, ты в этом убедилась, а я не причиню зла тебе, потому что сама мысль о зле для меня непереносима, хотя ты будешь всегда ненавидеть меня, не питающую к тебе недобрых чувств, и пока ты не научишься любить меня, твоим уделом будет преступление, а утешением — злоба. Мериамун не произнесла ни слова. А Елена знаком подозвала к себе Реи и что-то ему приказала, и Реи, заливаясь слезами, ушел исполнять ее приказание. Он скоро вернулся с толпой солдат, которые несли в руках факелы. Они подняли Скитальца и понесли его к огромному погребальному костру, который сложили из добычи, захваченной в лагере варваров — колесницы, копья, корабельные весла, дивные заморские ткани, драгоценные кресла… Одиссея положили на вершину костра, а на грудь ему положили черный лук Эврита. Елена снова что-то сказала Реи, и Реи взял факел и зажег со всех сторон погребальный костер. Вот его окутал дым, стали вырываться языки огня… Мериамун по-прежнему стояла, будто окаменев. Вот пламя охватило весь гигантский костер, в пламени сияли золотые доспехи Скитальца, черный лук изогнулся от жара и стал рассыпаться. Вдруг Мериамун пронзительно вскрикнула, сорвала с пояса змею и швырнула ее в костер. — В огне ты родилось, Изначальное Зло, в огне и сгинь! — произнесла она на мертвом языке мертвого народа. Жрец Реи воскликнул на том же языке: — Что ты сделала, о царица, ты погубила себя! Ведь ты отогрела змею у себя на груди, и теперь вы с ней во веки веков неразлучны, где она, там должна быть и ты. Не успел он произнести эти слова, как лицо Мериамун застыло, точно маска, и она медленно двинулась к костру, словно влекомая невидимой силой. Остановилась на миг у полыхающего пламени и с громким воплем бросилась в него и легла на тело Одиссея. И в этот миг в огне ожила змея. Она ожила, стала расти, расти, обвилась вокруг тела Мериамун и тела Скитальца, высоко подняла голову и засмеялась. Костер рухнул, Скитальца, царицу Мериамун и обвившуюся вокруг них змею поглотило бушующее пламя. Долго стояла Елена Златокудрая возле костра и глядела на огонь, пока он не стал гаснуть. Потом опустила на лицо вуаль и пошла прочь, в ночь, в темноту, в пустыню. И так ей суждено бродить по свету и петь, ожидая, когда Одиссей вернется.* * *
Мне, жрецу Реи, выпало на долю рассказать эту повесть, пока я еще жив и не упокоился в богатой усыпальнице, которую приготовил для себя близ Фив. Пусть мужчины поймут ее так, как им хочется, а женщины — в меру той мудрости, какой наградили их боги.Палинодия
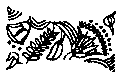
ЭЙРИК СВЕТЛООКИЙ (роман)
Роман «Эрик Светлоокий» лишь условно можно отнести к историческому жанру. Написанный в духе исландских саг, он рассказывает о средневековом герое, доказывающем свою любовь к Гудруде, совершая подвиги в ее честь. В соответствии с традицией «родовой саги» автор использует мотив долга мести, который организует сюжет романа.
Глава 1
Как жрец Асмунд нашел колдунью Гроа.Жил на юге человек, еще задолго до того времени, когда Тангбранд сын Вильбальдуса стал проповедовать Христа в Исландии[520]. Звали этого человека Эйрик Светлоокий, сын Торгримура, и в те дни не было человека, равного ему по силе, красоте и смелости, во всем он был первый. Там же, на юге, жили две женщины, неподалеку от того места, где западные острова всплыли над морем. Одну звали Гудруда Прекрасная, другую — Сванхильда, прозванная Незнающей Отца. Они были сводные сестры, и не было равных им женщин в те дни: они были прекраснее всех. Однако между ними не было ничего общего, кроме крови и ненависти. Обе эти прекрасные женщины увидали свет Божий в один и тот же день и в один и тот же час. Эйрик же Светлоокий был старше их на целых пять лет. Отец Эйрика был Торгримур Железная Пята, могучий богатырь; во время борьбы с одним берсерком[521] он потерял ногу и с того времени ходил на деревянной ноге, окованной железом, отчего его и прозвали Железной Пятой. Но, оставшись без ноги и стоя на одной ноге, Торгримур, держась за выступ скалы, поразил берсерка, и за этот подвиг люди чтили и уважали его. Торгримур был зажиточный поселянин, не скорый на гнев, справедливый и богатый друзьями. Уже в поздние годы он взял себе в жены Савуну, дочь Торода. Она была лучше всех женщин, но не по красоте, а по твердости ума. Она была ясновидящей и имела волосы такие, что могла завернуться в них вся, с головы до пят. Эта супружеская чета имела всего только одного сына Эйрика, которого Савуна родила, будучи уже в преклонных летах. Отец Гудруды был Асмунд сын Асмунда, жрец Миддальгофа, мудрейший и богатейший из всех людей, живших тогда на юге Исландии. Он имел много земель и угодий, а также два больших торговых судна и одно длинное военное судно. Имея много денег, он давал их в рост другим. Нажил он свои деньги, когда был викингом и грабил английское побережье, и много черных дел приписывала ему молва, вспоминая о его жизни в молодые годы. Он был викинг с «обагренными кровью руками». Асмунд был красивый мужчина с голубыми глазами и большой русой бородой, его считали очень искусным и сведущим в законах. Асмунд очень любил деньги, и все кругом боялись его, но это не мешало ему иметь много друзей, так как с годами он стал добрее и ласковее к людям. Он взял себе в жены Гудруду, дочь Бьерна, кроткую и добрую, прозванную Гудрудой Милой. От этого брака родились Бьерн и Гудруда Прекрасная. Бьерн вырастал, походя на своего отца в его молодые годы, был силен, жесток и жаден до наживы. Гудруда, за исключением редкой, бесподобной красоты, была вся в свою мать. Мать Сванхильды Незнающей Отца была Гроа колдунья, родом из Края Финнов, и молва говорила о ней, что судно, на котором она плыла, стараясь стать под ветром Западных островов[522] в сильную бурю, разбилось в щепки о прибрежные скалы, и все, кто был на нём, погибли. Только Гроа спаслась своим колдовством. Когда Асмунд жрец наутро после бури проезжал по берегу, отыскивая сбежавших ночью коней, то увидел красавицу, одетую в ярко-красный плащ и широкий золотой пояс, сидевшую на скале над морем. Она расчесывала свои длинные черные кудри и пела тихую песню, а у ее ног в воде перекатывалась с приливом и отливом голова мертвого человека. Асмунд жрец спросил ее, откуда она. — С Лебединого озера! — ответила красавица. Затем он спросил ее, где ее родня. Тогда женщина указала ему на голову мертвого человека и сказала, что это все, что осталось от ее родни. Опять Асмунд спросил ее, кто был этот мертвый человек. Она засмеялась и снова запела свою песню, а в песне ее говорилось, что боги смерти протянули свои жадные руки к супругу Гроа, что свет не видел другого такого отважного викинга, а теперь волны играют его головой. Дальше в песне говорилось, что в прошлую ночь норны[523] бушевали, и голоса их говорили ей об Асмунде жреце и о детях, которые должны будут родиться. — Кто сказал тебе мое имя? — спросил удивленный Асмунд. — Волны сказали мне еще, что ты выручишь меня! — Ну, это твое счастье! — сказал жрец. — Но я боюсь, что ты чародейка! — И чародейка, и чаровница! — отозвалась она и опять звонко засмеялась. — Правда, ты прекрасна и можешь быть чаровницей, — согласился Асмунд жрец, — но скажи мне, что мы будем делать с этим мертвым человеком? — Пусть он лежит на дне моря, и пусть все супруги лежат там! — проговорила Гроа. После этого Асмунд взял ее с собою в Миддальгоф и дал ей участок земли и жилье, и там она стала жить одна. Он часто пользовался ее премудростью и таинственными силами. Год спустя после того, как Асмунд жрец нашел колдунью Гроа, случилось так, что Гудруда Милая забеременела, и когда настало ей время родить, родила дочь редкой красоты. В тот же день и Гроа колдунья тоже принесла дочь, и люди удивлялись, кто бы мог быть ее отцом, так как Гроа не имела мужа. Женщины болтали между собой, что отцом этого ребенка был тот же жрец Асмунд. Когда ему говорили об этом, он очень гневался и утверждал, что никогда колдунья не может иметь от него ребенка, как бы прекрасна она ни была. Когда люди спрашивали об этом Гроа, то та, смеясь, говорила, что ничего не знает об этом, так как никогда не видала в лицо отца своего ребенка, который выходил ночью из воды и на заре уходил. Многие думали, что это был колдун или же дух ее умершего мужа. Другие же говорили, что Гроа лгала, как часто лгут в таких делах женщины. Но ложь ли то была или правда, только ребенок был налицо, и его назвали Сванхильдой. Случилось так, что за час до того времени, как Гудруда Милая родила ребенка, Асмунд пошел в храм поддержать священный огонь, что горел день и ночь на жертвеннике перед изображением богини Фрейи[524]. Присев на скамью перед святилищем, Асмунд вдруг заснул и увидел странный сон про белого лебедя и черного коршуна и про белую голубку и черного ворона. И когда пробудился и пошел из храма, ему попалась навстречу женщина и с плачем крикнула: — Спеши, спеши домой! У тебя родилась дочь, но Гудруда, жена твоя, умирает! Действительно, на широкой постели под пологом в большой горнице Миддальгофа лежала Гудруда Милая и умирала. Заслышав шаги, она спросила: — Ты ли это, супруг мой любезный? Пришел ты не рано, это мой последний час, так выслушай, что я хочу сказать тебе: возьми ты новорожденную, прижми к своей груди, поцелуй, окропи водой и назови моим именем! Асмунд сделал все по словам жены. — Теперь слушай меня, супруг, — продолжала Гудруда Милая, — я всегда была тебе хорошей женой, а ты не всегда был мне хорошим мужем и ты загладишь эту вину, если дашь мне клятву, что будешь любить и беречь это дитя, хотя она и девочка! — Клянусь тебе! — отвечал Асмунд. — Затем поклянись мне, что не возьмешь себе в жены колдунью Гроа и не будешь иметь с ней никакого дела; это я говорю для твоей же пользы, так как через нее ты найдешь себе смерть. Клянись! — Клянусь! — сказал Асмунд жрец. — Это ты хорошо делаешь, — продолжала Гудруда Милая. — Если же нарушишь свою клятву, так постигнет тебя и весь дом твой великое горе. Ну, теперь простись со мной, я умираю! Асмунд склонился над нею и поцеловал ее. Говорят, он много плакал в этот день. Покойницу зарыли в землю, и жрец Асмунд много и долго горевал о ней. Но сон, который он видел тогда, мучил его и не давал ему покоя, а из всех толкователей снов во всей той стране не было никого искуснее Гроа. Когда Гудруда уже семь суток лежала в земле, Асмунд отправился к Гроа, но с не совсем чистой совестью, так как еще помнил свою клятву, данную жене. Гроа лежала на постели, и дитя ее лежало у ее груди. — Приветствую тебя, господин мой! — сказала она. — Что желаешь ты от меня? — Видел я страшный сон, — промолвил Асмунд. — И ты одна можешь разгадать его. — И он пересказал ей свой сон от слова до слова, весь по порядку. — А что ты дашь мне, если я тебе разгадаю его? — спросила Гроа колдунья. — Чего же ты хочешь? Думается мне, что я дал тебе и так очень много. — Да, господин мой! — колдунья посмотрела на своего ребенка. — Ты дал мне очень много, и теперь я прошу у тебя очень малого: возьми на руки это дитя окропи его водой и дай ему имя! — Люди станут говорить мне, — сказал жрец, — если я сделаю то, чего ты желаешь, что это дело отца! — То, что люди говорят, неважно! Молва, что морская волна, набежит и отхлынет, ветер развеивает и разносит молву. И ты дашь людям ложь в самом имени ребенка, ты назовешь ее Сванхильдой Незнающей Отца. Впрочем, как хочешь, но только без этого я не разгадаю тебе твоего сна! — Так истолкуй ты мне сон, а я дам имя ребенку! — согласился Асмунд. — Нет, прежде сделай ты, что обещаешь; тогда я буду знать, что никакой беды не приключится ей от тебя! И Асмунд взял ребенка на руки, окропил его водой и дал ему имя. Тогда Гроа истолковала Асмунду его знаменательный сон, сообщив, что дочь ее Сванхильда восторжествует над его дочерью Гудрудой и каким-то могучим человеком, и что оба они умрут от ее руки, и еще многое другое. Асмунд, придя в ярость от этого известия, воскликнул: — Ты была разумна, что заставила меня хитростью своей дать имя твоему ублюдку! Иначе я убил бы ее тут же на месте! — Теперь ты не можешь этого сделать, господин мой, ты держал ее на своих руках! — засмеялась Гроа. — Лучше пойди да схорони свою Гудруду Прекрасную на холме Кольдбек, этим ты положишь конец всем бедам и несчастьям, ожидающим тебя впереди. — Этому не бывать! — воскликнул жрец. — Я поклялся любить и беречь ее и клялся такою клятвой, которая никогда не может быть нарушена! — Ну и хорошо! — снова засмеялась Гроа. — Пусть все случится, как судьбой суждено. На Кольдбеке много места для могил, да и море охотно прикрывает своим саваном мертвецов! Асмунд ушел от колдуньи в гневе и смущении в душе.
Глава 2
Как Эйрик сказал про свою любовь Гудруде Прекрасной в метель на Кольдбеке.За пять лет до смерти Гудруды Милой Савуна, жена I Торгримура Железной Пяты, родила сына на Кольдбеке на болоте, что над рекой Ран. Когда отец пришел посмотреть на ребенка, то сказал: — Это необычайный ребенок, волосы его светлы, как спелый колос, как чистое золото, а глаза светятся, как звезды! — И он принял его на руки, назвав его Эйриком Светлооким. От Миддальгофа до Кольдбека всего только один час езды на добром коне, и вот однажды случилось Торгримуру поехать в Миддальгоф на праздник Юуль на поклонение в храм, так как он состоял в приходе Асмунда сына Асмунда. Сына своего Эйрика Светлоокого взял Торгримур с собой в Миддальгоф, там была и Гроа со Сванхильдой, так как теперь Асмунд уже забыл свою клятву и колдунья жила в Миддальгофе. Как-то случилось, что эти трое прекрасных детей сошлись вместе и стали играть. У Гудруды Прекрасной была деревянная лошадка, и Эйрик стал возить девочку на ней, но Сванхильда сбросила Гудруду с ее лошадки и, сев сама на нее, крикнула Эйрику, чтобы он возил ее. Тот стал утешать Гудруду и не захотел исполнить желание Сванхильды. Тогда Сванхильда, разгневавшись, сердито крикнула: — Раз я хочу этого, ты должен меня возить! Эйрик тогда толкнул лошадку так сильно, что та опрокинулась, и Сванхильда упала чуть не в самый огонь очага. Вскочив на ноги, она схватила горящую головню и пустила ею в Гудруду, запалив ее одежду. Эйрик подоспел и потушил огонь, потом отошел с Гудрудой в сторону от Сванхильды, не желая больше даже говорить с ней. Мужчины смеялись, а Гроа смотрела мрачно и шептала какие-то таинственные заклинания. — Что ты смотришь так мрачно, управительница? — спросил Асмунд. — Этот мальчик красавец, вид его веселит сердце! — Красавец он есть и век свой будет красавцем, — проговорила Гроа, — но против злосчастья своего ему не устоять! Через женщину он найдет себе смерть и умрет, как герой, но не от руки врагов! Годы шли. Гроа жила со своей дочерью Сванхильдой в доме Асмунда и была его любовью. Но Асмунд, хотя и забыл почти свою клятву, все же не хотел взять ее себе в жены. Это сильно озлобляло колдунью. Прошло двадцать лет с тех пор, как Гудруда Милая лежала в земле. Гудруда Прекрасная, а также Сванхильда были обе взрослые женщины, Эйрику было уже двадцать пять лет, и никогда другого подобного ему человека Не жило в Исландии: он был силен и ловок, ростом высок, складом могуч; кудри его были, словно золото, глаза светились, как звезды или как лезвие доброго меча. Он был нежен и ласков, как женщина, и уже юношей сила его равнялась силе двух здоровых мужчин. И не было во всей округе ни одного юноши и ни одного мужчины, который мог бы плавать, прыгать или бегать, как он, или же мог побороть его. Люди уважали его, хотя до того времени он еще не совершил никакого подвига, а жил скромно на Кольдбеке, ведя свое хозяйство, возделывая землю и разводя стада: к этому времени отца его, Торгримура, уже не было в живых. Женщины все любили его, но он любил только одну из всех женщин, Гудруду Прекрасную, дочь Асмунда. Та также любила только его одного. Это была красивейшая из всех женщин: волосы ее были, как у Эйрика, светлые, золотистые; сама она» была бела, как снег на вершине Геклы[525], а глаза были большие и темные и смотрели так ласково и любовно из-под темных бровей и ресниц. Роста она была высокого, станом стройная, сильная и гибкая, лицом радостная и приветливая, сердцем нежная, по уму с ней не могла сравняться ни одна женщина. Сванхильда тоже была прекрасна; маленькая, но стройная и сильная, лицом смуглая, с глазами синими и глубокими, как море; кудри ее были черны, как смоль, и покрывали ее, как плащ, до колен. Души же ее никто не мог разгадать: все в ней было тайна и мрак. Больше всего любила она привлекать к себе сердца мужчин и затем осмеивать их, и многих она обольстила и обманула, хорошо изучив женское искусство. Сердце у нее было холодное, и желала она только власти и богатства. Но она любила одного человека, и это была та отравленная стрела, которой судьба пронзила ее жестокое сердце: человек этот был Эйрик, но он не любил ее. Кроме него, все для нее было беспросветной тьмой; она обучалась у матери своей чарам и колдовству и старалась всеми силами приворожить его к себе. А Эйрик не видел никого, кроме Гудруды, не слышал никого, кроме нее, не думал ни о ком, как только о ней, хотя до того времени они еще не признались друг другу в своей любви. Сванхильда, хотя и не имела любви к своей матери, в горе своем пошла просить ее помощи и сообщила ей: — Я люблю одного только Эйрика и ненавижу Гудруду; хочу пересилить ее и приколдовать к себе Эйрика. Помоги мне! Гроа отвечала: — Вот что я думаю сделать: Асмунд хочет отдать свою дочь за человека знатного и богатого, а такому простому поселянину, как Эйрик, не отдаст. Мы скажем ему, что Гудруда нарушает девичью скромность с Эйриком Светлооким, и Асмунд прогонит его из дома своего, а тем временем я пошлю Колля Полоумного, моего траля[526], которого мне подарил Асмунд, на север, где живет богатый, прославленный и могущественный человек по имени Оспакар Чернозуб. Он недавно овдовел и пустил молву, что хочет взять себе в жены самую красивую девушку в Исландии. Колль понарасскажет ему чудес о Гудруде, и тот станет сватать ее. Если все пойдет хорошо, ты избавишься от твоей разлучницы. Если же это не удастся, то есть еще два средства: или обольстить Эйрика своей красотой и отбить его у Гудруды, или же — и это средство вернее — нож в твоей руке, а сердце в груди Гудруды. Мертвая красавица не соперница для живой! Так говорила Гроа колдунья своей дочери, затем добавила: — Я тоже ненавижу эту надменную девушку, которая мне стоит поперек дороги! Если бы не она, я давно была бы женою Асмунда. Она не терпит меня, так как я свет любви ее отца, и я хочу видеть эти золотые кудри потускневшими от дыхания смерти или, по крайней мере, глаза ее плачущими от позора и муки, когда человек, которого она ненавидит, назовет ее своею женой и увезет отсюда на свою мрачную и угрюмую родину! И вот Колль Полоумный отправился исполнять поручение своей госпожи. До праздника Юуля оставался всего один месяц. Люди сидели по домам: время было темное, и выпало много снега, но, наконец, пришли и морозы, небо прояснилось. Гудруда, сидя за веретеном в большой горнице Миддальгофа, увидела ясное небо и вышла к женским воротам замка. Снег был крепкий и белый, и ее стало манить в открытое поле. Накинув плащ, она пошла по дороге к Кольдбеку, что над болотом, у реки Ран. Сванхильда, всегда следовавшая за нею, тоже взяла плащ и пошла по ее следам. Долго шли они, пока Гудруда не заметила, что на небе собираются тучи, и не повернула домой. Между тем снег уже начал падать густыми хлопьями, и вскоре занесло всю долину и замело следы. Сумрак окутал окрестность; время клонилось к вечеру. Гудруда шла и шла, сама не зная куда. Сванхильда также неотступно следовала за нею. Скоро силы стали изменять Гудруде, и она присела на скалу, торчавшую из-под снега. Ее стал клонить сон; веки тяжелели и смыкались против воли. Неподалеку торчала другая скала или камень, и на нем приютилась Сванхильда. Гудруда временами открывала глаза и вдруг заметила сквозь метель точно в тумане движущийся предмет. Вскочив на ноги, она громко позвала на помощь. Ей отозвался мужской голос, и минуту спустя с Гудрудой поравнялся всадник. Это был Эйрик Светлоокий. — Ты ли это, Гудруда? — Эйрик! Это ты! — отозвалась она. — Сама судьба привела тебя сюда в добрый час: еще немного, и глаза мои никогда больше не увидели бы тебя; они уже начинали смыкаться сном смерти! — Так ты заблудилась?! Заблудился и я. Снегом все занесло… ты не зябнешь, Гудруда? — Немного! Сядь здесь рядом со мной, тут есть место и для тебя! С минуту они молчали. Сванхильда подползла ближе к ним и притаилась в снегу, у них за спиной, а снег, падая густыми хлопьями, засыпал ее. — Знаешь, что я думаю, Эйрик? — сказала Гудруда. — Что мы оба умрем здесь, в снегу! — Что же, лучшей участи я не желаю! — Не говори так, для тебя это плохой конец. Тебе предстоит совершить целый ряд славных дел! — Но подле тебя я умру счастливым! — сказал он и прижал ее к своей груди. — Смерть подходит к нам ближе и ближе, и прежде, чем она возьмет нас, я хочу сказать тебе одно слово, если ты только позволишь! Девушка отвечала: — Говори, Эйрик! — Я хотел сказать тебе, Гудруда, что люблю тебя больше жизни и не хочу лучшей доли, как умереть в твоих объятиях! Ты для меня все, и жизнь без тебя для меня хуже смерти! Скажи мне теперь свое слово! — Я не скрою от тебя, Эйрик, что твои слова сладки для моего слуха, и что в моем сердце тоже живет любовь к тебе, Светлоокий! — Так поцелуй меня, прежде чем смерть возьмет нас с тобой! И они поцеловались впервые в снегу на Кольдбеке; хотя губы их были холодны, но сердца горели, и поцелуй был жаркий и долгий. Сванхильда услышала этот поцелуй, и кровь застыла у нее в жилах. Гнев распалил ее сердце, и она схватилась за нож, что висел у нее на поясе. — Нет, — сказала она, — мороз убьет ее не хуже ножа, пусть все мы умрем, и снег заметет наши страсти! — Поклянись мне, дорогая, что, если мы каким либо чудом останемся живы, ты всегда будешь любить меня, как сейчас! — говорил между тем Эйрик. — Клянусь и еще клянусь, что не буду ничьею женой, как только твоей! — И они снова скрепили клятву свою поцелуем. А снег падал все чаще и чаще и засыпал их, а вместе с ними и Сванхильду. — Слушай, Эйрик, — проговорила тихонько Гудруда, прижавшись к его груди, — чудится мне что-то на снегу. Что-то говорит мне, что мы с тобой не умрем, но что я умру так, подле тебя! Видишь, тут, на снегу, я лежу с тобой и сплю, и чьи-то руки протягиваются ко мне… Ах! Это Сванхильда!.. Вот и исчезло видение! — Это туман на снегу, сон или греза, родная, сон смыкает и мои очи, я стыну… поцелуй меня еще раз! И снова сомкнулись уста их, холодные как лед. — О, Эйрик! Эйрик! Проснись! Гляди, там огни играют! И Эйрик вскочил на ноги и посмотрел в ту сторону, где ярким заревом занялось на небе северное сияние, и при свете его он вдруг увидал Золотой водопад, а вдали на море Западные острова и храм Миддальгофа. — Мы спасены! Вон замок твоего отца, — сказал Эйрик и разом ожил. Стряхнув снег со спины своего коня, он посадил Гудруду на него, а сам пошел рядом, ведя его под уздцы, торопясь прийти в замок, пока не погас волшебный огонь. Сванхильда ползком поплелась следом. Она часто изнемогала от усталости, но затем снова собиралась с силами и кралась за ними. Злоба и ненависть, кипевшие в ее сердце, не давали ей замерзнуть. Так дошли они до замка Асмунда. Сванхильда перелезла через торфяную ограду и вошла, никем не замеченная, через ворота. Эйрик же подвез Гудруду к другим воротам, и сам Асмунд приветствовал их: он встревожился о своей дочери и был рад, что принял ее живой. Гудруда рассказала ему все, как было, но не все, что было, и Асмунд позвал Эйрика Светлоокого в свой дом. Тогда же он осведомился о Сванхильде, но никто не видал ее, и Асмунд был очень опечален. Но вот пришла старая женщина и сказала, что Сванхильда на кухне, а вслед за тем пришла и сама она, в белом одеянии, очень бледная. Глаза еесверкали страшным огнем. — Где же ты была, Сванхильда? Я думал, что ты погибаешь в снегу вместе с Гудрудой! — сказал Асмунд жрец. — Нет, приемный отец, я ходила в храм, а вот Гудруда чуть не погибла — и погибла бы, если бы ее не спас этот Светлоокий. Я рада, что он спас ее: без прекрасной сестрицы плохо было бы наше житье! — проговорила Сванхильда и поцеловала Гудруду, но уста ее были холодны, а глаза горели недобрым огнем.
Глава 3
Как Асмунд жрец пригласил Эйрика к себе на праздник.Было время ужина, и мужчины сели есть мясо, а женщины прислуживали им. После трапезы люди собрались вокруг очага. Гудруда также пришла и села подле Эйрика, так что длинный рукав ее одежды касался его руки. Они не сказала друг другу ни слова, но сидели рядом и были счастливы, и это горечью наполнило сердце Сванхильды. Она пошла и села между Асмундом и Бьерном, его сыном. — Посмотри, приемный отец, — сказала она, — какая красивая парочка там сидит бок о бок! — Против этого никто не может слова сказать, — ответил Асмунд, — надо много земель изъездить, прежде чем встретишь другого такого мужчину, как Эйрик Светлоокий, а такой девушки, как Гудруда, не сыскать нигде между Миддальгофом и Лондоном, если не считать тебя, Сванхильда! — Не говори обо мне, приемный отец! Что я такое? А вот если их поженить, то это будет выгодный брак для Светлоокого! — А кто сказал тебе, что Эйрик получит Гудруду в жены? — строго сказал Асмунд. — Никто, но у меня есть глаза и уши! — А ты не доверяй ни тому, что видишь, ни тому, что слышишь. Тогда речи твои будут разумнее! — сказал Асмунд жрец. — Подойди сюда, Эйрик, и расскажи нам, как ты встретился с Гудрудой. Тот рассказал, но не все, так как хотел сватать Гудруду только на другой день. Сердце его не предвещало ему счастья в этом деле, и потому он не спешил. — В этом ты оказал мне и дому моему услугу, — промолвил Асмунд жрец, — так как я высоко ценю ее, как невесту, и отдам в жены только знатному и богатому человеку. Если бы она погибла в снегу, такой человек был бы лишен счастья порадоваться на ее красоту. А за услугу твою прими от меня в дар вот это, — и он, сняв с руки своей толстый золотой обруч, протянул его Эйрику, добавив, — в тот день, когда супруг Гудруды назовет ее своею женой, он подарит тебе другой такой обруч! При этих словах колени Эйрика подкосились, и сердце замерло в груди, но он отвечал ясно и твердо: — Дар твой был бы лучше без слов, но прошу тебя, возьми его обратно; я не сделал ничего, чтобы заслужить его. Быть может, настанет время, когда я попрошу у тебя более ценной награды за то, что ты считаешь заслугой! — Никто еще никогда не отвергал моих даров! — гневно проговорил Асмунд. — Или ты — зажиточный землевладелец, что не придаешь цены золоту и не нуждаешься в нем? — В золоте я не нуждаюсь, того, что я имею, хватает мне, но я свободный человек и не хочу принять дара, за который я не могу отплатить тем же! Вот почему я не хочу принять твоего обруча. — Как хочешь! — проговорил Асмунд. — Гордость — добрый конь, если на нем ездить умеючи! — и он снова надел обруч себе на руку. Затем все отошли ко сну, а Сванхильда пошла и пересказала все своей матери. Гроа засмеялась: — Вот и хорошо! Асмунд в добром для нас с тобой настроении, и я сделаю так, что Эйрик не посмеет больше прийти сюда до того дня, когда Оспакар Чернозуб увезет отсюда Гудруду! — Но если Эйрик не будет приходить сюда, мать, то как же я буду видеть его лицо? А мне надо видеть его ясные очи! — Ну, уж это твое дело, безумная, но если он будет приходить сюда, то простись со своими надеждами! Как ты ни хороша, но Гудруда много лучше тебя, и как ты ни сильна, она сильнее тебя в этом деле. А про Эйрика скажу тебе, что он или добьется своего желания, или умрет под мечом Асмунда или Бьерна! — Делай как хочешь, мать, но пусть он будет мой! — сказала Сванхильда. — Ну, так я пойду к Асмунду, и прежде чем займется завтрашний день, Асмунд будет гневен и неумолим! И Гроа пошла к закрытой пологом кровати Асмунда; он сидел на постели и спросил, зачем она пришла. — Пришла я по любви моей к тебе и к дому твоему! Скажи, хочешь ли ты точно, чтобы дочь твоя, Гудруда Прекрасная, была Светлым Маем того долговязого поселянина Эйрика?[527] — Этого у меня не было в уме! — ответил Асмунд, поглаживая свою бороду. — Ну, так знаешь ли, сегодня твою любимую голубку этот поселянин ласкал и целовал, сколько душе его было угодно, там, среди снежного поля! — Что же, могло быть и хуже! Они — красивая пара и будто созданы друг для друга! — А если так, то все хорошо. Но все-таки жаль такую красавицу бросить, как завалящую вещь, простому поселянину. У тебя немало недругов, Асмунд: ты слишком богат и во всем имеешь удачу. Не разумнее ли было бы тебе воспользоваться этой девушкой, чтобы воздвигнуть себе ограду от врагов, отдав ее замуж за человека могущественного, сильного и богатого? — Не привык я рассчитывать на купленных друзей, а только на свою силу да на свой меч. Но скажи, как мне это сделать, если бы я вздумал последовать твоему совету? — Вот как: ты, верно, слышал об Оспакаре Чернозубе, жреце, что живет на севере и властвует там надо всеми, и все боятся его! — Слышал и знаю его! Нет человека, равного ему по безобразию, как и по силе, богатству и могуществу. Когда мы вместе с ним ходили викингами в походы, он делал такие дела, что кровь во мне возмущалась, а в те годы и у меня было не мягкое сердце! — С годами люди меняются, — продолжала Гроа колдунья, — только я знаю, что Оспакар пуще всего желает взять Гудруду себе в жены. Теперь, когда он имеет все, что только может иметь человек, ему не остается ничего более желать, как назвать своею женой женщину, красивее которой нет в Исландии. А с таким зятем, как Оспакар, кто посмеет пойти против тебя? — Не так уж я уверен в этом, да и тебе, Гроа, не вполне доверяю! Этот Оспакар безобразен и гадок; стыд тому, кто отдал бы Гудруду Прекрасную такому человеку, когда сама она глядит в другую сторону. Я клялся любить и беречь ее, и если Эйрик Светлоокий не столь богат и могуществен, зато красотою никто не сравнится с ним, да и рода он хорошего, честного, благородного, и всем мужчинам завидно глядеть на него! — На все воля твоя, господин, но если ты хочешь отдать сокровище свое, за которое князья рады были бы отдать свои земли, этому Эйрику, то смотри — не всегда длится снежная пора; юная кровь кипит и не любит ждать! Ты или обручи ее с ним, или прогони его! Вот тебе мое слово! — Язык твой, женщина, больно проворен и забегает вперед! Человек этот еще ничем не показал себя, и я хочу испытать его. Завтра я закажу ему дорогу к моему дому, и все пойдет так, как суждено судьбой. А ты теперь молчи, твои речи наскучили мне, лукавые они. Не знаю, что посулил тебе Оспакар за твое сватовство, только знаю, что ты бы от золотого обруча не отказалась! На этом разговор кончился. А рано поутру Асмунд разбудил Эйрика, спавшего у большого очага большой горницы, сказав ему, что хочет говорить с ним. Эйрик пошел за ним к воротам, и здесь Асмунд спросил его: — Скажи, Эйрик, кто научил тебя, что поцелуи устраняют холод в снежные дни? — Кто сказал тебе, господин, что я испробовал это средство? — спросил Эйрик. — Снег многое может сокрыть, но есть такие глаза, которых и метель не слепит. Знай, Эйрик, что хотя ты мне люб, но Гудруда не для такого ничем не прославленного поселянина, как ты! — Значит, моя любовь безрадостна, господин: я ведь люблю Гудруду Прекрасную больше жизни своей и хотел этим утром просить ее тебя себе в жены! — Ну, так ты слышал мой ответ и знай, что если тебя еще раз видят наедине с Гудрудой Прекрасной, то не ее уста, а мой боевой топор поцелует тебя! Эйрик повернулся и хотел идти к своему коню, как вдруг Гудруда подошла незаметно и стала между ним и отцом; сердце Эйрика дрогнуло от радости при виде ее. — Слушай, Гудруда, — сказал Эйрик, — таково слово твоего отца, чтобы нам с тобой не говорить больше никогда! — Это горькое и жестокое слово для нас, Эйрик, но на все есть воля отца! — Жестокое ли мое слово, или нет, а только оно будет твердо, и ты не пойдешь больше целовать его ни среди снежной равнины, ни на цветущем лугу! — проговорил Асмунд. — Мнится мне, что я слышу не твои слова, отец, а слова Сванхильды! — проговорила Гудруда. — Такие дела случались и с лучшими людьми, но отцовское слово для девушки — все равно, что ветер для травушки: и та, и другая должны склоняться! — Солнце хоть за облаком будет ныне, а настанет день, когда оно выглянет из-за туч. До тех же пор будь счастлив, Эйрик! — Так нет твоей воли, господин, и на то, чтобы я приехал сюда на твой праздник Юуль, как ты звал меня все эти десять лет? — спросил Эйрик. Асмунд, разгневавшись на речь Гудруды, указал рукою на Великий Золотой водопад, что с громом и грохотом падал с гор, и сказал: — Человек может прийти сюда тем или другим путем. От Кольдбека к Миддальгофу ведут два пути: один по проезжей дороге, а другой — через Золотой водопад. Но до сего времени ни один человек не избирал этого последнего пути. Я зову тебя к себе на праздник этим кратчайшим путем и клянусь, если ты явишься сюда через Золотой водопад, я встречу тебя с почетом, как желанного гостя. А если найду тебя мертвым в водовороте, то схороню по-соседски. Если же ты придешь сюда иным путем, то мои тралли заколют тебя у моего порога! — И Асмунд засмеялся, поглаживая свою длинную бороду: он знал, что никакой человек не может прийти этим путем. Эйрик с усмешкой отвечал: — Ну, так держи свое слово крепко! Быть может, я буду твоим гостем на празднике Юуле! — И, вскочив на своего коня, Эйрик поехал снежной равниной к себе на Кольдбек. Тем временем Колль Полоумный пришел в Свинефьелль, что на севере, где стоит грозный замок Оспакара Чернозуба, в котором день за днем сотни мужчин садились за мясо. Колль вошел в большую горницу, когда Оспакар сидел за длинным столом, и широко раскрыл глаза, увидев Оспакара. Такого человека он никогда еще не видал: роста он был громадного, волосы его были черны как смоль, а на нижней отвисшей губе находилось большое черное пятно. Глаза маленькие и узкие; скулы торчали в стороны, как у лошади. Колль подумал, что плохо иметь дело с Оспакаром, и устрашился своего поручения: Колль, хотя и полоумный был, но ничем не глупее умного, даже много хитрее всякого другого. Оспакар, сидя на высоком седалище, в пурпурном одеянии и опоясанный своим славным мечом Молнии Светом, подобного которому не было другого, при виде вошедшего Колля крикнул своим зычным голосом: — Кто та рыжая лиса, что залезла в мою берлогу? — Зовут меня Колль Полоумный, слуга волшебницы Гроа! Надеюсь, что я здесь желанный гость! — Это видно будет! — отозвался Оспакар. — Скажи, почему тебя зовут Полоумным? — За то, что не больно охоч до работы! — Ну, так все мои тралли совсем безумные и тебе сродни. А теперь скажи, что привело тебя сюда? — Вот что! Прошла о тебе молва, что ты сулишь богатый дар тому, кто отыщет для тебя в жены самую красивую девушку в Исландии, и я попросил госпожу отпустить меня на время, чтобы дойти к тебе и рассказать про такую девушку! — Ничего я никому не сулил, но всегда рад слышать про красивую женщину! — сказал Оспакар. — И готов взять себе в жены ту, которую найду достаточно прекрасной. Так говори, но, смотри, не лги, а то не помилую! И стал ему Колль расхваливать Гудруду Прекрасную. Когда он кончил, Чернозуб сказал: — Если девушка эта хоть наполовину столь прекрасна, как ты говоришь, то она может считать себя счастливой. Оспакар назовет ее своею женой. Если же ты налгал, то берегись, скоро одним мужем будет меньше в Исландии. Завтра я пошлю гонца сказать Асмунду, что думаю побывать у него на празднике Юуле, и тогда погляжу на эту девушку. А пока ты, Полоумный, садись с моими траллями и за труды свои получи вот это! — И Оспакар, сняв пурпурный плащ с своего плеча, бросил его Коллю. — Ты хорошо сделаешь, если не промедлишь, — сказал Колль, — на такой цветок летит много пчел. Уже есть у нас на юге человек по имени Эйрик Светлоокий; и он любит Гудруду Прекрасную, и она любит его, хотя он простой поселянин и ему всего двадцать пять лет! — Хо-хо! — захохотал Оспакар. — Мне уже сорок пять, но пусть этот молокосос не становится мне поперек дороги, а не то люди прозовут его Эйриком Одноглазым! Немедленно к Асмунду был отправлен гонец, и показались ему слова Чернозуба любы. Он приготовил пир.
Глава 4
Как Эйрик пришел через Золотой водопад.Накануне праздника Юуля прибыл в Миддальгоф Оспакар в роскошном вооружении, с большой свитой слуг и с двумя сыновьями — Гицуром Законником и Мордом Младшим. Гудруда, стоя у женских ворот отцовского замка, увидела при свете месяца лицо Оспакара, и оно возбудило в ней отвращение. — Приглянулся ли тебе, сестрица, тот, что приехал взять тебя в жены? — спросила Сванхильда. — Задаром приехал! — отвечала Гудруда. — Ему меня не взять! Скорее я буду лежать на дне водоворота под Золотым водопадом, чем на его брачном ложе! — Это будет видно! Оспакар и богат, и знатен, а ростом и сложением крупнее всех мужчин. Плохо придется Эйрику, если он попадет ему в руки. А придет Эйрик на праздник через Золотой водопад, как ты думаешь, сестрица? — Ни один человек не может этого сделать и остаться жив! — сказала Гудруда. — Ну, так он умрет, — сказала Сванхильда, — так как знаю, что он отважится на это! — Тогда кровь его ляжет на тебя и на твою мать, ведь это вы вдвоем навлекли на нас эту беду. И что я сделала тебе, Сванхильда, что ты так противишься моему счастью? — Что ты сделала мне?! — воскликнула Сванхильда, бледная и безобразная от гнева. — Ты отняла у меня любовь Эйрика. Я не оставлю этого так и не успокоюсь, пока не отниму у тебя его любви или не увижу и тебя, и его в когтях смерти! — Непристойны слова твои для девушки! Не страшна ты мне, и не страшны твои козни; ты ли, я ли одержим верх, знай, что ты наживешь больше позора, чем радости, и люди, вспоминая тебя, будут говорить о тебе с хулой, называя скверным именем; Эйрик же никогда не полюбит тебя, зато ненависть к тебе будет расти в нем с каждым часом, хотя ты, может быть, и погубишь и его, и меня! — С этими словами Гудруда отвернулась от нее и отошла в сторону. Между тем Асмунд жрец вышел во двор своего замка и приветствовал Оспакара Чернозуба, хотя он и не приглянулся ему. Взяв гостя за руку, он повел его в большую горницу, где было приготовлено все, и усадил на высокое седалище рядом с собой. Сюда слуги Оспакара внесли богатые дары для Асмунда, и тот много благодарил за них. Так как настало время для ужина, то мужчины сели за мясо, а женщины прислуживали им. Когда вошла Гудруда, а за ней и Сванхильда в горницу, то Оспакар посмотрел на Гудруду, и им овладело желание взять ее себе в жены; она же даже глаз на него не подняла. — Так это та девушка, о которой я прослышал и что зовется Гудруда Прекрасная? Поистине, она прекрасна, и красивее ее никогда не рождалось женщины! — воскликнул Оспакар. Мужчины ели, а Оспакар, кроме того, еще пил много пива и заморского вина, не сводя глаз с Гудруды Прекрасной. Но до того часа не сказал ни слова о том, зачем приехал. Оба сына его также смотрели на Гудруду, и им она тоже казалась удивительно прекрасной, но Гицуру и Сванхильда приглянулась. Так прошел вечер; настала ночь, пришло время всем отойти ко сну. В тот же вечер Эйрик на своем коне доехал до Золотого водопада, до того места, где Золотая река ниспадает с высокой горы, каменной гряды, которая в этом месте вздымается до высоты сотни футов. Струя воды, падая вниз, раздваивалась на своем пути, от самого края обрыва сплошным рядом выступающих обточенных водою скал; это — так называемые Бараньи Курдюки. Здесь водопад образует собой подкову, концы которой обращены к Миддальгофу, и одной общей струей ниспадает в бездонную пропасть, образуя страшный водоворот. Дальше река разветвляется надвое, опоясывая кольцом с двух сторон цветущую долину Миддальгофа. Восточный рукав называется рекой Ран, а западный — Лакса. Подъехав к самому водопаду, Эйрик долго изучал его, рассчитывая в уме каждый шаг, каждое движение. — Вряд ли человек может совершить это и остаться жив! — думал он. — Но я все же попытаюсь: великая слава ждет меня, если мне посчастливится; если же нет, то пусть Ньерд[528] примет меня в свое царство, и я навек забуду про девичью красоту и про мучения любви! Так он решил и, поворотив коня, вернулся домой. Хотя Савуна, мать Эйрика, со смерти Торгримура Железной Пяты потеряла свет очей своих и не могла видеть лица своего сына, но сердце сказало ей в этот вечер, что Эйрик затеял что-то недоброе. — Что тебе, сын мой, или мясо тебе нынче не по вкусу было? — спросила она, узнав сына. — Мясо было не худо, хотя и продымилось немного! — Вот теперь я вижу, что с тобою что-то неладно, — сказала Савуна, — у тебя совсем не было мяса сегодня на ужин, а если человек не разбирает, что он ест, то или он потонул в любви, или на уме у него что-нибудь тяжелое. Скажи мне, сын, что тяготит твою душу? Эйрик откровенно признался матери, что задумал; и она горько упрекала его, но он долго молчал, затем отошел ко сну, но прежде нежно поцеловал свою мать. Наконец настал день праздника Юуля. Солнце не показывалось до часа пополудни. Эйрик поцеловал мать и простился с ней, затем, призвав тралля своего Иона, дал ему узел, обернутый в телячью шкуру; в этом узле была завернута его лучшая одежда. Эйрик приказал слуге взять коня и ехать в Миддальгоф, где сказать Асмунду жрецу, что Эйрик Светлоокий в час пополудни придет через Золотой водопад к нему на праздник. Тралль послушался, невольно подумав в душе, что его господин лишился рассудка. Между тем тот поехал на коне к Золотому водопаду. Здесь он простоял некоторое время, пока, наконец, не увидел, что из ворот замка Миддальгофа идет множество людей по снегу к подножию водопада, к тому месту, где крутится и пенится водоворот, посылая высоко вверх свои брызги и пену. В толпе Эйрик различил двух женщин и какого-то громадного мужчину, незнакомого ему. Выглянувшее в это время солнце залило ярким светом весь водопад, реку и водоворот, но мороз был сердитый и резал лицо и руки, как мечом. А Эйрику пришлось сбросить с себя одежду и остаться в одной вязаной сорочке и нижних штанах и кинуться в студеную воду, чтобы доплыть до Бараньих Курдюков посредине реки. Река в этом месте была широка и текла так быстро, что несла целые стволы, как щепки, прямо в бездну. Эйрика тоже стало относить, и как он ни был силен и могуч, как ни боролся против течения, вода несла его все ближе и ближе к краю обрыва. Не успей он в последнюю минуту ухватиться за выступ одной из скал Бараньих Курдюков, тут бы ему и конец. Ухватившись за скалу, он с минуту повис на ней, затем, подтянувшись на руках, сел верхом на нее и некоторое время отдыхал. Но вот он снова поднялся и встал на ноги; мороз прохватывал его и начинал леденить его члены. Сильным движением он расправил их, вытянувшись во весь свой богатырский рост, и люди внизу теперь только увидели, что он жив и благополучно переплыл реку. Посыпались приветствия. Теперь Эйрик стал спускаться по скалам Бараньих Курдюков, что было очень трудно, так как скалы были круты и отвесно спускались в бездну; кроме того, они были скользки от заледеневших на них брызг. Наконец, вода, сплошной стеной падая вниз по обе стороны, слепила ему глаза и оглушала своим шумом. Все-таки он спустился на целых пятнадцать сажен, и люди внизу дивились его ловкости и смелости. Теперь Эйрику следовало спрыгнуть на торчавший одиноко выступ подводной скалы, прозванной Волчьим Клыком, по обе стороны которого бешено мчался соединившийся в один поток могучий водопад, разделенный вверху Бараньими Курдюками. От последнего камня Курдюков пространство ярдов в пять отделяло Эйрика от черневшего внизу Волчьего Клыка. Взглянув вниз, где, пенясь, сшибался поток, смельчак на минуту был охвачен ужасом, однако скоро оправился. И, не долго думая, отвязал обмотанный у него вокруг пояса канат, укрепил его одним концом за выступ скалы, а другой конец крепко привязал к своему ременному поясу. В это время яркая радуга перекинулась, высоким сводом через пенящиеся воды водопада — и это показалось ему добрым предзнаменованием. Точно камень, сорвавшись с пращи, прыгнул Эйрик и упал прямо на Волчий Клык, здесь с минуту пролежал неподвижно, собираясь с новыми силами, затем вполз на руках на самую вершину Клыка. Скала дрожала и стонала под напором воды, так что Эйрик едва мог держаться на ногах, когда встал, готовясь сделать последний, решительный прыжок. Члены Эйрика начинали коченеть; надо было спешить. С громким, торжествующим криком, как бы стараясь придать себе мужества, кинулся юноша в самый водоворот, описав на лету громадную дугу в воздухе. Зрители затаили дыхание, когда он, точно большой белый камень, мелькнул в воздухе, затем, среди пенящихся волн, оглушенный могучей струей падения вод, пошел было ко дну, но потом волнами его выбросило на поверхность. Тогда, призвав на помощь все свои силы, он, сильными толчками преодолевая последнее препятствие, окончательно всплыл и двинулся к берегу. Скоро и ноги его коснулись дна песчаной отмели, образовавшейся вокруг бездонной выбоины, куда устремлялся водопад, но течение подхватило его и неудержимо понесло в бездну. Эйрик рванулся вперед и несколькими ударами доплыл до берега, но тут упал обессиленный и лишился чувств.
Глава 5
Как Эйрик добыл себе меч Молнии Свет.Все жители невольно удивлялись мужеству Эйрика. В числе их был и Асмунд. При виде его Эйрик, придя в чувство, сказал: — Ты звал меня к себе на праздник Юуль тем скользким путем! Вот я пришел! Принимаешь ли ты меня теперь, как обещал? — Принимаю, лучше всякого другого гостя, — отвечал жрец, — ты отважный и сильный человек и совершил такой подвиг, о котором будут говорить люди, пока скальды[529] будут петь и люди будут жить в Исландии! — Пусти меня, отец, — вмешалась прибежавшая к юноше Гудруда, — видишь, Эйрик разбился о скалу, и кровь сочится из раны! — И девушка отвязала платок со своей шеи, перевязала рану его, затем накинула на него свой плащ, чтобы согреть. Никто не сказал ей ни слова. После этого героя отвели в замок, где он отдохнул и переоделся в свое лучшее платье, а тралля своего Иона послал на Кольдбек сказать матери, что он остался жив. Но весь этот день Эйрик был слаб, и шум водопада наполнял его слух. Оспакар и Гроа не рады были тому, что случилось, и жалели, что Эйрик остался жив. Все же остальные радовались этому. Наступило время праздника, и как то было в обычае, праздновали его в храме, поэтому все мужчины пошли в храм. Когда все заняли свои места, привели откормленного вола, что нарочно был приготовлен для принесения в жертву богам. Его поставили перед жертвенником, на котором горел священный огонь, и Асмунд жрец заклал его, затем собрал кровь в золотой сосуд и окропил ею жертвенник и всех людей, собравшихся в храме. После этого мясо вола разрубили на части и обмазали изображения богов растопленным жиром его, вытерев их тончайшим холстом. Наконец, мясо вола варили в котлах, висевших над кострами, зажженными в храме, — и тогда начался праздник. Мужчины ели много и пили много пива и медов, и все были веселы, только Оспакар Чернозуб не развеселился, хотя пил больше всех; он видел, что Гудруда смотрела только на Эйрика и что они улыбались друг другу. Злоба забирала его, рука его крутила ремень, на котором висел его меч. Вдруг ремень развязался, и меч чуть не упал, но Оспакар вовремя удержал его рукой, причем тот наполовину выдвинулся из ножен, и все люди увидели, как ослепительное лезвие блеснуло при огне. — Чудесный у тебя клинок, Оспакар, — проговорил Асмунд, — хотя здесь не место вынимать меч. Скажи, откуда он у тебя? Мне думается, теперь не куют уж таких мечей! — Верно, — отвечал Оспакар, — другого такого меча нет в целом мире. Сковали его в стародавние времена карлики[530], и тот, кто поднимет этот меч, никогда не будет побежден. Это был меч короля Одина[531], и зовется он Молнии Светом. Ральф Рыжий похитил его из гробницы короля Эйрика и долго бился из-за него с могильными духами. Мой отец убил Ральфа, когда суда их сошлись в море и Рыжий, забыв про свой меч, стал биться секирой. Таким образом Молнии Свет достался отцу, а от отца мне. Посмотри на него, Асмунд, и скажи, видал ли ты когда другой такой меч! И он вынул его из ножен, и все мужчины столпились поглядеть на него. Лезвие было так широко и так блестяще, что никто не мог долго смотреть на него: блеск его слепил глаза. На мече находилась надпись во всю его длину, но прочитать ее не мог никто. — Ты, управительница, и в старинном письме сведуща и толковать искусна, посмотри, быть может, ты разберешь эти письмена! — проговорил Асмунд, обращаясь к колдунье Гроа. Та прочла надпись так: Зовут меня Молнии Свет, сковали меня карлики. Был я мечом Одина, и Эйрика мечом я был И Эйрика мечом я буду снова И там, где я паду, там должен пасть и он! Слушая это, Гудруда взглянула на Эйрика Светлоокого. Оспакар, заметив это, очень разгневался, проговорив: — Не смотри так, девушка, не об этом утенке желтоносом идет речь, не ему владеть Молнии Светом! — Нехорошо, господин, метать насмешки, как сердитая женщина, и хотя ты велик и силен, но я не побоялся бы помериться с тобой! — заметил Эйрик. — Молчи, мальчишка! — закричал на него Оспакар. — В какой игре можешь ты сравниться с Оспакаром? — Я готов сразиться с тобой в броне и со щитом или в рукопашном бою с мечом или секирой, и пусть Молнии Свет будет наградой победителю! — Нет, — сказал Асмунд, — я не хочу крови здесь, в Миддальгофе! Сразитесь лучше на кулаках и в рукопашной борьбе — это веселит взор людей, а с оружием в руках я не позволю здесь биться! Тогда Оспакар охмелел от злобы и вина, и глаза его налились кровью, бешенство овладело им. — И ты хочешь бороться со мной, со мной, которого никогда не мог даже приподнять от земли ни один человек? Так хорошо же! Я положу тебя лицом на землю и выпорю, как блудливого и наглого мальчишку. Пусть Молнии Свет будет закладом, а ты что можешь поставить против этого меча? Твоя жалкая нора и все твои земли не стоят его, в придачу со всеми твоими людьми и стадами! — Я ставлю свою жизнь! — смело отвечал Эйрик. — Если я не добуду Молнии Света, пусть Молнии Свет поразит меня. — Нет, этого я здесь не допущу! — воспротивился Асмунд. Тогда Оспакар засмеялся так, что все люди увидели его черные зубы, и сказал: — Меч мой Молнии Свет светел, и светлы твои глаза, Светлоокий! Прозакладывай против моего меча твой правый глаз, если не робеешь, если же это страшит тебя, то бросим заклад, только другого я не приму! — Глаза — богатство бедного, и потому пусть будет, как ты сказал, — согласился Эйрик. — Завтра мы выйдем друг против друга! — Завтра тебя назовут Эйрик Одноглазый! — с усмешкой проговорил Оспакар. Праздник продолжался. Асмунд жрец, поднявшись со своего высокого седалища, стал провозглашать священные тосты. Сперва люди пили за победу над врагами, затем пили в честь Фрейра[532], прося изобилия, затем в честь Тора, прося силы в битве, и в честь Фрейи, богини любви, после этого последовал тост в поминовение умерших, наконец, в честь Браги, бога наслаждений. Когда и этот круговой кубок был выпит, Асмунд, снова поднявшись со своего места, согласно обычаю, спросил, не желает ли кто принести клятву в том, что он намерен совершить тот или другой подвиг. Тогда поднялся Эйрик Светлоокий и молвил: — Господин, я желал бы принести клятву! — Расскажи сперва, что ты задумал! — Живет там, на Мшистой скале, близ Геклы, один берсерк, о котором по всей земле идет дурная слава, так как не много есть людей, которым бы он не учинил обиды. Зовут его Скаллагрим. Человек он сильный, мощный и отважный, и многие нашли смерть от его руки, многих он ограбил, но я клянусь, что, когда дни станут длиннее, пойду к нему один и вызову на бой! И все похвалили Эйрика, так как Скаллагрим многим досадил. Тогда Эйрик подошел к жертвеннику и, взявшись за священное кольцо у него и поставив ногу на священную плиту, как того требует обряд, громко произнес свою клятву. Затем праздник пошел своим чередом, пока все не захмелели, кроме Асмунда жреца и Эйрика Светлоокого. Наконец все разошлись на покой. Эйрик, крепко выспавшись, поутру встал еще до света и пошел выкупаться на реке; там он смазал все свои члены жиром тюленя, чтобы они были гибки и мягки. Возвращаясь с реки, он увидел у женских ворот Гудруду. Гудруда пожелала юноше счастья в борьбе, добавив: — Хотя ты и потеряешь свой глаз, но я буду по-прежнему любить тебя и с одним глазом! После этого Эйрик направился в замок. Скоро стали подниматься и прочие гости. Встал и Оспакар. Протрезвившись, он стал раскаиваться, что согласился прозакладывать свой меч, так как Молнии Свет был ему всего дороже, а глаз Эйрика ни на что не пригоден. А случится еще, что Эйрик одержит верх, — хотя этого он совсем не опасался, так как считался сильнее всех людей в Исландии, — тогда будет ему, Чернозубу, великое посрамление. Поэтому, завидев Эйрика Светлоокого, Оспакар крикнул ему грозно: — Эй, слушай ты, Эйрик! — Что тебе, Оспакар? — Вчера мы порешили с тобой биться об заклад, но в нас говорили пиво и мед: ни тебе терять глаз, ни мне меч — не утеха. Так не лучше ли нам оставить это дело? — Если тебя забирает страх, то пусть так! При этих словах Оспакар со злобой вскричал: — Ах ты, щенок, так ты в самом деле хочешь выйти против меня? Да я переломлю тебе хребет с первого удара и вырву руками твой глаз прежде, чем ты успеешь подохнуть! — Это может случиться, — сказал Эйрик, — но громкие слова не всегда влекут за собою громкие дела! Скоро тралли пошли с лопатами и метлами и стали разметать снег в ограде. Разметя круг в тридцать пять футов, они посыпали сухим песком и золой, чтобы борцы не скользили, а снег накидали высокой стеной вокруг. Тем временем Гроа, отозвав Оспакара в сторону, тихонько зашепталась с ним: — Знаешь ли, господин, мое сердце не предвещает тебе ничего доброго в этой борьбе. Что ты дашь мне, если я доставлю тебе победу? — Я дам тебе две тысячи серебра! — Хорошо, — сказала Гроа, — теперь не спрашивай меня ни о чем, и ты победишь. Тогда Гроа призвала своего тралля Колля Полоумного и приказала ему густо смазать жиром подошвы башмаков Эйрика Светлоокого и подержать их над огнем, чтобы жир впитался в кожу, а затем поставить на прежнее место. Скоро пришел и Эйрик и стал готовиться к борьбе. Взяв свои башмаки, он обул их, ничего не подозревая. Все вышли в ограду и встали вкруг кольцом, Эйрик и Оспакар друг против друга. Оба они были без верхней одежды, в одних вязаных тесных куртках и таких же штанах, на ногах были у них башмаки из бараньей шкуры, привязанные к ноге ремешками. Судьей избрали Асмунда. Тот громко прочел, как надо бороться и как надо противника на землю положить: чтобы он бедрами, головой и плечами лег на землю, и так два раза. Затем Асмунд потребовал, чтобы Оспакар отдал ему свой меч в залог, на что Чернозуб сказал, что тогда и Эйрик должен дать ему свой глаз в залог, но Асмунд жрец возразил: — Меч твой мне легко будет возвратить тебе, если ты одержишь верх, а как я возвращу Эйрику Светлоокому его глаз, если он одолеет тебя? И зрители согласились, что Асмунд рассудил правильно. Тогда Оспакар вынул из-за пояса небольшой стальной нож и приказал сыну своему Гицуру держать его наготове. — Скоро ты узнаешь, молокосос, каково почувствовать нож в глазу! — крикнул он Эйрику. — Скоро мы многое узнаем! — спокойно ответил Эйрик. Оба противника, сбросив свои плащи, стали расправлять свои члены. — Смотрите, Бальдр и тролль! — воскликнула Сванхильда, и все засмеялись. — Если Оспакар был страшен и безобразен, как тролль, то Эйрик был прекрасен, как Бальдр, прекраснейший из богов[533]. Асмунд ударил в ладоши и тем подал знак для начала борьбы. Долго длилась она; ни тот, ни другой противник не могли одолеть друг друга. Оспакар трижды пытался поднять Эйрика с земли, но напрасно. Наконец, едва только Эйрик сделал шаг вперед, ноги его скользнули по песку, он ступил еще и еще раз поскользнулся — и на этот раз очутился на спине, запрокинутый по всем правилам. Гудруда при виде этого сильно опечалилась. Но, удивленная странным скольжецием ног Эйрика, незаметно пробралась к тому месту, где он сидел на снегу и отдыхал. Душа его была скорбна: он чувствовал, что его не сила одолела, а какое-то колдовство. — Слушай, Эйрик, — прошептала Гудруда, — не падай духом! Посмотри хорошенько подошвы твоих башмаков. Тот распустил ремешок, снял башмак с ноги и посмотрел на подошву. На морозе сало замерзло, и вся подошва была бела от сплошной коры льда. Тогда гнев загорелся в ясных очах Светлоокого, и он воскликнул: — Думалось мне, что я борюсь в честном бою с путным и сильным борцом, а не с обманщиками и хитрыми плутами! Смотрите! Удивительно ли, что я поскользнулся, а он положил меня? Видите, мои подошвы смазаны салом. Кто это сделал, на того ляжет позор из рода в род! Тогда Асмунд жрец, взяв из рук Эйрика его башмаки и осмотрев подошвы, сказал: — Эйрик Светлоокий правду сказал, есть среди нас подлый плут! Скажи, Оспакар, можешь ли ты отвести от себя такое обвинение? — Я готов поклясться на священном кольце, что ничего не знал об этом, и если это сделал кто-то из моих людей, то он умрет! — ответил Оспакар. — Это больше похоже на дело женских рук! — сказала Гудруда и многозначительно посмотрела на Сванхильду. — Не причастна я к этому! — промолвила Сванхильда. — Так поди и спроси твою мать! — гневно сказала Гудруда. И все зрители громко закричали, что это великий срам, что борьба не в счет и надо начинать ее сначала. Теперь только Оспакар вспомнил, что посулил Гроа две тысячи серебра, но тем не менее стал спорить против возобновления борьбы, и Эйрик во гневе воскликнул: «Пусть будет так!» Асмунд жрец сказал то же «пусть!» Но в душе поклялся, что даже если Эйрик будет побит, он не допустит, чтобы Светлоокий лишился глаза. Эйрик и Оспакар снова схватились, и на этот раз борьба продолжалась долго. Оспакар не мог поднять Эйрика с земли, но, наконец, Эйрик ухватил Оспакара, и оба повалились на землю, затем снова вскочили, тогда Оспакар подставил ногу, чтобы опрокинуть соперника, но тот уловив его движение, зацепил его ногу своей левой ногой, а затем всей тяжестью своего корпуса разом налег ему на грудь — и Чернозуб запрокинулся на спину, точно срубленный ствол, на снег. Эйрик упал вместе с ним и лег на него всей своей тяжестью. Зрители закричали: «Повалил, повалил!» И все радовались победе Эйрика Светлоокого. Но это было еще не все. Передохнув немного, борцы снова схватились. Долго ни тот, ни другой не могли одолеть друг друга. Бешенство овладело тогда Оспакаром. Ощупав подле своей ноги босую ногу Эйрика, он со злобы наступил на нее со всей силы; кровь густой струей брызнула в стороны. — Недоброе дело! Срамное дело! — закричали кругом зрители. Борьба продолжалась. Оба борца повалились было на землю, но скоро поднялись. Вдруг Эйрик отскочил в сторону. Оспакар устремился на него, как разъяренный бык, и, собрав все свои силы, сбил противника с ног, но тот в ту же минуту вскочил снова на ноги. Тогда доведенный до бешенства Оспакар вцепился своими черными зубами ему в плечо. Эйрик осторожно опустил руку от пояса соперника и, продев ему между ног, приподнял и со всего маха плашмя положил его на спину; тот так и остался в снегу.
Глава 6
Как Асмунд жрец помолвился с Унной.С минуту длилось молчание. Затем зрители стали громко приветствовать Эйрика и прославлять его подвиг, а сам Эйрик как будто вдалеке слышал этот шум и крики и как будто во сне видел всех этих людей. Вдруг на него наскочил человек с поднятой секирой, и, не успей он отскочить в сторону, тут был бы ему и конец. Человек этот был Морд, младший сын Оспакара; взбешенный поражением отца, он хотел отомстить за него. Отскакивая от него, Эйрик замахнулся кулаком, и удар пришелся немного над ухом Морда; тот без чувств упал на отца, который все еще не мог прийти в себя. Кругом сверкнули мечи, и зрители кольцом обступили Эйрика, чтобы охранить его от врагов, так как тралли и люди Оспакара были вне себя от посрамления такого прославленного на севере богатыря и силача. Люди же юга, с Миддальгофа и реки Ран, гордились Эйриком и громко прославляли его. Дело чуть не дошло до кровопролития, но Асмунд жрец крикнул северянам: — Долой мечи! Здесь я не допущу кровопролития! Уберите эти тела там на снегу! — И люди Оспакара повиновались. Оспакар теперь очнулся и сидел на снегу, безобразный от ярости и злобы. Кровь шла у него изо рта, из ушей и из носа от сильного напряжения; он был так гадок, что никто смотреть на него не хотел. Теперь Асмунд жрец подошел к Эйрику Светлоокому и, поцеловав его в лоб, проговорил: — Эйрик — и сильный, и смелый, и честный человек, хвала и гордость всех людей юга! Я предсказываю тебе, что ты совершишь подвиги, каких еще никто до тебя не совершал в Исландии. Ты честно добыл этот чудесный меч, возьми его и носи с честью! — Господин, — проговорил Эйрик Светлоокий, — если ты считаешь меня не последним человеком и чтишь меня добрым словом, то прошу, обещай отдать мне свою дочь Гудруду Прекрасную; ведь ради нее я и совершил эти дела, за которые ты и все люди прославляют меня; ради нее я готов совершить еще больше. Асмунд отвечал: — Вот что я скажу тебе, Эйрик! Если ты будешь продолжать, как начал, то я обещаю, что не отдам Гудруду никому другому, кроме тебя. И еще скажу тебе, что вы двое можете помолвиться теперь же, так что, если нарушите ваши клятвы, срам падет на вас, а не на меня. Вот тебе моя рука порукой! Эйрик взял руку Асмунда и, положив ее себе на голову, обратился к девушке: — Слышала, Гудруда, ласковые слова отца? Подойди же сюда, и поклянемся при всех этих людях, на этом чудесном мече, что будем любить друг друга до самой смерти и будем верны друг другу, пока живы. Гудруда подошла, и оба произнесли свою клятву над мечом, приложившись губами к сверкающему лезвию Молнии Света. Сванхильда смотрела на них, и в сердце ее клокотала злоба. Оспакар же, придя теперь в себя, сидел на снегу, упершись лбом в землю; он чувствовал, что потерял теперь и свою славу, и меч, и жену. — Я пришел сюда, Асмунд, — проговорил он, — чтобы взять твою дочь себе в жены. Это было бы хорошо и для тебя, и для нее. Но этот юнец колдовством осилил меня, и теперь я принужден слышать и видеть, как ты на моих глазах помолвил этих двоих. Подожди! Беда обрушится на тебя и на весь твой дом, а я навек будут твоим врагом! Ты же, Эйрик, знай, что мы еще раз встретимся с тобой. Нынче была только детская забава, мы сойдемся в броне и со щитом и с мечом наголо, и тогда ты увидишь, с кем имеешь дело! Я убью тебя, а девушку силой возьму себе в жены, вырвав из твоих объятий, и тем же славным мечом Молнии Светом отрублю тебе голову! Слышишь? — Ты, Оспакар, — чан, в котором много пены и мало воды! Хочешь, мы завтра же встретимся с тобой на поединке и решим то, что начали сегодня? — Нет, у меня здесь нет меча. Но не бойся, я не запоздаю! — Спеши! — сказал Эйрик и пошел в замок переодеться. На пороге попалась ему Гроа колдунья. — Ты насалила мои подошвы, мерзкая колдунья, — сказал он, — смотри, ты еще не жена Асмунда и никогда не будешь ею! Об этом я позабочусь. — Если так, то берегись своей пищи и питья. Я недаром родилась среди финнов! — Кошка начинает фыркать! — засмеялся Эйрик. — Это ей и пристало! Но вот подошел к Эйрику Асмунд жрец и стал просить его, чтобы он вернулся к себе на Кольдбек, так как у Оспакара Чернозуба пропали кони, и пока их разыщут, Чернозуб должен будет остаться в Миддальгофе, а он, Асмунд, опасается, что, если они останутся под одной крышей, между ними выйдет кровопролитие. Эйрик согласился и, поцеловав Гудруду, сел на коня, опоясавшись мечом Молнии Светом, и уехал к себе на Кольдбек. Савуна, мать его, приветствовала его с великой радостью; он пересказал ей все, как было, и она жалела, что Торгримур Железная Пята, супруг ее, не был свидетелем подвигов сына. После ужина Эйрик заговорил со своей матерью об Асмунде жреце и о родственнице Савуны, дочери брата ее Торода, Унне, женщине красивой и искусной во всякой домашней работе, и сказал, что неплохо было бы взять ее жить к ним на Кольдбек, прибавив, что Асмунду наскучила Гроа колдунья и он, быть может, будет рад взять себе в жены другую женщину. — Пусть же будет так, как ты того желаешь, сын мой, — сказала Савуна, и на другой же день Унна поселилась в их доме. Действительно, после того, что Гроа сделала с башмаками Эйрика, она стала так противна Асмунду, что он не хотел видеть ее и стал подумывать, как бы не иметь с ней никакого дела. И вот, когда Оспакар уехал из Миддальгофа, Асмунд поехал на Кольдбек к Эйрику и его матери и увидел Унну. Та сильно приглянулась ему, и он просил у Эйрика, чтобы он отдал ее в жены ему. Унна тоже не сказала «нет», и они помолвились, решив отпраздновать свадьбу по осени. — Где ты был, господин? — спросила Гроа колдунья, когда Асмунд вернулся с Кольдбека. И Асмунд сказал ей о всем. Тогда лицо ее исказилось от бешенства, и она стала призывать проклятие на него, на весь его дом и на весь народ. Асмунд, вскипев гневом, вскричал: — Перестань сейчас же твои заклинания, а не то ты будешь брошена, как колдунья, в водоворот под водопадом. — А-а! В самом деле! В водоворот? Да, я вижу себя там; только ни твои глаза, ни глаза Унны не увидят этого; вы уже умерли раньше меня, да! — и она громко вскрикнула и, запрокинувшись навзничь, стала с пеной на губах кататься по земле. Асмунд позвал к ней людей, а сам отошел прочь, подумав, что лучше было бы никогда не видать ее смуглого лица. После того Гроа десять дней была не в памяти. Дочь ее Сванхильда ходила за ней, а когда она пришла в себя, то пожелала увидеть Асмунда и, оставшись с ним одна, униженно просила прощения за свои недобрые слова,заявив, что она стала стара, худа и безобразна и покоряется своей судьбе. Пусть молодая хозяйка войдет в этот дом, но пусть и ей будет позволено в память о прошлом остаться смиренно в своем углу; пусть ее не гонят из замка. При этом она много плакала и говорила много ласковых слов Асмунду; сердце его разжалобилось, и он позволил ей остаться в доме. Ита к, Гроа осталась жить в М иддальгофе и была кротка и ласкова, как никогда раньше не бывала.
Глава 7
Как Эйрик ходил против Скаллагрима берсерка.Случилось так, что добрый ярл[534] Оркнейской страны Атли Добросердечный приплыл в Исландию, где унаследовал после матери своей Хельги земли и, управившись со своими делами, весной собирался вернуться домой, но ветры и непогода заставили его встать на время под ветер Западных островов. Атли спросил, какой народ живет здесь, и, когда услышал об Асмунде сыне Асмунда, жреце Миддальгофа, душа возрадовалась: в старые годы он и Асмунд не раз совершали вместе морские походы викингов. Атли, взяв двоих из своих людей, сел на коня и поехал в Миддальгоф. Атли был лучший из всех ярлов в те дни, за что народ и прозвал его Добросердечным. Было ему шестьдесят лет, но годы не тронули его; только длинная седая борода напоминала людям, что он прожил на свете немало лет. Кроме седой бороды, Атли был красивый, рослый, сильный мужчина, глаза его были ясны, речи разумны. Это был великий, славный воин и справедливый судья. Жена у него умерла много лет тому назад, не оставив ему детей, и это сильно огорчало его, но до сих пор он не взял себе другой жены. Он говорил: «Любовь ослепляет старого человека», — или: «Спутаешь седые кудри с золотыми — и обезобразишь две головы», — и многое другое. Прибыл Атли в Миддальгоф, когда мужчины садились за мясо. Асмунд сразу признал Атли, хотя почти тридцать лет не видал его, и, взяв гостя за руку, ввел в большую горницу, усадил на высокое седалище, а его людям приказал очистить место на длинных скамьях. По обычаю женщины служили. Старый Атли увидел Сванхильду, и она показалась ему удивительно прекрасна в белом одеянии с шелковистыми темными кудрями, румяными и пышными устами и глазами, синими и глубокими, как море. — Скажи, Асмунд, — спросил Атли, — эта прекрасная девушка, твоя дочь? — Ее зовут Сванхильда Незнающая Отца! — отвечал Асмунд жрец, отвернув свое лицо. — Если бы эта девушка была от меня, — сказал Атли, — ее не долго бы называли Незнающей Отца: таких красивых девушек на свете мало. Сванхильда, услышав эти слова, задумала, чтобы Атли полюбил ее, а она могла насмеяться над ним. Целый день она ухаживала за ним, служила ему и пела ему песни, и так все три дня, пока погода не стала снова хорошая и тихая. Тогда Атли сказал ей, что на следующий день он отплывет на своем судне на Оркнейские острова. Сванхильда положила свою белую руку на руку Атли Добросердечного и проговорила: — Ах, не уезжай еще, государь мой! Не спеши с отъездом, прошу тебя! — И, закрыв руками лицо свое, убежала из горницы. Атли подумалось, что случилось удивительное дело: прекрасная молодая женщина полюбила старого, седобородого воина. Но так как он был человек мудрый и рассудительный, то решил зорко следить за девушкой прежде, чем скажет о своем намерении слово Асмунду, боясь ошибиться.
Дни стали длиннее, и Эйрик стал помышлять о своем зароке — пойти против Скаллагрима берсерка, в его берлогу, что на Мшистой скале близ Геклы. Это было дело нелегкое: Скаллагрим был такой силач, что никто не смел ни пойти против него, ни противится ему. А Скаллагрим уже прослышал, что один поселянин по имени Эйрик Светлоокий дал зарок пойти один на один против него и уничтожить его. Но прежде он проделал над Эйриком такую насмешку: подъехал ночью к Кольдбеку на реке Ран и выкрал у Эйрика одну овцу; держа овцу под рукой вдоль седла, подъехал к самому дому и трижды стукнул в двери своей секирой, так что весь дом задрожал, затем, отъехав немного в сторону, стал выжидать. Эйрик вышел неодетый, но со щитом и с мечом Молнии Светом в руке и при свете месяца увидел громадного чернобородого мужчину на коне с большим топором в руке и овцой под мышкой. — Кто ты такой? — спросил Эйрик. — Зовут меня Скаллагрим, — отвечал конный, — и многие люди, увидев меня однажды в своей жизни, уже в другой раз не увидят. Дошел до меня слух, что ты дал зарок пойти против меня один на один в моей берлоге на Мшистой скале. Так вот я пришел сказать тебе, что встречу тебя с почетом. Вот смотри, — добавил он и, отрубив хвост у овцы, кинул его Эйрику. — Когда ты прирастишь этот хвост к шкуре этой овцы, из которой я сошью себе куртку, тогда Скаллагрим признает над собой господина! — И повернув коня, он ускакал. На другой день Эйрик собрался в поход, надел панцирь и золотой шлем с крыльями по бокам, опоясался славным мечом Молнии Светом, взял надежный щит и, простившись с матерью и Унной, выехал со двора. Путь его лежал мимо Миддальгофа, и он заехал туда. Когда он подъезжал, увидел его старый Атли и воскликнул: — Вот едет человек сильный и прекрасный, как сам бог Бальдр! Эйрик пробыл ночь в Миддальгофе, Асмунд был ласков к нему, Гудруда гордилась им, а Атли много разговаривал с ним и сердцем полюбил его, горько жалея, что боги не дали ему такого сына, и наконец сказал: — Вот тебе мой совет: береги свою голову, защищай ее щитом, а сам руби низко — ниже его щита! Берсерки всегда нападают, держа щит высоко. Эйрик поблагодарил за совет и наутро с рассветом пустился в путь. Гудруда провожала его. — Думается мне, что Сванхильда пришлась по сердцу старому Атли, — сказал Эйрик, — хорошо для нас было бы, если бы она вышла за него. — Да, хорошо для нас, но плохо для него, — ответила Гудруда, — она не любит его и только насмеется! Эйрик поцеловал Гудруду крепко и ускакал на своем коне в сопровождении своего тралля Иона.
К закату Эйрик и его тралль подъехали к подножию Мшистой скалы. Гекла осталась у них справа. Скала эта громадна, вся поросла седым мхом, только с южной стороны можно было подняться на нее по узкой тропе. Путники стали взбираться в гору, и когда добрались до площадки, где был ручей, что бежал с горы, Эйрик сошел с коня и приказал своему траллю оставаться здесь и стеречь коней, а сам один пошел дальше. Долго, долго взбирался он в гору и уже почти совсем стемнело, когда он подошел к глубокой пещере, где было жилище берсерка. Пещера находилась над крутым обрывом, а под обрывом зияла черная бездонная пропасть. Перед пещерой еще тлел костерок, а кругом валялись кости, из чего Эйрик заключил, что берсерк в своей норе, и заглянул внутрь. Там было темно, но костер кидал красный свет. Эйрик смело вошел в пещеру. Входить в нее приходилось ползком. Сначала ничего не было видно, слышался только сильный храп, затем юноша увидал лежавшего врастяжку громадного бородатого человека с густыми черными волосами, с овечьей шкурой под головой. Большая секира лежала подле него. Эйрик мог бы одним ударом своего меча покончить с ним, но такого дела он не хотел сделать. Он хотел уже разбудить его, как из-за спины Скаллагрима поднялся другой человек. — Клянусь Тором, на двоих я не рассчитывал! — вскрикнул юноша и поспешил выйти из пещеры. Вслед за ним вышел, грозно рыча, как разъяренный зверь, и тот берсерк, что сидел за спиной Скаллагрима, и накинулся на Эйрика с поднятым мечом. Эйрик увернулся от удара, отскочив к самому краю обрыва. Тогда берсерк снова налетел на него, но на этот раз Эйрик, отразив удар щитом, размахнулся сам с такой силой, что голова берсерка отлетела наземь с плеч и покатилась по земле, тело же с раскинутыми в стороны руками, как будто ловя воздух, полетело с края обрыва в пропасть. Это был первый человек, которого Эйрик убил на своем веку. Дрожь пробежала у него по спине. Он посмотрел на голову убитого берсерка, и она проговорила: «Ты убил меня, Эйрик Светлоокий, но знай, куда упало мое тело, туда упадешь и ты, и где оно легло, там будешь лежать и ты!» Эйрику это показалось странным, но он не сробел, ответив: — Уж если ты так речист, то поди, скажи своему товарищу, что Эйрик Светлоокий стучится у его дверей! Он взял голову и тихонько вкатил ее в пещеру. Оттуда сейчас же выбежал с поднятой секирой в одной руке и головой убитого берсерка в другой Скаллагрим. На нем не было никакой другой одежды, кроме рубахи, а на груди была навязана овечья шкура. — Где мой товарищ? — заревел он. — Часть его ты держишь в своей руке, Скаллагрим, а за остальным тебе придется сходить вон туда! — ответил Эйрик, указывая на пропасть. — А ты кто такой? — спросил берсерк. — По этой примете ты узнаешь меня, — сказал Эйрик и кинул ему хвост той овцы, которую у него похитил тогда Скаллагрим. Теперь Скаллагрим узнал его, и бешенство овладело им; глаза его налились кровью, и пена показалась на губах. Он был страшен на вид. С поднятой секирой устремился он на Эйрика, но тот проворно отскочил, и удар пропал даром. Эйрик же занес свой чудесный меч над самой головой берсерка, но тот вовремя успел защитить голову секирой, так что удар пришелся по ней и разрубил лезвие ее пополам. Теперь Скаллагрим был обезоружен, и убить его было нетрудно, но Эйрик думал, что это недостойный поступок — убить безоружного человека, и потому, отбросив в сторону Молнии Свет, крикнул: — Давай попробуем побороть друг друга, Скаллагрим! Они стали бороться. Как ни силен был Оспакар, а его силу нельзя было сравнить с силой Скаллагрима во время его припадков бешенства. Эйрик вскоре очутился на спине, а Скаллагрим на нем. Но Эйрик обхватил его и держал, точно железными тисками, и Скаллагрим, желая; высвободиться из его объятий, бешено катался по земле. Вскоре оба противника очутились на самом краю пропасти; еще одно движение, и они полетят вниз. Эйрик ухватился за берсерка и, посылая мысленно последнее «прости» Гудруде, приготовился умереть: силы изменяли ему, ноги его уже свесились с края обрыва. Вдруг он увидел, что судорожно искривленное лицо Скаллагрима изменилось и что весь он разом ослаб. Эйрик понял, что припадок бешенства у него прошел. — Стой! Я прошу мира! — сказал Скаллагрим и выпустил Эйрика. Тот осторожно подобрал ноги и, очутившись на площадке, проворно отскочил в сторону. — Теперь моя песня спета, — продолжал берсерк, — ты или втащи меня, так как я падаю, или отруби мне голову, я в твоих руках! — Нет, — сказал Эйрик, — ты благородный враг, и я не поступлю; с тобой так низко! — с этими словами он протянул ему руку и оттащил от края пропасти в безопасное место. Отлежавшись и придя в себя, берсерк тихонько приполз к тому месту, где сидел, прислонясь к скале, Эйрик, и сказал: — Государь мой, дай мне твою руку! Из всех людей, которых Я знал, ты сильнейший: пятеро человек не могли бы устоять против меня, когда на меня находит бешенство, а ты одолел меня, притом в честном бою, одной своей силой! Ты благородно отбросил свое оружие, когда увидел, что я безоружен. Ты подарил мне жизнь, когда мог отнять ее, — и с этого часа она принадлежит тебе! Я здесь клянусь тебе в вечной верности и отдаю себя на твою волю. Можешь убить меня или пользоваться мной, как пожелаешь, только говорю, что я сумею тебе пригодиться: до сего времени ни один человек не мог одолеть меня; ты один одолел, и я готов служить тебе моей силой. Чует мое сердце, что скоро моя сила пригодится тебе. — Это может быть правда, но я мало доверяю тем, кто вне закона! — отвечал Эйрик. — Кто поручится мне, что, если я возьму тебя к себе, ты не убьешь меня, когда я буду спать, как мог бы это сделать и я сегодня, когда пришел к тебе. — Слушай, государь мой, — продолжал Скаллагрим, — пусть Вальгалла отвергнет меня и Хель[535] возьмет меня, пусть мне суждено будет скитаться всю жизнь, как травленому зверю, пусть не буду иметь покоя ни день, ни ночь, пусть враги мои одолеют меня, если я нарушу свою клятву. Клянусь, что отныне твои враги будут моими врагами, твое торжество — моим торжеством, твоя честь — моей честью, буду я твоим траллем до конца моей жизни, и, если хочешь, мы будем жить с тобой одной жизнью и умрем одной смертью! — Я шел против врага, — проговорил Эйрик, — а нашел, как видно, друга, а в друге я скоро, вероятно, буду нуждаться, и хоть ты берсерк — человек вне закона, я верю тебе. С этого часа ты мой, мы вместе с тобой совершим немало подвигов и в память этого дня я прозову тебя Скаллагрим Овечий Хвост. А теперь, если у тебя есть какая пища и питье, накорми и напои меня: я обессилел от твоих железных объятий, старый медведь!
Глава 8
Как Чернозуб встретил Эйрика Светлоокого и Скаллагрима Овечий Хвост на холме Конская Голова.Cкаллагрим позвал Эйрика в свою пещеру, накормил его мясом и напоил пивом. — Скажи мне, Скаллагрим, — спросил Эйрик, — что сделало тебя берсерком? — Один позорный поступок, государь мой, но не я совершил его, а другие. Десять лет назад я был небогатым поселянином, неподалеку от богатых земель и угодий Свинефьелля, где властвует богатый и могущественный вождь Оспакар Чернозуб, человек лихой и низкий. Одно у меня было сокровище, красивая и добрая жена. Случилось так, что Оспакар увидел ее и стал сманивать стать его Маем; она как будто не хотела, но он прельстил ее богатыми дарами и хорошими обещаниями, и однажды, когда я крепко спал с женой, в мой дом ворвались вооруженные люди, связали меня, стащили с кровати, и я увидел, что с этими людьми был Оспакар. Он приказал моей жене Торунне одеться живее и ехать с ним; она заплакала и стала упираться. Я увидел, что она надела пояс, а на нем был нож, как носят все наши женщины, и крикнул ей: — Заколи себя, моя милая! Смерть лучше позора! Но она отвечала мне: — Возлюбленный супруг мой, я люблю тебя одного, но женщина может найти другую любовь, а другой жизни она не может найти! Между тем Оспакар стал торопить ее, затем, схватив за руки, вытащил из хижины, сел на коня, положил ее поперек седла и ускакал. Люди же его остались у меня в доме, стали пить мое пиво и смеялись надо мной, когда я лежал перед ними связанный. Они рассказали мне, что моя жена Торунна сама придумала и присоветовала Оспакару этот набег. У меня в глазах потемнело, я думал, что умру от срама и обиды. Вдруг что-то могучее поднялось у меня в груди, и я почувствовал в себе необычайную силу. Точно нитки, порвал я веревки, которыми был связан, и схватил свою секиру со стены. Мной овладело такое бешенство, что я набросился на этих людей, издевавшихся надо мной. Что тут было, я не знаю, только знаю, что, когда я очнулся, восемь трупов лежало на полу. Я навалил на них столы и скамьи, облил все это гарным маслом и зажег. Так я сжег хату, а сам ушел в леса и несколько лет разбойничал с другими разбойниками, не щадя ни мужчин, ни женщин, затем ушел оттуда и стал жить здесь на Мшистой скале. Многие люди выходили против меня, но никто не мог совладать со мной; все стали бояться меня, только ты один осилил меня, и этим ты можешь гордиться. После того и Эйрик рассказал ему, что знал про Оспакара, как он хотел отбить у него Гудруду, как он поборол его и как приобрел этим меч, славный Молнии Свет. — Видишь, государь мой, судьба недаром столкнула нас, теперь мы двое пойдем против Оспакара. Верь мне, не далек тот час, когда он встретится нам. Я знаю его. Если он облюбовал твою невесту, то не успокоится до тех пор, пока не добудет ее или не будет убит. Уж он верно бродит где-нибудь вокруг, только нам двоим нечего опасаться его, да еще с твоим Молнии Светом, под ударом которого, быть может, отлетит голова Оспакара! При этих словах новый припадок бешенства охватил Скаллагрима. — Успокойся, Овечий Хвост, Оспакара нет здесь, прибереги свое бешенство до лучшего случая! — Не люба мне твоя повесть, — сказал Скаллагрим, успокоившись и помолчав немного, — больно уж много женщин обступило тебя, а женщины вонзают нож в спину, а не в грудь, и от женщин идет все зло на земле! — Что ты говоришь?! Женщины, что мужчины, есть между ними им хорошие, есть и дурные. — Да, но и те, и другие губят мужчин! Только злые губят по злобе, хорошие же по безумию и по любви. Отрекись от женщин — и ты проживешь жизнь в почете и умрешь мирно; полюби женщину — и будешь ты несчастный и погибнешь жалкой смертью. — Неразумное ты говоришь, Скаллагрим; как птица должна летать, как волна должна бежать, так должен и мужчина льнуть к женщине и любить ее! После того они ничего больше не говорили и оба заснули. Солнце было высоко, когда они проснулись, умылись у ключа, и Скаллагрим показал Эйрику в глубине пещеры много хорошего оружия, отобранного им у тех, кого он убил или ограбил. — Скажи, как ты набрел на эту пещеру, Скаллагрим? — спросил Эйрик. — Я шел по следам того, кто здесь жил раньше меня, и предоставил ему или уйти и уступить мне пещеру, или помериться со мной силой оружия. Он захотел последнего и был убит мною. — Кто же был тот, чья голова лежит вон там? — Пещерный житель, господин мой, я взял его сюда, так как в зимнее время здесь очень тоскливо и одиноко. Это был лихой человек; он тоже был берсерк, но это не находило на него временами, как на меня и на других; он был постоянно берсерком, и ты хорошо сделал, что убил его; пусть же голова его идет вслед за туловищем! — И он скатил ее вниз с обрыва. — А теперь возьми свое вооружение и забери что хочешь из своего добра, нам пора собираться в путь-дорогу, мой тралль и так, верно, думает, что ты одолел меня. — Смотри, вот твой тралль уже идет под горой, нам его теперь не нагнать. Но ты не тужи: у меня в потайном месте припрятаны добрые кони, и мы следом за ним приедем в Миддальгоф. — Ну, поди собирайся да помни, что, если ты со мной поедешь, так должен бросить свои привычки берсерка и не давать воли своему бешенству. Иначе я не берусь выговорить тебе мир в Миддальгофе! Скаллагрим надел на голову темный стальной шлем и черную стальную кольчугу, взял хороший щит и добрую секиру, затем взял с собой большой кошель с деньгами и целую связку золотых обручей и, положив все это в мешок из выдровой шкуры, навязал себе на пояс. Остальное же имущество свое он припрятал за камни, полагая прийти за ним когда-нибудь в другой раз. После того прошли они крутой и потайной тропой к скрытой в скалах луговине и там нашли добрых коней. В скалах же запрятаны были седла и уздечки: они изловили коней, оседлали их и поехали прочь от Мшистой скалы. Долго ехали они, не встречая никого, как вдруг, подъехав к вершине холма, который люди прозвали Конской Головой, очутились среди целой ватаги вооруженных людей. Это были Оспакар Чернозуб, его двое сыновей и его ратные люди. — Их много, а нас только двое! — сказал Эйрик. — Живо долой с коней. Встанем спина к спине, и помни, что если даже на тебя найдет во время битвы твой обычный припадок бешенства, ты и тогда не трогайся с места, а то и твоя, и моя спина будут не защищены. — Будь спокоен, государь мой! Тем временем Оспакар со своими людьми подъехал к ним. — Что вы за люди? — Надо бы тебе знать нас! Я еще так недавно поборол тебя и взял у тебя с боя вот что! — И Эйрик, выхватив свой славный меч Молнии Свет, сверкнул им перед глазами Оспакара. — И я тебе должен быть знаком, — сказал Скаллагрим, — я тот, которого люди называют Скаллагримом и которого ты некогда называл Унунд. Скажи, какие вести о Торунне? — Ха-ха-ха! — засмеялся Оспакар. — Эй ты, Эйрик, тебя-то мне и надо. Скажи, когда твоя голова слетит с плеч, свезти ее на память о тебе Гудруде? А тебя, Унунд, я считал мертвым, но так как ты жив, то узнай, что Торунна, моя нежная возлюбленная, посылает тебе вот это! И он пустил в него дротик, но Скаллагрим поймал его на лету и пустил обратно с такой силой, что он, пробив щит и кольчугу Чернозуба, вонзился ему глубоко в плечо, нанеся сильную рану, которая сделала его неспособным к бою и заставила жестоко взвыть. — Поди, прикажи Торунне вытащить эту занозу и залечить рану поцелуями! Но Оспакар совершенно вышел из себя и крикнул своим людям, чтобы они накинулись и убили этих двоих. Завязалась битва. Эйрик и Скаллагрим рубили направо и налево. Берсерк до того рассвирепел, что люди Оспакара стали отшатываться от него и, наконец, после того, как человек десять из них полегло, остальные не смели даже подступиться. — Что же вы, бездельники, трусы! Рубите их, крошите их! — кричал Оспакар. Но никто не трогался с места. — Нас только двое! Попытайтесь еще осилить нас, пусть не говорят, что двое осилили двадцать человек! — крикнул Эйрик. Тогда Морд сын Оспакара, заслышав этот вызов, пришел в бешенство и с поднятым щитом устремился вперед. Гицур же не вышел на бой — он был трус. Морд, человек сильный и искусный в бою, налетев на Эйрика, нанес ему такой удар, что щит у того раскололся пополам, но Эйрик, отбросив от себя щит, выждал удобный момент, — и вот блестящее лезвие Молнии Света пронзило Морда насквозь, так что конец его вышел через спину. Перед тем Морд нанес Эйрику рану в плечо, и теперь Эйрик отплатил ему. Видя, что Морд убит, оставшиеся в живых люди Оспакара кинулись к своим лошадям и поспешно ускакали, крича, что эти двое заколдованные люди и что тягаться с ними нельзя простым смертным. Раненый Чернозуб, чтобы не остаться один, поскакал вслед за ними. — Что ты не весел, государь? — спросил Скаллагрим Эйрика, когда на холме, кроме них да мертвых и умирающих, не осталось никого. — Нас двое, и мы убили десятерых да еще Морда сына Оспакара! Мы вышли с честью из боя, а они с уроном и с бесчестьем, а ты недоволен! — Правду ты говоришь, Скаллагрим, мы вышли с честью, а они — с бесчестьем: двадцать человек не могли одолеть двоих. Но у Оспакара много друзей, и он не простит мне этого, затеяв против меня судебное дело в альтинге[536]. — Жаль, что дротик не вонзился в его сердце, — сказал Скаллагрим, — тогда все было бы кончено. — Видно, час его еще не пришел! — заметил Эйрик. — Во всяком случае он унес с собой нечто, что ему будет напоминать о нас.
Глава 9
Как Сванхильда обошлась с Гудрудой.Между тем Ион, тралль Эйрика, прибыл в Миддальгоф и пропел перед воротами замка песню смерти о своем господине. Гудруда и Сванхильда, стоя у женских ворот, слышали ее. Помертвело лицо Гудруды; ничего не сказав, она пошла в большую горницу, где подле очага сидели Атли и Асмунд. Асмунд спросил девушку, отчего у нее такое лицо, и Гудруда запела печальную песню, в которой говорилось о том, что Эйрик погиб от руки берсерка и что она, Гудруда, овдовела, еще не быв супругой Светлоокого Эйрика. Допев свою песню до конца, она тихонько вышла, не подымая глаз. Тогда Атли стал горевать о смерти Светлоокого, а Асмунд поклялся отомстить берсерку прежде, чем наступит лето. Гудруда вышла из замка и шла далеко-далеко, пока не пришла к Золотому водопаду, к тому месту, где он низвергается с высоты каменной гряды. Она искала одиночества и хотела горевать на свободе, чтобы никто ее не видел. Но Сванхильда пошла за ней, и Гудруда, заслышав за своей спиной легкий шорох, обернулась и увидела Сванхильду. — Что ты хочешь от меня? — спросила Гудруда. — Или ты пришла насмеяться над моим горем? — Нет, сводная сестра! Обе мы любили Эйрика, и теперь его не стало. Пусть же наша взаимная ненависть будет схоронена вместе с ним! — сказала Сванхильда. — Уходи отсюда, — сказала Гудруда, — плачь своими слезами и не мешай мне выплакать мои. Не с тобой хочу я горевать по нему! Сванхильда закусила губу, и лицо у нее сделалось злое и жестокое. — Помни, что я не приду к тебе в другой раз со словами примирения, — сказала она, — и ненависть моя к тебе живет, растет и зреет с каждым часом! — С этими словами Сванхильда отошла, но не далеко, и, кинувшись лицом на траву, стала клясть судьбу; Гудруда же плакала тихо, прося себе у богов смерти. Скоро стало ее клонить ко сну. Она задремала и увидала сон, что она сидит многие годы у врат Валгаллы, ожидая, не пройдет ли мимо нее Эйрик Светлоокий, когда в эти врата проходят воины, павшие на поле чести. Сам праотец Один увидел ее и спросил, кого она ждет. Она сказала и стала молить Одина, чтобы он отдал ей Эйрика на короткое время. — А чем ты заплатишь за это счастье, девушка? — спросил ее Один. — Своею жизнью! — отвечала она, и он обещал ей отдать его на одну ночь, после чего она должна будет умереть, и ее смерть должна будет стать причиной его смерти. Она проснулась на этом и раскрыла глаза; перед ней стоял Эйрик в своем золотом шлеме с расколотым щитом, в крови и пыли; глаза его смотрели весело и ласково, точно звезды на небе. — Ты ли это, Эйрик, или это сон? — Это я, дорогая! — сказал он и, склонившись к ней, прижал ее к своей груди. — А мы думали, что ты пал от руки берсерка! — И она рассказала ему свой сон. В свою очередь и он рассказал ей все, что было с берсерками, и про встречу с Оспакаром Чернозубом. Они целовались и были счастливы, а Сванхильда видела это, и бешеная злоба закипала в ее груди. — Пора мне и вниз, где меня ждет Скаллагрим и мой конь. Ты дойди домой, и мы с ним сейчас туда приедем! Эйрик вернулся к Скаллагриму, и тот похвалил его невесту, спросив, кто же та девушка, что подкрадывалась к ним ползком и затем шепталась с серым волком, который прибежал к ней из леса. Эйрик сказал, что это, верно, была Сванхильда, но что он не видал ее. И вот, когда Эйрик ушел от нее, Гудруда села на самый край обрыва подле того места, где спадает Золотой водопад, и еще раз переживала в душе все подвиги Эйрика и гордилась им. Вдруг она услышала за собой легкий шорох и прежде, чем могла понять, что с нею, чьи-то сильные руки толкнули ее; она полетела вниз, но успела уцепиться за маленький выступ скалы и повисла на нем. Под нею, срываясь с высоты, шумел и ревел водопад, устремляясь в бездонную пропасть, а над нею склонялось сверху залитое красным цветом заката искаженное злобой лицо Сванхильды. Она дико хохотала, крича: «Ищи свое счастье в Золотом водопаде. Не тебе, а мне достанется Эйрик!.. Ну, не цепляйся же, чего ты висишь! Все равно, никто не спасет тебя и никто не расскажет про это! Пусть твоим брачным ложем будет Золотой водопад, а супругом — его холодная струя!..» Но Гудруда цеплялась изо всех сил и продолжала висеть над бездонной пропастью. — И что ты так дорожишь этой жалкой жизнью? Чего ты так цепляешься, сестрица, дай я спасу тебя от самой себя! Ведь тебе должно быть мучительно висеть так и бороться со смертью! — И Сванхильда побежала отыскивать обломок скалы или большой камень. Найдя его и падая под его тяжестью, она добралась до края обрыва и заглянула вниз. Гудруда все еще висела. Сванхильда склонилась над ней. Гудруда видела ее злое лицо, видела глыбу камня, готовую обрушиться на нее, и в смертельном ужасе громко вскрикнула, сознавая, что пришел ее последний час. Но Эйрик был уже тут, хотя Сванхильда не видела, не слышала звука его шагов: их заглушал шум водопада. Крик Гудруды достиг ушей Эйрика; он видел, что глыба камня сейчас сорвется с высоты, и с быстротой молнии кинулся на край обрыва; его сильные руки схватили Сванхильду и отшвырнули в сторону. Эйрик склонился и увидел Гудруду. Лицо его было бледно, как лицо мертвеца. Недолго думая, он соскочил на тот выступ скалы, за который уцепилась и на котором повисла Гудруда. — Держись, держись, моя милая, я здесь! — крикнул Эйрик. Но силы изменили девушке, и одна рука ее уже соскользнула; еще минута — и она сорвется. Эйрик ухватился одной рукой за выступ скалы, другой схватил Гудруду как раз в тот момент, когда она готова была отпустить руку. Своей сильной рукой он схватил ее, затем, напрягши все свои силы и чуть не сорвавшись сам, поднял Гудруду на высоту своей груди и положил ее на край берега, где она была в безопасности, а потом и сам он взобрался туда. Гудруда была в обмороке. Эйрик призвал на помощь Скаллагрима, и они общими силами снесли ее с горы. По пути Эйрик рассказал Скаллагриму обо всем, и тот сказал ему на это: — Женщины коварны и лукавы, но никогда еще я не видал такого дела, как это. По мне следовало бы эту колдунью вместе с ее серым волком швырнуть с обрыва в пропасть. — Это еще впереди! — отозвался Эйрик, и затем они молча пошли дальше, неся бесчувственную Гудруду, которая все еще не приходила в себя. Когда они донесли ее до Миддальгофа, уже совсем стемнело; они совершенно выбились из сил.
Глава 10
Как Асмунд жрец говорил со Сванхильдой.Время шло, а старый ярл Атли все еще гостил в Миддальгофе. Часто он приводил себе на ум многие умные слова, но они не шли ему впрок, и он с каждым днем все сильнее любил коварную Сванхильду. Наконец, в тот день, когда Эйрик возвратился с Мшистой скалы, старый Атли пошел к Асмунду и стал просить у него Сванхильду в жены. Асмунд был очень рад, так как знал, что не все ладно между Гудрудой и Сванхильдой, и потому думал, что хорошо будет, если моря лягут между ними. Но ему думалось, что нечестно не предупредить Атли о том, что Сванхильда не то, что другие женщины, и что она принесет несчастье тому, кто женится на ней. — Подумай хорошенько, прежде чем ты возьмешь ее себе в жены! — говорил он. — Я уже думал и передумал об этом, и хоть седа моя голова, но дух бодр: ведь корабли и старые, и новые выходят в море навстречу бурям! — Да, но там, где новые выдерживают, старые часто гибнут! — сказал Асмунд. — Речь твоя разумна, Асмунд, но я думаю попытать счастье. Думается, что девушка эта ласково смотрит на меня и что мы увидим с ней хорошие дни! На том и порешили. Асмунд пошел к Сванхильде. Стало уже совершенно темно, и он не мог видеть ее лица. — Где ты была? — Ходила горевать об Эйрике! — Какое тебе дело до Эйрика! Эта утрата близка только Гудруде! — Как знать! — загадочно ответила девушка. — Не все те умерли, кого оплакивали, и не всех, кто умер, оплакивают, — добавила она. — Где же Гудруда? — спросил Асмунд. — Она или очень высоко на горе, или низко под горою, или спит глубоким сном, или бодрствует! — и Сванхильда громко расхохоталась. — Ты говоришь загадками, точно чародейка, и много в тебе есть недоброго, — сказал Асмунд, — но я принес тебе добрую весть: на твою долю выпало счастье, которого ты даже недостойна. — Ну, говори, добрые вести приятно слушать! — И она усмехнулась. Асмунд передал ей, что Атли сватается за нее. Но она и слышать не хотела. Асмунд разгневался: не в обычае было, чтобы девушка так говорила против воли тех, кто старше ее, и кроме того, говорила дерзко. Он сказал, что приказывает ей идти замуж за Атли, или же он прогонит ее совсем из дома. — Ну и что ж! И гони меня с матерью моей Гроа, я уйду и, быть может, даже дальше, чем ты думаешь! — И она рассмеялась и убежала, скрывшись в темноте. Асмунд, посмотрев ей вслед, подумал: «Правда, наши дурные поступки — стрелы, которые возвращаются обратно и попадают в того, кто их пустил! Я посеял зло и зло теперь пожинаю». Так рассуждал он, стоя в раздумье на том месте, где его оставила Сванхильда, и вдруг увидел приближающихся к нему людей и лошадей. Один из них, на голове которого золотой шлем блестел при луне, нес что-то на руках. — Кто идет? — окликнул Асмунд. — Эйрик Светлоокий, Скаллагрим Овечий Хвост и Гудруда, дочь Асмунда! — отозвался Эйрик. Асмунд кинулся к нему навстречу. — Почему ты несешь Гудруду на своих руках, уж не умерла ли она? — Нет, но недалеко было до этого! — ответил Эйрик и рассказал обо всем случившемся по порядку: сначала о том, как поразил одного берсерка и приобрел в друзья другого, который стал его траллем и сослужил ему верную службу в стычке с Оспакаром Чернозубом и его людьми; затем рассказал, как они ранили Оспакара и убили Морда, его сына, и человек десять из его людей. — Это и хорошо, и плохо! — сказал Асмунд. — Оспакар потребует большой виры[537], и, вероятно, тебя поставят вне закона! — Это, конечно, может случиться, государь мой, но теперь дай мне досказать тебе все по порядку! — сказал Эйрик и передал о том, что сделала Сванхильда с Гудрудой. Гудруда подтвердила его слова. Бешенство овладело Асмундом; он рвал свою русую бороду и топал ногами о землю. — Хоть она девушка, а я предам ее смерти убийц и колдуний! Пусть тело ее будет брошено в водоворот и пусть земля избавится от нее навсегда. — Нет, отец, нехорошо так мстить ей, — сказала Гудруда, — этот поступок навлек бы на тебя стыд. Я спасена и прошу тебя, не говори никому об этом, а только отошли ты Сванхильду отсюда туда, где она не может нам вредить. — Так ее надо послать в могилу, другого такого места нет! — мрачно сказал Асмунд и задумался. — Вот что, — сказал он немного погодя, — с час тому назад Атли Добросердечный просил Сванхильду у меня себе в жены; я сказал ей об этом, но она воспротивилась, а теперь я скажу, пусть идет замуж за Атли или на смерть, как колдунья и убийца. — Но для бедного Атли это будет нехорошо! — сказал Эйрик. — Он хороший человек, и жаль сделать его несчастным. — Это верно, но он сам того хочет. Кроме того, свое дитя ближе всякого другого. Я скажу тебе теперь то, что никому еще не говорил. Эта Сванхильда — моя дочь, и потому я любил ее и терпел ее скверности, что она твоя сводная сестра, Гудруда; мне так больно мстить одной дочери за другую. — Я давно это чувствовала! — сказала Гудруда. — И потому терпела от нее многое. — Теперь, Эйрик, подзови берсерка, и пусть он поклянется тебе, что не скажет никому о том, что сделала Сванхильда! Тот подозвал Скаллагрима, и последний поклялся. За это Асмунд обещал ему дать мир и охранять от обиды. — Об этом не тревожься, жрец, мои руки сумеют охранить тебя от всякой обиды и отстоять от десятерых таких, как ты! — отвечал он. — Не было до сих пор человека, который бы одолел меня; один Эйрик Светлоокий сделал это, и теперь слово его для меня — закон. Между тем Эйрик омыл свои раны, смыл с себя кровь и затем вместе с Скаллагримом пришел в большую горницу, когда мужчины собирались сесть за мясо. Все приветствовали Эйрика громкими криками, называя его славой юга, только Бьерн сын Асмунда, не приветствовал, не кричал с остальными, ненавидя Эйрика и завидуя ему. Эйрик благодарил их за честь и просил их ради него принять ласково Скаллагрима берсерка. — Был он берсерк, а теперь стал моим братом по крови: он испил моей крови и поклялся стоять за меня в жизни и до самой смерти, и стоял с честью! — сказал Эйрик, и все слушали его. Также просил Эйрик всех помощи и содействия себе в деле, которое возбуждено будет против него на альтинге. Все с громким криком обещали ему стоять за него, а старый Атли, встав со своего высокого седалища, на которое его всегда сажал Асмунд, подошел к Эйрику, поцеловал его и, сняв с шеи свою драгоценную золотую цепь, надел ее на шею Эйрику, воскликнув: — Ты — славный и великий человек, Эйрик, и я думаю, что другого такого больше нет. Приходи ты в мою землю Оркней и будь мне сыном. Я дам тебе все дары, а когда умру, ты сядешь на мое место, и будет тебе почет великий и слава перед всеми людьми! — Великую честь ты делаешь мне, ярл, но не могу я сделать того, что ты хочешь: где трава выросла, там она и должна расти, там должна и погибнуть. Исландия мне мила, и я должен остаться среди своего народа, пока меня не изгонят отсюда. — И это может с тобою приключиться; Оспакар и его родня не дадут тебе покоя. Тогда приходи ко мне и будь моим сыном! — Спасибо тебе, ярл. Как норны решат, так и будет! — сказал Эйрик. Все сели за стол. Теперь вышла и Гудруда, бледная и слабая. Эйрик, кончив есть, посадил ее к себе на колени. Сванхильда не приходила, и хотя Атли искал ее глазами везде, но Асмунда он не спросил. Так прошел ужин; люди стали расходиться по тем местам, где им назначено было провести ночь, и в большой горнице стало тихо и пусто.
Глава 11
Как Сванхильда прощалась с Эйриком Светлооким.Все время, пока люди сидели за мясом, Асмунд был пасмурен и молчалив, а когда все в замке заснули, он зажег свечу, пошел к постели, под полог, где спала одна Сванхильда. Она не спала еще и спросила, что он желает. Асмунд задернул полог и сказал: — Кто бы подумал, что эти нежные, белые руки способны на убийство, эти голубые глаза смотрели на страшное дело? — Проклинаю я эти руки, проклинаю их женское бессилие, — вскричала свирепая девица. — А то дело было бы сделано! Теперь же я приняла и весь грех, и весь позор, а Гудруда может теперь смеяться и торжествовать! Я должна умереть на позорном камне, а она будет наслаждаться любовью и лаской Эйрика! Нет! — воскликнула Сванхильда и выхватила из-под своей подушки острый кинжал. — Смотри, вдоль этого светлого лезвия лежит путь к спокойствию и свободе, и если надо, то я не задумаюсь избрать этот путь. — Молчи! — крикнул на нее Асмунд. — Эта Гудруда, дочь моя, которую ты хотела убить, — твоя родная сестра, и она, жалея тебя, просила меня пощадить твою жизнь! — Не хочу я от нее ни жизни, ни пощады! — Молчи и слушай, вот тебе мое последнее слово: или ты будешь женой Атли, или умрешь, хоть от своей руки, если ты того хочешь, но решение свое я не изменю! — Я уже сказала тебе, что, пока есть возможность избрать иную смерть, я не хочу позорной, а также не хочу быть продана в жены старику, как кобыла на ярмарке. Вот тебе мой ответ! — В таком случае ты умрешь на позорном камне! — сказал Асмунд и встал, чтобы уйти. Сванхильда между тем одумалась. Ей пришло на ум, что замужество не могила, что старые мужья умирают, что ярл сделает ее богатой, знатной и могущественной, что, пока человек жив, ничто не потеряно, иначе же она должна будет умереть и оставить Гудруду счастливой и торжествующей в объятиях ее возлюбленного. Сванхильда скользнула с постели на пол и, обхватив колени Ас-мунда, стала молить: — Я согрешила, тяжко согрешила и против тебя, и против сестры! Я была как безумная от любви к этому Эйрику, которого научилась любить с самого раннего детства. Гудруда отняла его у меня, и это довело меня до безумия. Если есть боги, то я благодарю их за то, что они не допустили, чтобы Гудруда умерла от моей руки!.. Теперь, отец, видишь, я вырываю с корнем из своего сердца эту злосчастную любовь к Эйрику! Я пойду замуж за Атли и буду ему хорошей и доброй женой, лишь бы Гудруда простила мне мою вину. Возликовало сердце Асмунда при этих словах. Он ответил, что Гудруда простит ее, так как добра превыше всякой женщины и незлобива, и что завтра он передаст Атли ее ответ, так как судно его готово к отплытию и ей надо скоро стать его женой и ехать с ним на его родину. Затем он ушел, унося с собою свечу, а Сванхильда встала с земли и, сев на край постели, уставилась глазами в мрак, шепча: — Скоро я должна стать его женой, но скоро — я стану и вдовой! О, проклятье на вас, слабые женские силы! Никогда больше я не поверю вам. Когда я в другой раз захочу поразить, я поражу чужими руками. И на вас проклятье, злые силы, что изменили мне, когда я в вас нуждалась! И на тебе, счастливая соперница моя, пусть тяготеет проклятье, — шептала Сванхильда, вся бледная, с горящими глазами, в ту пору, когда все давно спали; она всю ночь не смыкала очей. Наутро Асмунд сообщил Атли, что Сванхильда по доброй воле согласна идти за него, но еще раз предупредил о ее коварном нраве и о том, что она ведается с нечистой силой, сообщил и о том, что она его внебрачная дочь. Старый Атли, увлеченный любовью, не слышал ничего, сообщив, что даже рад, зная теперь, что девушка эта хорошей, доброй крови, а что в нечистые силы и колдовство он совсем мало верит и не боится такого порока в жене. После того они сговорились о приданом Сванхильды. Асмунд не обидел ее в этом, а затем пошел к Гудруде и Эйрику и рассказал им обо всем. Оба были рады за Сванхильду, но очень сожалели о добром Атли, не веря в такую быструю перемену в чувствах Сванхильды и зная ее лживость и коварство. На третьи сутки от этого дня был назначен свадебный пир, и Атли решил в тот же день увезти свою молодую супругу к себе на родину, где его народ с нетерпением ожидал его возвращения. Сванхильда стала вдруг такая кроткая и ласковая, такая тихая и скромная, какой ее никогда не видали, а Скаллагрим, который следил за ней, говорил Эйрику по пути, когда они возвращались в этот день на Кольдбек: — Не к добру эта перемена в девушке! Жаль мне старого Атли. Как сейчас помню, моя Торунна была точь-в-точь такая же в тот день, как предала меня на позор и горе и пошла за Чернозубом. — Не говори про ворона, пока он не закаркал! — сказал Эйрик. — Да уж он на лету! — сказал Скаллагрим. Когда приехали они в Кольдбек, что над болотом, мать Эйрика Савуна и родственница его Унна с радостью приветствовали его: до них дошла весть обо всем, что он сделал. На Скаллагрима же берсерка они смотрели поначалу недоверчиво; когда же Эйрик рассказал им все, что он сделал, они ласково приветствовали его ради его деяний и ради его верности. Эйрик просидел двое суток вместе со Скаллагримом на Кольдбеке; на третьи сутки мать его Савуна и Унна стали собираться в Миддальгоф, куда были званы на брачный пир Сванхильды и Атли. Эйрик же остался еще одну ночь на Кольдбеке, обещав приехать поутру в Миддальгоф. Наутро Эйрик встал до света и, снарядившись, поехал в Миддальгоф один; Скаллагрима он не взял с собою, боясь, что, напившись, тот станет берсерком и учинит кровопролитие. В эту ночь Сванхильда опять не знала сна, и глаза ее были полны слез. Утро брачного дня своего она встретила нерадостно. Едва рассвело, она крадучись ушла из замка и стала поджидать на дороге, когда проедет Эйрик. Вскоре после нее встала и Гудруда и тоже вышла на дорогу навстречу своему сговоренному. Скоро послышался вдали конский топот и засияли из-за вершины холма золотые крылья Эйрикова шлема. Он ехал не торопясь и весело пел песню; и горько стало на душе у Сванхильды, что он мог быть так весел и беспечален в этот день, когда ее, которая так любит его, отдавали в жены другому, нелюбимому. Когда он поравнялся с ней, Сванхильда вышла из-за копны, за которой стояла, и, ухватив коня Эйрика за узду, остановила его. Она стала говорить ему о своей любви и жаловаться на судьбу, стала плакать и желать ему счастья и зарыдала. Эйрику стало жаль ее, и он сказал: — Не говори об этом, а пусть добрые поступки твои загладят и заставят забыть дурные, которых немало, и тогда ты будешь счастлива! Она посмотрела на него странными глазами; лицо ее выражало муку и было бледно какполотно. — Ты говоришь мне о счастье, когда сердце мое умерло для счастья и свет погас для меня; когда я рада бы была заснуть сном смерти вместо того, чтобы так проститься с тобой навек! Проститься и знать, что Гудруда, соперница моя, будет снаряжать тебя, когда ты станешь сбираться на славный бой, что она встретит тебя, когда, увенчанный славой великих подвигов, ты возвратишься к ней, ища награды в ее ласках, в ее объятиях! О, это сводит меня с ума, Эйрик! Но прощай! Твоя Гудруда, уж верно, ждет тебя. Прощай, не смотри на мои слезы: это последняя утеха женщины. Пока я жива, день за днем мысль о тебе будет пробуждать меня на заре поутру, и с ней я буду засыпать, когда на небе зажгутся звезды, ясные, как твои очи, Эйрик. Прощай! На этот раз ты должен стереть поцелуем мои слезы, а затем пусть они текут без конца. Так, Эйрик! Я прощаюсь с тобой. И она повисла у него не шее, глядя ему в глаза своими большими, полными слез и любви глазами, — и вдруг все как будто затуманилось в глазах Эйрика, он нагнулся к ее лицу и поцеловал ее, жалость закралась в его сердце. Когда она висела у него не шее, прижавшись головой к его груди, а, он, склонившись, целовал ее лицо, Гудруда, идя навстречу своему нареченному, неожиданно поравнялась с ними и увидела все. Сердце ее замерло в ней. Она прижала обе руки к груди, затем, схватившись за голову, побежала без оглядки. Сильная обида и негодование жгли ей сердце: она была горда и ревнива. Ни Эйрик, ни Сванхильда не видели ее; вскоре после того они расстались, Сванхильда поспешила домой. У ограды она увидела Гудруду. — Где ты была? — спросила она Сванхильду. — Ходила прощаться со Светлооким! — ответила та. — Верно, он отогнал тебя от себя. — Нет, ошибаешься, он привлек меня к себе и целовал меня! Помни, сестра, сегодня торжествуешь ты, и Эйрик твой, но может настать час, когда он будет мой. Все в руках норн! — С этими словами Сванхильда удалилась. Вскоре подъехал и Эйрик; у него было нехорошо на душе и совестно, что он поддался страстным словам Сванхильды. Увидев же Гудруду, он сразу забыл о Сванхильде и обо всем остальном и, соскочив с коня, бросился к ней. Но она отстранила его, гордо выпрямившись во весь свой рост, и смотрела строго и гневно. Эйрик оробел, не зная, что ему делать. На два — три вопроса Гудруды он отвечал правдиво, рассказав все как было и как он был тронут словами и слезами Сванхильды. — Знаешь ли, что я думаю тебе сказать теперь? Иди с нею и не являйся мне больше на глаза. У меня нет охоты прилепляться к такому человеку, которого может сдуть, точно ветер перо, каждая жалкая ласка и искушение! — Нет, Гудруда, но будь ты на моем месте, ты бы поступила как и я, ты была бы тронута ее слезами. Я люблю тебя одну и нет для меня другой женщины, кроме тебя, и ты знаешь, что я люблю тебя. — Знаю, но что толку в такой любви, Эйрик? — Неужели же ты не можешь простить мне того, что сделали одни мои губы, а не сердце! — воскликнул он. — Простить один раз в жизни! — Один ли раз? Я что-то не доверяю тебе, Эйрик. Но пусть так, на этот раз прощу! Эйрик хотел теперь обнять и поцеловать Гудруду, но она опять отстранила его от себя и еще много дней не допускала его к себе с лаской.
Глава 12
Эйрик был объявлен вне закона и отплыл на судне викинга.Свадебный пир был в полном разгаре. Сванхильда вся в белом одеянии сидела на высоком седалище подле старого Атли; жених старался привлечь ее ближе к себе, но невеста смотрела на него холодным, безучастным взглядом, в глубине которого таилась ненависть. Когда пир кончился, все отправились на берег, где новобрачных ожидало судно Атли, стоявшее там на якоре. Сванхильда на прощание целовала Асмунда и пошепталась о чем-то с матерью Гроа; затем простилась со всеми, не прощалась только с Эйриком и Гудрудой. — Почему же ты не скажешь ни слова этим двоим? — спросил Атли. — Потому, ярл, что с ними я вскоре увижусь опять, а ни отца моего Асмунда, ни матери Гроа не увижу уже более! — Ты как будто предсказываешь их смертный приговор! — сказал Атли. — Не только их, но и твой, хотя и не сейчас еще! — добавила она. Судно снялось с якоря, подняло большой парус и плавно, словно лебедь, ушло в море. До тех пор пока виднелся берег, Сванхильда, стоя на корме, не спускала с него глаз, когда же он скрылся в туманной дали, новобрачная ушла в рубку и заперлась в ней одна, в течение двадцати дней пути не пуская к себе мужа под предлогом болезни. Между тем в Исландии близилось время, когда люди съезжаются на альтинг. Эйрик Светлоокий был предупрежден, что против него будет возбуждено несколько судебных дел. Но сам Асмунд, который был первейший законник в Исландии, принял на себя защиту Эйрика, за дела же Оспакара и его людей взялся Гицур сын Оспакара. После долгих прений и обсуждений решено было, что никаких денежных пеней ни с Эйрика Светлоокого, ни со Скаллагрима Овечий Хвост в пользу Оспакара и его людей не причиталось, но сам Эйрик был происками и коварствами Оспакара, заручившегося большим числом голосов вольных людей, приговорен вне закона на три года. Однако и такого рода решение вопроса не удовлетворяло Оспакара, и он стал подговаривать своих приверженцев взяться за оружие и отомстить собственной властью за смерть близких и товарищей. Видя это, Асмунд собрал своих людей и решил встать с ними на сторону Эйрика Светлоокого. Но Эйрик сказал: — Послушайте, не прискорбно ли, чтобы такое громадное число воинов полегло здесь костьми за тех, кто уже умер? Не лучше ли нам решить эту распрю поединком? Если найдутся среди вас, людей Оспакара, двое, желающих выйти на поединок против меня одного, с двумя мечами против одного моего меча, то я, Эйрик Светлоокий, стою здесь и жду! Все собрание решило, что слова эти разумные, хотя и могли кончиться пагубно для Эйрика. Оспакар назначил двоих из своих людей, самых ловких и искусных в бою, самых сильных и надежных. Состоялся поединок. И бежали оба противника Эйрика с позором с поля сражения; а все зрители много смеялись тому, громко прославляя Эйрика. Оспакар же чуть не упал с коня от бешенства, но сознавая, что он на этот раз совершенно бессилен, так как рана его еще не зажила, поворотил коня и прямо с альтинга уехал к себе на Свинефьелль. На следующий день Эйрик вместе с Асмундом вернулся в Миддальгоф. Гудруда, узнав о приговоре над Эйриком Светлооким, горько заплакала, разлука на три года казалась ей невыносимой. — Скажи, дорогая, если ты не хочешь, чтобы я шел в изгнание, я останусь здесь и буду объявлен вне закона. Жизнь моя будет в руках каждого, кто только захочет, но я думаю, что моим врагам нелегко будет одолеть меня, пока боги не отнимут у меня моей силы. А от судьбы все равно не уйдешь! Так скажи свое слово, дорогая! — Нет, Светлоокий, как ни тяжела мне разлука с тобой, я не хочу, чтобы ты был объявлен вне закона и оставался здесь. Лучше иди в изгнание. Отец даст тебе свое хорошее военное судно, ты соберешь людей, будешь управлять ими и можешь прославить себя новыми подвигами. Сготовится это судно в одну ночь, а наутро ты уйдешь в море: чем раньше ты уедешь в изгнание, тем скорее пройдут эти печальные три года. Действительно, Асмунд дал Эйрику свое славное боевое судно из крепкого дуба, с железными скрепами, с высокими кормой и носом. Оно звалось «Драконом», Эйрик же назвал его «Гудрудой». Изгнанник кликнул клич, и собрались к нему многие соседние отважные поселяне, считая за честь отправиться в поход с Эйриком Светлооким. В помощники же себе Эйрик взял человека по имени Холль из Литдаля, которого он принял по настоянию Бьерна сына Асмунда. Холль этот был другом Бьерна и славился своим искусством и умением управлять судном и уже много раз плавал на судах больших и малых по северным морям, и вокруг Англии, и к берегам Страны Франков. Но Скаллагрим, увидав его, не полюбил его, также и Гудруда сказала, что это человек недобрый и что Эйрику не следует брать его с собою, от него будут только горе и беда. — Поздно теперь говорить, это уже дело решенное, — сказал Эйрик, — но я буду остерегаться его! На прощанье Асмунд дал великий пир и вызвал всех людей, что шли за Эйриком в море. Сам же Эйрик Светлоокий сидел на высоком седалище подле Асмунда, рядом с ним Гудруда и Унна, нареченная невеста Асмунда, и Савуна, мать Эйрика. Было условлено, что в отсутствие Эйрика престарелая уже теперь Савуна и Унна будут жить в Миддальгофе, а на Кольдбеке над болотом поселится доверенный человек и родственник, которому поручено было и управление землями, и уход за стадами, и присмотр за всем имуществом Эйрика в течение предстоящих трех лет. Когда все стали прославлять Эйрика, пророча ему счастье и успех, сердце Бьерна вскипело ненавистью к нему, и он воскликнул: — Будь моя воля, Гудруда была бы женою Оспакара: он могущественный вождь, славный, влиятельный и богатый человек, а не такой долговязый керль (парень) из поселян, без власти и друзей, как вот этот. А славой он обязан пустому случаю или человеку, поставленному вне закона за человекоубийство. Эйрик, услышав это, схватился за меч, но Асмунд, успокоив Эйрика, обратился к сыну и упрекал его в злобной зависти, строго заявив, что не он жрец Миддальгофа и отец Гудруды и что не ему располагать ее судьбой, а если он в отсутствие Эйрика станет замышлять недоброе против того, то Эйрик, вернувшись, покарает его примерно, и он, Асмунд, первый скажет, что лихие дела — лихая мзда! Тогда Бьерн выскочил из-за стола, сел на коня и помчался на север. Эйрик уже не видал его больше до тех пор, пока по прошествии трех лет не возвратился на родину. Пир подходил к концу, и Гудруда сказала Эйрику: — Посмотри на свои волосы, Эйрик, — их кольца стелются по плечам, как у девушки! Хочешь ли, я срежу тебе их сама. — Да, Гудруда! — отозвался Эйрик Светлоокий. — Поклянись мне, — шепнула она ему в ухо, срезая его золотые кудри, — что ни одна женщина и ни один мужчина не коснутся рукой твоих волос до тех пор, пока ты не вернешься ко мне. Эйрик поклялся ей в том. Хотя они говорили тихо, но Колль Полоумный подслушал их. Поутру все встали очень рано и, сев на коней, отправились к тому месту, где стояло на якоре боевое судно «Гудруда». Здесь Эйрик простился со всеми. Савуна, мать его, на прощание сказала ему: — Прощай, сын мой! Мало у меня надежды еще раз обнять тебя и целовать твое гордое, прекрасное чело, а потому прошу тебя — вспоминай обо мне временами: без меня и тебя бы не было; не давайся женщинам в обман и сам не обманывай их, не то постигнет тебя беда. Не будь сварлив и гневен: ты силен. Падшего врага щади, а на нападающего иди с поднятым щитом и мечом. Никогда не отнимай ни добра у неимущего человека, ни меча у доблестного воина, но когда наносишь удар, пусть он не пропадает даром. Живя так, ты добудешь себе славу смолоду и мир в старости, а это последнее лучше славы; в славе есть яд, а в мире только мед. Эйрик целовал свою мать, обещая не забывать ее наставлений и всегда хранить память о ней. Затем простился с Гудрудой, и они повторили друг другу клятву взаимной верности. Гудруда сказала ему: — Во мне ты можешь быть уверен, но я не могу быть уверена в тебе. Быть может, ты повстречаешь там, за морями, Сванхильду и подаришь ей еще новые поцелуи и ласки! — Не гневи меня, Гудруда, перед разлукой, доверься мне, как я доверяю тебе! Тут подошел Скаллагрим и напомнил, что время прилива может сменить отлив, и тогда судну нельзя будет выйти в море. Эйрик поспешил к своему боевому судну. Здесь Асмунд, схватив его за обе руки, запечатлел поцелуй у него на челе, проговорив: — Не знаю, увижу ли я тебя опять, но помни, что тебе я вручаю Гудруду, прекраснейшую и кротчайшую из женщин, и горе тебе, если ты чем-нибудь причинишь ей скорбь. Прощай же, сын мой, и будь счастлив в делах своих! Теперь ты мне стал дорог и близок, как сын! Эйрик, поцеловав Асмунда, отвечал: — Нет у меня отца, и слово твое для меня, что слово отца, а поцелуй твой, как поцелуй отца. Насчет Гудруды пусть будет спокойна душа твоя. Прошу только, если к сроку я не вернусь, не неволь ее в замужестве и не доверяй своему сыну Бьерну: не сыновние чувства живут у него в груди. Остерегайся ты и Гроа, управительницы дома, потому как она замышляет злое на нареченную невесту. Затем прими благодарность мою за свой дар и за все твои милости ко мне и будь счастлив. — Будь счастлив, сын мой! — сказал Асмунд, и Эйрик повернулся, чтобы дойти до судна, но Скаллагрим как-то очутился подле него, поднял его на руки, как ребенка, и, идя по пояс в воде, донес его до судна при громких криках провожающих. Тогда Эйрик, ухватившись руками за корму, взобрался на судно, и берсерк последовал за ним. Пользуясь последними минутами прилива, боевое судно «Гудруда» вышло из залива и направилось к Западным островам, подняв большой парус. Гудруда же, опустившись на берегу, словно цветок, поникла головой.
Глава 13
Как Холль, помощник Эйрика, перерубил якорный канат.Оспакару Чернозубу стало известно, что Эйрик Светлоокий, не желая оставаться в Исландии вне закона, ушел в море на вольный простор на славном судне Асмунда жреца. По совету сына своего Гицура Чернозуб снарядил два больших боевых корабля, двинулся с ними наперерез пути судну Эйрика и, притаившись за Западными островами, как только его судно оказалось в виду, запер ему выход из пролива в открытое море. — Здесь, как видно, стоят викинги! — сказал Эйрик, заметив два длинных боевых судна, увешанных щитами. — Здесь стоит Оспакар Чернозуб! — сказал Скаллагрим. — Поверь моему слову, государь. Время клонилось к вечеру. Эйрик обратился к дружинникам: — Видите, товарищи, нам запер дорогу Оспакар Чернозуб с двумя длинными боевыми кораблями. Нам остается только или поворотить судно и бежать от него, или идти вперед и дать ему сражение! — Поспешим уйти, господин, пока мы целы! — сказал Холль из Литдаля. Но кто-то другой крикнул из толпы: — Как те двое борцов Оспакара бежали, точно спугнутые утки перед твоим нападением, Эйрик, так точно побегут и теперь его суда перед твоей «Гудрудой». — Да, да! — кричали остальные. — Не слушай трусливых бабьих речей Холля. Пусть никто не скажет, что мы бежали перед Оспакаром! И, по слову Эйрика, гребцы приналегли на свои длинные весла, и «Гудруда» устремилась вперед к судам Оспакара. Стоя на носу своего корабля, Эйрик и Скаллагрим заметили, что суда неприятеля связаны между собой крепким канатом, так что «Гудруда», пытаясь проскользнуть между ними, неминуемо была бы захвачена этим канатом, если бы они вовремя не заметили его. На носу одного из судов стоял сам Оспакар в черном шлеме с вороньими крыльями. Эйрик крикнул ему: — Кто ты такой, что смеешь преграждать мне путь? Обменявшись несколькими оскорбительными словами, враги вступили в бой. В момент, когда «Гудруда», разогнанная сильными ударами весел, готова была врезаться между вражескими судами, Эйрик, вскочив на золотого дракона, украшавшего нос его корабля, сильным ударом своего Молнии Света перерубил канат — и «Гудруда» проскользнула, как чайка между двумя камнями. — Убирай весла и готовь багры! — приказал Эйрик Светлоокий. Минуту спустя завязался страшный бой. Эйрик и Скаллагрим поспевали повсюду. Люди Оспакара взбирались на «Гудруду» и падали мертвыми. Эйрик со Скаллагримом пробивались на судно Оспакара, но густая толпа его людей заслоняла его, и в тот момент, когда они, усердно работая мечом и топором, почти проложили себе путь, Эйрик вдруг заметил, что течение несет судно, на котором он находился, прямо на скалы и что оно неминуемо должно разбиться. Он крикнул своим людям: — Живо! Все, кто с «Гудруды», назад! Судно это сейчас затонет! Сам он, Скаллагрим и все его люди один за другим успели перескочить обратно на свое судно. Оспакар же, сын его и несколько человек из его людей кинулись в море и вплавь добрались до берега. В этот момент судно наскочило на скалу и на глазах у всех разлетелось в щепки, неся смерть и погибель десяткам людей. Эйрик хотел было сам сойти на берег схватиться с Оспакаром и его сыном, но боялся разбить о скалы свое судно, кроме того, ему приходилось еще отбиваться от второго боевого корабля Оспакара. Видя гибель первого, это судно, названное «Ворон», стало уходить, но Эйрик решил преследовать его, предоставив Оспакара и его сына их судьбе. Палуба «Гудруды» была завалена трупами убитых и телами раненых, стеснявших движение людей, так что прежде, чем корабль успел описать поворот и достигнуть устья пролива, служившего выходом в море, «Ворон», опередивший его, успел поднять паруса и, пользуясь попутным ветром, ушел далеко вперед. Но Эйрик не унывал и, едва только «Гудруда» вышла в открытое море, тоже поставил паруса и погнался за «Вороном», не теряя надежды нагнать его. Убрав убитых, люди сели за стол. Скаллагрим, глядя на убитых, сказал: — Я бы с большей радостью видел бы здесь голову Оспакара, чем тела всех этих бедных керлей (людей) его, так как других людей он всегда найдет, а другой головы не нашел бы! Тем временем ветер стал свежеть; около полуночи разразилась сильная буря, и Холль спрашивал, не убавить ли паруса. Но Эйрик не приказал убавлять, заметив, что если «Ворон» может идти на всех парусах, то и «Гудруда» тоже может. Погоня продолжалась всю ночь и до утра. Поутру «Ворон» был уже только в двух-трех стадиях[538] впереди «Гудруды»; теперь, из опасения бури и сильного ветра, на «Вороне» убавили паруса, и он нырял уже не так быстро, делая вид, будто собирается вернуться в Исландию. — Этого мы им не дозволим, — сказал Эйрик, — работай дружнее, товарищи! «Ворон» идет теперь быстро, но мы идем быстрее его! Готовьтесь, сейчас загорится бой: мы нагоняем их. — Не к добру затевать бой в такую непогоду! — заметил Холль. — А ты не рассуждай, а делай, что тебе приказывает старший! — угрюмо сказал Скаллагрим, грозно сверкнув на Холля глазами и выразительно сжимая в кулаке свой топор. И люди стали готовиться к бою, а Скаллагрим, стоя на носу, держал наготове маленький якорь, которым собирался задеть вражеское судно, чтобы не дать ему отойти во время абордажа. Как только суда поравнялись и берсерк закинул свой якорь, глубоко впившийся в вражеское судно, Эйрик первый, а следом за ним Скаллагрим вскочили на палубу «Ворона», приказав экипажу следовать за собой. Но прежде, чем они успели это сделать, Холль взмахнул своим топором и одним ударом отрубил канат у якоря. Сильный вал подхватил «Гудруду» и унес ее далеко вперед. Эйрик и Скаллагрим очутились одни на палубе вражеского судна. Но, успев проложить себе путь к главной мачте, они встали к ней спина к спине, широко размахивая вокруг себя один — мечом Молнии Светом, другой — своим топором, разя всякого, кто решался подступиться к ним. Экипаж «Ворона», растерявшийся сначала при появлении Эйрика, теперь остервенился от злобы, что тридцать человек не могут совладать с двумя. Они стали метать в них стрелы и каменья, но из-за того, что судно сильно качало, камни и стрелы пропадали даром. А из их людей уже человек десять лежали ранеными и убитыми у ног Эйрика и Скаллагрима. Но вот один большой камень упал на плечо берсерка, и правая рука его разом отнялась. — Плохо дело, — сказал Скаллагрим, — только ты не унывай: я умею держать секиру и в левой руке. Кто подойдет ко мне, тому несдобровать! Тем временем люди Оспакара держали между собой совет, и их старший говорил так: — Нас осталось теперь в живых только семнадцать человек, не считая раненых. Этого едва хватает, чтобы управляться с судном, да и срам нам будет великий, если скажут, что двое одолели целую команду в тридцать человек. Если же мы предложим им мир и доброе обращение под условием, что они согласятся быть связанными до тех пор, пока мы не пристанем к земле и высадим их на берег, не возбуждая против них никаких преследований, они, верно, согласятся. А когда заснут, то мы их убьем и скажем, что одолели их в бою. — Постыдное это дело! — сказал один человек и отошел в сторону. Но остальные молчали, и старший пошел к Эйрику и Скаллагриму и предложил им мир и те условия, о которых говорил; хотя оба героя не доверяли ему, но согласились. Только Эйрик спросил: — Почему же нам быть связанными? — Потому, что ты так силен и могуч, что мы не можем быть спокойны, если ты, наш враг, останешься у нас на судне и будешь свободен! Эйрик пожал плечами и согласился; их отвели под палубу, где и ветром не хватало, и водой не заливало, связали по рукам и по ногам, накрыли теплыми плащами от стужи и принесли им хорошей пищи и питья. Когда вели Эйрика под палубу, он взглянул вперед и увидел далеко, стадиях в двадцати или больше, свою «Гудруду». Скаллагрим тоже видел и сказал: — Хорошо наше-то судно и хороши наши товарищи, так и оставили нас в западне! — Нет, Скаллагрим, они не могли повернуть назад в такую бурю, да и, вероятно, считают нас мертвыми теперь. Но если я увижу когда-нибудь опять этого Холля, то не буду к нему особенно милостив. — И не стоит он никакой милости! — проговорил себе в бороду Скаллагрим и задремал. Эйрик стал думать о Гудруде Прекрасной; вскоре и им овладел сон.
Глава 14
Как Эйрику приснился сон.Крепко спал Эйрик, и снился ему сон, будто спит он здесь, на «Вороне», под палубой; и к нему подкралась серая крыса и стала шептать ему что-то в ухо. И вот видит он, что Сванхильда идет к нему по морю; бурные волны расступаются на ее пути. Она шла плавно и спокойно, словно лебедь плыла, ветер не развевал даже волос у нее на лбу. Наконец она тут, стоит перед ним и склоняется к нему, шепчет ему: — Проснись! Проснись, Эйрик Светлоокий! Я пришла к тебе по бурному морю со Страумея[539], чтобы предупредить тебя об опасности. Скажи, сделала ли бы это твоя Гудруда? — Гудруда не колдунья и не чародейка! — А я чародейка и колдунья! И в это время, когда старый Атли думает, что я лежу подле него на нашем общем ложе, я здесь, у тебя, и говорю с тобой. Слушай же меня, вот что я проведала своим колдовством: эти люди, что связали тебя, придут сейчас и возьмут тебя спящего и твоего товарища тоже и бросят вас обоих в море. — Чему суждено быть, то будет! — говорит он во сне. — Нет, я этого не хочу, и этого не будет! — проговорила Сванхильда. — Напряги все свои силы и порви свои путы, развяжи Скаллагрима и дай ему его щит и секиру, а сам возьми свой меч и щит. Прилягте, как сейчас, и накройтесь плащами, притворившись спящими, пока не придут ваши убийцы. А потом вскочите и бросьтесь на них оба с оружием в руках; они смешаются и обратятся в бегство. Вы уничтожите их. Только за тем, чтобы сказать тебе все это и спасти тебя, я прошла многие сотни стадий по бурным волнам моря. Сделала ли бы это ради тебя Гудруда?.. — и видение Сванхильды снова склонилось над ним, уста ее коснулись его лба, легкий вздох вырвался из ее груди — и она исчезла. Эйрик пробудился, разбудил Скаллагрима и рассказал ему свой сон. — Это предостережение, государь мой, и мы должны все исполнить так, как призрак научил тебя! Так они и сделали и поразили врагов своих всех до последнего; остались Эйрик и Скаллагрим одни на судне, а кругом лежали мертвецы и умирающие. — К рулю! — крикнул Эйрик, видя, что судно кренится слишком сильно и может перевернуться каждую минуту, будучи предоставлено само себе. С этого момента они оба беспрерывно чередовались у руля. Три дня и три ночи дул свежий ветер, море волновалось, опасность ежеминутно грозила им, а силы их заметно истощались. Волны заливали палубу, наполняли трюм, им приходилось выкачивать воду и тратить на это последние силы. А буря все крепчала, они не имели ни минуты отдыха, некогда было им есть и некогда спать. На четвертую ночь громадный вал подхватил «Ворона» и, высоко подняв его на свой гребень, разом уронил в глубокую бездну; все судно как бы содрогнулось и застонало. — Кажется, я слышу, будто вода журчит под палубой, — сказал Скаллагрим, стоявший у руля. Эйрик спустился вниз и, действительно, обнаружил сильную течь. Вода быстро прибывала в трюм. «Ворон» не мог теперь долго продержаться на поверхности. Не теряя времени, Эйрик заткнул трещину одеждами убитых, заткнул так плотно, как это мог сделать только он со своей громадной силой, и навалил на эти тряпки балласт, после чего вернулся на палубу и сказал обо всем Скаллагриму. — Видно, пора нашим костям на покой! — отвечал тот. — Мы достаточно поработали. А впрочем, ветер стихает, да и берег теперь недалеко. Видишь там, под ветром темную линию холмов и между ними как будто устье фьорда? Правда, в трюме полно воды, и часы «Ворона» теперь сочтены, но если уцелела на нем хоть одна лодка, то мы спасены! Эйрик пошел на корму судна. Там и вправду была привязана лодка, а в ней — весла и руль. Скаллагрим подоспел к нему на помощь, и они благополучно спустили лодку на воду. Эйрик первый спустился в нее, берсерк же задумал захватить с собой кое-что с гибнущего судна, которое теперь уже начинало тонуть, и до того замешкался, что чуть и сам не пошел ко дну вместе с судном. Эйрик едва успел вовремя обрубить канат, чтобы лодку не увлекло за судном в глубину. На их глазах «Ворон», сначала медленно погружавшийся в воду, вдруг разом исчез под водой, образовав на поверхности моря бешеный водоворот, в котором беспомощно и безнадежно закружилась и заныряла маленькая лодочка. Теперь Эйрик и Скаллагрим принялись изо всех сил работать веслами и работали несколько часов кряду, почти до полного истощения. Наконец, вот он — желанный берег, по крайней мере можно будет умереть на суше! Вот луга, поля, вот сушится на ветру и на солнце белая треска, и в маленькой бухточке стоит на якоре длинное боевое судно. — Да это «Гудруда»! — радостно воскликнул Эйрик. — Она и есть! — согласился Скаллагрим. — Надо добраться до нее. Тогда я поговорю с этим предателем Холлем. — Ты не тронешь его и не причинишь ему никакого вреда, — строго сказал Эйрик, — я здесь глава, и мне принадлежит право судить его! — Твоя воля — моя воля, государь! Но будь моя воля — твоей волей, я повесил бы его на верхушке мачты и оставил бы там висеть до тех пор, пока морские птицы не вили бы гнезд в его остове! На «Гудруде» или все спали, или же на ней не было ни души, когда Эйрик и Скаллагрим причалили к ней и осторожно взобрались на палубу. Посредине, вокруг костра, спали все люди — и так крепко, что никто не слышал, как пришли сюда Эйрик и берсерк, как они присели к огню греться и стали поедать остатки ужина. Но вот один из людей экипажа пробудился и увидел их; приняв их за привидения, он поднял остальных, и все схватились за мечи, готовые обрушиться на пришельцев, но в этот момент Эйрик и Скаллагрим сбросили с себя плащи и заговорили. Тогда только воины убедились, что это не привидения, а сами Эйрик и берсерк. Эйрик спел им песню, в которой описал и предательский поступок Холля, и свои похождения на вражеском судне, и свою победу над врагом, и чудесное спасение.
Глава 15
Как Эйрик пребывал в городе Лондоне.— Теперь слушайте, товарищи, — сказал Эйрик Светлоокий, — не клялись ли мы верно стоять друг за друга до самой смерти? Как назовете вы после этого человека, который отрезал якорный канат «Гудруды» и обрек нас двоих на верную смерть, предав в руки многочисленных врагов? Что должно сделать этому человеку? Скажите, товарищи, ваше слово! — Смерть ему! Смерть! — послышалось со всех сторон. — Ты слышишь общий приговор, Холль? Ты заслужил его, но я хочу быть более милостив к тебе и потому говорю тебе: уходи отсюда, чтобы никто из нас не видал больше твоего лица. Уходи, пока я не раскаялся еще в своем мягкосердечии! И при громких, неприязненных криках своих бывших товарищей Холль взял свое оружие и, не сказав ни слова, сел в шлюпку, на которой только что прибыли Эйрик и Скаллагрим, и стал изо всех сил грести к берегу. — Неразумно ты поступил, государь, что отпустил живым этого негодяя! — сказал Скаллагрим. — Он еще насолит тебе когда-нибудь. — Ну, что делать! Быть может, ты и прав, но теперь дело сделано, и я пойду отдохну: я совсем выбился из сил. Три дня и три ночи Эйрик и Скаллагрим отдыхали, а затем рассказали товарищам обо всем, что они сделали и что с ними было. И все дивились их мужеству и их славным деяниям, подобных которым не было со времен Богов-Королей. После того отправился Эйрик к ярлу этих Фарерских островов, так как берег, к которому пристала «Гудруда», был берег главного из этих островов. Ярл принял его ласково и задал великий пир. Здесь, на Фарерских островах, Эйрик пробыл, пока не поправились его раненые, и, забрав двенадцать новых людей взамен убитых во время битвы с судами Оспакара Чернозуба и простившись с ярлом, который подарил ему богатый плащ и тяжелый золотой обруч, отплыл от островов. Никогда с тех пор, как поют скальды, не воспевалось таких славных подвигов, как подвиги Эйрика Светлоокого, никогда не бывало викинга более сильного, более великого, одно имя которого наводило страх и слава которого затмила славу всех остальных. Всюду, где Эйрик участвовал в битве, победа оставалась на его стороне; ярлы и короли искали у него помощи и содействия. О нем говорили, что он никогда не совершил ни одного низкого или позорного поступка, никогда не обижал слабого, никому, просившему у него пощады, не отказывал, никогда не поднимал меча на пленного или раненного врага, не нападал на беззащитного. У купцов он брал часть их товара, но вреда не причинял и все, что доставалось ему, делил поровну со своими людьми. Все люди любили его, смотря на него, как на бога; каждый из них был готов пожертвовать за него жизнью. Женщины тоже очень любили его, но он не глядел на них. В первое лето своего изгнания Эйрик воевал у берегов Ирландии, а на зиму пришел в Дублин и некоторое время служил в телохранителях короля этого города, который держал его в большой чести и хотел, чтобы он совсем остался у него, но Эйрик не захотел — и весной «Гудруда» была готова к отплытию, направившись к берегам Англии. Здесь, в одном из сражений, Скаллагрим был ранен почти насмерть, кинувшись на Эйрика, которого он заслонил своим телом от удара, направленного на него, и спас его, но сам чуть не погиб. Несколько месяцев Скаллагрим лежал больной, и Эйрик ухаживал за ним, как за братом; с этого времени они полюбили друг друга, как двойники, и не разлучались ни на минуту, но другие-то Скаллагрима не любили. Эйрик вошел в Темзу и явился в Лондон, приведя туда два судна викингов, которые он забрал в плен вместе с их владельцами. Он привел пленных к королю Эдмунду, Эдуардову сыну, прозванному Эдмундом Великолепным. Стал он в большой чести у короля. Вместе с англичанами он участвовал и в походе на датчан, а на зиму со своими людьми вернулся в Лондон, оставаясь при короле. При дворе же королевском была одна красивая леди по имени Эльфрида. Как только увидела она Эйрика, полюбился он ей, как ни один мужчина; ничего она на свете так не хотела, как стать его женой. Но Эйрик удалялся от нее, любя только одну Гудруду. Так прошла зима. Наступила весна, и тогда он снова ушел в море воевать и вернулся в Лондон только под осень. Когда он возвращался, леди Эльфрида сидела у окна и кинула ему венок, сплетенный из цветов. Король при виде этого усмехнулся, заявив, что был бы рад такому родственнику, как Эйрик, и что лучшего мужа для леди Эльфриды он не желает. Эйрик поклонился королю, но не сказал ни слова, а в ту же ночь спросил у Скаллагрима, скоро ли можно изготовить «Гудруду» к отплытию. Тот сказал ему, что дней через десять, но что теперь уже опасно выходить в море: время года уже позднее и зима близко. Но Эйрик сказал ему: — Я хочу зимовать на Фарерских островах: они ближе к нашей родине, а следующим летом минут три года моего изгнания, и я хочу поскорее вернуться в Исландию. — В этом решении я вижу тень женщины, — сказал Скаллагрим, — поздно теперь идти в море. Лучше ранней весной плыть прямо в Исландию! — Моя воля в том, чтобы идти в море теперь! — упрямо твердил Эйрик. — Путь к Фарерским островам лежит мимо Оркней, а там сидит Коршун и ждет своей добычи. В сравнении с тем Коршуном леди Эльфрида просто голубка. Уходя от огня, мы можем попасть в полымя. На другое утро Эйрик пошел к королю и просил его отпустить домой. — Скажи мне, Светлоокий, разве я не был милостив к тебе? — спросил тот. — Почему же ты хочешь покинуть меня? Неужели ты не можешь считать себя дома в моем большом государстве? — Нет, государь, я могу быть дома только у себя в Исландии! — сказал Эйрик. Король разгневался и приказал ему уйти, куда хочет и когда хочет. Эйрик поклонился королю и ушел. Спустя два дня после того Эйрик повстречал в королевском саду леди Эльфриду. У нее в руках были белые цветы, а сама она была прекрасна и бледна, как эти цветы. — Говорят, — промолвила она, — ты покидаешь Англию, Светлоокий! — То говорят правду! — ответил Эйрик. — Зачем хочешь ты возвратиться в эту холодную страну льдов и снегов, в эту угрюмую, неприветную Исландию? Разве здесь, в Англии, нет уютного уголка для тебя?! — воскликнула она, заливаясь слезами. — Там я дома, там моя родина, прекрасная леди! Там меня ждет старуха мать! — И девушка по имени Гудруда Прекрасная, — добавила леди. — О, я знаю! Я знаю все, но говорю тебе, Светлоокий, не видать тебе счастья с нею. Много горя примешь ты из-за нее; здесь же, в Англии, счастье ожидает тебя! — Все это может быть, леди, — сказал Эйрик, — дни мои текли бурно доселе; бури грозят и впереди, я это знаю. — Но жалкий тот человек, который боится бури и прячется от нее за печку, когда он молод и силен. Нет! Лучше погибнуть, чем быть таким жалким трусом! Ведь в конце концов все же должны погибнуть — и трусы, и герои! — Да, Эйрик, может быть, в твоем безумии есть мудрость, но скажи мне, если бы то, к чему ты теперь стремишься, было уже холодно и мертво, когда ты возвратишься в Исландию, что тогда? — Тогда я продолжал бы свой жизненный путь один, одинокий навек! — Ну, а если то, к чему ты стремишься, отдалось другому и другой владеет твоим сокровищем? — Если так, то я, быть может, возвращусь сюда, в Англию, и в этом самом саду буду просить нового свидания с вами! И они посмотрели друг другу в глаза, и леди Эльфрида продолжала: — Прощай, Эйрик, и будь счастлив! Дни приходят и проходят, и много места на свете всем. Но и тесно, и пусто тому, кто одинок. Когда ты уедешь, я буду одинока! — Она тихо отошла от него и скрылась в чаще сада. Потом рассказывали об этой леди Эльфриде, что много знатных витязей и королей просили ее руки, желая взять ее себе в жены, но она не хотела, а когда состарилась, то построила великолепный храм, назвала его Эйрикмирк, по смерти же была похоронена в нем, но ничьей женой никогда не была.
Глава 16
Как Сванхильда побраталась с жабой.Через двое суток Эйрик сел на свое судно и собрался выйти в море, но только что хотел приказать ударить в весла, как на берег прибыл сам король с богатыми |^% дарами. Хоть гневен был король, но простился с Эйриком ласково, взяв обещание, что если тому не посчастливится в Исландии, то он снова вернется к нему. Эйрик обещал, затем снялся с якоря и вышел в море. Поначалу погода стояла тихая, но на пятые сутки поднялась сильная буря, продолжавшаяся четыре дня и четыре ночи. Экипаж совсем выбился из сил, выкачивая воду, а та все прибывала. Да и пищи у них не хватало. Земли же нигде не было видно. Сам Эйрик и Скаллагрим не ели и не спали; все готовились к смерти; спасения неоткуда было ждать. Вдруг Скаллагрим услышал, будто волны пенятся, ударяясь о рифы, и сообщил о том Эйрику. — Так и есть, — согласился тот, прислушиваясь к шуму волн, — теперь наша песенка спета: нам недолго ждать смерти! — Смотри, государь, какое чудо, — воскликнул берсерк, — видал ли ты когда, чтобы туман шел против ветра, как сейчас?! Это, поверь, не без колдовства! Смотри, эта чародейка Сванхильда готовит нам западню! В это самое время Сванхильда, жена Атли, сидела в своем высоком замке у окна, смотря в темную даль бурной ночи. Глаза ее горели во тьме, словно глаза кошки, губы шептали какие-то заклинания. — Здесь ли ты, мерзкая жаба? Здесь ли ты? — Здесь, Сванхильда Незнающая Отца, дочь колдуньи Гроа — здесь! Скажи, что тебе надо от меня? — Явись мне, чтобы я могла увидеть отвратительный образ твой, увидеть тебя, мерзкое существо, к которому испытываю гадливость и отвращение, но в помощи которого нуждаюсь, явись ко мне! И вот во мраке появилось светлое пятно, а в нем отвратительная, громадная жаба с мертвой головой, вокруг которой болтались седые космы волос, а в глазных впадинах ее тускло светились налитые кровью глаза с обвислыми веками. Эта мертвая голова была обтянута мертвенно-желтой кожей, как лицо покойника; черные лапы с громадными когтями поражали уродливостью. Чудовище захохотало зловещим, отвратительным смехом, проговорив: — Ты называла меня серым волком, и я являлась к тебе в образе серого волка; называла меня крысой, я служила себе в образе крысы. Теперь назвала меня жабой, и под видом жабы я теперь ползаю около твоих ног. Скажи мне, чего ты хочешь от меня, а я скажу, какой ценой ты можешь купить мою услугу! Ты говоришь, что я гадка, страшна. Но вглядись поближе в мое лицо. Неужели ты не узнаешь его? Ведь это лицо матери твоей, умершей Гроа! Я взяла его у нее на том месте, где она теперь лежит, а это тело мое, — тело пятнистой жабы, — ведь это образ твоего собственного сердца, и ты не узнаешь его? И ты сама будешь даже отвратительнее меня, как и я была некогда прекраснее тебя! Ужас охватил Сванхильду, и она хотела вскрикнуть, но голос замер у нее в горле. — Так говори же скорее, чего ты хочешь от меня? — продолжала уродливая жаба. И Сванхильда, собравшись с духом, сказала ей, что хочет, чтобы Эйрик, который находится теперь вблизи Оркнейских островов, не прошел мимо, но был выброшен на берег. Прежде чем забрезжит утро, пусть будет он здесь, в замке Атли, и станет ее возлюбленным, а Гудруда пусть раньше, чем настанет осень, станет невестой Оспакара. — Прекрасно! — захохотала отвратительная жаба. — Пусть так, но только ты должна побрататься со мной и своей кровью запечатлеть наш союз. Ты должна стать тем, что я есть, должна мыкаться вместе со мной по свету, на гибель и горе всему, что не прибегает к нашей помощи, служа всем злым желаниям и дурным побуждениям людей, сея зло везде и повсюду. Ты станешь моей сестрой и неразлучной спутницей! Дрожащая, бледная, с горящими безумными глазами Сванхильда согласилась на ее требования, согласилась на все и закрепила свою страшную клятву своей кровью. Вдруг отвратительная жаба приняла образ и красоту Сванхильды, а Сванхильда с несказанным ужасом почувствовала, что превратилась в отвратительную жабу, ползающую по каменным плитам пола; в груди у нее клокотала ненависть и злоба ко всем людям. Она увидела свой собственный образ на вершине утесов, с распростертыми руками, как бы в заклинании к небу и к морю. Вдруг туман двинулся против ветра на море и стал застилать глаза Эйрику, ветер дул с бешеной силой, гибель судна казалась несомненной. Эйрик сознавал, что спасения нет. — Это колдовство и нечистая сила, — стоял на своем Скаллагрим. — Видишь там, в волнах, эту женскую фигуру, государь? Смотри, как ты думаешь, что это такое? — Клянусь Одином! Эта женщина идет к нам по волнам! Это — Сванхильда, я ее узнаю! Вот она идет перед нашим судном, указывая вправо! Она уже раз спасла нас, последуем ее совету и на этот раз. Что ты на это скажешь? — спросил Эйрик. — Я ничего не смею сказать тебе, господин, но не люблю колдовства и чародейства. Пусть будет по-твоему! Между тем призрак продолжал скользить впереди судна, указывая то в ту, то в другую сторону, и Эйрик направлял руль согласно этим указаниям. Вдруг это видение вскинуло руки к небу и исчезло в волнах. В тот же момент «Гудруда» со всей силы наскочила на подводную скалу, пробив себе киль. Страшный оглушительный трест заглушил на минуту рев и вой ветра. Страшный вопль вырвался из-под палубы, где находились люди Эйрика. Смерть раскрыла над ними свою жадную пасть. Вода хлынула в щель и затопила весь трюм. Еще минута — и судно пойдет ко дну. Эйрик обхватил Скаллагрима вокруг пояса. Громадный вал подхватил их в тот момент, когда «Гудруда» разом пошла ко дну. Что было дальше — не помнили ни тот ни другой.
Между тем отвратительная жаба в образе Сванхильды снова явилась перед ней и обменялась своим видом, снова став жабой, а Сванхильда — прекрасной Сванхильдой. На этом достойные сообщницы распрощались.
Глава 17
Как Асмунд женился на Унне, дочери Торода.Когда Эйрик покинул Исландию, то Гудруда сильно тосковала, но вскоре до нее дошли вести о нем. Говорили, что Оспакар Чернозуб преградил ему путь, напав на него с двумя большими боевыми судами, но Эйрик разбил одно судно и победил Оспакара. Но что сталось с другим судном Чернозуба и с «Гудрудой» Эйрика — осталось неизвестным. Полагали, что оба судна погибли в бурю, но Гудруда не верила тому: сердце ее говорило, что Эйрик не умер. Между тем пришло время, когда Асмунд жрец хотел жениться на Унне, родственнице Эйрика Светлоокого, и задумал он дать по этому случаю великий пир. Гостей собралось так много, что пришлось справлять пир в Миддальгофе, так как на Кольдбеке не было места. Накануне того дня, когда Асмунд должен был назвать Унну своей женой, все уже было готово к торжеству; гости начинали съезжаться со всех концов. Гроа хлопотала: она и готовила все для пира. С того самого времени, как она оправилась после болезни, Гроа была кротка и тиха и ни в чем не прекословила никому, не только Асмунду жрецу, а даже и Саву не, и Унне. Когда Асмунд жрец обходил горницы, где были накрыты столы, Гроа подошла к нему, тихонько спросив: — Все ли тебе по душе, господин? Сумела ли я угодить тебе? — Да, Гроа, но я боюсь, что тебе все это не по душе! — Полно, господин, не думай об этом! Что тебе хорошо, хорошо и мне! — Теперь скажи мне, Гроа, желаешь ли ты остаться в Миддальгофе и тогда, когда Унна станет здесь госпожой и хозяйкой, или желаешь, чтобы я отпустил тебя с честью и почетом? — Нет, Асмунд, позволь мне служить тебе и после, как я служила до сего дня, если только на то воля Унны! — Воля Унны, чтобы ты оставаласьздесь и жила в почете! — сказал Асмунд и пошел вон из горницы. Когда настала ночь и зажгли огни, Гроа поднялась со своего ложа и, окутавшись черным плащом, с корзиночкой на руке тихо вышла из замка, направившись на болото. Долго бродила она там, собирая травы и ядовитые коренья, затем вернулась в замок и за углом каменной ограды, куда никто не заглядывал и где было пусто и темно, подошла к человеку, который тут развел огонь из торфа, держа в руке чугунный котелок. Человек этот был Колль Полоумный. Гроа спросила его: — Все у тебя готово? — Да, госпожа, только не по душе мне то, что ты нынче затеяла! Скажи-ка, что ты задумала варить в этом горшке? — Завтра, ты знаешь, свадьба Асмунда; он берет себе в жены Унну, и я хочу изготовить им любовный напиток по его просьбе. — Много я делал для тебя дурных дел, но сдается мне, это хуже всех! — Много я делала тебе доброго, Колль, и окажу тебе еще одно последнее благодеяние: я подарю тебе свободу и дам еще две сотни серебра, если ты и в этот раз сделаешь по-моему! — Что же мне сделать, госпожа? — спросил Колль. — Вот что: во время свадебного пира ты должен будешь разливать вина, меды и всякие напитки в чаши в то время, когда Асмунд будет провозглашать тосты. Когда все развеселятся, ты примешаешь этот напиток в ту чашу, над которой Асмунд будет произносить свои брачные клятвы Унне, и Унна — Асмунду. Наполнив чашу, вручишь ее мне; я буду стоять у подножия высоких седалищ в ожидании, когда настанет время приветствовать новобрачную от имени всех женщин-прислужниц. Тогда ты передашь мне эту чашу; ведь это сущий пустяк, о чем я прошу тебя. — Действительно, пустяк! А все же мне это очень не нравится! Что если я скажу, что не согласен исполнить твою просьбу? — Что тогда будет?! — воскликнула Гроа, позеленев от злобы. — Что тогда будет? А будет то, что не пройдет несколько дней, как вороны выклюют тебе глаза! Понял? — А если я исполню, то когда получу обещанные две сотни серебра? — Половину я дам тебе перед началом пира, а другую половину — когда он кончится! Сверх того, дам тебе полную свободу идти на все четыре стороны. — Ну, так рассчитывай на меня! — сказал Колль и ушел. А Гроа продолжала варить свои травы и, наконец, сняв горшок с огня, перелила отвар в склянку, которую спрятала у себя на груди, а огонь разбросала ногой и тихонько прокралась к своему ложу, где и легла прежде, чем люди успели проснуться. Настал день свадьбы Асмунда сына Асмунда из Миддальгофа. За свадебным столом сидели на высоких седалищах Асмунд жрец и Унна, дочь Торода. Все думали, что она пригожая невеста и что Асмунд, хоть и насчитывал три раза по двадцать зим, был мужчина видный, красивый и сильный. Однако невесело сидел он на пиру, хоть и много пил он и вина, и медов, — ничто не веселило его: ему вспоминались слова Гудруды Милой, жены его, что быть несчастью и беде и ему, и всему его дому, если он будет иметь какое-нибудь дело с колдуньей Гроа; теперь ему казалось, что это предсказание должно сбыться. Казалось, Гроа смотрит на него и на Унну недобрыми глазами. Ему вспомнились ее страшные слова и проклятия перед ее болезнью. Все гости заметили, что Асмунд невесел. Но вот стал он возглашать тосты один за другим и мало-помалу развеселился. Пришла очередь и кубку невесты. Колль наполнил его, как наполнял до сих пор все кубки, но вместо того, чтобы подать его прямо Асмунду, передал Гроа, как было условлено, и, когда Асмунд потребовал кубок, Гроа как будто запнулась за свое длинное платье и на мгновенье прикрыла им золотую чашу невесты, но затем торопливо отдала ее Асмунду. Возгласив тост в честь новобрачной и повторив клятвы верности и любви, Асмунд отпил из кубка большой глоток и передал его Унне, жене своей, но прежде, чем та отпила из нее, он поцеловал ее в уста среди громких приветствий гостей. Унна с улыбкой поднесла чашу к губам и отпила из нее. В этот момент взгляд Асмунда упал на Гроа, и он увидел, что глаза ее горели, как раскаленные уголья, а лицо сделалось отвратительным от злорадного торжества. Асмунд побелел, как снег, и, схватившись рукою за сердце, крикнул: — Не пей, Унна! Не пей! Кубок отравлен! — И он выбил золотой кубок из рук новобрачной, так что тот откатился далеко на середину горницы. Но было уже поздно. Унна уже отпила и стала бела, как снег. Она молча опустилась на свое высокое седалище, а Асмунд воскликнул еще раз: — Люди, питье это отравлено, и отравила его вот эта женщина, колдунья Гроа! А та громко хохотала, видя муки Асмунда и Унны. — Да, я отравила это питье, я, Гроа колдунья. Вырви теперь свое сердце из груди, Асмунд жрец, делайся белее снега, добродетельная Унна! Вашим брачным ложем будет ложе смерти! И прежде, чем кто-либо успел вскочить и схватить ее, колдунья, как тень, проскользнула между пирующими и скрылась. С минуту царила мертвая тишина. Затем Асмунд поднялся и с трудом произнес: — Да, теперь я вижу, что всякий грех несет в себе свое проклятье, что это камень, который падает на голову того, кто его поднял. Гуд-руда Милая, чистая и непорочная супруга моя, завещала мне сторониться этой колдуньи — и вот плоды того, что я позабыл данную ей клятву. Унна, прощай! Прощай, дорогая супруга моя! И Асмунд жрец упал и умер тут же, за брачным пиром, среди своих гостей, на высоком седалище, подле своей новобрачной супруги. А та смотрела на него, мертвенно бледная и скорбная, затем склонилась над ним и, поцеловав его в мертвые уста, громко вскрикнула и также упала мертвой. С минуту в большой горнице царила мертвая тишина. Но вдруг Бьерн вскрикнул: — Колдунья! Где колдунья? С криком бешенства все устремились по следам Гроа, преследуя ее, как натравленные собаки преследуют зверя. Скоро погоня была уже на вершине холма, но колдунья всех опередила, спеша к реке и водопаду. Тут Бьерн натянул свой лук и спустил стрелу, которая пронзила ей сердце. С громким криком вскинула Гроа свои руки кверху и упала вниз, на Волчий клык, а оттуда — в водоворот. Так кончила свое существование колдунья Гроа. Но так как она была колдунья, то злые силы ее могли действовать еще и после того. Бьерн сын Асмунда стал хозяином и жрецом в Миддальгофе вместо своего отца. Это был человек жестокий, алчный до денег и до всякой наживы. Он стал принуждать Гудруду, сестру свою, идти замуж за Оспакара. Но Гудруда не соглашалась. Тут пришли вести, что Эйрик жив и зимовал в Ирландии. Гудруда словно расцвела от этих вестей и стала еще прекраснее, чем раньше. В это лето Оспакар Чернозуб встретился с Бьерном и долго беседовал с ним тайно.
Глава 18
Как ярл Атли нашел Эйрика Светлоокого и Скаллагрима на скалистом побережье острова Страумея.Сванхильда в ночном одеянии подошла к ложу своего мужа Атли и, разбудив, сказала, что ей снился сон: здесь, на берегу в эту ночь разбилось большое судно и погибло много людей, но некоторых выкинуло на берег. Она посоветовала мужу, взяв людей, пойти спасать тех, кто остался жив. Ярл послушался и, взяв много людей с фонарями, пошел сам на берег. Там он нашел обломки судна и много мертвых тел, а между скал Эйрика и Скаллагрима, которых волны выбросили на берег обнявшимися, как они обнялись, когда «Гудруда» пошла ко дну. С трудом разняв их (оба они были как мертвые) и положив на доски, их понесли в замок. Атли обещал тем, кто нес Эйрика, что он щедро наградит их. Эйрик был так тяжел, что восемь сильнейших людей Атли едва могли нести его. Добрый ярл боялся, что он уже умер. Однако, когда потерпевших крушение принесли в замок, Сванхильда, наклонившись над Эйриком, произнесла: — Не горюй, ярл, Эйрик Светлоокий жив и будет жить, и тень его, Скаллагрим, тоже! — и она, отвязав его шлем и броню и отцепив его меч Молнии Свет от пояса, уложила его и Скаллагрима на шитые постели, накрыв теплыми покрывалами, а когда те пришли в себя, напоила их горячим медом. Когда Эйрик узнал от Атли, что и судно его разбилось, и товарищи все до одного погибли, вздохнул тяжело, проговорив: — Все это колдовство и нечистые силы! Лучше было бы и мне погибнуть, чем остаться в живых и слышать такие вести! А все это проклятое колдовство! — И он заснул крепким сном, проснувшись только тогда, когда солнце было уже высоко. Встав с постели, он пошел вместе со Скаллагримом на берег отыскивать своих погибших товарищей. Много нашли они мертвых тел, но живого ни одного. Сел Эйрик на одну из прибрежных скал и, закрыв лицо руками, горько заплакал над своими погибшими товарищами. Между тем, пока Эйрик еще спал крепким сном, Атли пошел на свое ложе: была еще ночь. Сванхильда же отыскала Холля из Литдаля, который уже несколько месяцев жил в замке Атли, обманув ярла, что Эйрик оставил его на Фарерских островах оправляться от раны и что теперь он не знает, где отыскать Эйрика и не имеет судна, чтобы вернуться в Исландию. Поверил ему Атли и приютил его. Теперь Сванхильда сказала: — Знаешь, Холль, кого спас в эту ночь старый Атли? — Нет, госпожа. — Эйрика Светлоокого и его неразлучную тень Скаллагрима Овечий Хвост. — И оба они живы? — спросил со страхом Холль. — Да, и, верно, рады будут увидеть старого товарища после того, как столько их погибло здесь! — Ну, я так вовсе тому не рад! — угрюмо сказал Холль. — Уж не боишься ли ты Скаллагрима? Или ты поступил нехорошо против Светлоокого? Тогда Холль рассказал Сванхильде все, что было, только не совсем так, как было, стараясь скрасить свой поступок и уменьшить свою вину. Но Сванхильду трудно было обмануть, она угадала все, что утаил от нее Холль, и сказала: — Правда, не добро тебе встречаться со Скаллагримом. Не такой он человек, чтобы помиловать того, против кого он имеет на сердце. Уезжай ты отсюда, Холль, пока никто еще не проснулся. Есть у Атли земля в Исландии, поезжай туда; я и человека тебе дам, и судно, и денег на дорогу. А когда мне понадобится от тебя услуга, так ты сделаешь то, что я прикажу тебе. А теперь ступай себе, да готовься в путь. Видишь, буря стихла, и теперь немного дней будет тихо и ясно. Мой приказ ты передашь тому человеку, что теперь управляет землею Атли, он приютит тебя там.
Когда Эйрик, сидя на скале, плакал о своих погибших товарищах, к нему подошла Сванхильда, тихонько прокравшаяся за ним из замка, и ласково проговорила: — Не плачь об умерших, а пожалей лучше живых. Возрадуйся, что ты здесь жив и невредим. Скажи мне хоть слово привета, мне, которая столько лун не слыхала звука твоего голоса! — Как мне приветствовать тебя, Сванхильда, — отвечал герой, — когда я желал бы никогда не видеть твоего лица! Ты — колдунья, и много зла произошло через тебя. — Много зла! Ты помнишь только зло! Почему же не помнишь, что вчера я послала Атли искать тебя в скалах на берегу и еще раз спасла тебя в море?! Забудь то зло, Эйрик, меня толкала на него безумная любовь моя к тебе. Теперь все иначе: я — жена Атли, и верная ему жена. Моя любовь к тебе стала любовью сестры к брату. Эйрик почти поверил ей, хотя и заметил: — Если ты не изменишься, то пока я буду здесь, мы будем жить в мире, хотя я не люблю тех, кто занимается колдовством — ко злу или благу людей, все равно: в колдовстве нет добра! Она ничего не сказала, а только тихо коснулась его руки и хотела уйти, но Эйрик остановил ее, спросив, нет ли у нее каких вестей из Исландии. — Есть, только боюсь, что эти вести недобрые для тебя, Эйрик! — Говори скорее! — просил он. — Отец мой Асмунд умер; Гроа, мать моя, тоже, но как или почему, не знаю. А недавно Гудруда Прекрасная, твоя помолвленная невеста, помолвлена с Оспакаром Чернозубом и весной станет его женой. Только ты не огорчайся этим, это ведь только слух. Мне самой не верится, чтобы Гудруда забыла тебя и согласилась стать женой Оспакара без особой причины. — Плохо будет Оспакару, если только это правда! Ведь Молнии Свет еще в моих руках! — сказал Эйрик, побледнев. — И еще одну новость скажу тебе, — продолжала Сванхильда, — Холль из Литдаля был здесь до сего утра. Сегодня он ушел отсюда неизвестно куда и оставил весть, что больше сюда не вернется. — И хорошо сделал, что ушел, — молвил Эйрик, рассказав о поступке Холля. — Да, знай об этом Атли, он велел бы палками прогнать его отсюда, — проговорила Сванхильда. — Но скажи мне, Эйрик, почему ты носишь такие длинные волосы, как у женщины? — Потому, — отвечал Эйрик, — что я поклялся Гудруде, что ни одна рука не коснется моих волос до тех пор, пока я не вернусь к ней. Хотя волосы эти мне обуза и мешают в бою, — раз даже меня схватил один воин за волосы, и я чуть было не лишился жизни через это, — но все же, если бы даже они выросли у меня до пят, я не нарушил бы своей клятвы! Сванхильда усмехнулась и решила в сердце своем, что раньше, чем вернется весна, она заставит его своими хитростями и уловками изменить данному Гудруде обещанию и своею рукой срежет хоть один локон этих золотых волос его, а затем отошлет его Гудруде. Сванхильда давно уже ушла, а Эйрик все еще сидел, раздумывая о том, что узнал от нее. Она заронила в душу его зерно подозрения, уже начавшее пускать корни. «Что если правда, что Гудруда помолвлена с Чернозубом? О, если так, то она скоро станет вдовою!» — решил он и с таким решением угрюмо побрел в замок.
Глава 19
Как Колль Полоумный принес весть из Исландии.Когда Эйрик шел в замок, ему встретился Атли. Старый герой стал его просить, чтобы он остался у него хоть на зиму в его замке на острове Страумей. Эйрик долго не соглашался. Наконец убедительная просьба Атли заставила его изменить свое первоначальное решение. Сванхильда все это время была ласкова с ним, но не докучала своей любовью. Когда пришла весна, Атли стал просить Эйрика помочь ему вместе с Скаллагримом одолеть одного врага, могучего и сильного вождя, который захватил часть его земель. Эйрик согласился. Они сели на суда. Много славных подвигов совершил Эйрик и от всех был прославляем, а Скаллагрим в одной схватке убил недруга Атли и тем положил конец распре. Атли вернулся с торжеством и победой из этого похода, но Эйрик был тяжело ранен в ногу и не мог сесть на коня, не мог подняться на ноги. Его несли на носилках десять дюжих людей. Много недель пролежал герой больной в замке Атли; Скаллагрим, Сванхильда и сам Атли без устали ходили за ним. Наконец, когда стал он поправляться, пришло время Атли ехать собирать екать (то есть подати). Ярл взял с собой всех своих людей, а также и Скаллагрима, Эйрик же был еще слаб и потому остался в замке. С ним оставались только женщины во главе со Сванхильдой. В этот день ей доложили, что пришел c ней человек из Исландии с вестями. Она приказал позвать его. Человек этот был Колль, бывший тралль ее матери, колдуньи Гроа. Он рассказал ей, как умерли Асмунд жрец и новобрачная жена его Унна, дочь Торода, как умерла Гроа колдунья, его госпожа. — А Гудруда? — спросила его Сванхильда. — О ней, госпожа, ходил слух, будто ее сватал Оспакар Чернозуб, но о свадьбе и помина не было! — Слушай, Колль, я вижу, что ты голоден, да и кошель твой не туго набит деньгами, добрая похлебка и горсть-другая серебра тебе не лишни. Слушай же! Не трудно тебе, я думаю, покривить душой и сказать Эйрику Светлоокому, поклясться даже, если будет нужно, что Гудруда Прекрасная уже стала женою Оспакара Чернозуба и что свадьба их была назначена на минувший праздник Юуль. Если ты этого не сделаешь, то убирайся отсюда, куда хочешь, ни крова, ни похлебки, ни ломаного гроша я тебе не дам! Колль славился тем, что второго такого лжеца не было во всей Исландии, и сказать ложь ему ровно ничего не стоило. — Сделать это я, конечно, могу, если ты поможешь мне каким-нибудь советом, — сказал Колль. После этого Сванхильда долго тайно беседовала с Коллем Полоумным, затем велела призвать Эйрика. Тот, придя к ней, застал ее в слезах. Притворщица сообщила, что пришли дурные вести из Исландии, что мать ее, Гроа, отравила отца ее, Асмунда жреца, и Унну, жену его, во время брачного их пира, а Бьерн убил ее, когда она стояла над обрывом Золотого водопада, где чуть было не погиб Эйрик. — Ну, а какие вести о Гудруде? — спросил Эйрик. — Она стала женою Оспакара, — сказала Сванхильда. — Так сообщил Колль, сейчас прибывший сюда! — Врет он, этот Колль! — воскликнул Эйрик, вскочив на ноги и хватаясь за стену, чтобы не упасть. — Где он? Позвать его сюда! Когда тот пришел, Эйрик стал расспрашивать его и долго не верил ему, пока слуга не сказал ему, что сама Гудруда поручила ему передать Эйрику, что брат принудил ее идти за Чернозуба и что она теперь возвращает ему его слово и просит простить ее, что хотя она жена Оспакара, но никогда не забудет Эйрика и всегда будет любить его. В подтверждение слов своих она дала ему, Коллю, вот эту вещицу и просила передать ее Эйрику. С этими словами Колль достал из своего кожаного кошелька половину старинной золотой монеты и вручил ее Эйрику со словами: — Вот это она дала мне, чтобы я отдал тебе! Эту золотую монету Эйрик еще ребенком нашел, играя вместе с ней на берегу, и тогда же разломил ее пополам; с того времени они оба носили этот талисман у себя на груди. Но в последние годы, незадолго до изгнания Эйрика, Гудруда потеряла свою половину и из боязни огорчить своего возлюбленного ничего не сказала ему об этом. Впрочем, она даже и не потеряла талисмана, а Сванхильда однажды ночью, во время ее сна, украла его у нее и с тех пор постоянно хранила у себя. Теперь настал момент, когда этот обломок монеты мог сослужить ей службу. И она дала его Коллю во время тайной беседы своей с ним. Эйрик схватил этот предмет из руки Колля и, выдернув у себя с груди вторую половину, приложил; обе половины как раз пришлись одна к другой. Эта мнимая очевидность, этот любовный талисман в руках постороннего человека помутили рассудок Эйрика; он громко захохотал. — Быть кровопролитию! — воскликнул он. — Еще не так скоро эта песня будет допета до конца. Вот, на тебе! Это твоя награда, ворон, за то, что, будучи лжецом, ты раз сказал правду! — И Эйрик швырнул оба обломка золотой монеты. Колль подобрал золото и вышел, а Эйрик опустился на скамью и, свесив голову на руки, глухо стонал. Тихонько подкралась к нему Сванхильда, тихонько прижалась к его плечу и тихим, ласковым голосом молвила: — Тяжелые вести, Эйрик. Тяжелые и печальные и для тебя, и для меня… Та, что родила меня, — убийца и отравительница, убийца моего отца, а Гудруда — изменница, прекрасная, но лживая. Плохо, что я родилась от такой женщины, и плохо, что ты отдал свое сердце и доверился такой девушке. Оба мы несчастные теперь, давай же плакать вместе! — и голос ее, тихий и вкрадчивый, звучал, как музыка. — Нет! — воскликнул Эйрик, вскочив на ноги. — Нет, зачем нам плакать? Давай веселиться вместе: теперь нам нечего уже бояться дурных вестей. Мы испили самую горечь чаши, и потому давай веселиться! — Да! Смехом мы заглушим свое горе! Безумный ты, Эйрик, под какой несчастливой звездой ты родился, что не умел отличить правды от лжи, искренности от обмана, и теперь ты наказан за это. Но не горюй, давай смеяться и веселиться, как ты сказал! — И она, позвав женщин, приказала принести яств и вина, и меду. Они стали пировать и веселиться. Эйрик старался делать вид, что ест, но кусок не шел ему в горло, зато пил он очень много в эту ночь, а южные вина были крепки. Сванхильда сидела близко, близко к нему, с горящими глазами, распевая разные песни. Что-то словно огнем распалило мозг Эйрика. Он громко смеялся и хвастал своими подвигами, чего прежде никогда не делал. Между тем Сванхильда все ближе и ближе придвигалась к нему. Вдруг Эйрик вспомнил о друге своем Атли, и голова его сразу отрезвилась. — Нет, Сванхильда, этого не должно быть, — проговорил он, отстраняя ее от себя, — теперь ты чужая жена! Но я жалею, что не полюбил тебя с самого начала: ты все же лучше Гудруды и не изменила бы мне! — Да, Эйрик, ты прав! Надо было сразу уметь отличить истину от обмана; теперь же все равно, все уже сказано, и все клятвы нарушены! Уходи отсюда, Эйрик, не то быть беде! Но прежде выпей вот эту чару на прощание; ведь для нас лучше не видеться больше с тобой! — Иона подала ему чару, куда незаметно влила любовный напиток, уже заранее приготовленный ею. — Прежде чем ты возьмешь эту прощальную чару, Эйрик, — продолжала коварная женщина, — я хочу, чтобы ты исполнил одно мое желание. Это просто женский каприз, но мне это будет отрадой на весь остаток дней моих, дай мне срезать одну только прядь твоих золотых кудрей! — Я поклялся Гудруде, что никто, кроме нее, не дотронется до моих волос! — отговаривался было Эйрик. — В таком случае они отрастут у тебя длиннее пят; она ведь теперь не будет больше стричь их, ее руки расчесывают теперь черные кудри Оспакара, и ей нет дела до твоих золотых кудрей. Забыты все обещания! Нарушены все клятвы! Эйрик глухо застонал. — Да, — сказал он, — все клятвы нарушены! Исполни свое желание, Сванхильда! — и он подал ей свой драгоценный меч Молнии Свет. Сванхильда с недоброй улыбкой взяла в руки прядь золотых кудрей Эйрика и отрезала ее мечом. Герой молча взял у нее меч и вложил в ножны, она же спрятала золотую прядь у себя на груди. — Ну, а теперь пей чару и уходи! — сказала она; он послушно выпил до дна, и вдруг все переменилось у него в глазах: кровь закипела в нем ключом, и перед глазами заходили точно огненные волны. Сванхильда стояла перед ним точно в сиянии; ему казалось, что она поет сладкие песни, что от нее веет ароматом родных лугов, шепча: — Все клятвы нарушены, Эйрик, все! А теперь надо давать новые клятвы! Срезаны твои золотые кудри — и срезаны не рукой Гудруды!..
Глава 20
Как Эйрик получил новое прозвище.Эйрику снился сон, что перед ним стоит Гудруда, печально говоря: «Дурно ты сделал, Эйрик, что усомнился во мне, что нарушил данную мне клятву. Теперь ты навлек позор на свою голову, и не смыть тебе этого стыда и позора вовек. Когда ты дал Сванхильде срезать свои кудри, мой дух, всегда охранявший тебя от зла, отлетел от тебя, предоставил тебя Сванхильде». Эйрик проснулся. Ему показался этот сон справедливым. Но он думал, что все, происходившее с ним накануне, было только сном, пока, раскрыв глаза, не увидел рядом с собой Сванхильду, жену Атли. Тогда его охватили ужас и чувство такой ненависти к этой женщине, что, будь у него Молнии Свет, он, кажется, убил бы ее. Но меч его остался наверху, в тереме Сванхильды. Эйрик громко застонал. Его стон разбудил Сванхильду, она повернулась к нему лицом. Он же вскочил, как ужаленный, и стал проклинать ее и ее колдовство. — Слушай, Эйрик, — отвечала хитрая женщина, — все, что тут было, останется между нами, никто не узнает о том. Атли стар, и чует мое сердце, что он долго не проживет. А так как мы бездетны, то и все герцогство и все наследие его перейдет ко мне. Тогда ты займешь с честью и почетом его место и открыто назовешься женихом его вдовы. — Верно, — проговорил ядовито Эйрик, — ты достаточно зла, чтобы убить своего мужа и господина. Но знай, что лучше я буду последним нищим и буду ходить, побираясь, из двора во двор, чем сяду здесь рядом с тобою на место бедного Атли! Пусть лучше сгниют мои губы, чем коснутся еще раз твоего лица, пусть с корнем вырвут мой язык и я буду нем навек, чем он произнесет хоть одно слово любви к тебе, пусть лучше вытекут мои глаза и я буду слеп до конца дней моих, чем взгляну хоть раз по своей воле на твое мерзкое лицо. Проклинаю тебя за все прошлое и за настоящее и проклинаю тебя и впредь, навсегда! Слышишь? А теперь прощай! Не дай нам судьба больше встречаться с тобой ни живыми, ни мертвыми! — Не так-то легко мы с тобою расстанемся, Эйрик! — крикнула Сванхильда, вскочив теперь, в свою очередь, на ноги и заграждая ему дорогу. — Безумный, ты, видно, не знаешь, что нет врага ужаснее оскорбленной женщины! Разве затем я предалась колдовству, затем приняла позор, чтобы слышать от тебя одни проклятия?! Помни, что это лишь начало сказки. Я допишу ее до конца кровавыми словами и буквами! Ты не забудешь меня! — Не угрожай! Хуже того, что ты уже сделала, ты не можешь сделать ничего! — сказал Эйрик и с этими словами вышел вон. С минуту Сванхильда стояла как окаменелая, затем, заломив руки, громко зарыдала от отчаяния и злобы. — И ради этого я предала себя нечистой силе, ради этого стала колдуньей и лиходейкой! Нет, погоди, Эйрик, если нет для меня отрады в любви, то есть наслаждение в мести! Погоди, я расскажу Атли такую сказку, что увижу тебя мертвым у моих ног, да и Гудруду твою Прекрасную тоже. А там пусть все сгниет и пропадет в вечном мраке… Но мне надо спешить, чтобы опередить Эйрика, чтобы Атли услышал мою сказку раньше, чем Эйрик успеет покаяться ему во всем! Между тем Эйрик прошел в терем Сванхильды, взял там свой меч, опоясался им, надел шлем и броню и в полном вооружении вышел во двор замка, сказав женщинам, работавшим во дворе, что он пойдет к морю на то место берега, где разбилось его судно, что если Атли, вернувшись, спросит о нем, то пусть скажут ему, где его найти. Так сказал Эйрик, так как на это утро ожидали возвращения Атли. Придя к тому месту, куда его выкинуло бурей на берег, Эйрик сел на скалу и стал смотреть вдаль на море. Его грызла тоска и мучил стыд. Между тем Сванхильда, призвав Колля Полоумного, долго тайно беседовала с ним, наконец, приказала, как только вернется Атли, призвать его к ней. Когда Атли вернулся, то сейчас спросил об Эйрике, но ему сказали, что он ушел из замка к морю. Тогда Атли пошел к жене и застал ее в слезах и отчаянии. Она рассказала ему все, что хотела рассказать о поступке Эйрика, и рассказала так, как того хотела. Не поверил сначала старый Атли, но она призвала Колля в свидетели. Тогда ярл поверил, побелев от гнева; вся кровь застыла в нем от сознания своего позора. Вскипел он гневом и, призвав своих людей, отправился на берег. Но Скаллагрим пошел раньше его. Эйрик передал ему, что было. Не мог удержаться Скаллагрим от упрека: — Вот видишь, лучше было нам оставаться в Лондоне, как я тебе говорил! Ты бежал от огня и попал в полымя. — Правда твоя! Теперь я хочу повидать Атли, поговорить с ним и затем уйду отсюда навсегда. — Уйдем вместе! — угрюмо сказал берсерк. — Но остер ли твой меч? Вдруг увидел Эйрик, что Атли идет к нему и с ним человек десять из его людей. Герой поднялся к нему навстречу. — Как видно, ярлу уже известно об этом деле! — сказал берсерк. — Я это вижу по его лицу. — Тем лучше, — отозвался Эйрик, — мне не надо будет рассказывать ему! — Низкий обольститель беззащитных женщин! — крикнул ему Атли. — Защищайся! — И он взмахнул мечом перед глазами Эйрика. — Нет, Атли, — проговорил Эйрик, — ты стар, и я виноват перед тобой, хотя и не знаю ничего о том, что ты сейчас сказал. Я не стану защищаться! С тобою десять твоих людей; пусть они нападут и убьют меня, против них я готов защищаться, ты же отойди в сторону! — Нет, — крикнул ярл, — позор — мой, и я поклялся Сванхильде смыть его твоей кровью. Слышишь, защищайся, если ты не трус и не низкий человек! Эйрик поневоле поднял свой меч и взял свой щит. Атли нанес ему удар со всего размаха обеими руками. Эйрик принял удар на щит и остался невредим, но сам не возвратил удара. Тогда Атли опустил свой меч. — Я еще не дожил до того, чтобы убивать человека, который настолько слабодушен, что не может отвечать ударом на удар! Возьмите вы, люди, свои колья и гоните этого труса к берегу, к тому месту, где есть лодки, загоните его в лодку и отпихните от берега! — И Атли повернулся спиной к Эйрику. Такого посрамления не могла вынести гордость Светлоокого. Вся кровь бросилась ему в голову, и он сказал: — Возьми свой щит и защищайся, ярл, если уж ты непременно этого хочешь. Но пусть кровь твоя падет на тебя же самого: не может оставаться в живых человек, назвавший Эйрика низким трусом! Атли надменно засмеялся и еще раз занес меч на Эйрика. Тот парировал удар Молнии Светом и затем сам в свою очередь нанес удар, один только удар, но Молнии Свет рассек щит и, отрубив руку, державшую щит, глубоко вонзился в грудь старого Атли. Пошатнулся ярл и без стона упал, обливаясь кровью, на скалы. А Эйрик стоял, опершись на свой меч и смотря на него, и сердце его ныло от боли. — Ну, Атли, ты сам того хотел! — проговорил Эйрик. — Мне теперь стало еще хуже, чем было. Я исполнил твою волю, и вот что скажу тебе теперь: лучше бы я убил своего отца, чем тебя, Атли! Все это дело рук Сванхильды! Клянусь в этом тебе: не было моей воли причинить тебе обиду или огорчение! Атли взглянул в печальное лицо Эйрика и в его ясные, правдивые глаза, и гнев его разом спал; все стало ясно старому ярлу. — Эйрик, — сказал он, — подойди ближе и расскажи мне все, как было! Я начинаю думать теперь, что меня обманули, что ты не сделал того, что сказала про тебя Сванхильда, а Колль засвидетельствовал. — Что же они сказали тебе, Атли? — спросил Эйрик. И Атли рассказал ему все. — Никогда этого, Атли, и в мыслях моих не было, в том я готов тебе поклясться! — И Эйрик сообщил ярлу всю правду, без всякой утайки. Атли громко застонал. — Теперь я знаю, Эйрик, что ты говоришь правду и что она оболгала тебя. Я прощаю тебя, зная, что ни один человек не может бороться против женской хитрости, коварства и колдовства. Но, хотя ты согрешил и против своей воли, да падет на тебя проклятие за то, что ты нарушил свою клятву. Это проклятие толкнет тебя в могилу, и не уйдешь ты до самой смерти своей от Сванхильды: ты теперь связан с нею навек! — Атли смолк на время, затем продолжал уже слабеющим голосом. — Слушайте, товарищи, — обратился он к своим людям, — поклянитесь мне все сейчас же, что вы дадите Эйрику и Скаллагриму беспрепятственно уехать отсюда на одном из моих судов, которое я дарю Светлоокому. Затем скажите Сванхильде, дочери Гроа колдуньи, что я проклинаю ее в свой последний час, зная, что она — моя убийца, что она опутала и оклеветала Эйрика, которого я прощаю. Клянитесь, что вы убьете Колля Полоумного, тралля Гроа, и что не будете искать кровавой мести за мою смерть против Эйрика: я сам вынудил его поднять на меня меч. Клянитесь! — Клянемся! — отвечали все. — Теперь прощайте, товарищи, прощай и ты, Эйрик Светлоокий, но помни, что с этого дня тебя будут звать не Светлоокий, как до сих пор, а Эйрик Несчастливый: несчастнее тебя не будет человека! И много люди будут рассказывать о тебе, многие годы будут петь скальды. На, возьми мою руку и держи ее в своей, пока не закатится свет очей моих… Прощай! Голова Атли упала на холодную скалу, и он умер. Последние лучи солнца погасли на небе; кругом все разом померкло.
Глава 21
Как Холль из Литдаля принес вести в Исландию.В ту самую ночь, когда Атли был убит Эйриком, Сванхильда вызвала Холля из его убежища и приказала I ему поутру отправиться в Исландию, чтобы там разнести молву о проступке Эйрика, о том, как он убил опозоренного им старого Атли Добросердечного, наконец, как он вскоре станет мужем Сванхильды. — Когда эти вести дойдут до Гудруды Прекрасной и она призовет тебя, — добавила Сванхильда, — то ты повторишь это, затем передашь вот этот полотняный мешочек, прибавив, чтобы она вспомнила клятву, данную ей Эйриком во время его отъезда! Вслед за тем Сванхильда одарила Холля, дала денег на путевые издержки и прибавила, что вскоре и сама приедет в Исландию — узнает, хорошо ли он исполнил ее поручение. Послушный Холль уехал и все сделал по желанию своей госпожи. Между тем Эйрик, увидев, что слуги Атли унесли тело его в замок, в раздумье стал спрашивать у своего верного товарища, что теперь делать. Наконец он решил переправиться на Фарерские острова и пробыть там, пока не настанет время и не встретится случай вернуться в Исландию. Теперь время его изгнания близилось уже к концу. Так и сделали, но на этот раз Скаллагрим и Эйрик поселились не в княжеском замке, а в хижине одного поселянина: князь этой страны, услыхав о проступке Эйрика и будучи другом покойного, гневался на того, тем более, что он был теперь человек бедный, не имел ни судна, ни имущества, ни своих людей. Друзья пробыли с месяц на Фарерских островах, затем сели на проходившее судно, направлявшееся в Исландию, заплатив за свой проезд одним из золотых обручей, которыми наградил Эйрика король английский. А в замке Атли происходила печальная церемония: Сванхильда вышла навстречу покойнику и горько плакала над ним. Когда же старший из свиты Атли передал ей последние слова ярла, притворщица сказала: — Господин мой и супруг был не в памяти от потери крови, когда говорил это; напротив, все, что я сказала ему, была правда, а этот Эйрик налгал ему, чтобы опозорить меня еще больше! Затем, помня клятву, которую они дали своему господину, люди Атли погнались за Коллем Полоумным, чтобы убить его, но тот бежал от них; и до того был велик страх его перед мечами, что он бросился вниз с обрыва и разбился о скалы, в жестоких муках испустив последний вздох на глазах своих преследователей. Так покончил свою жизнь Колль Полоумный, тралль колдуньи Гроа. Шесть недель Сванхильда просидела на острове Страумей, принимая в свои руки наследие Атли. Затем снарядила военный корабль, нагрузила его всяким добром и, посадив наместников на время своего отсутствия в Оркнейских островах, отправилась в Исландию, как бы для того, чтобы возбудить там дело о преследовании и кровавой мести Эйрику за убийство Атли. Она прибыли в Исландию как раз в то время, когда все съезжались на альтинг. Между тем Холль давно уже приехал в Исландию и повсюду распускал слухи об Эйрике так, как ему наказала Сванхильда. Дошли эти слухи и до Бьерна сына Асмунда. Он призвал к себе Холля и, порасспросив его, пошел вместе с ним к сестре своей Гудруде, которая в это время сидела у окна за прялкой. — Вот, сестрица, человек, который привез вести об Эйрике Светлооком. Расспроси его сама, — проговорил Бьерн. — Недобрые у меня вести, госпожа, — сказал Холль, — нет охоты и сказывать их тебе! Гудруда стала настаивать. Тогда Холль передал, как «Гудруда» разбилась у Страумея и как Эйрик целую зиму сидел там в замке старого Атли и, наконец, стал возлюбленным Сванхильды, как об этом узнал Атли и вызвал оскорбителя на поединок, но Эйрик убил его. — Что же, — проговорила Гудруда, — все это может быть: Сванхильда красива и притом колдунья; очень возможно, что она вовлекла Эйрика в свои сети и навлекла на него беду. Но дурно, что Эйрик поднял меч на Атли, хотя, может быть, он был вынужден к тому необходимостью — защищать свою жизнь! Затем Холль сообщил, что видел Сванхильду перед самым своим отъездом в Исландию, и она сказала ему, что вскоре станет женою Эйрика и что Эйрик будет вместе с нею управлять Оркнейскими островами. — И это весь твой сказ? — спросила Гудруда. — Да, весь! Да вот еще это поручила мне Сванхильда передать тебе, напомнив при этом одну клятву Эйрика, когда он прощался с тобою! — И Холль, достав из-за пазухи холщовый мешочек, передал его Гудруде. Та не сразу решилась развязать его, но когда развязала, и на колени ей выпала прядь золотистых кудрей Эйрика, она сразу узнала их, но все же спросила: — Чьи это волосы? — Это волосы Эйрика Светлоокого, которые обрезала ему Сванхильда его славным мечом Молнии Светом! Тогда Гудруда достала у себя на груди маленькую ладанку, вынула из нее другую прядь золотых кудрей и сравнила обе пряди между собой. В горнице горел огонь на очаге: день был холодный. Не сказав ни слова более, Гудруда подошла к огню и, подержав над ним с минуту обе пряди, бросила их в огонь, затем вдруг громко вскрикнула и, заломив руки, выбежала из горницы. — Знаешь, Холль, — заметил тогда Бьерн послу, — лучше тебе убраться отсюда: ведь если ты сказал хоть одно слово лжи, то тебе не быть живому, когда Эйрик вернется в Исландию. Холль вспомнил Скаллагрима, и мороз пробежал у него по коже: он знал, что тот шутить не любит. В тот же день Гудруда заявила своему брату, что если он желает, чтобы она стала женою Оспакара, то пусть он призовет его в Миддальгоф, когда станут разъезжаться с собрания; что тогда он уедет не один отсюда. Обрадованный Бьерн обещал все исполнить по желанию сестры.
Глава 22
Как Эйрик Светлоокий вернулся на родину.Сванхильда благополучно прибыла в Исландию, но пристала не у Западных островов, а у мыса Рейкьянесс и отправилась прямо туда, где все люди съехались на собрание, причем нарядилась в лучший убор, делавший ее еще прекраснее. На собрании она обратилась к Оспакару с просьбой оказать содействие в судебном деле, которое она намеревалась возбудить против Эйрика за убийство супруга ее, ярла Атли Добросердечного. Дело ее взял на себя сын Оспакара Гицур Законник, искуснее которого не было в Исландии. Тот, как увидел ее, не мог отвести глаз от ее лица и согласился сделать для нее все, что она хотела. А она хотела, чтобы Эйрика объявили вне закона, а земли и имущество его разделили между нею и его поселянами. После этого возвратилась она на свою стоянку, и на сердце у нее было весело. На собрании всех свободных людей Исландии Гицур выставил обвинение против Эйрика и, благодаря своему красноречию и многочисленным сторонникам Оспакара, Эйрика осудили заочно, вопреки законам, без защитника, не выслушав оправданий. Его объявили снова вне закона, но уже на вечные времена, а земли поделили и отдали половину Сванхильде, а половину поселянам, жившим на его земле. Когда стали разъезжаться с альтинга, поехали Бьерн, Оспакар и Гицур со всеми своими людьми в Миддальгоф. Сванхильда же села на свой корабль и морем отправилась к Западным островам, а оттуда хотела проехать на Кольдбек и водвориться там, пока не вернется Эйрик в Исландию: она хотела посмотреть, что тогда будет. Оспакар между тем приехал в Миддальгоф, где его встретила Гудруда, гордая и бледная; холоден, хотя и вежлив, был привет ее. В тот день в Миддальгофе был большой пир. Во время его Гудруде рассказали, как осудили Эйрика. Девушка заметила: — Дурное это дело — судить человека за глаза и не по закону! — Да ведь, и ты, сестра, осудила его за глаза, — шепнул ей на это Бьерн, и слова эти глубоко запали ей в сердце. В душе девушки в первый раз проснулось подозрение, что не так, может быть, виноват перед нею Эйрик, как ей это казалось раньше. Она сообразила, что осудили его по требованию Сванхильды, вдовы Атли. Но если Эйрик должен вскоре стать ее мужем, то зачем было ей возбуждать против него дело, зачем позорить его и объявлять всем, что он станет вскоре ее мужем? Но теперь уже было поздно: Гудруда дала слово Оспакару, и через три дня назначено было свадебное торжество. На другой день сидела Гудруда в своей светлице, раздумывая об Эйрике, когда ей сказали, что пришла Савуна, мать Эйрика. Последняя после смерти Унны и Асмунда снова поселилась у себя на Кольдбеке, но, ослепнув от горя, не вставала уже с постели. По всему было видно, что конец ее был близок. Поэтому Гудруда немало удивилась, когда услышала об ее приходе. Старуху принесли четверо людей на кресле и внесли в горницу Гудруды. Савуна заговорила: — Слышу я, Гудруда, что ты отвергла сына моего Эйрика Светлоокого и отвергла потому, что слышала о нем от Холля. Но этот Холль — лжец и с раннего детства был лжецом. Я встала с одра смерти и пришла к тебе, чтобы сказать тебе: безумна всякая женщина, которая идет замуж за нелюбимого человека. Из этого может только произойти горе и зло для нее и для других. Я знаю Эйрика от рождения, я вскормила, воспитала и вырастила его и клянусь, ничего бесчестного и подлого он не мог сделать и любит он тебя сейчас, как любил раньше. Сванхильду же ты сама знаешь, быть может, она сгубила его, околдовала, опоила своей злой силой. Вспомни ее дела, вспомни дела ее матери, что сделала она с твоим отцом и с моей родственницей У иной! Поверь, дочь сделает хуже матери: она такая же колдунья, как была ее мать. Неужели ты хочешь оттолкнуть Эйрика, даже не дав ему оправдаться? — У меня есть доказательство того, что Эйрик сам отказался от меня! — отвечала побледневшая девушка. — Тебе так думается, дитя, но, верь мне, ты ошибаешься; тебя ввели в заблуждение! — О, если бы я только могла поверить Эйрику, я бы скорее наложила на себя руки, чем стала женою Оспакара!.. — И Гудруда громко зарыдала. — Да теперь уже все равно, поздно! Что сделано, то сделано: жених в соседней горнице, невеста ожидает его в своей светлице, — и нет у меня больше надежды быть спасенной от Оспакара! — Да, что сделано, то сделано, но из всего этого может ничего не выйти. Безумная, под влиянием ревности ты готова отдаться человеку, который внушает тебе одно отвращение. Одумайся, что может из этого выйти! Прощай! Это мои прощальные слова. Эйрик вернется, и много крови прольется. Твой брачный пир будет ужаснее и кровавее брачного пира отца твоего Асмунда и родственницы моей Унны! Эй, люди, унесите меня отсюда! Вошли керли Савуны и подняли ее кресло на плечи. Но когда выходили они, то столкнулись с Бьерном и Оспакаром. Те спросили старуху, зачем она явилась сюда и почему Гудруда рыдает. — Потому, — отвечала Савуна, — что ее, невесту моего Эйрика Светлоокого, продали в жены Оспакару, как продают скотину на базаре. Но Эйрик идет, он скоро будет здесь, и прольется кровь! Я уже вижу, что меч Эйрика сверкнул в воздухе! Эйрик идет! — воскликнула она еще раз, указывая рукой на вход, и с пронзительным криком запрокинулась в своем кресле и умерла. Все стояли вокруг носилок, пораженные и изумленные. — Странные слова произнесла эта женщина! — сказал, оправившись, Бьерн. — Старая ведьма, — проскрежетал Оспакар. — Унесите эту падаль отсюда! — крикнул он ее слугам. Люди привязали мертвую Саву ну веревками к креслу и понесли ее обратно на Кольдбек. Но Сванхильда была уже там со всеми своими людьми и прогнала всех домашних Эйрика и слуг его в горы. Осталась на Кольдбеке одна только древняя старушка, бывшая нянькой Эйрика. Она была слишком стара и не могла двинуться с места. Едва доплелась она до сторожки и села там в сенях. Когда слуги принесли тело умершей Савуны, то внесли его в эту сторожку, поставили в сенях, где сидела в углу на полу старушка, и рассказали ей обо всем, что случилось в Миддальгофе. Прошел день, затем ночь. На рассвете следующего дня Эйрик Светлоокий и Скаллагрим Овечий Хвост благополучно высадились у Западных островов. Это был день свадьбы Гудруды Прекрасной. Все ушли на свадебный пир, и в окрестных хатах не было ни души. — Куда же мытеперь, государь? — спросил Скаллагрим Эйрика. — Прежде всего поедем на Кольдбек, чтобы я мог обнять и поцеловать мать, если только она жива еще! И они зашли в одну хату, чтобы нанять лошадей, но в хате не было никого, а кони гуляли в загоне. Тут же, в сторожке, лежали уздечки и седла. Друзья изловили коней, оседлали их и поехали на Кольдбек, что над болотом. Подъезжая, они увидели издали, как из ворот выезжал длинный поезд, и среди всех этих конных была женщина в богатом пурпурном плаще. Но ни Эйрик, ни его друг не могли придумать, что бы это значило. Поехали они дальше, приехали в самую усадьбу, но и здесь не было ни души, будто все вымерло. Эйрик, соскочив с коня, крупными шагами вошел в большую горницу, но и здесь не было никого, чтобы приветствовать его возвращение, хотя в очаге еще горел огонь и на столах были пища и питье. Но вот из угла выполз старый волкодав; крадучись, приблизился он к Эйрику, недоверчиво ворча, но потом, узнав, стал лизать ему руки, затем, жалобно воя и виляя хвостом, поплелся к выходу, после через двор к сторожке. Наконец, остановившись перед дверью, стал скрестись и жалобно, протяжно выть. Эйрик пошел за собакой и распахнул дверь. Перед ним сидела мать его Савуна, мертвая в своем кресле, а у ее ног ежилась на полу старая служанка, жалобно причитая. Эйрик ухватился за притолоку, чтобы не упасть. Его громадная тень упала на мертвое лицо матери его и на старую служанку у ее ног.
Глава 23
Как Эйрик пожаловал в гости на свадебный пир Гудруды Прекрасной и Оспакара Чернозуба.Долго стоял Эйрик неподвижно, глядя на мать и не проронив ни слова. — Кто ты такой, злой или добрый человек? — бормотала служанка, не подымая головы и не глядя на вошедшего. — Если ты один из людей Сванхильды и хочешь выгнать меня отсюда, то сжалься: я стара и слаба, мои ноги не могут держать меня, я не могу уйти в горы, как остальные, не могу оставить здесь одну мою добрую госпожу!.. Если хочешь, убей меня, но не гони… Если же ты добрый человек, то помоги мне схоронить ее: мои старые руки не могут вырыть ей могилы, моей силы не хватит донести ее до нее… помоги мне!.. Ты молчишь, не хочешь помочь мне? Так пусть же и твоя родная мать останется без погребения, пусть волки растаскают ее кости, вороны выклюют ей глаза… О, если бы только вернулся Эйрик Светлоокий! Громкое рыдание вырвалось теперь из груди Эйрика, и он воскликнул: — Няня! Няня! Неужели ты не узнаешь меня? Ведь я — Эйрик Светлоокий! Старуха с громким криком кинулась к нему и, обхватив его колени, стала всматриваться в лицо затуманенными слезой глазами. — Прославлен будь один Бог, что ты вернулся, Светлоокий, но вернулся ты слишком поздно. Все беды случились без тебя, и некому было вступиться за тебя. Тебя осудили, земли отобрали, даже дом, объявив тебя вне закона, по жалобе Сванхильды, вдовы Атли. Она поселилась здесь, на Кольдбеке, в твоем доме, выгнав всех верных твоих слуг. Савуна, мать твоя, умерла два дня назад в Миддальгофе, куда приказала снести себя, поднявшись со своего смертного ложа, чтобы поговорить с Гудрудой и заступиться перед ней за тебя! — Ты говоришь, Гудруда! Что с Гудрудой? — Сегодня ее свадьба с Оспакаром Чернозубом! — Сегодня? В какое время? — В час пополудни; Сванхильда уже отправилась туда со всеми своими людьми! — Хм! Тогда найдется место и еще одному гостю! — сказал Эйрик. — И даже двум гостям! — поправил его Скаллагрим, стоявший за его спиной. — Где ты, государь, там и я! — Теперь расскажи мне, няня, все, что ты знаешь! — И старуха рассказала своему питомцу о молве, распущенной Холл ем, как он обманул Гудруду, и как Сванхильда затеяла судебное дело против него, как осудили его, и как Гудруда помолвилась с Оспакаром. Выслушав все до конца, Эйрик подошел к телу матери и, поцеловав ее уже холодный лоб, голосом, дрогнувшим от волнения, произнес: — Прости меня, родная, сейчас нет времени схоронить тебя, но не здесь ты будешь сидеть, а на более почетном месте! — С этими словами он перерезал своим мечом веревки, которыми была привязана к креслу Савуна, и, взяв осторожно тело на руки, с любовным благоговением отнес его в большую горницу дома, где посадил на высокое седалище. — Если не хочешь опоздать в Миддальгоф, то нам надо спешить, — заметил ему тут Скаллагрим, — вот тут пища и питье, поедим: нам силы нужны будут там. А там и в путь! Эйрик послушался разумного совета, а отдохнув, сказал служанке: — Слушай, няня! Если, когда мы уедем, придет сюда кто-нибудь из наших людей, которые еще помнят меня, то скажи им, что я завтра поутру, если останусь жив, буду у подножия Мшистой скалы, и там они найдут меня; пусть идут туда и принесут с собой пищи и запасов разных. А теперь прощай! — Эйрик поцеловал ее и уехал, оставив ее в слезах. Не прошло часа после его отъезда, как Ион, тралль Эйрика, остававшийся в Исландии и бежавший в горы от людей Сванхильды, крадучись вернулся на Кольдбек и заглянул в двери дома, но увидев, что никого нет, вошел в дом. Старая нянька передала ему слова Эйрика. Ион побежал обратно в горы сообщить другим, что слышал от старухи. Они собрали пищи и всяких запасов и пошли все к Мшистой скале, как сказал им Эйрик: все они любили его и были рады его возвращению в Исландию. В это время Оспакар Чернозуб сидел в большой горнице замка в Миддальгофе, в полном вооружении, в кольчуге, броне и черном шлеме с вороновым крылом. Слова не шли ему на язык: предсмертная речь Савуны запала ему в душу, и страх томил его. Подле него сидела Гудруда Прекрасная в белом одеянии, с золотым поясом и золотыми застежками на груди, с золотыми обручами на руках. Лицо ее было белее самого одеяния; она смотрела с омерзением на своего жениха. Один за другим приезжали гости; прибыла и Сванхильда и, подойдя к высокому месту, где восседала Гудруда Прекрасная, преклонив перед ней колено, как это водится, приветствовала ее: — Привет тебе, сестрица! Когда мы здесь в последний раз виделись с тобой, я сидела на этом месте невестой старого Атли, а твою руку держал в своей нареченный жених Эйрик Светлоокий. Теперь же ты сидишь здесь невестой Оспакара, врага и ненавистника Эйрика, а Светлоокий далеко и не думает о тебе… Неужели у тебя нет ни слова привета для меня, которая своими руками создала это твое счастье? Ты молчишь? Ведь это я избавила тебя от Эйрика! Я толкнула тебя в объятия Оспакара, и ты не находишь для меня ни одного слова благодарности за такую услугу? — Ты здесь против моего желания, дочь колдуньи Гроа, и будь на то моя воля, не хотела бы я никогда видеть твоего лица! — Верю тебе, но лицо Эйрика ты хотела бы видеть. Да, он хорош! — И Сванхильда со смехом отошла в сторону. Начался пир. Чаши стали обходить мужчин; все пили много и были веселы, только Гудруда, как сквозь туман, видела пирующих гостей. Настало время и для свадебных кубков. Еще минута — и Гудруда станет женою Оспакара, произнесет над кубком свою клятву — и тогда все кончено! Сердце Гудруды на мгновение как бы замерло и перестало биться. Между тем Оспакар уже произнес свою клятву верности жене и свои обеты, затем, отпив из кубка добрую половину, обернулся к невесте, чтобы поцеловать ее. Но та невольно отшатнулась. Вдруг ей послышался где-то знакомый голос; с чашей в руке Гудруда подалась вперед и вдруг громко вскрикнула, указав рукой на дверь, свадебная чаша выпала у нее из рук и покатилась вниз со ступеней, вино разлилось на ковры и шкуры. Все с удивлением увидели в дверях человека, сиявшего, как солнце, бесподобной красотой; сиял золотой шлем его с золотыми крыльями, сияли золотые кудри его, ниспадая густою волной до пояса. В одной руке он держал большой медный щит с острием, в другой — длинное копье. Рядом с ним стоял другой витязь, с широким бердышем, в воронёной, черной кольчуге и шлеме, ростом немногим меньше, с орлиным носом и зоркими ястребиными глазами, с черной бородой, в которой пробивалась кое-где седина. — Видите, — послышалось в толпе, — вот сами боги Бальдр и Тор! Они спустились из Валгаллы почтить своим присутствием этот брачный пир! — Видите! — раздался мощный звучный голос. — Вот пришли из-за морей Эйрик Светлоокий и Скаллагрим берсерк почтить своим присутствием этот пир! — Худших гостей я не мог ожидать! — пробормотал про себя Бьерн и встал, чтобы приказать слугам выгнать непрошеных гостей. Но не успел он раскрыть рта, как оба этих витязя, бок о бок, уже стояли у нижней ступеньки почетных седалищ. Их лица были холодны и свирепы. — Я вижу здесь немало знакомых лиц! — начал Эйрик. — Приветствую вас, друзья и товарищи! — Приветствуем тебя, Светлоокий! — отозвались люди Миддальгофа и люди Сванхильды; только керли Оспакара молчали, готовя оружие. — Привет тебе, Бьерн сын Асмунда жреца, и тебе, прекрасная невеста, тебе, лжец Холль, тебе, колдуньино отродье, Сванхильда, хотя ты и не стоишь моего привета! — Я не хочу привета посрамленного человека, объявленного вне закона, уходи отсюда вместе с верным псом твоим — уходите, пока вы не остались здесь на месте немы и недвижимы! — сказал Бьерн. — Не шуми так, крыса, не то ты испытаешь на себе песьи зубы! — проговорил Скаллагрим, а Эйрик прибавил: — Не спеши, Бьерн, придется тебе погодить немного! Я должен держать речь и, быть может, упадет мертвым не один человек, прежде чем я покину этот замок!
Глава 24
Как продолжался пир.— Прогоните его отсюда! — кричал Бьерн. — Нет, заколите его! Ведь он вне закона! — кричал Оспакар. — Пусть Эйрик скажет свое слово! — вмешалась Гудруда. — Его судили в его отсутствие, не выслушав его оправданий, и я хочу, чтобы он сказал свое слово! — Какое тебе дело до Эйрика, — прорычал Чернозуб. — Свадебная чаша мной еще не испита, государь, — ответила Гудруда. — К тебе первой обращу я свое слово, — начал Эйрик, обращаясь к Гудруде Прекрасной, — скажи мне, как это случилось, что, будучи моей невестой, ты здесь сидишь невестой Оспакара Чернозуба? — Спроси о том Сванхильду и Холля, который принес мне ее дар, прядь твоих волос! — Скажи мне, что он говорил тебе! — продолжал Эйрик, и девушка пересказала ему все. — Так сколько же тут правды, Сванхильда? — Ты сам знаешь! — уклончиво ответила Сванхильда. — А Холлю я никаких поручений не давала! — Выступи вперед, Холль, и, если хочешь быть жив, скажи сейчас перед всеми людьми всю правду! Дрожа под угрожающим взглядом Скаллагрима, Холль выступил вперед и пересказал все как было, сознавшись, что Сванхильда деньгами и подарками подкупила его. — Ты лжешь, лиса! — крикнула Сванхильда. — Лжешь! — Но никто не обратил внимания на ее слова: глаза всех были обращены на Эйрика. — Теперь скажите мне, люди, есть ли на то ваша воля, чтобы я сказал вам, со своей стороны, все, как было? — спросил Эйрик, обращаясь к собранию. Все закричали: «Да! Да! Говори!» Только люди Оспакара молчали. — Говори! — сказала Гудруда. И Светлоокий рассказал все как было. В толпе послышался ропот; все гневно смотрели на Сванхильду, а та старалась только укрыться от глаз, злобно теребя свою пурпурную мантию. — Ну а теперь, Гудруда, когда все тебе известно, скажи мне, хочешь ли ты быть женою Оспакара? — продолжал Эйрик. Но не успела та ответить, как Чернозуб вскочил в бешенстве и, ухватившись рукой за меч, закричал: — Как ты смеешь, ты, стоящий вне закона, отбивать у меня мою голубку! Знаешь ли, что за одно это я отдам тебя в пищу воронам?! Пока я жив, Гудруда никогда не станет женою безземельного бродяги, бездомного и посрамленного человека, который объявлен вне закона, убирайся отсюда, Эйрик, вместе с твоим псом волкодавом! — Тише, крыса, не пищи так громко, не то, смотри, испытаешь на себе песьи зубы! — сказал ему Скаллагрим. — Эй, люди! Убейте его! — вскричал Чернозуб, побагровев от бешенства. — Трус! — воскликнул Эйрик. — Гудруда, можешь ли ты уважать такого человека? — Я не буду женою человека, которого назвали при всех людях трусом и который в ответ на это не поднял меча! — отвечала на это невеста. Этого Оспакар не мог уже стерпеть; как медведь из своей берлоги, спустился он со своего седалища и устремился на Эйрика. Пол дрожал под его шагами. — Сторонитесь! Сторонитесь! — крикнул Скаллагрим. — Теперь будет на что посмотреть! Не успел он договорить, как в воздухе засверкали мечи. Но вот Оспакар снес половину щита Эйрика, а тот изловчился, в свою очередь, ударил со всего размаха и раздробил щит Оспакара. Удар был так силен, что Чернозуб пошатнулся, попятился несколько шагов и грузно упал на пол. Все закричали: «Эйрик! Эйрик!» — думая, что Оспакар уже не поднимется. Эйрик с громким криком кинулся вперед, но в этот момент Сванхильда, бледная и дрожащая, шепнула что-то Бьерну, стоявшему подле нее, и тот ногой толкнул лежавший у его ног осколок медного щита Эйрика, так что тот попал под ноги Эйрику, — и последний, поскользнувшись, упал лицом вниз, причем меч выскользнул у него из рук. Оспакар воспользовался этим, с громким, торжествующим криком схватив его и отшвырнув свой собственный меч. При этом случилось страшное дело: описав несколько кругов в воздухе, меч Оспакара прорвал завесу в дальнем углу большой горницы и вонзился прямо в грудь скрывавшейся за нею женщины. А это была Торунна, неверная жена Скаллагрима, возлюбленная Оспакара. Она последовала сюда за своим господином, чтобы незаметно присутствовать на его брачном пиру, и приютилась в дальнем конце свадебных столов. Когда же здесь появился Скаллагрим, она, опасаясь его мести, притаилась за завесой и из-за нее следила за поединком, и вот случайно отброшенный меч пронзил ее сердце; со слабым стоном она упала и умерла от руки своего возлюбленного. Оспакар, овладев мечом Молнии Светом, надменно закричал: — Ты безоружен теперь, Эйрик, беги! — Нет, Эйрик, не беги! Нападай! У тебя есть еще половина щита! — громовым голосом проговорил Скаллагрим. — Не беда, что Бьерн подставил тебе ловушку. Эйрик, нападай! Оспакар устремился на Светлоокого с высоко занесенным над головой мечом, но Эйрик принял удар на свой обломок щита и с громким криком ринулся вперед. Прежде чем Оспакар успел нанести ему новый удар мечом, герой со всей силы ударил его острием своего разбитого щита прямо в лицо. Еще раз поднялся и блеснул в воздухе Молнии Свет, еще раз увернулся от него Эйрик и снова налетел на врага, и на этот раз удар острия щита был так силен, что расколол шлем Чернозуба, и вместе с ним и его череп; широко раскинув руки, гигант тяжело рухнул на землю. Тогда Эйрик наступил ему на грудь и, наклонившись, взял Молнии Свет из его рук.
Глава 25
Как кончился пир.С минуту царило гробовое молчание; люди не верили своим глазам. — Что вы разинули рты, товарищи! — крикнул Скаллагрим. — Оспакар мертв! Убит безоружным человеком! Смотрите, Эйрик Светлоокий уложил на месте Оспакара Чернозуба! И, подобно раскату грома, прозвучало под сводами замка дружное приветствие победителю. Гудруда же, услышав, что Оспакар убит, радостно сошла со своего высокого места и, приблизившись к Эйрику, все еще неподвижно стоявшему над побежденным врагом, произнесла: — Приветствую тебя на твоей родине! Приветствую тебя, слава и гордость Исландии! Увидела Сванхильда, что Эйрик хотел прижать Гудруду к своей груди, обнять и поцеловать ее на глазах всех людей, и вскипело злобное сердце ее бешеной ненавистью к нему, она воскликнула громким голосом: — Неужели, Бьерн, ты допустишь, чтобы этот посрамленный и осужденный, убив Оспакара, взял себе в жены твою сестру? — Пока я жив, этому не бывать! Слышишь, сестра? — обратился тот к Гудруде. — А ты скажи мне прежде, зачем бросил обломок щита под ноги Эйрику, так что он споткнулся и упал? Или ты думаешь, что никто этого не видел? — И ты, государыня, видела это? — радостно воскликнул Скаллагрим. — Значит, видели и другие! Бьерн позеленел от злобы и, не ответив сестре ни слова, только крикнул своим людям, чтобы они убили Эйрика. Гицур сын Оспакара крикнул то же своим людям, а Сванхильда — своим. Тогда и Эйрик, гордо выпрямясь во весь свой богатырский рост, крикнул громко и звучно: — Товарищи, кто за меня, иди сюда! Неужели вы допустите, чтобы северяне и пришельцы на ваших глазах убили Эйрика Светлоокого? И большая часть людей Миддальгофа, бывшие люди Асмунда жреца, не раз уже стоявшие за Эйрика, примкнули к нему, также и бывшие люди и соратники Атли, не говоря уже о людях Кольдбека. Бьерн выхватил свой меч и замахнулся на Эйрика, воспользовавшись минутой, когда тот не ожидал нападения, но Скаллагрим подоспел и парировал удар своим бердышем, затем, прежде чем Бьерн успел занести свой меч, Молнии Свет сверкнул в воздухе, и он пал мертвым к ногам Светлоокого. Таков был конец Бьерна сына Асмунда, жреца Миддальгофа. — А теперь живо станем спина к спине, и смотри в оба: со всех сторон приступают враги! — сказал Эйрику Скаллагрим. — А вон там бежит один! — проговорил Эйрик, указав на прокрадывавшегося к выходу Холля. У Скаллагрима было еще в руке копье Эйрика; он метнул им в Холля, и так верен был его удар, что копье вонзилось в хребет Холля между лопаток, пригвоздив его к боковому столбу входной двери. Так он там и остался. Вот какова была смерть лжеца и низкого труса. Теперь уже удары сыпались градом со всех сторон; одни нападали, другие отражали. Все смешалось в один кровавый бой. Люди, разгоряченные вином и хмельными медами, не щадили никого; брат шел на брата, отец на сына. Столы и скамьи опрокинулись; кровь людей смешалась с праздничными яствами. Вся горница превратилась в лужу крови; крики и стоны слились в один гул. Гудруда, сидя на своем высоком седалище, с ужасом и отчаянием смотрела на этот кровавый свадебный пир, и ей невольно вспоминались слова Савуны, матери Эйрика. Между тем Эйрик со своим другом, отразив врагов, расчистили себе путь к выходу. — На коней! — воскликнул Скаллагрим. — На коней, пока счастье еще не изменило нам! — Нет в этом счастья! Много пролито крови, и мной убит брат той, которую я хотел назвать своей невестой! — мрачно проговорил Эйрик. — Полно! Одна такая битва стоит многих невест! — возразил Скаллагрим. — Мы сегодня приобрели большую славу, Светлоокий, ведь Оспакар убит безоружным врагом! Ни слова не ответил на это Эйрик. Они сели на коней и помчались ко Мшистой скале. Только к утру следующего дня были они у подножия Мшистой скалы; здесь умылись, омыли свои раны и легли отдохнуть. Тут к Эйрику со всех сторон подошли бывшие его поселяне со съестными припасами. Они просили героев поселиться с ними. Те согласились и направились вслед за Скаллагримом в его пещеру, где и поселились. Долго они жили там, добывая себе пищу и одежду, выходя тайно из своего убежища, так как знали, что Сванхильда и Гицур, как только соберутся с силами, пойдут на них, и если не смогут одолеть их, то залягут здесь и будут пытаться заморить их голодом, заградив им горный проход в долину.
Между тем всю ночь Гудруда просидела на высоком почетном месте невесты, печально размышляя над грудой мертвых тел.
Глава 26
Как Эйрик Светлоокий осмелился явиться в Миддальгоф и что он нашел там.Гицур сын Оспакара, отправился после пира в Свинефьелль, где со смертью отца он стал полным хозяином. Там он схоронил тело в склепе, высеченном в скале, на вершине горы, чтобы дух Оспакара мог видеть оттуда все земли, принадлежавшие ему при жизни. Над могилой сын воздвиг высокий курган. И теперь еще в народе ходят слухи, что в день праздника Юуля, в ночное время, черный призрак Оспакара вырывается из могилы, а золотой призрак Эйрика Светлоокого на боевом коне выезжает к нему навстречу, и слышится тогда звон мечей и стоны. Наконец Эйрик уносится к югу на крыльях ветра, держа в руке свой рассеченный щит. Так схоронил Гицур отца своего Оспакара Чернозуба и поклялся, что не вкусит ни отдыха, ни покоя, пока не увидит мертвыми Эйрика Светлоокого и Скаллагрима берсерка. А Эйрик в это время сидел на Мосфьелле, то есть на Мшистой скале, и сердце его ныло от скорби. Хотя он был объявлен вне закона, но бежать в леса ему не было надобности; среди своих людей он был в безопасности. Его так любили все, что снабжали пищей, одеждой и оружием. Каждый так гордился им, что никто, даже из тех, кто мог питать к нему кровавую месть за убийство близких и родственников во время побоища в Миддальгофе, не покушался на его жизнь, а только прославлял его подвиги. Мало того, люди юга поручили его людям передать ему, что если он хочет, то они снарядят для него хорошее боевое судно, чтобы он мог отправиться викингом в чужие страны. Но Эйрик отклонил это предложение, заявив, что хочет умереть среди своих людей в Исландии. Прошло два месяца с тех пор, как Эйрик Светлоокий сидел на Мшистой скале, или Мосфьелле, которая отныне была прозвана и по сие время называется скалой Эйрика, или Эйрикесфьелль. Оба они со Скаллагримом томились от безделья. Скоро до них дошли слухи, что Гицур и Сванхильда отправились на юг в Кольдбек с большими силами, чтобы захватить и убить Эйрика, но Гудруда не присоединилась к ним и не намерена возбуждать кровавой мести за убийство брата своего. Скаллагрим хотел ночью нагрянуть на людей Гицура и Сванхильды и разгромить их, но Эйрик сказал, что не хочет нового кровопролития и что если он еще раз подымет меч, то только в защиту своей жизни. Тем не менее герой решил покинуть свое убежище и ехать в Миддальгоф, чтобы повидать Гудруду. — Вряд ли ты оттуда вернешься живым, государь! — проговорил печально верный Скаллагрим. — Пусть так, все же это будет лучше, чем такая жизнь! — Ну, так и я пойду с тобой, если так! — решил берсерк, и Эйрик не стал ему прекословить. Они выехали на заре в туман, дождь и бурю, а прибыв в Миддальгоф, Эйрик уже один пешком пошел к реке, к тому месту, куда ходила купаться Гудруда, и, притаившись там в камышах, стал ждать, не представится ли случай увидеть ее; это место было всего на расстоянии двух выстрелов от ворот замка. Недолго пришлось ему ждать. Спустя некоторое время Гудруда пришла к тому месту, где он был, и не заметив его, задумчиво села на камень. Не мог Эйрик вынести печального вида ее и, поднявшись из-за камышей, встал перед ней. Стали они говорить и говорили долго. Гудруда просила Эйрика снова спрятаться в камышах, чтобы никто не мог его увидеть. — Слушай, Эйрик! — говорила девушка. — Поезжай обратно на Мшистую скалу и сиди там до весны, а к тому времени я снаряжу хорошее боевое судно и мы, бросив здесь все, поедем в ту страну Англию, о которой ты мне рассказывал; там я буду твоею женой. На этом влюбленные и расстались.
Глава 27
Как Гудруда ездила на Мшистую скалу к Эйрику Светлоокому.Эйрик осторожно добрался до того места, где его ждал Скаллагрим, который начинал уже тревожиться. Ему герой передал свой разговор с Гудрудой, сообщив и о намерении весной покинуть Исландию навсегда. — Я хотел бы, чтобы теперь уже была весна, — сказал Скаллагрим, — да и почему нам не покинуть родину теперь же? Ждать до весны долго; за это время может многое случиться. Что из того, что море бурно, здесь тебе, государь, много опаснее, чем даже в бурном море! — У Гудруды нет сейчас судна, да и она хочет выждать срок, пусть забудут о кровавой мести за смерть Бьерна! — Как знаешь, государь, только лучше бы ты уходил отсюда! Всю ночь и следующий день они благополучно ехали, а под вечер второго дня, когда уже стемнело, подъезжали к Мшистой скале. Тут из-за скалы выскочили пять человек из людей Гицура и преградили им путь. Но когда Эйрик и Скаллагрим устремились на них, то они отступили, рассыпавшись по кустам, и, дав проехать Эйрику и Скаллагриму, пустили в погоню свои копья. Одно из них Скаллагрим поймал на лету и отослал обратно, причем смертельно ранил кого-то из нападающих, другое же пролетело над головой Скаллагрима и вонзилось глубоко в левое плечо Эйрика у самой шеи. Не долго думая, Эйрик правой рукой вырвал его и метнул обратно с такою силой, что, несмотря на щит, пронзил грудь врага, и тот упал замертво. После того никто уже не осмелился преследовать Светлоокого и его спутника. Скаллагрим перевязал руку Эйрика, и они продолжали свой путь. Из пещеры заметили нападение людей Гицура и уже спешили навстречу Эйрику. Рана его была серьезна, он потерял много крови, но дней через десять она как будто зажила. Между тем выпал снег, наступили морозы, дни стали короче, а ночи длиннее. В пещере было страшно темно, и хотя Эйрик старался поддержать бодрость духа в товарищах, но сам с тех пор, как был ранен, не выносил темноты, и, видимо, томился. Свечей или светильников на Мшистой скале не было, и они целые дни просиживали на дворе перед пещерой над тем обрывом, откуда скатилась в пропасть голова берсерка, любуясь северными сияниями или бледным светом звезд и отражением белых снегов. Чтобы развлечь товарищей, Эйрик приказал им построить небольшую хижину из камней; и вот, наблюдая за работой, он увидел, что никто из его людей не мог своротить одной громадной глыбы камня. С улыбкой Эйрик подошел к глыбе и, подняв на руки камень, донес его до места, но при этом рана его раскрылась, и кровь хлынула густой струей. Эйрик обмыл рану и наложил новую перевязку, не придав этому обстоятельству никакого значения. Когда настала ночь, он не пошел в пещеру, а опять, укутавшись в овчины, сел над обрывом. Ночью кровь снова стала сочиться из раны. Но он не обратил на то внимания. Между тем рану охватило морозом, и длинные волосы его примерзли так крепко, что он не мог уже отодрать их. Оставалось только срезать волосы, но на это Эйрик ни за что не соглашался, говоря, что он поклялся Гудруде, что ничья рука не коснется его волос, а если ой еще раз нарушит эту клятву, его постигнут величайшие несчастья. Теперь мысли Эйрика были так печально настроены, что он совершенно упал духом; ко всему этому прибавилось еще нездоровье от раны. Тяжелые предчувствия томили его душу. Все это вместе взятое повело к тому, что Эйрик с каждым днем заболевал все сильнее и сильнее, пока, наконец, не слег окончательно в постель. Однако, несмотря на то, что состояние раны угрожало его жизни, он никому не позволял дотронуться до своих волос, и Скаллагрим, видя, что убедить его нельзя, а состояние его столь заметно ухудшается, решил, не сказав ему ни слова, отправиться тайно в Миддальгоф и упросить Гудруду приехать на Мшистую скалу и срезать волосы Эйрику, так как это необходимо для спасения его жизни. Путь был до того тяжелый, что он и тралль Эйрика Ион трое суток пробивали себе дорогу сквозь непроходимые снега и чуть живые добрались до Миддальгофа. Когда Гудруда услышала, что Эйрик умирает, сердце ее замерло от испуга, и она чуть не потеряла сознания. Когда же Скаллагрим сказал ей, что, может, ей удастся спасти его, если она не побоится трудностей дальнего и тяжелого пути, она решила ехать в эту же ночь. Распорядившись, чтобы и Скаллагрима, и Иона накормили и обогрели, она приказала своим прислужницам и всем женщинам в доме, чтобы те говорили каждому, кто спросит о ней, что она больна и лежит в постели, затем она призвала троих своих самых верных траллей и приказала им приготовить трех вьючных лошадей и нагрузить всякими припасами и всем, что могло быть необходимо для больного. Когда же все было готово, едва только стемнело, она выехала в путь. Ночь пришлось провести в пути, снега везде лежали непроходимые; вторую ночь им пришлось ночевать в снегу и, несмотря на теплые одежды и покрывала, все они чуть было не погибли в страшную метель, поднявшуюся к утру. Под вечер третьего дня они прибыли, наконец, к подножию Мшистой скалы. Дойдя до той лощины, где находились кони и скот обитателей пещеры, то есть Эйрика и его людей, путники были встречены некоторыми из них, и лица их были печальны. — Неужели Эйрик умер? — спросил Скаллагрим. — Нет, — отвечали люди, — жив еще, но, верно, скоро умрет: он со вчерашнего дня не в памяти и никого не узнает! — Скорей! Скорей к нему! — торопила Гудруда и пошла вперед всех, так как здесь, в этой лощине, надо было оставить лошадей и далее идти пешком. Путь был трудный. Но Скаллагрим охранял Гудруду, как родное дитя. Когда они подошли к пещере, яркий торфяной костер горел у входа: на дворе стоял жестокий мороз. Сквозь облако дыма Гудруда увидела Эйрика, распростертого на широком ложе из овечьих шкур. Он горел, как в огне, и бредил, ясные глаза его смотрели дико по сторонам, а длинные золотистые кудри разметались по плечам и по груди. Гудруда подошла к нему и, опустившись на колени, склонилась над ним, проговорив: — Это я, Гудруда, пришла к тебе, Эйрик! При звуке ее голоса он повернул голову и взглянул на нее. — Нет! Нет! Это не она, не моя Гудруда Прекрасная: ей нет дела До таких бездомных бродяг. Если ты — Гудруда, подай мне какой-нибудь знак. Где Скаллагрим? Экий славный бой! Вперед! Дайте мне кубок… — Эйрик, — продолжала Гудруда, — я пришла срезать твои волосы! Ведь ты дал клятву, что никто, кроме меня, не дотронется до твоих волос! — Да, это она! Это Гудруда! Срежь! Срежь! Но не давай никому другому дотрагиваться до моей головы! Пользуясь этой минутой затишья, Гудруда осторожно срезала золотые кудри Эйрика, затем тепловатой водой, нагретой над костром, бережно стала отмачивать их от раны, которая теперь вся была закрыта и потемнела. После долгих трудов ей удалось окончательно открыть и промыть рану. Тогда она смазала ее целительным бальзамом, наложив тонкую полотняную перевязку. Когда все это было сделано, она дала Эйрику приготовленное ею успокоительное питье и, положив голову его к себе на руку, стала тихо уговаривать его заснуть. Он вскоре действительно заснул. Всю ночь и весь день просидела она у его изголовья, почти не принимая пищи; Эйрик все время спал. На вторые сутки под вечер он слабо улыбнулся во сне, затем раскрыл глаза и устремил их на огонь костра. — Странно, — прошептал он, — какой сон… мне казалось, что Гудруда склонилась надо мной, что она здесь. Да где же Скаллагрим? Гудруда взяла его руку и ласково сказала: — Нет, Эйрик, то не сон: я — здесь, ты был болен, и я приехала ходить за тобой! Теперь, если ты будешь спокоен, ты скоро поправишься. — Ты здесь? Как ты сюда попала? Где Скаллагрим? Скаллагрим подошел и подтвердил, что Гудруда здесь, что она не побоялась совершить этот трудный путь через непроходимые снега. — Ты это сделала ради меня, — прошептал Эйрик, — значит, ты сильно любишь меня! — И этот силач, не будучи в состоянии осилить своего волнения, заплакал. Гудруда, склонившись над ним, долго нежно целовала его.
Глава 28
Как Сванхильда добывала сведения об Эйрике.Вскоре силы Эйрика стали возвращаться, и Гудруда заговорила об отъезде. Эйрик уговаривал ее остаться, (но погода была ясная, морозная и тихая; надо было ехать теперь же. Скаллагрим поехал проводить ее до Золотого водопада и на пятые сутки вернулся, доложив, что врагов нигде не видали и что Гудруда благополучно доехала до пределов своих земель. В Миддальгофе все было благополучно; никто не узнал о ее отсутствии, все считали ее больной, так что даже шпионы Сванхильды лишь много позже узнали о визите Гудруды на Мшистую скалу. Вернувшись в Миддальгоф, Гудруда стала готовить судно, скупала меха и другие товары и понемногу собирала деньги, розданные в пост. В этой заботе время проходило приятно, но Эйрик у себя на Мшистой скале тосковал и не мог дождаться весны. Также длинно тянулись дни для Сванхильды и Гицура. Сванхильде наскучило выжидать, и она стала упрекать Гицура, что его люди плохо стерегли проходы Мшистой скалы; ей хорошо известно, что Эйрик покидал свое убежище. Злая женщина заявляла, что она не станет женою его ни за что, прежде чем Эйрик не умрет, хотя она предпочла бы, если бы можно, убить Гудруду. На это Гицур сказал ей, что пусть уж это она возьмет на себя: он не хочет участвовать в убийстве этой девушки, самой красивой, какая когда-либо существовала на свете. Слова эти привели Сванхильду в бешенство, она стала упрекать его, что он малодушный трус и что единственный путь к ней через труп Эйрика. Они порешили, что люди их будут сторожить судно Гудруды, и когда оно снимется с якоря, кинутся на абордаж; сама же Сванхильда с Гицуром и одним керлем, родом с подножия Геклы, хорошо знающим все тропинки Мшистой скалы, отправятся туда и обойдут Мосфьелль той тропой, которая известна этому керлю; если она еще доступна, то они вернутся с людьми и прикончат Светлоокого. Как ни долго тянулись скучные зимние дни, но время близилось незаметно к весне, и вот однажды к Эйрику, томившемуся тоской бездействия и страхом ожидания, явился посланный от Гудруды с известием, что «снег на крышах Миддальгофа начал таять» и что «Гудруда здорова». Это было условное слово, означавшее, что все уже готово. — Передай своей госпоже, что Светлоокий здоров и что на вершинах Геклы снег еще не растаял. Это также означало, что он немедленно явится к ней. Отдохнув немного и подкрепив свои силы пищей и медом, посланный отправился в обратный путь и передал Гудруде Прекрасной ответ Эйрика Светлоокого, — и сердце ее наполнилось радостью. По уходе тралля Гудруды Эйрик призвал своих людей и приказал тем, которые хотели отправиться с ним в Англию, готовиться в путь. Остальным же, которые желали остаться в Исландии, велел прожить еще недели две здесь, на Мшистой скале, и ежедневно зажигать огни, чтобы обмануть шпионов Гицура и Сванхильды, заставив их думать, что Эйрик все еще на Мшистой скале в пещере. В ту же ночь, прежде чем успела взойти луна, Эйрик простился со своими товарищами и уехал со Скаллагримом и теми, которые собирались отплыть вместе с ним, в Миддальгоф. На вторые сутки под вечер они были уже в виду Миддальгофа, но им пришлось выждать, пока совершенно стемнеет. Окутанные почти непроницаемым мраком, всадники въехали во двор, ворота которого были широко раскрыты. Здесь Эйрик соскочил с коня и направился к женским дверям. Гудруда ожидала его у порога, но, заслышав его шаги, вбежала в большую горницу, села там на высокое место и с бьющимся сердцем ожидала своего жениха в полном наряде невесты. В Миддальгофе оставались теперь при ней только две верные женщины и несколько траллей, спавших не в самом замке, а в пристройке, остальных же людей своих Гудруда отослала на судно, совершенно готовое к отплытию. Скаллагрим и остальные спутники Эйрика остались во дворе, прибирая лошадей, сам же Светлоокий вошел через женские двери в большую горницу и при свете огня, горевшего на среднем очаге, достиг высоких сидений. Здесь он увидел свою невесту, уже ожидавшую его, сел рядом на жениховское место, и здесь они выпили брачный кубок и долго оставались в объятиях друг друга. Счастье, неземное счастье переполнило их сердца. Так повенчались Эйрик Светлоокий и Гудруда Прекрасная. В ту ночь, когда Эйрик поехал в Миддальгоф жениться на Гудруде Прекрасной, Сванхильда, Гицур и один их слуга отправились на Мшистую скалу. Прибыв туда, они обошли ее; а тралль долго отыскивал ту тропу, о которой говорил. Наконец, найдя ее, повел по ней Гицура, Сванхильда же осталась внизу ожидать их возвращения, тропа показалась ей опасной. Ожидая Гицура, она увидала, как с другой стороны горы спустилось двое всадников, и в одном из них узнала Иона, тралля Эйрика. Всадники эти спустились в долину и, проехав немного по опушке леса, вошли в убогого вида хижину, привязав своих коней к изгороди. Тем временем Гицур и тралль вернулись и рассказали ей, как этой тропой можно было пробраться на самую вершину скалы и оттуда скатывать камни на голову Эйрика и других обитателей пещеры. Сванхильда возликовала и в радости своей стала торопить с возвращением на Кольдбек, где она хотела забрать с собой побольше людей и, оцепив снизу всю гору, атаковать Эйрика с вершины скалы. Все трое сели на коней и поскакали вниз в долину. Когда они приблизились к хижине на опушке леса, Сванхильда вспомнила об Ионе и сказала себе, что надо изловить этих птиц и добыть от них сведения об Эйрике. С этою целью она и Гицур спешились и подкрались к входу хижины, двери которой стояли распахнутыми настежь. Сванхильда шепнула Гицуру, у которого было в руке копье, чтобы он метнул его и уложил насмерть одного из двоих людей, занятых собиранием припасов, рыбы, мяса и других продуктов, которые были сложены здесь, как в кладовой. Гицур хотел было воспротивиться приказанию своей возлюбленной, но не посмел и пустил свое копье в беззащитного человека, связывавшего рыбу. Бедняга упал замертво. В этот момент Гицур и его тралль накинулись на Иона, скрутили его и грозили и его убить, если он тотчас же не проведет их в пещеру на Мшистой скале и не доставит Сванхильде возможности увидеть Эйрика. Робкий и трусливый Ион растерялся от этой неожиданности и нечаянно проговорился, что Эйрика нет на Мшистой скале. Тогда у него стали допытываться, где находится Светлоокий, допытываться с угрозами и мучениями, и Ион, долго крепившийся, наконец не выдержал страшной пытки, придуманной Сванхильдой, и рассказал всю правду. Услыхав о свадьбе Эйрика, Сванхильда, обезумевшая от злобы и бешенства, закричала Гицуру: — Прикончи его, да и едем дальше! Теперь надо спешить! — Нет, — отвечал Гицур, — я не убью этого человека: он нам сказал то, что мы от него требовали; пусть будет жив и идет на все четыре стороны! — Ты обезумел! — крикнула Сванхильда. — Если не хочешь убить его, то свяжи и оставь здесь, чтобы он не мог предупредить Эйрика о том, что он выдал его и мы идем на них! Иона связали толстыми веревками и оставили в хижине, где он и пролежал двое суток, пока не пришли сюда другие его товарищи и не освободили его. Сванхильда же и Гицур со своим спутником помчались теперь во весь опор в Миддальгоф.
Глава 29
Как прошла брачная ночь.Эйрик и Гудруда молча сидели на высоких местах в большой, празднично разубранной горнице Миддальгофского замка, пока не пришел туда Скаллагрим за приказаниями. — Прежде всего все мы поедим и выпьем доброго меда, вина и пива, — сказала за Эйрика Гудруда, — а затем твои люди, Эйрик, тайно проедут к тому месту, где стоит наше судно, и прикажут шкиперу готовиться в путь, чтобы на заре, пользуясь приливом, выйти в море. А ты, Эйрик, я и Скаллагрим останемся здесь в замке до трех часов утра: мне донесли, что люди Гицура и Сванхильды сегодня в ночь будут караулить наше судно, чтобы подстеречь наш приезд; под утро же, не найдя никого, они удалятся. А тогда мы, пользуясь перерывом до новой смены шпионов, успеем добраться до судна и уйти в море! — Но нам небезопасно ночевать здесь втроем! — заметил Эйрик. — Полно, ты и Скаллагрим сильны, а замок надежен, кроме того, мне сказали, что Гицур и Сванхильда отправились искать тебя на Мшистую скалу! На этом и порешили. После свадебного пира люди Эйрика отправились на судно с секретным предписанием, предварительно оседлав коней Эйрика, Гудруды и Скаллагрима и поставив их в надежное место. Затем Скаллагрим запер тяжелыми засовами все ворота и входы замка и пришел спросить у Гудруды, где, по ее распоряжению, ему провести ночь. Она указала ему на кладовую, где неисправна была одна ставня, и потому Гудруда просила Скаллагрима хорошенько караулить это окно. Но Гудруда упустила из вида, что в кладовой стояли бочонки с пивом, вином и медом. После того женщины-прислужницы разошлись по своим каморкам, а Эйрик с Гудрудой легли в спальне Асмунда жреца. Скаллагрим, оставшись один в кладовой, сильно затосковал. Не на радость ему стал Эйрик мужем Гудруды. У Скаллагрима была в жизни одна только привязанность, одна отрада, Эйрик Светлоокий, а теперь молодая жена лишала его прежней любви и внимания Эйрика; теперь он должен делить свои чувства между ней и им, и, конечно, Скаллагрим всегда будет обделен в пользу Гудруды. При этой мысли такая тоска запала в сердце Скаллагрима, что мрак, царивший в кладовой, стал невыносим для него. Чтобы успокоить свое волнение, он распахнул настежь ставню и впустил ясный лунный свет в кладовую, а затем прибегнул к утешению, которое люди находят на дне кубка. Кубок за кубком осушал он, томимый жаждой после сытного брачного ужина, мучимый горем, страхом и дурными предчувствиями, ища забвения и успокоения и не находя ни того, ни другого, пока хмель не одолел его и он не повалился на пол подле бочек с вином, заснув мертвым сном. Между тем новобрачные спали сладким сном в объятиях друг друга. Только тяжелые сны тревожили поочередно то Эйрика, то Гудруду. Гудруде снилось, что она лежит мертвая в объятиях Эйрика, который и не подозревает этого, а Сванхильда стоит над ними и смеется над Эйриком. Эйрику же снилось, что пришел Атли, сообщая, что прежде чем взойдет луна следующего дня, он будет лежать мертвым. За Атли пришел Асмунд и сказал в утешение, что хотя он и умер, но за границей смерти есть иная жизнь, в которой царит вечная любовь и покой. Эйрик разбудил Гудруду и рассказал ей свой сон. Та посоветовала ему встать и надеть кольчугу и шлем, чтобы быть готовым встретить врага. — Что пользы, дорогая, — отвечал печально герой, — от судьбы все равно не уйдешь! Впрочем, как ты того хочешь, я встану! — И он стал вставать с постели, но вдруг тяжелый сон снова одолел его, и он проговорил слабым, как бы умирающим голосом: — Прощай, дорогая, сон одолевает меня; я не могу двинуть ни рукой, ни ногой. Видно, это и есть смерть. Прощай! А Гудруда проговорила: — И меня тоже давит сон. Прощай, мой возлюбленный, прощай! Крепко обнявшись и прижимаясь друг к другу, заснули они тяжким, непробудным сном. Между тем Гицур, сын Оспакара Чернозуба, и Сванхильда, дочь Гроа колдуньи и вдова Атли, так гнали своих коней, что чуть не загнали их совсем. На высотах Конской Головы, где дорога разветвлялась надвое, они отправили бывшего с ними тралля к тому месту, где на берегу сидели в засаде люди Сванхильды и Гицура, сторожа судно Гудруды, с приказанием с рассветом ворваться на судно и обыскать его из конца в конец, а если найдут Эйрика, то пусть убьют его: он ведь вне закона. Если же они найдут Гудруду Прекрасную, то пусть сделают то же: она теперь жена человека, объявленного вне закона, и сама стала вне закона. Если же они никого не найдут на судне, то пусть выгонятэкипаж, а судно сожгут. — Сжечь чужое судно — дело недоброе и по закону считается злодеянием! — заметил Гицур. — Об этом тебя не спрашивают! — сказала Сванхильда. — На то ты и законник, чтобы суметь оправдать меня. Ступай! — сказала она слуге, и тот поскакал во весь опор. Тогда и Сванхильда со своим спутником двинулись дальше к Миддальгофу. Сердце Гицура болезненно ныло; страх забирал его при мысли о том, что ему придется стоять лицом к лицу с Эйриком. В час пополуночи они были уже у ограды замка и здесь соскочили с коней. — Пойдем пешком вдоль стены, я знаю место, где легко можно пробраться в замок: все входы и двери, конечно, на запоре. — И Сванхильда повела Гицура к окну кладовой и, взобравшись туда, заглянула в кладовую. — Плохо дело! — сказала она. — Здесь спит Скаллагрим! Но спит он, как видно, крепко… Случай хороший, их не так-то легко застать спящими, а с сонными даже и тебе совладать не трудно! — Убить спящего постыдное дело! — сказал Гицур. — Молчи! — сказала Сванхильда, не отрываясь от окна и продолжая наблюдать за берсерком. — Нам счастье благоприятствует: этот берсерк пьян. Он лежит в луже пива и не опасен для нас! Действительно, Скаллагрим спал мертвым сном; пиво из незаткнутого им бочонка лужей разлилось по полу; в левой руке своей он держал большой роговой кубок, а в правой — свой страшный топор. — Нечего мешкать, — произнесла Сванхильда и как кошка взобралась на окно, а с окна спрыгнула в кладовую. Гицур, хотя и неохотно, последовал ее примеру. Он недоверчиво смотрел на мощную фигуру распростертого на земле Скаллагрима, и рука его судорожно сжала рукоятку его меча. — Не тронь его, — сказала Сванхильда, — он может крикнуть и разбудить других, а так он нам не опасен. Следуй за мной! Ощупью пробираясь по знакомым ей с детства местам, она пришла в большую горницу и с минуту стояла, прислушиваясь. Здесь все было тихо и пусто. Тогда она осторожно пробралась к Гудрудиной девичьей постели под темным пологом, но и тут, казалось, не было никого. Но вот она услышала тихий шепот и поцелуи под пологом брачного ложа покойного Асмунда и подкралась к нему близко-близко. Да, поцелуи и ласки! Бешенство овладело ей, и она отшатнулась. В этот момент голос Эйрика произнес: «Я сейчас встану, дорогая!» Гицур, услышав это, готов был бежать, но Сванхильда схватила его за руку и удержала. — Не бойся, они сейчас заснут крепче прежнего! — сказала она и простерла руки по направлению к спящим. Глаза ее стали разгораться в темноте, как глаза волка или кошки, затем все ярче и ярче, как два красных угля в золе, так что бледное лицо ее стало выделяться из мрака белым пятном; побелевшие губы шептали:
Гудруда, спи! Приказываю тебе, спи! Узами крови приказываю тебе, спи! Тою силой, какую я ощущаю в себе, приказываю тебе, спи!.. Спи! Спи крепко! Эйрик Светлоокий, приказываю тебе, спи! Общностью греха нашего заклинаю тебя, спи! Кровью Атли, убитого тобой, приказываю тебе, спи!.. Спи! Спи крепко!Затем она трижды простерла вперед руки по направлению к брачному ложу, развела ими в воздухе и произнесла медленно и раздельно:
Из объятий любви — в объятия сна! Из объятий сна — в объятия смерти! Из объятий смерти — в Хель! Скажите мне, любящие сердца, где вы будете целоваться вновь?И свет в ее глазах разом потух, она тихо засмеялась. — Теперь они спят крепко, — произнесла колдунья, обращаясь к Гицуру, — до самого рассвета Эйрик не проснется! Теперь скорее за дело! Откинь полог постели и убей Эйрика его же мечом! — Этого я не могу! Не хочу! — сказал Гицур. — Не хочешь! — грозно прикрикнула вполголоса Сванхильда и сверкнула на него глазами так, что тот окончательно оробел. Сванхильда же хотела убить не Эйрика, а Гудруду, но не хотела дать понять этого Гицуру. Она рассуждала так, что пока Эйрик жив, есть надежда овладеть им, если же он умрет, то все будет кончено. Гудруде же она желала жестоко отомстить, этой Гудруде, которая, несмотря на все ее козни, сделалась женой Эйрика и была счастлива. Вот злодеи приблизились к самой постели новобрачных. Сванхильда осторожно ощупала рукой спящих, стащила с них покрывало и ощупала высокую грудь Гудруды, которая спала на внешнем краю постели; затем колдунья ощупью нашла меч Молнии Свет и осторожно выдернула его из ножен. — Вот здесь, на краю, лежит Эйрик, — сказала она, — а вот и Молнии Свет! Убей и меч оставь в ране! — повелительно добавила она. Гицур взял меч и занес его обеими руками, но три раза он заносил его и все не решался сделать такого низкого, позорного дела, как убить беззащитного, спящего человека. Но вот и у него явилась мысль ощупать рукой. — Это женские волосы! — воскликнул он. — Нет, — сказала Сванхильда, — у Эйрика волосы длинные, как у женщины, это его волосы! И Гицур снова занес меч и с глухим проклятьем нанес удар изо всей своей силы. Послышался глубокий, протяжный вздох и глухой звук конвульсивно вздрагивающих членов, затем все стало снова тихо, зловеще тихо кругом. — Сделано! — произнес Гицур слабым голосом. Сванхильда снова ощупала спящих: ее пальцы смачивала теплая еще кровь Гудруды. Она склонилась над нею и увидела, что ее мертвые глаза смотрят на нее. Неизвестно, что прочла она в ее взгляде, но только она разом отпрянула назад и грузно упала на пол. Гицур стоял, как околдованный, ничего не видя и не сознавая. Наконец Сванхильда, вскочив на ноги, воскликнула: — Я отомстила за смерть Атли! Бежим отсюда, Гицур, бежим скорее! Дай мне руку, силы изменяют мне, я не в состоянии идти! Вот они опять в кладовой. Скаллагрим лежит по-прежнему, раскинув руки на полу, он, видимо, не пробуждался. Гицур останавливается над ним и смотрит вопросительно на Сванхильду. — Не надо! — говорит она. — Мне претит вид крови! — И они вылезают из окна. Злодеи благополучно вскочили на коней и ускакали. Так умерла в брачную ночь и на брачном ложе Гудруда Прекрасная, прекраснейшая из всех женщин, какие когда-либо жили в Исландии, от руки Гицура сына Оспакара, через ненависть и колдовство сводной сестры своей Сванхильды Незнающей Отца, дочери колдуньи Гроа.
Глава 30
Что было на рассвете.На дворе уже совсем рассвело, а Эйрик все еще спал крепким, тяжелым сном. Тем временем служанки встали и стали раздувать огонь в очаге, разговаривая о том, как многие из обитателей этого замка умерли с того времени, как Асмунд жрец нашел колдунью Гроа. Слова «умер» и «умерла», звучавшие в их речи, донеслись до слуха пробудившегося Эйрика. Он раскрыл глаза, и что-то ослепило его необычайным блеском, словно блеск обнаженного лезвия меча. Он сел на постели, устремив свой взгляд в полумрак, царивший под пологом. Вдруг полог широко распахнулся, и Эйрик выскочил в большую горницу; вся левая сторона его рубашки была в крови, глаза его смотрели дико; он хотел что-то крикнуть, но звук замер у него в горле, а лицо стало белее снега. Он дико озирался кругом, и женщины подумали, что он лишился рассудка. Шатаясь как пьяный, он вышел и направился в кладовую, где спал Скаллагрим. Дверь кладовой была распахнута настежь, окно, ведущее на двор, также, а берсерк лежал в луже пива, держа в одной руке рог, а в другой свой топор. — Проснись, пьяница! — крикнул Эйрик таким громовым голосом, что стены задрожали. — Проснись и посмотри на дело рук твоих! Голос Эйрика пробудил Скаллагрима. Тот поднялся и сел, с недоумением оглядываясь кругом. — Иди за мной, пьяница! — глухо проговорил Эйрик, и Скаллагрим послушно последовал за ним в большую горницу. Подойдя к свадебному ложу, Светлоокий сорвал могучей рукой полог, — и дневной свет ударил прямо на постель. Страшное зрелище представилось глазам присутствующих: на постели, утопая в крови, лежала Гудруда Прекрасная; громадный меч Молнии Свет торчал в ее груди. — Видишь, пьяница! — воскликнул Эйрик. — Пока ты спал, враги прокрались сюда, перешагнув через твое тело. Чего же ты заслужил за такое дело? Говори! — Смерти! — сказал Скаллагрим и передал свой топор Эйрику, готовясь принять заслуженную казнь. Эйрик взял топор и уже размахнулся, как чей-то голос тихо шепнул ему: «Не обагряй больше кровью рук своих», — и он отшвырнул топор далеко в сторону. — Нет, не я убью тебя, пьяница! Поди, сумей сам найти себе смерть! — Если так, то я сам убью себя тут же, на твоих глазах, государь! — проговорил берсерк и пошел поднять свой топор, засевший в досках пола. — Стой! Погоди! Ты можешь еще совершить какое-нибудь дело, а убить себя всегда успеешь! — остановил его Эйрик, и Скаллагрим опять повиновался. Он бросил свой топор и, в припадке отчаяния кинувшись на пол, зарыдал как дитя. Но Эйрик не плакал и не рыдал. Он молча вынул меч из раны и долго смотрел на него, затем вложил его в ножны, но не отер с него крови Гудруды. — Вчера свадьба, а нынче похороны! — глухо проговорил несчастный и приказал женщинам одеть и обмыть Гудруду, а сам со Скаллагримом приготовил ей могилу в самой большой горнице замка, подняв несколько плит каменного пола. — Здесь ты родилась, здесь умерла и здесь же почиешь вечным сном, — сказал Эйрик, — и я предсказываю, что никто здесь, в этом замке, не будет жить, пока не рухнут эти стены и не станут твоим могильным холмом! Так и случилось: с самых дней смерти Гудруды Прекрасной, дочери Асмунда жреца, никто не жил здесь, и долгие годы стояли развалины, а теперь груды камней лежат на том месте, и призраки бродят вокруг. Когда могила была готова, Эйрик собственными руками надел Гудруде сандалии и, закрыв глаза, долго сидел на краю кровати, подле ее тела, затем поцеловал ее прощальным поцелуем, произнеся: — Спи, дорогая, ненаглядная жена моя! Я скоро приду к тебе, и тогда мы вновь сомкнем свои уста в вечном поцелуе! — И, призвав Скаллагрима, опустил ее в могилу, сам же спел над могилой прощальную песню. После этого Эйрик вооружился; то же сделал и Скаллагрим. Они вышли во двор, где все еще стояли под навесом оседланные кони. Потрепав Черногривого, как звали коня Гудруды, по крутой шее, Эйрик сказал: — Быть может, ты понадобишься ей там, где она теперь находится! — С этими словами он взял из рук Скаллагрима его широкий топор, размахнулся им и во мгновение ока снял голову доброму коню. Затем друзья сели на своих коней и выехали из дворца. Ночь была темная, ни зги не видать. Эйрику пришло в голову спалить свой родной замок Кольдбек вместе со Сванхильдой и Гицуром и их людьми. Подъехав около полуночи к замку Кольдбек, когда все спали, оба друга натаскали хворосту и собирались уже поджечь, как вдруг Эйрик одумался. — Нехорошо сжечь виновных и безвинных; я дал слово, что не пролью больше человеческой крови иначе, как только в защиту своей жизни! Подумал Скаллагрим, что Эйрик не в уме, но ничего не сказал. Эйрик приказал ему выехать из двора и отъехать немного в сторону, сам же взял его топор и ударил им несколько раз в дверь и в ставни замка; все всполошились и выскочили к двери. — Это дух Эйрика стучит! — крикнул кто-то: все думали, что Гицур в честном бою убил Эйрика, как он сам рассказывал им. Гицур приказал отворить дверь и увидел в нескольких шагах Эйрика Светлоокого на коне и в полном вооружении. — Я не дух и не привидение, — сказал Светлоокий, — я живой человек и хочу знать, здесь ли Гицур сын Оспакара. — Здесь, и он клялся нам, что убил тебя в прошедшую ночь! — Так он лгал; не меня убил он, а Гудруду Прекрасную, супругу мою новобрачную, спавшую подле меня, убил ее позорно и предательски! И поднялся ропот негодования среди людей Гицура и Сванхильды. — И вот я пришел сюда, чтобы сжечь вас всех живьем в этом замке, но дух Гудруды удержал меня от этого поступка, и я дал слово, что не пролью больше безвинной крови иначе, как только защищая свою собственную жизнь. Теперь я еду на Мшистую скалу. Пусть Гицур явится туда со Сванхильдой, убийцей и колдуньей, и с теми, кто пожелает; я встречу их с почетом и смою их кровью кровь моей ненаглядной Гудруды с лезвия Молнии Света. — Не бойся, Эйрик, я приду к тебе, и там ты убьешь меня! — воскликнула из-за двери проснувшаяся Сванхильда. — Нет, на тебя я не подыму меча! Норны отомстят тебе лучше меня! Что смерть, это — отрада и успокоение, а я хочу, чтобы ты вечно казнилась и мучилась своими злодеяниями. Я — не низкий убийца женщин, как Гицур! Его же я вызываю на бой, пусть явится и померится со мной! С этими словами герой повернул коня. — Эй, люди, остановите его! Убейте его! — кричал Гицур, стараясь скрыть свой позор. Но никто не тронулся с места по его слову; в толпе слышались ропот и презрительные слова о Гицуре, убийце спящей женщины.
Глава 31
Как Эйрик Светлоокий отослал своих товарищей со Мшистой скалы.Эйрик и Скаллагрим вернулись благополучно на Мшистую скалу; здесь Светлоокий застал своих людей, в числе которых был теперь и Ион, его тралль, который подошел к нему и со слезами покаялся в невольной измене. Герой простил его и даже не упрекнул. Потом созвал всех товарищей и сказал им, что дни его, он чувствует, сочтены, и он просит их вернуться к своим прежним занятиям, а его оставить здесь одного: он — несчастливый и не хочет вовлекать и их в свое несчастье. Все, слушая его речь, плакали, говоря, что лучше хотят умереть вместе с ним. Но Эйрик снова стал уговаривать их и, наконец, убедил их вернуться к своим полям и стадам. Последним, кроме Скаллагрима, ушел Ион; прощаясь со своим господином, он до того был растроган, что не мог произнести ни слова, а только целовал его руки и горько плакал. (Впоследствии этот самый Ион ходил из селения в селение и из замка в замок, распевая про подвиги Эйрика Светлоокого и про его горестную судьбу; он стал скальдом, и все любили слушать его. Он дожил до глубокой старости, пока, наконец, странствуя зимой, в метель, не сбился с дороги и не погиб в снегу.) Когда все удалились, кроме Скаллагрима, Эйрик обернулся к нему. — Отчего же ты не идешь, пьяница? Пива и меду здесь нет, а там, в долине, наверное, найдется для тебя то и другое! — Не думал я дожить до того, чтобы слышать от тебя, государь, такие слова, — печально ответил верный слуга и друг, — но я их заслужил. Только все же нехорошо так относиться к человеку, который любил и любит тебя больше себя самого. Я знаю, что согрешил против тебя, и этот грех мой истомил во мне душу. Но скажи, неужели ты никогда ни против кого не грешил? Подумай о своих грехах и будь снисходителен к моим. Если же ты еще раз прикажешь мне уйти от тебя, то я уйду, хотя бы сердце мое надорвалось от горечи и обиды, уйду и лягу на тот край обрыва, где ты некогда душил меня в своих объятиях, лягу и скачусь вниз. Никого в жизни своей я не любил так, как тебя, и теперь слишком стар, чтобы искать другого господина. Повторяю, если ты того хочешь, я избавлю тебя от себя. — Нет, Скаллагрим Овечий Хвост! Сердце у тебя верное и душа глубокая. Я согрешил в своей жизни не меньше тебя и был прощен, а потому и тебе прощаю! Оставайся со мной и умрем вместе! Закрыл Скаллагрим лицо свое руками и громко зарыдал от этих слов Эйрика; а тот обнял его и поцеловал. Между тем Гицур вернулся к Сванхильде и стал упрекать ее, что она заставила его совершить столь постыдный поступок; теперь его собственные люди презирают его, и он едва смеет взглянуть им в лицо. На это Сванхильда отвечала, что он может идти и что она не станет его женою, пока жив Эйрик Светлоокий. Она говорила это, не теряя надежды овладеть Эйриком, и в этом смысле и выразилась Гицуру, но тот понял ее слова иначе и потому сказал: — Если только возможно это сделать, Эйрик, конечно, не останется жив. — И он пошел переговорить со своими людьми. Гицур объяснил им, что убил Гудруду по ошибке, приняв ее за Эйрика. — Все равно, убить спящего, будь то мужчина или женщина, постыдное дело, — проговорил старый викинг по имени Кетиль, нанятый Гицуром убить Эйрика. — Это убийство, и такое дело никому не может принести счастья. Нам зазорно иметь общение с убийцами и колдуньями! Тогда Гицур стал рассказывать, будто Гудруда сама напоролась на меч, который он держал в своей руке, ожидая, что Эйрик отзовется на его вызов. Однако никто ему не поверил. — Трудно отыскать правду между мыслью и речью законника, — продолжал Кетиль. — Эйрик же правдивый человек, это всякий знает. Вот тебе наше последнее слово, Гицур: или ты выступишь в честном бою против Эйрика и оправдаешь себя в наших глазах, или все мы оставим тебя, мы не хотим служить убийцам или иметь с ними какое-нибудь дело. Гицур и Сванхильда стали готовиться в поход против Эйрика и с большим множеством людей двинулись ко Мшистой скале, или Мосфьеллю. Но, желая обмануть своих людей, Гицур отправил семерых вперед, приказав им пройти секретной тропой на вершину скалы на ту площадку, что нависла над пещерой Эйрика, и, как только он покажется, закидать его камнями или забросать каменными глыбами сверху, обещая тому из них, кто убьет Эйрика, громадную денежную награду. Сванхильда же со своей стороны обещала тайно от Гицура тоже денежную награду тем, кто доставит ей Эйрика живым, связанного, но невредимого.
Глава 32
Что видели в последнюю ночь Скаллагрим и Эйрик Светлоокий.Над Мшистой скалою опустилась ночь. То была страшная, необычайная ночь. Царила такая тишина, что малейший звук доносился издалека, вселяя страх и суеверный ужас в сердца людей. Эйрик и Скаллагрим сидели на краю обрыва на небольшой каменной площадке перед входом в пещеру; им было так жутко среди этой тишины, что сон бежал от очей их, и оба они чутко прислушивались к малейшему шороху, доносившемуся до них. Вдруг они почувствовали, что гора плавно заколыхалась, как колышется грудь женщины, на землю спустился густой мрак, так что и звезд не стало видно. Молча сидели Эйрик и Скаллагрим. Вдруг первый сказал: — Посмотри! — И указал рукой на вершину горы Геклы. Словно зарево окутало всю вершину, и в этом зареве, ясно выделяясь, появились три гигантских женских фигуры: то были три пряхи норны; ужасного вида, пряли они так усердно и так быстро, что трудно было даже следить за ними. Но вот картина исчезла, и все потонуло снова во мраке. Это явление видели не только Эйрик Светлоокий и Скаллагрим, но и Ион, тралль, сделавшийся скальдом, который притаился в расщелине скал, желая видеть конец Эйрика Светлоокого. — Это были норны, — произнес Скаллагрим, — они пришли напомнить нам, что смерть наша близка! — Да, я чувствую, что мы с тобой умрем завтра, и рад тому; я устал, мне претят человеческая кровь, громкие подвиги, слава и самая великая сила моя; хочу я только покоя! Разложи-ка огонь, Скаллагрим, мне жутко в этом мраке! Они разложили яркий костер и опять молча сели у огня друг подле друга. Вдруг им послышалось, что из обрыва как будто кто-то взбирается: они оглянулись и увидели, что прямо к костру идет безголовый человек. Эйрик и Скаллагрим переглянулись и разом узнали безголового. Это был тот берсерк, которого убил Эйрик, когда впервые пришел сюда к этой пещере. — Ведь это мой товарищ, которому ты отрубил голову, — сказал Скаллагрим. — Прикажешь ли, я наброшусь на него и изрублю его, государь? — Нет, не тронь его, пусть сидит! И они снова смолкли. И вот стали прибывать к ним все новые и новые гости. Все те, кто когда-то пали от руки Эйрика, приходили один за другим с их зияющими ранами и молча садились к костру. Явился и Атли с отрубленной рукой и громадной смертельной раной в боку. — Приветствую тебя, ярл Атли! — воскликнул Эйрик. — Садись рядом со мной! Дух Атли послушно сел подле Эйрика, печально смотря на него, но не сказал ничего. Все больше и больше гостей сходилось к костру; теперь оставалось только одно пустое место подле Эйрика. Вдруг послышался звук конского топота, донесшегося из долины, и Эйрик со Скаллагримом увидели, что на вороном коне скачет женщина в белом одеянии; золотистые волосы густой волной стелются у нее по плечам и за спиной, развеваясь по ветру, словно золотой плащ. Вот она соскочила с седла и идет к костру, и видит Эйрик, что это Гудруда Прекрасная. Вскрикнул Эйрик от радости и вскочил со своего места, протянув к ней руки. — Приди и сядь со мной, ненаглядная! — проговорил он. — Теперь мне ничто не страшно! Приди, дорогая супруга моя, и сядь рядом со мной, дай мне наглядеться на тебя! Гудруда подошла и села подле него, но не проронила ни слова. Трижды он протягивал к ней руки, желая обнять ее, но каждый раз руки его точно отнимались и бессильно падали вниз. Но вот и еще новые гости, но уже в виде туманных призраков, появились на краю обрыва. То были Гицур сын Оспакара, и многие из его людей, и Сванхильда, дочь колдуньи Гроа. Вдруг их заслонили собою две рослые тени в полном воинском вооружении; одной из них был Эйрик Светлоокий, а другой — Скаллагрим. Так, еще будучи живыми, оба героя увидели свои собственные тени, и при виде их громко вскрикнули и лишились чувств. Когда же они очнулись и пришли в себя, костер уже погас; стало совсем светло. — Знаешь ли, Скаллагрим, мне снился страшный сон! — произнес Эйрик и рассказал другу обо всем, что видел. — Не сой то был, — ответил Скаллагрим, — ведь и я все это видел, государь мой. Как видно, нам предстоит совершить сегодня наш последний подвиг. Пойдем же, умоемся, приберемся и поедим, чтобы, когда настанет час, быть бодрыми и полными сил! Так они и сделали. Повеселел Эйрик, зная, что теперь конец его близок. И вот увидели они облако пыли вдали в долине и сразу узнали, что то Гицур, Сванхильда и с ними их люди. Герои решили ожидать врагов здесь, наверху скалы, на площадке перед пещерой. Тем временем враги достигли подножия Мшистой скалы, но только после полу-Дня начали взбираться на гору, да и то взбирались не спеша, сберегая свои силы. Пока Гицур со своими людьми взбирался в гору, тот тралль и с ним шесть человек, что были посланы вперед, успели уже обойти гору и, тайной тропой выйдя на вершину скалы, теперь смотрели оттуда вниз на Эйрика и Скаллагрима, готовя камни, чтобы скатывать их вниз.
Глава 33
Как Эйрик Светлоокий и Скаллагрим берсерк бились в своей последней битве.— Ну, теперь их пора прихлопнуть, не то нелегко будет нашим товарищам устоять против Молнии Света и топора Скаллагрима! — произнес тралль Сванхильды и первый сбросил сверху громадную глыбу камня. Глыба рухнула и упала подле самого Эйрика, задев крыло его шлема и сплющив его. — Шлем не голова! — сказал Эйрик. Скаллагрим, подняв голову, увидел, в чем дело. — Хм! — сказал он. — Нам теперь остается или спрятаться в пещеру, или выйти навстречу врагам в узкий проход и загородить его им. Так и сделали. Шум шагов и голоса Гицура и его людей неслись им навстречу. Эйрик и Скаллагрим спустились в узкий проход и встали плечом к плечу. Как увидел их Гицур, разом отпрянул назад, и засмеялся над ним Скаллагрим. — Ведь их только двое! — крикнул из-за спины Гицура старый викинг Кетиль. — Что же ты, Гицур сын Оспакара, бей его! — Стой! — крикнула повелительно Сванхильда и выступила вперед. — Я хочу говорить с ним… Сдайся, Эйрик! Ты видишь, спереди враги и сзади враги; вас только двое, а нас более ста человек! Сдайся, говорят тебе, и, быть может, ты будешь помилован! — Ни я, ни Скаллагрим не привыкли сдаваться! Да и пощады от тебя я не хочу, а ему не надо! — отвечал Эйрик. — Мы хотим умереть и умрем; для меня смерть — отрада и желанная цель: она соединит меня с моей возлюбленной супругой, с Гудрудой Прекрасной. Мы умрем, но умрем не одни: умрет и Гицур, умрешь и ты сегодня. Так предсказали нам в эту ночь норны! Умрет и викинг Кетиль, и многие другие. Так не трать даром слов: чему суждено быть, то будет, и не тебе твоим бабьим языком изменить волю судьбы. Отойди!.. Ну, Гицур, что же? Где твой меч? Готовь свой щит! — Слышишь, Гицур, Эйрик вызывает тебя, чего же ты медлишь?! — крикнул Кетиль, старый викинг. Но Гицур, белый, как мел, пятился назад, прячась за спины своих людей. Тогда Кетиль не стерпел и, как разъяренный зверь, кинулся на Эйрика, призывая за собой людей. И начался бой. Люди падали один за другим под мечом Эйрика и топором Скаллагрима; трупы их преграждали дорогу новым воинам. И сердца всех робели; никто уже не решался выходить против Эйрика и берсерка. Но тралль Сванхильды, засевший на вершине скалы со своими шестью людьми, по звукам битвы, доносившимся до него, понял, в чем дело, и угадал, что никто не может одолеть Эйрика. Приказав своим людям укрепить надежную веревку, он спустился по ней с товарищами к пещере и, крадучись, стал пробираться в узкий проход, рассчитывая захватить Эйрика врасплох и напасть на него с тыла. Хитро это было придумано, но Скаллагрим, уловив злорадный взгляд Сванхильды, обернулся как раз вовремя, чтобы успеть спасти Эйрика, над головой которого коварный тралль уже занес свой меч. — Спина к спине! — крикнул Скаллагрим, отразив удар, и вот, снова началась кровавая битва. Враги, видя неожиданную поддержку себе, приободрились и с новым воодушевлением стали нападать на Эйрика, который теперь отбивался от них один, тогда как тралль и его шесть человек с бешенством нападали на Скаллагрима. Но вскоре из них не оставалось ни одного в живых, путь к пещере был свободен. Однако в этот момент один отчаянный смельчак накинулся на Эйрика, а Гицур стал красться за его спиной. Эйрик отразил удар, поразив насмерть смельчака, но, пользуясь этой минутой, Гицур успел нанести Эйрику смертельную рану в голову. Герой упал. — Моя песня спета! — проговорил он Скаллагриму. — Взбирайся на скалу, а меня оставь здесь! — Полно, государь, это просто царапина! Подымись. Взберись наверх, я приду следом за тобой! — И с громким, пронзительным криком берсерк один устремился на врагов, рубя направо и налево. Им овладел припадок бешенства; враги отступали перед ним. В несколько минут весь проход опустел. Тогда Скаллагрим последовал за Эйриком вверх на площадку перед пещерой. С трудом, чуть не падая, хватаясь за выступы скал, Эйрик добрался до пещеры и опустился на землю, прислонясь спиной к скале и положив свой меч Молнии Свет на колени. Но вот Скаллагрим подошел к нему. — Теперь мы с тобой можем вздохнуть на минутку, государь. Вот вода, попей! — И он напоил Эйрика, затем сам напился и вылил целый ковш на рану друга. И будто новая жизнь влилась в них двоих, оба они поднялись теперь на ноги. Но люди Гицура и Сванхильды, видя, что никто не преграждает им пути, собравшись с духом, взобрались на скалы, Сванхильда — впереди всех, за нею Гицур и другие. Однако многие люди остались внизу, не желая больше биться с Эйриком и Скаллагримом. Сванхильда, подойдя к Эйрику, снова стала уговаривать его сдаться, но герой отвечал, что сам хочет смерти, так как в смерти он соединится с той, которую он одну любил и любит больше жизни; хочет смерти потому еще, что она избавит его навсегда от встречи с нею, со Сванхильдой, лицо которой он желал бы никогда не видеть. Вскипела Сванхильда яростью, и лицо ее исказилось от злобы. — Мало того, — продолжал Эйрик, — я знаю, что и над тобой висит смерть, что и ты не уйдешь от своей судьбы. Но ты не найдешь радости и успокоения в смерти; тебя будут вечно мучить и терзать проклятия людей, злая совесть и неудовлетворенные желания. Всякий, кто вспомнит о тебе, вспомнит с проклятием! — Идите и убейте этих людей, стоящих вне закона! Прикончите их скорее! — злобно закричала Сванхильда. И еще раз люди Гицура наступили на двух витязей тесной гурьбой. Размахнулся Эйрик раз, другой, третий — и всякий раз удар его не пропадал даром. Но тут силы оставили его, и он в изнеможении упал на землю. Скаллагрим, видя это, заступил его своей мощной, плечистой фигурой и, точно косматая медведица стоя над своим раненым детенышем, никого не допускал до него, один отбиваясь от целой толпы. Тогда, выбрав удобную минуту, Гицур сзади пустил стрелу в лежащего на земле умирающего Эйрика. Стрела попала ему в бок, глубоко вонзившись в тело. — Кончено! — громким, звучным голосом воскликнул Эйрик, и голова его откинулась назад, а глаза сомкнулись. Вся толпа врагов отпрянула назад и притихла; все хотели видеть кончину великого витязя, Эйрика Светлоокого. Скаллагрим, склонившись над ним, бережно вынул стрелу из раны и поцеловал умирающего в бледный лоб. — Прощай, Эйрик Светлоокий! Другого такого человека, как ты, не увидит Исландия. Немногие могут похвастать такой славной смертью, как ты. Подожди немного, государь! Погоди, я поспешаю за тобой! С криком: «Эйрик! Эйрик!» — он с бешенством накинулся на стоявших вокруг и снова стал разить вокруг себя. Смешались и отступили перед ним враги. Хотя кровь сочилась у него из ран, он продолжал биться, пока, наконец, секира не выпала у него из рук, и сам он, покачнувшись из стороны в сторону, не упал мертвым на Эйрика, подобно тому, как падает вековая сосна, сраженная топором, на родную скалу. Но Эйрик еще не был мертв. Он раскрыл глаза, и при виде Скаллагрима лицо его озарилось радостной улыбкой. — Хороший конец, товарищ! Скоро свидимся, верный друг и брат! — прошептал он. — Эй, да этот Эйрик еще жив! — крикнул Гицур. — Ну, так я прикончу его, и меч Оспакара возвратится к сыну Оспакара. — Ты удивительно смел теперь, когда Эйрик уже при последнем издыхании! — насмешливо и злобно заметила Сванхильда. И видно, Эйрик слышал слова Гицура: сила на мгновение вернулась к нему; он приподнялся на колени, затем, опираясь на скалу, встал на ноги. Толпа врагов в ужасе отхлынула назад. Взмахнул герой Молнии Светом и, размахнувшись широко-широко, швырнул его в бездну. — Дело твое сделано! Пусть ты будешь ничьим! — воскликнул Эйрик. — А теперь иди, Гицур, теперь ты можешь меня убить, если хочешь! Гицур приблизился к нему не совсем охотно. А Эйрик продолжал громко и звучно: — Безоружный, я убил твоего отца Оспакара, а теперь, безоружный, обессиленный и умирающий, убью тебя, Гицур, убийца жены моей! — И с громким криком он упал всей своею тяжестью на Гицура. Тот, отступив, нанес было ему еще новую рану, но Эйрик, схватив его в свои железные объятия, поднял от земли и упал вместе с ним на землю на самый край обрыва над страшной зияющей бездной. Гицур, угадав его мысль, стал вырываться, но напрасно; Эйрик поднялся, не выпуская из своих объятий Гицура, встал на край бездны и кинулся в пропасть. Враги были ошеломлены. А Сванхильда воскликнула, простирая вперед руки: — О, Эйрик! Такой смерти я и ожидала от тебя! Ты из всех людей был прекраснейший, сильнейший и смелейший! Такова была смерть Эйрика Светлоокого, Эйрика Несчастливого, первого витязя в Исландии. На другой день на рассвете Сванхильда приказала своим людям обыскать все ущелье и принести ей тело Эйрика, а когда люди нашли его, приказала омыть его и нарядить в золоченые доспехи; потом сама навязала ему на нога башмаки и вместе с телами всех убитых в тот день, а также вместе с телом Скаллагрима берсерка, верного тралля Эйрика, приказала перевезти к побережью, где стояло на якоре ее длинное военное судно, на котором она прибыла сюда, в Исландию. Здесь тела убитых были сложены высокой грудой на палубе ее судна, а наверху, поверх всех убитых, положили тело Эйрика; голова его покоилась на груди Скаллагрима, а ноги попирали тело Гицура сына Оспакара. Когда все это было сделано, Сванхильда приказала поднять паруса и сама взошла на судно, все края которого были изукрашены щитами павших в последней великой битве на Мосфьелле, названном с тех пор Эйриксфьеллем. Когда настал вечер, Сванхильда собственной рукой обрубила якорный канат, и судно ее, точно птица, понеслось вперед, а она, Сванхильда, распустив свои черные кудри по ветру, стояла в головах Эйрика Светлоокого, запев предсмертную песню. Вдруг два белых лебедя спустились с облаков и стали парить над судном, которое теперь быстро уносилось в лучах заката на крыльях бурного ветра. А ветер все свежел и крепчал; мрак спускался на землю и на бушующее море. Большое боевое судно Сванхильды потонуло во мраке, и предсмертная песня Сванхильды колдуньи, дочери колдуньи Гроа, смолкла среди завывающей бури. Но далеко на краю горизонта, среди моря, вдруг вспыхнуло яркое зарево пожара; пламя его высоко подымалось к небесам. Все догадались, что то горело судно Сванхильды с мертвыми телами Эйрика Светлоокого, Скаллагрима берсерка, Гицура сына Оспакара и других мертвецов, служивших им почетным ложем. Таково предание об Эйрике Светлооком, сыне Торгримура, о Гудруде Прекрасной, дочери Асмунда жреца, о Сванхильде Незнающей отца, жене Атли Добросердечного, об Унунде, прозванном Скаллагримом Овечий Хвост, которые жили все и умерли еще до того, когда Тангбранд сын Вильбальдуса стал проповедовать Белого Христа в Исландии.
Скачать книги
Скачивать книги популярных «крупноплодных» серий одним архивом или раздельно Вы можете на этих страницах:sites.google.com/view/proekt-mbk
proekt-mbk.nethouse.ru
«Proekt-MBK» — группа энтузиастов, занимающаяся сбором, классификацией и вычиткой самых «нашумевших» в интернете литературных серий, циклов и т. д.. Результаты этой работы будут публиковаться для общего доступа на указанных выше страницах.

Последние комментарии
2 дней 2 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 9 часов назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 11 часов назад