Александр Шморель [Игорь В. Храмов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
АЛЕКСАНДР ШМОРЕЛЬ



Издано с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов Оренбургскому благотворительному фонду «Евразия».
От Первого заместителя Председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей архиепископа Марка
О чём эта книга? Когда страх владел вселенной, когда война овладела всем, среди смертоносного мрака обрелись молодые души, верные свету Христову. Они верили: среди людей они не одни, свет Истины живёт в сердцах людей. Сердца эти надо оживлять, воскрешать, звать к свету. Тогда, во обличение наглой лжи и трусливой лживости, как бритвой — диагноз: Антихрист. Такой суд изрёк православный мученик. Год спустя нож гильотины отсёк его главу. Но не посильно было смерти отсечь мученика от Источника его жизни. Вот о чём свидетельствовала тогда и свидетельствует сейчас эта жизнь. Вот о чём эта книга. Здесь чудо, которое вполне естественно: так должно быть. Так было издревле. Благо тем, в ком живёт это сияющее свидетельство. Свидетельство это воочию растёт. Четверть века после революции 1917 года во всенародной бойне живое слово на острие ножа объединило русскую душу с немецкими душами. И это свидетельство тихо росло в своей среде. Затем вырвалось наружу, было запечатлено кровью. Ныне и уже десятилетиями школьники в Германии узнают о подвиге «Белой розы». Но не до конца раскрыт смысл этого светлого дела, этих событий. Мы в начале этого пути восхождения. Не в последнюю очередь это дело христианского сопротивления, отвергающего лукавую ссылку на слова св. Апостола Павла, что «всякая власть от Бога» (см. Рим. 13, 1–5), поскольку «власть», согласно установленному Богом порядку, это — ответственность перед Богом, и не всякий тиран, не всякий тиранический режим благословен Богом. Поэтому и каждый христианин, ответственный перед Богом, может стоять перед выбором: покориться ли злу, греху — требуемому государственной властью, или противостоять. Вопрос этот стоял в России XX века, стоял он и в Германии. «Белая роза» искала и дала ответ. Отметим, что первые четыре листовки — именно те, которые шли под знаком «Белой розы», в которых был предначертан дальнейший путь, были написаны, размножены и распространены только двумя друзьями-студентами: Гансом Шолем и Александром Шморелем. После этого первого шага они вместе были отправлены с германской армией в Россию. Там приобрели новый, глубокий опыт. Там воздвигли православный крест над непогребённым русским солдатом. Александр там общался с местным священником и помогал своим друзьям — ширящемуся их кругу — общаться с русским народом. Мученик Александр объединял в себе Россию и Германию. Он был верен народам обеих этих стран, был верен Богу и живым душам в среде этих народов и потому столь ясно видел обольщение. Он не отрекался от России и, отвергая национал-социализм, отвергал большевизм. Он проникся теми вопросами, которые ставил Ф. М. Достоевский — автор «Бесов» и «Братьев Карамазовых» (отсюда и название «Белая роза»). Александр услышал и глубочайшие ответы писателя. Всем сердцем он вступил в область диалога, которую ему открыл писатель, сумевший покорить своё творчество Христу. Почерпнув отсюда русское начало, он деятельно воплотил его на немецкой земле. Здесь не слова, а целостное дело: святой мученик Александр Мюнхенский — это дело самого глубокого примирения Германии и России. Это примирение почувствовал и о нём сказал известный режиссёр Савва Кулиш: «Александр Шморель примирил меня с немцами». Автор книги, Игорь Храмов, на себе испытал врастание в дело «Белой розы». Подобным путём проходили мы, прошёл весь Мюнхенский приход, членом которого был Александр. Подобно тому как прежде рос в своём жизненном деле Александр, так и мы впоследствии врастали в суть его путей. Решившие сразу после прославления свв. Новомучеников и исповедников Российских Русской Зарубежной Церковью в ноябре 1981 года посвятить свой будущий храм именно этим святым, мы ещё не знали, где он будет и как это может быть. Но после ряда неудач в этом вопросе, именно в 50-летие казни Новомученика внезапно были открыты протоколы его допросов и нам — совершавшим панихиды на его могиле — ярче засияло его дело, его слово. Тут же, в тот же год, неким чудом был приобретён храм рядом с местом его казни и местом его погребения, который — как было задумано — был посвящён Российским Новомученикам. Но не сразу стало до конца ясно, как это связано с подвигом мученика Александра. Ничего здесь не было искусственным, ничего не было измышлено, просто шаг за шагом обреталась и осмыслялась эта близость. Срасталось. По ходу этого роста и срастания на горизонте появился Оренбург, место рождения мученика. Оттуда последовали инициативы, не только отклик. Там также прорастало семя крови мученика. И биография его при каждом своём издании растёт, расширяется. Так рождались встречи, которые стали охватывать земной шар. Тогда последовало прославление святого мученика в 2012 году. А сейчас в 2017-м, к 100-летию рождения мученика — паломничество из Мюнхена в Оренбург. Можно надеяться, что добавятся ещё измерения, неизвестные нам сегодня, пока… Но самое главное измерение этого дела, читатель, это сердца тех, кто встречается с обликом св. муч. Александра, принимая его в опыт собственной жизни. Пусть эта книга принесёт сердцу читателя такую тёплую, светлую встречу!
Марк,архиепископ Берлинский и ГерманскийМюнхен, июль 2017 г.
ОТ АВТОРА
Начиная жизнеописание героя моего, Александра Гуговича Шмореля, нахожусь в некотором недоумении. А именно: хотя я и называю Александра моим героем, но, однако, сам знаю, что человек он отнюдь не великий, а посему и предвижу неизбежные вопросы вроде таковых: чем же замечателен ваш Александр, что вы выбрали его своим героем? Что сделал он такого? Кому и чем известен? Почему я, читатель, должен тратить время на изучение фактов его жизни? Да простят мне знатоки русской классики невольный плагиат, но именно словами великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского хочется мне начать эту книгу. Так совпало, а может, и не случайно то вовсе, что вступление к «Братьям Карамазовым» — настольному роману моего героя — так подходит к нему самому. Быть может, что-то общее между Алексеем Карамазовым и Александром Шморелем найдёте и вы в этой биографии. Книга эта основана на официальных документах, письмах, дневниках, опубликованных ранее воспоминаниях, а также рассказах очевидцев, записанных автором, и не претендует на какую-либо художественность. Толчком к её написанию послужил тот факт, что единственный из семёрки героев, казнённых в 1943 году по приговору нацистского суда, один из организаторов и активнейших участников группы немецкого Сопротивления «Белая роза» — наш земляк, до последнего дня считавший Россию своей Родиной. Но в Германии — стране, где о «Белой розе» знает каждый, — он оказался в тени. И ещё до 1998 года был совсем неизвестен на своей собственной родине. Родные Александра Шмореля, жившие в Германии, не стали издавать его биографию — из скромности или, как говорили они сами, из-за того, что не оставил он после себя дневников. Однако знакомство с судьбой столь интересного, на мой взгляд, человека привело к мысли, что рассказать о ней в первую очередь соотечественникам необходимо, что я и делаю с удовольствием, заручившись поддержкой родственников Александра. Надо отметить, что написание этой биографии было бы попросту невозможно без участия, вольного или невольного, многих людей. Не попадись мне в феврале 1998 года на глаза заметка собкора «Комсомольской правды» в Германии Игоря Являнского, где вскользь упоминалось место рождения Александра, как знать, стала бы судьба моего героя столь известна в России? Без содействия архива Мюнхенского университета, переправившего запрос из Оренбурга сводному брату Шмореля Эриху, не удалось бы познакомиться с такими замечательными людьми, как он и его супруга, с которыми у нас установились впоследствии тесные, почти родственные отношения. После их приезда в Оренбург по приглашению главы города Геннадия Донковцева круг знакомств расширился. К нему добавилась Наталья Ланге — тоже сводная сестра Александра — бодрая, жизнерадостная женщина… В первую очередь им — родным и близким моего героя благодарен я за то, что мне предоставили для работы все материалы, которые ещё сохранились у них. Как уже говорилось, Александр не вёл дневников, письма, оберегаемые его родителями, сгорели в огне бомбёжки. Тем ценнее представляется мне та информация, обобщение которой я и предлагаю сегодня вашему вниманию.ПРЕДИСЛОВИЕ
Моя первая встреча с «Белой розой» состоялась в Германии в 1991 году. Будучи студентом-германистом, я проходил трёхмесячную стажировку в институте им. Гердера при Лейпцигском университете. Времени, отведённого на научную работу, хватало на всё, в том числе и на знакомство со страной. Поездки автостопом по окрестным городам приносили массу впечатлений — история, культура, обычаи и традиции немецкого народа становились близки и понятны. В постоянных беседах оттачивалось владение иностранным языком. Тогда, после нескольких лет перестройки, особое внимание привлекало новое видение событий: тех, о которых я не знал ничего, и тех, о которых знал лишь в идеологизированном изложении средств массовой информации стран социалистического лагеря. Свершившееся объединение двух Германий открыло мне глаза на рабочее восстание 1953 года в Берлине, на Пражские события 1968-го, на многие другие факты европейской истории. Казалось, в летописи Великой Отечественной войны не осталось места для сенсаций и неожиданных открытий, но сама возможность познакомиться с величайшей войной XX столетия в Германии, посмотреть на неё под другим углом зрения, осознать её именно как мировую войну, казалась чрезвычайно заманчивой. Магдебург, Альтенбург, Галле, Брауншвейг, Гослар? Не помню уже, в каком из этих городов, но именно там, в одном из музеев, я наткнулся на передвижную выставку, рассказывающую о Сопротивлении немецких студентов гитлеровскому режиму. Она состояла лишь из текстов и иллюстраций. Ни пробитых пулями касок, ни оружия, ни хотя бы оригиналов листовок, но я жадно читал, с интересом открывая для себя совершенно иную Германию. Наверное, я был невнимателен, я торопился. Мне так хотелось посмотреть сам музей, прикоснуться к тысячелетней германской истории. Осмотреть город до наступления сумерек, чтобы потом, уставшим, но счастливым, часами ловить машины и возвращаться под покровом ночи в Лейпциг, в университетское общежитие на Нордплац. Я не увидел на выставке того, что должен был бы увидеть: места рождения одного из организаторов группы. Удивительно, но тот факт, что студент медицины Мюнхенского университета Александр Шморель, организовавший «Белую розу» вместе со своим товарищем Гансом Шолем, был родом из России, из Оренбурга, никогда не скрывался в Германии. В Советском Союзе об этом знали, наверное, только сотрудники московского архива, куда попали после окончания войны протоколы допросов участников «Белой розы» следователями гестапо. В первый раз я был так далеко от родного города и так близко к частичке его истории, но судьбе было угодно, чтобы я не узнал об этом в тот час… Второй раз я услышал о судьбе мюнхенских ребят в 1993 году. Живя и работая в небольшом баварском городке Ансбах, я всегда с интересом смотрел по телевидению документальные фильмы немецких кинематографистов. Окунувшись на несколько лет в совершенно иную жизнь, я сделал для себя тогда вывод, что нет ничего лучше российских и американских художественных картин, причём наши фильмы были хороши в своей массе, а в массе американских встречались подлинные шедевры. Что касается документалистики, то пальму первенства в те годы я отдавал именно немцам. 50-летие со дня казни участников «Белой розы» освещалось по всем телеканалам. Фильмы, интервью, дискуссии… Я хорошо помню постоянно повторявшиеся имена Ганса и Софи Шоль. В те дни я ещё поинтересовался у фрау Шоль — одной из совладелиц фирмы, на которой я работал: не состоит ли она в родстве со столь известными в Европе героями антифашистского Сопротивления. Жить в Германии и не знать истории «Белой розы» было так же невообразимо, как в годы существования Советского Союза не знать о молодогвардейцах Краснодона. Однако и во второй раз история Александра Шмореля и его российское происхождение прошли мимо меня стороной. Бог любит троицу, но о том, какое открытие принесёт мне очередная встреча с «Белой розой», я не мог даже подумать. Каково было моё удивление, когда в феврале 1998 года в газете «Комсомольская правда» появилась небольшая заметка, рассказывающая о большой популярности тех самых мюнхенских студентов-антифашистов среди современной немецкой молодёжи. В ней автор мельком упомянул, что один из организаторов «Белой розы» Александр Шморель родился в 1917 году в моём родном Оренбурге. Как тесен, оказывается, мир и как мало мы знаем о том, что нас окружает! Точно так же, волею случая и усилиями энтузиастов несколько лет назад в Оренбурге была найдена могила отца великого виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича — как тронут был музыкант и как много значили для него последовавшие приезды в город своего детства! Природная любознательность и неравнодушное отношение к истории родного края вернули россиянам и имя Владимира Кибальчича — выдающегося мексиканского художника, творившего свои величественные произведения под псевдонимом «Влади». Его тоже связывали с Оренбургом детские годы. К своим «оренбургским корням» в весьма почтенном возрасте успел прикоснуться французский писатель Морис Дрюон, отец которого родился в этом южноуральском городе. И вот ещё один выходец из Оренбурга — Александр Шморель — национальный герой немецкого народа. Как знать, стал бы этот факт достоянием гласности на его родине, если бы не Его Величество Случай? Да, сколько ещё неизвестных открытий таит в себе история моего города! Сделанные по горячим следам запросы в архив оренбургского отдела ЗАГС не дали никаких результатов: при проверке данных, в том числе по записям в церковных книгах за 1917 год, сведений о рождении Александра обнаружено не было. Зародилось сомнение: не ошибка ли? Слишком невероятным казался сам факт, что за пятьдесят с лишним лет, прошедших после ареста и казни участников «Белой розы», никто не заинтересовался родиной одного из организаторов известной группы Сопротивления. Оставалось уповать на то, что педантичные немцы не могли взять с потолка название российского города. Быть может, речь шла об Оренбургской губернии? Слабая надежда подтолкнула к активным действиям, и вскоре в Министерство образования, культуры, науки и искусства земли Бавария ушёл соответствующий запрос. Ответ не заставил себя долго ждать. В письме министерского советника Хёрляйна подтверждалось, что в тексте приговора, вынесенного Александру Шморелю, действительно указано место рождения — Оренбург (Россия). В приложении любезно указывались координаты мемориального музея «Белой розы» и университетского архива в Мюнхене. Архив университета им. Людвига и Максимилиана, где учился студент Шморель, прислал копию студенческой учётной карточки, давшую новую пищу для размышлений. Во-первых, в ней впервые упоминалась точная дата рождения — 3(16) сентября 1917 года. Во-вторых, — и это стало полной неожиданностью для архивных работников загса — Александр был православного вероисповедания. При поисках записей о рождении немца всё внимание уделялось католическим и евангелическо-лютеранским церковным книгам. В-третьих, в карточке упоминалось имя отца — Гуго. Однако, несмотря на уточнённые данные, повторная проверка с упором на записи православной церкви также не принесла никакого результата. Консультация, полученная мной у авторитетнейшего архиерея Русской православной церкви митрополита Оренбургского и Бузулукского Леонтия, ныне покойного, в некоторой степени прояснила ситуацию: после революции 1917 года в архивном хозяйстве творилась неразбериха, церковные записи разошлись по разным местам — часть из них отправилась даже в Санкт-Петербург. Стало ясно, что искать следы земляка надо в другом месте. Но где? Исходных данных оказалось всё же маловато. Помощь пришла неожиданно. Отправив очередной запрос в музей «Белой розы», я почти на месяц отвлёкся от своих исторических изысканий и потому оказался совершенно не подготовленным к телефонному звонку, раздавшемуся у меня в кабинете. «Могу я услышать господина Храмова? — спросил на том конце провода голос немолодого уже человека. — Это говорит Эрих Шморель, сводный брат Александра». Масса вопросов, связанных с личностью земляка и занимавших меня на протяжении последних месяцев, от неожиданности вылетела у меня из головы. Эрих звонил из Мюнхена. Он говорил по-русски. Может быть, чуть медленно, но без характерного немецкого акцента. Мы обменялись несколькими фразами, договорились, что он вышлет мне краткую биографическую информацию об Александре, написанную им в 1991 году по просьбе профессора медицины из Волгограда. «Очерк одной немецко-русской судьбы», подготовленный доктором Шморелем на русском языке, превзошёл все мои ожидания. Впервые во всех подробностях передо мной предстала семейная хроника начала XX века. Стало очевидным, что четыре года, проведённые Александром в Оренбурге в том возрасте, когда события и окружающее не могли ещё чётко запечатлеться в памяти ребёнка, оказали несравненно большее влияние на формирование мировоззрения молодого человека, чем можно было бы предположить. Как удалось выяснить несколько позже, у Александра Шмореля были веские к тому основания. Более того, его российское происхождение отразилось на деятельности всей студенческой группы, создало в ней атмосферу восторженного отношения к России. Упоминание в той части «Очерка», которая посвящалась русским корням Шморелей, некоторых фамилий позволило даже мне, тогда ещё неважному знатоку истории Оренбурга, сделать вывод об обширных оренбургских связях этой семьи. Соответствующий запрос, направленный в Государственный архив Оренбургской области, не принёс ничего нового. И тут я совершил один из самых авантюрных поступков в своей жизни, о котором не пожалел до сих пор: я взял две недели отпуска и срочно вылетел в Мюнхен. Авантюризм же заключался в том, что как раз в те дни в России разразился августовский экономический кризис 1998 года, и лишь сидя в самолете, я с ужасом осознал, какое огромное состояние вырвал из семейного бюджета ввиду взлетевшего в заоблачную высь курса немецкой марки. Дополнительные сведения, полученные от Эриха Шмореля за несколько дней непрерывного общения, добавили лишь несколько штрихов к семейной истории, но не дали ответов по существу вопроса. Стало очевидным, что придётся поднимать оренбургские архивы, работать по разным направлениям, искать иголку в стоге сена. Тогда, сентябрьским вечером, сидя в мюнхенской квартире и разглядывая фамильные документы Шморелей — эскиз пивоваренного завода — единственного, до настоящего времени работающего в Оренбурге и построенного предками Эриха, паспорта, справки, фотографии — мы независимо друг от друга пришли к одинаковому выводу: как странно устроен человек! В детстве и юности, вполуха слушая рассказы родителей и бабушек с дедушками, мы не задерживаем наше внимание на истории родственников. Лишь с наступлением более зрелого возраста мы пытаемся бросить взгляд в прошлое, покопаться в своей родословной, но как часто бывает, некому уже ответить на интересующие нас вопросы. Ушли те, кто мог бы пролить свет на события, казалось, такого недалёкого, но уже недоступного нам вчерашнего дня. В тот приезд мы посетили мемориальный музей «Белой розы», постояли в холле Мюнхенского университета, где отчаянные молодые люди в последний раз сбросили с балкона сотни листовок, призывающих немцев к Сопротивлению гитлеровскому режиму. Эрих показал мне площадь, носящую теперь имя Александра Шмореля. Конечно же, мы побывали на могиле Александра. А ещё мы говорили, говорили, говорили… По возвращении в Оренбург я опубликовал первую статью об Александре, о его удивительной судьбе. Последующие три месяца я не вылезал из Государственного архива Оренбургской области, библиотеки областного краеведческого музея, областной научной библиотеки. Я каждый день проводил свой обеденный перерыв в архиве, прихватывая по полчаса до и после. Перечитывал все местные газеты с середины прошлого века вплоть до 1921 года, когда Шморели покинули Оренбург, знакомился с десятками дел, в надежде найти упоминание родных Александра. Информация, собранная мною по крупицам с помощью сотрудников архива, как мозаика сложилась в большое историческое полотно, некоторые фрагменты которого, к сожалению, навсегда затерялись на бескрайних просторах прошлого. Но это уже не помешает нам получить представление об оренбургских корнях Александра Шмореля и, самое главное, понять, сколь тесна была его связь с далёкой и романтической русской родиной.ОРЕНБУРГСКИЕ КОРНИ
Первым представителем рода Шморелей на российской земле стал Карл-Август, родившийся 19 января 1833 года в городке Люк, в Восточной Пруссии. Сейчас этот населённый пункт относится к Польше и носит название Эльк. В середине XIX века, когда Карлу было около двадцати трёх лет, он отправился в Оренбург. Неизвестно, чем привлёк молодого человека далёкий степной город, расположенный на границе Европы и Азии: своим немецким названием, хорошими отзывами немецких купцов, ведущих прибыльную торговлю на окраине Российской империи, или им руководило просто юношеское стремление к свободной жизни, полной неожиданностей и приключений? Как бы то ни было, обосновавшись в Оренбурге, Шморель начал своё скорняжное дело и открыл меховую лавку. История умалчивает о том, как складывалась жизнь молодого немецкого предпринимателя вдали от родины, лишь в «Алфавите купцов города Оренбурга на 1872 год», в разделе «Временные купцы 2-й гильдии», под номером 52 появляется запись о прусском подданном Карле-Августе Шмореле как объявившем свой капитал по состоянию на 29 декабря 1871 года. Заметим лишь, что тогда Карл не «обрусел» ещё настолько, чтобы именоваться на местный манер «Августовичем». Шморель вовсе не был белой вороной, неизвестно каким ветром занесённой в эти края. Во второй половине XIX века в Оренбурге своё дело имели несколько немецких купцов. Почти все они были людьми известными и уважаемыми. Клюмп, Фокеродт, Оберлендер, Гофман — эти имена на протяжении нескольких десятилетий были неразрывно связаны с историей Оренбургского края. Кто-то из «временных» принимал российское подданство, кто-то сохранял на бумаге свою принадлежность немецкому государству, но все они считали себя оренбуржцами и много делали для процветания родного города. Как правило, происхождение, вероисповедание и принадлежность к одному сословию, а также многодетность семей, некоторые из которых нередко насчитывали до десяти наследников, приводили к тому, что все немецкие купеческие фамилии в Оренбурге состояли в родственных связях друг с другом. Меховая лавка Шмореля находилась на Николаевской — центральной улице города, была хорошо известна жителям губернского центра, что даже делало излишними обычные для того времени рекламные ссылки вроде «на втором этаже в доме Попова». Карл-Август время от времени выезжал за границу за новыми мехами, старательно анонсируя сей факт в местной печати и устраивая перед отлучкой распродажу «по ценам, совершенно выгодным для покупателей». Отношения немецкого купца с местным населением были ровные, что не мешало ему время от времени устраивать публичные разносы своим менее добросовестным коллегам. В 1876 году редакция газеты «Оренбургский листок» сообщала, что в её адрес поступило открытое письмо, в котором Шморель обращался к не менее известному в Оренбурге предпринимателю Путолову с требованием «исполнить обязательство о продаже товара или возвратить задаток и объясниться». Столь неординарный метод разрешения споров был выбран потому, что Путолов не желал видеться со Шморелем и, более того, скрывался от последнего, когда тот приходил к нему домой за объяснениями. Со временем либо доход от мехового магазина стал слишком мал, либо появилась возможность более выгодно разместить накопившийся капитал, но в сентябре 1878 года Шморель подаёт в Оренбургскую городскую управу прошение об отводе земли под устройство паровой мельницы и лесопильни. В марте следующего года аренда была оформлена на 1500 квадратных саженей за Новой Слободкой по левую сторону железной дороги. Строительство первой в Оренбурге лесопилки Шмореля, так же как и мельницы оренбургского купца Юрова, стало началом бума по применению силы пара в мукомольном и лесопильном производстве. В последующие годы такие заводы стали расти в городе как грибы после дождя. На них применялось сверхсовременное по тем временам техническое оснащение. Оборудование устанавливал и отлаживал тоже немец, инженер Ф. К. Эверт, развернувший впоследствии в губернии торговлю сельскохозяйственными орудиями и машинами. Новое дело «временно оренбургского купца» оказалось весьма доходным. Спустя два года Шморель ходатайствовал перед городской Управой о приёме в «Товарищество паровой лесопильни» соотечественников — оренбургских «коллег» Гуго Богдановича Оберлендера и Августа Даниловича Фокеродта. Участок, занимаемый мельницей и лесопилкой, постоянно расширялся за счёт аренды земель и покупки предприятий менее удачливых соседей. Так, в 1883 году «Шморель и Ко» заявило о приобретении лесных складов санкт-петербургского купца А. Л. Шаскольского. «Мой дед долгое время торговал лесом, — рассказывал своей подруге в 1941 году Александр Шморель. — У него делали деревянные дома разных размеров. Их можно было купить, разобрать и увезти домой. Сколько они стоили? Самые дешёвые — 35, самые большие и дорогие (лучшие) — 200 рублей. Те, которые за 200, были просто громадными, для школ…» Так или иначе, но первая в Оренбурге паровая лесопильня не была единственной заботой Карла-Августа Шмореля. На своем очередном заседании 21 февраля 1885 года городская Дума «слушала просьбу прусского подданного Шмореля о разрешении ему открыть на Водяной улице паровой пивоваренный завод». По-видимому, к тому времени проблема назрела уже давно, так как продукция существовавшего в Оренбурге пивоваренного завода, принадлежавшего другому известному в городе немецкому предпринимателю Антону Клюмпу, подвергалась на протяжении длительного времени острой критике на страницах городских газет. «К г-ну Клюмпу и его пивовару г-ну Гофману, — обращался некий «любитель пива» в 1883 году. — Смилосердствуйтесь, господа! Вот уже более месяца как вы пускаете в продажу вместо пива какой-то брандахлыст, какую-то мутную воду, и хотя для вас сбыт этой бурды несомненно выгоден, да чем же виноваты желудки потребителей-то?! Вы расстраиваете здоровье вашим странным суррогатом, именуемым «пиво». Это злостно. Любители пива, положим, не пьют теперь вашего фабриката, но масса поглощает вашу бурду по-прежнему, платя хорошие деньги». Неудивительно, что идея Шмореля нашла поддержку в городской Думе: «Многие из гласных обрадовались новому заводу и новому пиву, которое, без сомнения, превзойдёт старое пиво старого Клюмпа и будет не только вкуснее и здоровее, но и дешевле, так как горожане могли бы наверняка сберечь сто тысяч четвертаков…» Тем не менее, со ссылкой на ряд объективных причин, Дума отказала прусскому купцу в строительстве пивоварни на Водяной улице, предложив для этих целей участок на северо-западе Оренбурга. Вероятно, пользуясь правом на закрытое голосование, Дума приняла таким образом политическое решение и не стала оказывать практического содействия оппоненту видного оренбургского предпринимателя и общественного деятеля, каким являлся Антон Клюмп. С 1887 года Карл Августович Шморель содержал также «кишечный» завод в южной, азиатской части города, за Уралом. Его увлекло модное в то время поветрие на строительство так называемых «струнных заведений» при скотобойнях. Увлекло, но не дало прибыли. Политика городских властей, направленная на ликвидацию таких частных предприятий, привела к тому, что дела Шмореля в этой области стали идти всё хуже. Бросать завод ему не хотелось, и в 1902 году он предпринял отчаянную попытку продлить договор аренды на этот клочок земли. Ему не суждено было дождаться решения городской Думы. После смерти Карла Августовича все дела, в соответствии с его завещанием, перешли к бывшему компаньону по «Товариществу паровой лесопильни», второму из братьев Оберлендеров, Рудольфу. Новый хозяин сосредоточил всё внимание на работе «Товарищества», владея одновременно несколькими мельницами в Оренбургской губернии. Рудольф Богданович подал прошение о продлении аренды земли, занимаемой паровой лесопилкой. В ходатайстве перед городской Думой он опирался на авторитет предприятия, у истоков которого стоял «временно оренбургский купец» Шморель. «Компания мотивирует своё заявление тем, что она первая открыла лесопильное дело в Оренбурге и существует на этот период 24 года», — писал он в 1902 году. Городские власти пошли навстречу, правда, частично: срок аренды вместо требуемых дальнейших двадцати четырёх лет был продлен лишь на десять. Но уже спустя два года детище Шмореля и Оберлендера слилось с лесопилкой купца Чистозвонова, образовав «Оренбургское лесное торговое и промышленное общество» (завод «Орлее»), ставшее вторым по количеству рабочих, после Главных мастерских Ташкентской железной дороги, предприятием Оренбурга. С семейством Оберлендер Шмореля и Фокеродтов связывало нечто большее, чем деловые отношения. Их дети росли вместе, часто бывали в загородных владениях «дяди Рудольфа» в селе Новотроицком, некоторые из них впоследствии породнились между собой. Долгие годы я рассказывал об этом поместье, цитировал Александра… Но лишь в 2015 году совершенно неожиданно из Германии от семьи Зюр — потомков булочника Фокеродта я получил снимки этого места. Карл Августович оставил после себя массу наследников. От двух браков — сначала с Фридерикой Витт, а после её смерти — с Амалией Пликат — родились десять детей: четыре девочки и шесть мальчиков. Все они связали свою судьбу с Россией. Наибольшей известности в Оренбурге достиг Франц Август Эмиль Августович (Карлович) Шморель, родившийся в 1874 году. Вместе со своим сверстником Александром Оберлендером он отправился на учёбу в Московский университет. Когда друзьям исполнилось по 21 году, они подали заявление о принятии их в российское подданство. Год спустя оба были приведены к присяге на верность России пастором оренбургской евангелическо-лютеранской церкви и причислены к купеческому сословию. В этом же году, вернувшись в Москву, Франц был задержан за участие в студенческих беспорядках. Его выслали назад в Оренбург «под гласный надзор полиции». Вчерашнему студенту пришлось устраиваться на работу. Для сына известного оренбургского предпринимателя это не представляло особого труда. Подходящее место конторщика нашлось на пивоваренном заводе «Е. Е. Гофман (бывший Клюмп)». Именно на завод, конкуренцию которому в своё время безуспешно пытался составить его отец, Франц пришёл со спокойной душой. Прежний владелец и основатель пивоварни Антон Клюмп умер несколько лет назад. Директор первого оренбургского общественного банка, известный своей благотворительностью, гласный городской Думы и бессменный управляющий крупнейшим пивоваренным производством губернии, Клюмп не оставил после себя достойного наследника. Приёмный сын Николай — подкидыш, которого Антон Фёдорович усыновил в возрасте трёх с небольшим лет, — оказался на редкость бездарным предпринимателем. Оставив о себе славу кутилы и повесы, он был переведён в сословие мещан, а потом и вовсе пропал из города. Дело продолжил Егор Егорович Гофман, прославившийся в то время как «пивовар Клюмпа». На фоне таких купцов, как братья Оберлендеры, Шморель, Клюмп, баварский подданный Георг Гофман, записанный по-русски Егором Егоровичем, выглядел, несмотря на примерно одинаковый с ними возраст, скорее предпринимателем «второй волны». Выходец из семьи владельца пивоваренного завода в Баварии, он освоил отцовское ремесло, но, будучи вторым сыном, не имел шансов унаследовать весь завод. По рассказам потомков, Гофман однажды увидел в газете объявление, что в Оренбурге ищут пивовара. Он продал свои золотые часы, купил билет и, подобно Шморелю, отправился в чужую страну, в далёкий неизвестный город. Настоящую популярность Гофман приобрёл лишь после смерти патрона. Унаследованное им пивоваренное производство требовало развития, и в 1902 году Егор Егорович вместе со своим земляком, выходцем из Баварии Людвигом Бамбергером, учредил новую фирму с витиеватым названием «Товарищество парового пивоваренного завода Е. Е. Гофман иК'в Оренбурге (бывший Клюмп)». Решение это далось ему нелегко, но стареющий Гофман, обременённый десятью наследниками, мог положиться на предприимчивого торговца хмелем Бамбергера, женившегося к тому времени на его старшей дочери Марии. Вернувшийся в лоно родительского дома Франц Шморель вёл размеренный образ жизни. Вскоре гласный надзор полиции был заменён негласным. Местный департамент регулярно информировал вышестоящие органы о круге общения и занятиях бывшего студента: «Имеет знакомство с семейством прусского подданного Фокеродта, владельца булочной в г. Оренбурге, где бывает в свободное от занятий время, ведёт себя хорошо, предосудительного в политическом отношении ничего не замечено». Вскоре Франц продолжил обучение на физико-математическом факультете Казанского университета. В Оренбурге он женился на дочери екатеринославского купца Марии Оттовне Лемке, стал часто выезжать в Варшаву, Германию, работал в Риге в «Варшавской коммерческой конторе «Виганд и К°». Когда в 1902 году умер отец, все братья и сёстры уже жили самостоятельно. Самый старший, Иван, выучился в Германии на пивовара. Герман стал титулярным советником. Мария вышла замуж за Александра Оберлендера, который к тому времени уже получил степень кандидата естественных наук. Анна, по мужу Виганд, уехала в Ригу. В фирме её супруга и работал некоторое время Франц. Родственники и друзья детства — всё переплелось. Все знали друг друга, помогали, чем могли. Александр Оберлендер устроил Гуго, седьмого ребёнка в семье Шморель, в Мюнхенский университет. Спустя несколько десятилетий сын Гуго Карловича, Александр, пойдёт по стопам отца и в тех же самых стенах тоже будет изучать медицину. Ни у кого из Шморелей не было и мысли о том, что родительский дом на углу Каргалинской и Кладбищенской, знакомые с детства имения Оберлендеров — всё это скоро станет для них недоступным. Вернуться сюда они смогут лишь во сне или в романтических воспоминаниях, часть из которых как красивые легенды бережно сохранят их потомки. «В окрестных лесах водились волки, медведи, да как много! Птица, дичь! В реках — рыба! На подворье постоянно жили несколько медвежат, и дети играли с ними, — рассказывал Александр Шморель одну из таких историй, где правда переплеталась с вымыслом. — В лесу был мёд — такого нигде в мире больше не найдёшь! Всё было так чудесно и в таком изобилии, что можно было принять это за выдумку, за мечты человека с буйной фантазией. Вряд ли мозг европейца способен воспринять это, но люди там были не только безудержны, нет! Во многих вещах они были даже очень строги. И как религиозны они были! Тот башкир, о котором мне рассказывал отец — для таких, как он, все инаковерцы были лишь звери, нечистые создания, собаки. И даже когда этому башкиру приходилось часто разговаривать, вести торговлю с «неверным», он никогда не забывал ругать своего собеседника: «Ты собака! Проклятый!». Разразившаяся Первая мировая война нарушила формировавшийся годами мирный уклад выходцев из Германии. Антинемецкие настроения захлестнули Россию. Не миновала чаша сия и многочисленное семейство Шморель, разбросанное по всей империи. Гуго Карлович, занимавший в 1914 году должность ассистента на кафедре внутренних болезней Московского университета, вскоре вынужден был оставить не только полюбившееся место работы, но и покинуть город. Заведующий кафедрой долго не решался расстаться с подающим надежды молодым специалистом, но погромы немецких магазинов и подстрекательства других ассистентов против «германского шпиона» не оставляли профессору выбора. Благо Шморелю было куда ехать. В Оренбурге дела обстояли не лучше. Старший брат, откомандированный в Челябинск, даже не был ознакомлен с постановлением Оренбургской губернской земской управы, в котором говорилось: «23 августа 1914 года (…) установлено, что страховой агент 3-го участка Челябинского уезда Иван Августович Шморель есть германский подданный, и ввиду происходящей войны между Германией и Россией он не может состоять на службе в Губернском земстве и подлежит увольнению». Встретив неожиданного сменщика из Оренбурга, Иван, не веря в возможность происходящего, посылает начальству телеграмму: «Мишин приехал принять дела. Прошу телеграфом указать причину. Жду. Щучье. Агент Шморель». Из Оренбурга последовал лишь лаконичный ответ: «Уволены как германский подданный». Еще более неожиданным стало завершение головокружительной карьеры Франца Шмореля. Своевременно распрощавшись с германским подданством, Франц Карлович, казалось, сделал беспроигрышный ход. От помощника делопроизводителя «Оренбургско-Тургайского управления землепользования и государственного имущества» он прошёл путь до гласного городской Думы. В 1912 году тайным голосованием его избрали на должность члена городской Управы. Год спустя его утвердили на новый четырёхлетний срок. А через несколько месяцев Франц Карлович уже был избран на должность заступающего место оренбургского городского головы. Однако с первых же дней войны «немецкое прошлое» дало о себе знать. В соответствии с неким тайным циркуляром оренбургскому голове предписывалось отныне передавать секретные сведения на Ф. К. Шмореля в Оренбургское губернское жандармское управление. Судьба бывшего германского подданного, несмотря на занимаемое положение, оказалась предрешена. В июле 1915 года Главное управление МВД с удовлетворением сообщило оренбургскому губернатору, что «на основании ст. 122 Городского положения член Оренбургской городской Управы, надворный советник Шморель увольняется, согласно прошению, от должности Заступающего место городского головы». Лишив работы, должности, званий тех, кто раньше уже почти не задумывался о своём немецком происхождении, война пробудила в них национальные чувства. По Указу Николая II от 2 февраля 1915 года тысячи австрийских и германских переселенцев были отправлены на Урал. Вскоре к ним добавились потоки военнопленных. Именно здесь, в Оренбурге, изгнанному в своё время из Москвы немцу Гуго Шморелю было суждено заботиться о здоровье своих соотечественников, число которых росло день ото дня. Война и две революции не способствовали улучшению здоровья населения в провинции. Начались обычные в такой ситуации эпидемии — тиф, холера, дизентерия. Правительства нейтральных стран пытались оказывать помощь военнопленным по обеим сторонам линии фронта. В Оренбурге в те годы действовала «Комиссия по оказанию помощи австрийским и германским подданным из средств американского консульства в Москве», врачом которой являлся Гуго Карлович. Отец моего героя родился 19 февраля 1878 года и рос, так же как и братья с сёстрами, в основном за городом, у Оберлендеров. Уже живя в Мюнхене, в семейном кругу, Гуго Карлович любил вспоминать своё детство, «это безвозвратное время». Его рассказами Александр щедро делился с друзьями. «Он говорил о поместье, которое было у них в Уральских горах. Оно было большое — 64 000 гектаров — и располагалось у подножия гор, вдали от всех городов — это был рай! Он рассказывал о местных жителях, которые были так щедры, с такой открытой душой. Они изготавливали доски топором. Из целого дерева вырубалась одна-единственная доска, всё остальное выбрасывалось. Одно дерево — одна доска. Им хватало деревьев. Экономить эти люди не умели. Часами, сутками ехали они на своих телегах на деревенские ярмарки, везли туда всякую мелочь, резные деревянные орудия, лыко, кожу… Там они зарабатывали несколько копеек и были счастливы. Или не выручали ничего и тоже были довольны. Или могли прокутить всю выручку и, радуясь, опять несколько дней ехать домой». В 1907 году Гуго Карлович блестяще защитил докторскую диссертацию. На титульном листе значилось: «В знак глубокой благодарности посвящается Александру Оберлендеру». Близкий друг старшего брата, известный в Оренбурге предприниматель и общественный деятель, Оберлендер заботился о студенте медицины, постигавшем науку вдали от дома. В последующем Шморелю не раз предоставилась возможность оказать ответную услугу своему благодетелю. Он даже сопровождал брата Александра Рудольфовича Виктора в качестве врача, когда тот, страдавший тяжёлой формой туберкулёза, отправился в лёгочный санаторий в городок Санкт-Блазиен, расположенный в Шварцвальде. По окончании учёбы, став доктором, Шморель обосновался в Москве. Здесь же он познакомился со своей будущей невестой — дочерью провизора и коллежского асессора из Кременчуга Натальей Петровной Введенской. Наталья была на 12 лет моложе Гуго Карловича. После известных событий 1914 года она последовала за ним в Оренбург, где они и обвенчались 11 ноября 1916 года в Петропавловской церкви. Свидетелямиэтого события со стороны жениха выступили известный в городе адвокат дворянин Флориан Петрович Доливо-Добровольский и Александр Рудольфович Оберлендер, со стороны невесты — надворный советник Франц Карлович Шморель и капитан 102-го Рымникского полка Дмитрий Оттович Лемке. Обнаруженная лишь в 2017 году сотрудниками музея истории Оренбурга церковная книга содержит любопытное собственноручно написанное обязательство прусско-германского подданного лютеранского вероисповедания Гуго Шмореля: «…сим удостоверяю, что вступая в брак с дочерью коллежского асессора Натальей Петровной Введенской, православного вероисповедания, в воспитании детей от сего брака буду поступать согласно с законами Государства Российского, то есть буду крестить и воспитывать в православной вере». Своё слово Гуго Карлович сдержал. Сын, которого назвали Александром в честь святого князя Александра Невского, родился 3 (по новому стилю 16-го) сентября 1917 года. Родители крестили его в той же Петропавловской церкви. Свидетелями на сей раз были брат Натальи сотник кубанского казачьего войска Фёдор Введенский и дочь купца Елена Александровна Оберлендер. Православной веры Александр придерживался и впоследствии, будучи взрослым человеком и живя в совершенно другой стране. Революция и Гражданская война принесли в уральский город голод и эпидемии сыпного и брюшного тифа. В тяжёлые дни Гуго Карлович возглавил больницу, открытую для немецких военнопленных и интернированных граждан. Власть в Оренбурге несколько раз переходила от одной противоборствующей стороны к другой. Во время чешского мятежа «славянские братья» решили расстрелять оренбургского врача как «немецкого буржуя». К счастью, вовремя вмешались несколько русских, хорошо знавших Гуго Карловича. В очередной приход красных к Шморелю доставили больного тифом комиссара. «Вылечишь, немец?» — спросил он врача в лихорадочном бреду. Сопровождавшие красноармейцы ясно дали понять доктору, что смертельный исход их командира будет равнозначен такому же приговору и для него самого. Комиссар выжил, а доктор Шморель стал считаться в городе подлинным интернационалистом, сочувствующим советской власти. Так получилось, что, заботясь об окружающих, Гуго Карлович не смог уберечь самого близкого ему человека. В 1918 году Наталья Петровна умерла от тифа. Говорили, что она заразилась на рынке — неосторожно попробовала у торговки кислое молоко. Мама Таля, как называли её в семье, была красивой женщиной. Александр в студенческие годы очень походил на мать. Его волосы имели такой же тёмно-рыжеватый оттенок, и взгляд был спокойный, мечтательный. Гуго Карлович тяжело переживал трагедию, но нужно было заботиться о маленьком сынишке. По рекомендации сестры Марии отец нанял нянюшку Феодосию Константиновну Лапшину, работавшую у неё домработницей. С тех пор крестьянка из села Романовка Царицынского уезда Саратовской губернии стала членом семьи Шморель. Сначала она воспитывала Шурика, потом Эриха и Наташу, родившихся во втором браке, уже в Германии. Там она часто плакала по потерянной родине и до конца своих дней не уставала заботиться о благополучии своих уже выросших подопечных. Она много рассказывала детям о матери Александра, о своей деревне. Говорила, что Стенька Разин доводился ей кем-то из предков: «Он хоть и разбойник был, но брал только у богатых и делился с простым народом!» В калейдоскопе революционных потрясений как-то незаметно пролетели два года. Гуго Карлович в меру сил и возможностей работал по специальности. Складывающиеся в стране и городе политические обстоятельства не всегда способствовали этому. Время было опасное. Весь персонал клиники, где он работал, переболел тифом. В лазарете он познакомился с немкой, из местных, работавшей старшей сестрой милосердия. 5 октября 1920 года они поженились. Елизавета Егоровна (Георгиевна) Гофман была дочерью владельца пивоваренного завода. Её мать Маргарита Антоновна приходилась племянницей небезызвестному в дореволюционном Оренбурге купцу Клюмпу. Самого Егора Егоровича Гофмана уже 11 лет как не было в живых. Какое-то время наследники, всего 11 детей, пытались продолжать дело отца. Брат Елизаветы, Рудольф Георгиевич, неоднократно выезжал за границу для изучения искусства пивоварения. Вернувшись домой, он заведовал пивными складами в Орске, Илецкой Защите, Шарлыке, Актюбинске и других городах Самарской, Уфимской губерний, Тургайской и Уральской областей. Одновременно Рудольф Гофман возглавлял «Заведение искусственных минеральных вод» в городе Орске. Спустя два дня после начала Германской войны (Первой мировой её стали именовать значительно позже) Елизавета Егоровна подала прошение на имя оренбургского губернатора о принятии её в российское подданство. «Я родилась в Оренбурге, окончила курс в Оренбургском институте благородных девиц и с детства привыкла считать Россию своим отечеством. С Германией, подданной которой я числюсь по рождению, никогда ничто меня не связывало. Кроме того, от отца я унаследовала торговое дело в Оренбурге, которое намерена продолжать. Поэтому имею честь просить Ваше Превосходительство о принятии меня в русское подданство и ввиду остроты политического момента, возможно сократить срок водворения». Написанное под влиянием военных действий на Западе прошение вряд ли было выражением истинных чувств дочери баварского купца, но своевременность такого шага позволила большому семейству Гофман действительно заниматься пивоваренным производством вплоть до прихода большевиков к власти. Жизнь Гуго Карловича с новой женой и сыном разительно отличалась от всего того, к чему привыкли они в недавнем прошлом. От уютного семейного очага Шморелей остались одни воспоминания: в доме жили какие-то чужие люди, определённые сюда советской властью. О роскошном здании пивоваренного завода на Неплюевской улице и говорить не приходилось. В 1915 году наследники Гофмана ещё пытались сохранить его за собой, хотя бы частично. Через приходское благотворительное общество при римско-католическом костёле они хотели устроить там «дом трудолюбия». После 1917 года места в родных стенах для них больше не стало. Завод экспроприировали. Какое-то время по поручению новых хозяев Рудольф ещё занимался вопросами производства, но вскоре и эту работу пришлось оставить. Наверное, не менее горько было Гуго Карловичу прочитать в газете «Народное дело», что «согласно постановления разномойского Совета солдатских депутатов, отобранный у помещика Оберлендера скот был разделён между бедными солдатами». Александр Рудольфович, большой друг семьи Шморель, казалось, совсем недавно, в 1917 году, вошёл в состав продовольственного комитета Оренбургского губернского земского собрания. Но вот и он уже потерял всё нажитое им и его отцом за долгие годы, проведённые на оренбургской земле. Пребывание в родном городе становилось изо дня в день всё менее приятным. В эти годы не раз поднимался вопрос о возмещении убытков германским подданным. После ратификации Брестского мирного договора в шведское консульство в Москве, выступавшее в Советской России с посреднической миссией, поступали заявления от крупных предпринимателей, потерявших за время войны миллионные состояния, от колонистов, купцов и ремесленников, чье хозяйство было полностью разорено. Однако большинство из них уже не видело для себя перспектив в этой стране. Немцы устремились на Запад, в Германию. В 1921 году семья Гуго Карловича тоже стала готовиться к отъезду.ДЕТСТВО
Детство героя. Оно всегда представлялось мне каким-то особенным. Помню сочинения школьных лет. В них пионеры и комсомольцы-герои отличались необыкновенными чертами характера, которые у них проявлялись чуть ли не до школы. За такой идеологизированной картиной «становления целостной личности», как правило, терялся сам человек. Приступая к этой книге, больше всего боялся, что Александр в воспоминаниях тоже превратится в такой символический образ, вернее, образок, иконку, от которой будет исходить неестественно благостное сияние. К счастью, в памяти своего младшего брата Алекс остался всё-таки человеком, пусть не совсем обычным, но живым. «Да он был просто чокнутый! — смеялся как-то Эрих во время наших очередных полуночных посиделок в его уютной мюнхенской квартире. — Шурик выделялся из толпы, а тот, кто выделяется — это уже не серая посредственность. Все выдающиеся личности были в той или иной мере «чокнутые», — рассуждение вполне в духе Достоевского: «чудак не всегда частность и обособление, а напротив, бывает так, что он то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи — все, каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались». Отъезд из Оренбурга в 1921 году стал для Шморелей вынужденной необходимостью. Некоторые из них ещё раньше отправились в сторону Сибири. Большая часть знакомых тоже покинула город. Гофманы и Оберлендеры обосновались на новой, вернее, так называемой «исторической» родине. Перспектива работы врачом на должности с труднопроизносимым в духе тех лет названием — «завпит-пунктом» — не прельщала Гуго Карловича, и насиженное место пришлось оставить. Сомнений о том, куда ехать, у доктора Шмореля не было. Мюнхен, хорошо знакомый по годам учёбы в университете и частым посещениям последних лет, казался надёжным пристанищем и укрытием от революционных потрясений Советской России. Поездка за границу — само по себе занятие не из простых — на этот раз превратилась в грандиозное мероприятие с массой осложняющих моментов. Главное — уезжали насовсем. Что брать, как, какие оформлять документы и где? Голова шла кругом от тысячи учтённых и неучтённых мелочей, без которых отъезд мог просто не состояться. Семейство в составе Гуго Карловича с женой и сыном, Эмилии Оберлендер и няни должно было двинуться в путь через Восточную Пруссию. Ситуация на фронтах не оставляла других вариантов и вынуждала беженцев совершать чуть ли не кругосветное путешествие. Елизавета Гофман была в положении, и для неё все эти сборы и волнения были тем более некстати. Няне как российской гражданке путь в Европу со стороны советских властей был фактически закрыт, и для неё пришлось выправить новые документы. Для этого был оформлен фиктивный брак с Иваном Шморелем. Феодосия Лапшина на время превратилась во Франциску Шморель, что хотя и не добавило саратовской крестьянке знаний немецкого языка, но позволило без особых приключений проследовать вместе с семьёй в далёкую и незнакомую Баварию. Путешествие заняло шесть недель. С трёхлетним Сашей, беременной женой и парализованной тёткой Эмилией поездка была сущей каторгой. Во время многочисленных пересадок Гуго Карлович переносил Эмилию, страдавшую рассеянным склерозом, на руках. В памяти всех ещё свежи были воспоминания о нелепой гибели тёщи — Маргариты Гофман в августе 1919 года, когда она, на пути из Оренбурга в Германию с тремя детьми, ночью на минутку отлучилась от стоящего поезда. Судьбой ей было дано оказаться как раз между двух вагонов, когда маневровый паровоз неожиданно дёрнул состав. Несчастье случилось на участке пути между сегодняшними Каунасом и Калининградом неподалёку от небольшого местечка Вильковишки. Тело Маргариты Гофман удалось доставить в Германию и похоронить там. По приезде в Мюнхен жизнь стала постепенно налаживаться. Первые месяцы семья жила в Зольне — небольшом предместье баварской столицы, застроенном виллами состоятельных горожан. В августе, когда родился Эрих, всё внимание переключилось на нового члена семьи. Вскоре Гуго Карлович смог подтвердить свою врачебную квалификацию и открыть частную практику «Д-р Шморель». В этом ему помогли докторская работа, написанная ещё во время учёбы в Мюнхене, а также свидетельство некоего Фридриха Мауха из Базеля, в прошлом руководителя «Оренбургского Комитета по оказанию содействия германским и австрийским подданным». Маух подробно и в превосходных тонах осветил деятельность врача Шмореля с начала Первой мировой войны и вплоть до отъезда Гуго Карловича из Оренбурга. В конце этого же года семья обрела и своё собственное жилье. Такой щедрый подарок родне сделал Людвиг Бамбергер — компаньон Егора Егоровича Гофмана и совладелец оренбургского пивоваренного завода, «дядя Людвиг», как его звали дети. Он приобрёл для Шморелей замечательный дом в мюнхенском районе Ментершвайге. Покинув Россию, Шморели сохранили оренбургские традиции: на обед были пельмени и блинчики, самовар на столе являлся обычной частью сервировки и никто в семье не воспринимал это как дань тоске по утерянной родине. Дома родители говорили по-русски. Дети, игравшие со сверстниками на улице, без труда впитывали в себя язык чужой страны, но русский всё же преобладал. Поэтому когда Наташа пошла в школу, то сверстники поначалу даже подсмеивались над ней из-за её неважного немецкого. И тем не менее Шурик получал ещё частные уроки русского у православного священника. Позже к Шморелям каждую неделю приходил некий господин Налбандов, который преподавал детям русскую азбуку и грамматику. Эрих с удовольствием вспоминал, как с этим учителем они читали «Войну и мир» Толстого и пушкинского «Евгения Онегина». Книги, в первую очередь русская классика, стали верными жизненными спутниками младшего поколения Шморелей, но осознание этого пришло позже. Многие картины тех лет уже стёрлись, но в детской памяти остался визит царского генерала Сахарова, приглашённого родителями на чай. Не был ли это их земляк, уроженец Оренбурга, внук священника и выпускник Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса знаменитый генерал-лейтенант Константин Вячеславович Сахаров? Видный деятель Белого движения в Сибири, бывший генералом для поручений при Верховном главнокомандующем адмирале А. В. Колчаке, командовавший армиями, в 1920 году эмигрировал в Японию, затем недолго пожил в США, а в октябре 1920 года прибыл в Германию, где принимал участие в монархическом движении. «В советской революции виноваты только жиды», — гость смаковал эту мысль, произнося слово «жиды» с грубым непонятным акцентом. Эрих помнит, как ему, маленькому мальчику, и маме не понравилось, что генерал избегал слова «евреи». Да и нелады с русским произношением у «радетеля за Отчизну» оставили в душе довольно неприятный осадок. Сообразно семейным традициям постепенно сложился круг общения. В нём преобладали православные священнослужители, люди культуры и искусства, врачи. Частым гостем в Ментершвайге было семейство Пастернаков. Художник Леонид приходил с женой, известной московской пианисткой Розалией Кауфман. Друживший с Гуго Карловичем Леонид Пастернак подарил доктору карандашный портрет Бетховена с собственноручным посвящением. Он долгие годы висел над роялем в гостиной Эриха Шмореля. Позже на чай заглядывали Лидочка и Женечка — сёстры Бориса Пастернака, оставшегося в России и получившего впоследствии мировое признание за книгу «Доктор Живаго». Эрих помнил ещё, что Женечка вышла замуж за своего троюродного брата Ф. К. Пастернака — директора крупного мюнхенского банка, но с началом еврейских погромов сёстры были вынуждены эмигрировать в Англию. Осенью 1924 года Шморели отдали своего старшего, которому как раз исполнилось 7 лет, в частную школу Энгельсбергера. За обучение в ней надо было платить, но родители предпочли водить Александра несколько дальше от дома и притом за деньги, чем отдать его в обычную народную школу, расположенную рядом. Она пользовалась дурной славой школы детей безработных и чернорабочих. В марте следующего года родилась Наташа. Весь год прошёл в хлопотах: Елизавета Егоровна и няня занимались детьми, Гуго Карлович — своей практикой. В 1926 году Людвиг Бамбергер наконец-то получил давно обещанную правительственную компенсацию за оставленную в Советской России недвижимость. Пивоварня была оценена в один миллион золотых марок, но и немецкое правительство было не промах: выплата компенсации переселенцам производилась ассигнациями. Елизавета Гофман долго сокрушалась по этому поводу: «Советский Союз рассчитался с правительством золотом, а нам, как всегда, бумажки достались!» Полмиллиона остались за Бамбергером, а вторую половину 11 братьев и сестёр, среди них и мачеха Александра, распределили между собой поровну. Внакладе никто не остался: дядя Людвиг заботился о родственниках, причём делал это с видимым удовольствием. Чего стоил один дом, купленный им для Шморелей! С этим уютным семейным очагом у Наташи и Эриха многие десятилетия были связаны самые лучшие воспоминания. 8 августа 1926 года Шморели отмечали пятый день рождения Эриха в Стокгольме. Этот праздник остался ярким воспоминанием для виновника торжества. «Я помню, как Шурик потихоньку разбудил меня рано утром, когда все ещё спали, и повёл в другую комнату. «Хочешь посмотреть, что тебе сегодня подарят? Только никому не говори», — лицо Эриха, рассказывающего о событиях более чем семидесятилетней давности, светлеет. Кажется, он и сейчас видит перед собой лицо Александра, спешащего порадовать младшего братишку ожидающими его подарками. «А ещё я помню, что из Швеции мы ехали на пароме и папа с Шуриком ходили на капитанский мостик. Брат так гордился тем, что стоял на мостике рядом с настоящим капитаном!» Когда Александру исполнилось 10 лет, после четырёх классов он поступил в мюнхенскую гимназию имени Вильгельма. Учился Шурик неплохо, занятия давались легко. Тем удивительнее было для родителей узнать, что «из-за неудовлетворительных знаний по латинскому языку» их сын остаётся во втором классе на второй год. Вскоре выяснилось, что учитель латинского что-то имел против гимназиста русского происхождения. Необоснованные претензии и нервозная обстановка привели к тому, что Шурик стал бояться этого предмета, не мог отвечать уже выученный урок. Пока разобрались, что к чему, было уже поздно. Пришлось походить второй раз в тот же класс. Потом родители перевели Александра в другую гимназию, и проблем с латинским больше не возникало. Свободно говорившие по-русски и по-немецки дети по желанию отца учили и английский язык. Отец не оставлял мысли перебраться в Персию. Там требовались врачи, и доктор Шморель надеялся на продолжение своей карьеры на Ближнем Востоке. Ещё в раннем возрасте у Александра обнаружилась определённая тяга к музыке, и этот интерес старались поддерживать всеми возможными средствами. Детям приобрели рояль. Шурик, Эрих и Наташа по очереди занимались на инструменте, и хотя у Алекса всегда находились более важные дела, чем музыкальная грамота, играл он, по свидетельству очевидцев, просто великолепно. В доме Шморелей любили русские песни. Их кладезь — няня, пела детям колыбельные. Да и во время стряпни она любила напевать по-русски. Во многом именно её рассказы о далёкой родине, песни и сказки из детских лет воспитали такую страстную любовь Шурика к России, которая удивляла и продолжает удивлять всех знавших его. «Фрау Лапшина», которая за все годы, проведённые на чужбине, так и не научилась немецкому языку, ходила в русскую православную церковь, носила привычные ей широкие крестьянские юбки и пёстрый головной платок. Оставаясь одна дома, всегда считала своей святой обязанностью отвечать на телефонные звонки, громко и внятно произнося одну и ту же фразу: «Доктор Шморель нихьт цу хаус» — и вешала после этого трубку с чувством исполненного долга. Она долгие годы оставалась добрым духом дома в Ментершвайге. И даже не знавших русского языка гостей располагала к себе её доверительная жестикуляция. У няни в Саратове оставалась сестра, и они некоторое время ещё вели переписку — неграмотной Феодосии Константиновне читали письма из России, а она надиктовывала ответы. У Шморелей какая-то связь с родственниками в СССР оставалась до 1930-х годов, а потом письма и открытки просто перестали приходить. По данным, полученным уже в наши дни в самом начале 2000-х от внучатого племянника Германа Шмореля — профессора и доктора медицины Александра Клембовского, Герман Карлович перебрался после революции из Оренбурга в Екатеринбург, затем в Томск, где работал управляющим Государственным банком, и умер ориентировочно в 1929 году. Его жена Наталья — дочь Рудольфа Оберлендера — с 1938 года жила у детей в Москве. Александр Оберлендер, женившийся на Марии Августовне Шморель, был сослан на поселение в Караганду, где и умер в конце 1930-х годов. Лишь после массовых амнистий 1953 года Мария Августовна смогла уехать к родственникам в Минск. Оренбургская газета «Смычка» 15 января 1930 года поведала нам и о судьбе самого известного из Шморелей — Франца Карловича — правда, под характерной для того времени рубрикой «Чистка советского аппарата»: «Второй день чистки государственного и коммунального банков похож на первый. Критика и самокритика банковских «чиновников» отсутствует… Установка банковцев ясна — круговая порука — вот её название. Один за всех, все за одного… Перед собранием проходит один из старых оренбургских «зубров» Шморель — инструктор госбанка в настоящем. А раньше? В начале своего жизненного пути поднадзорный студент, участвующий в революции, — сын прусского бедняка — крестьянина, работающего в Оренбурге уполномоченным заграничной меховой фирмы, — он в 1915–1916 годах попадает в члены городской управы и более года замещает городского голову. — Последние годы перед революцией я работал на постоянной должности секретаря кожевенной управы, — повествует собранию Шморель. — Ну… и… уехал… с белыми. Сначала в Актюбинск. Потом на Кавказ, а потом зазимовали в Анапе. По приходе красных я и мои сотрудники (сослуживцы — поправляется Шморель) в 1920 году получили разрешение выехать в Оренбург, где я и работаю до сих пор. В автобиографии Шмореля много неясностей, тёмных пятен, завуалированных мест. Когда-то, будучи с белыми в Орске, он хотел перейти к красным — однако не перешёл! Будучи поднадзорным, попал в городские головы (?!). Один дом у него национализирован, а другой в 13 комнат… принадлежит жене (?!). Ведёт переписку с заграничными друзьями…» Да, переписка с иностранцами и родственники за границей — одного этого в 1930-е годы в СССР могло вполне хватить на многие годы тюремного или лагерного заключения. А тут ещё жена Мария Оттовна Лемке — дочь Отто Карловича Лемке, занимавшегося в Оренбурге до революции торговлей ювелирными изделиями! Франца Шмореля арестовали 15 декабря 1937 года в Новосибирске, где он к тому времени работал бухгалтером Новосибирского управления совхозов. Двумя годами позже он умер, находясь в заключении, по причине «старческой дряхлости» (в 65 лет?!), как гласило свидетельство о смерти. Но вернёмся назад, в Германию. В новой реальной гимназии, куда родители перевели Шурика в 1930 году, больше внимания уделялось точным наукам, не было греческого. Здесь Александр познакомился с Кристофом Пробстом, сыном учёного, занимавшегося исследованием санскрита и восточных религий. Кристоф был на два года моложе Алекса, но в 1935 году они оба пошли в 7 «А» класс, где составляли своего рода исключение в плане своей религиозной принадлежности: среди католиков лишь Шморель был православного вероисповедания, а Пробст вообще не причислял себя ни к какой вере. Алекс и Кристоф крепко сдружились. Эта дружба очень много значила для обоих. У Кристофа была старшая сестра Ангелика, и они часто проводили время втроём. Родители Пробстов развелись, но у детей, в том числе и у Алекса, было какое-то особое доверительное отношение к мачехе, еврейке по происхождению. Семья Пробст стала для Шурика почти вторым домом. На каникулах Александр ездил к ним в небольшую деревеньку рядом с Рупольдингом, где ребята предпринимали вылазки в Баварское предгорье Альп, ходили в походы, катались по окрестным лесам на велосипедах. «Помню, как однажды летом он приехал из Мюнхена на велосипеде. У него не было денег на поезд. Велосипед был так невероятно нагружен, что его едва можно было различить под поклажей, — рассказывала уже после войны Ангелика. — С этой экипировкой мы провели незабываемые летние недели на тихих озёрах, одиноких горных лугах. Мы строили хижины и плоты, ловили рыбу, которую потом пекли, наблюдали за животными и растениями, под раскаты собственного хохота исполняли невиданные акробатические трюки на пружинящей болотистой почве». По свидетельству Ангелики, Алекс был по натуре бродягой. Ему нравилось путешествовать в одиночку, бесцельно бродить по окрестностям, знакомиться «с удивительнейшими созданиями этого мира». Его тянуло на приключения, вызывали любопытство бродяги, странствующие артисты, цыгане и попрошайки всех видов и мастей. Алекса нередко можно было застать глубоко за полночь в компании странного вида взрослых мужиков за бутылкой вина. На следующий день Шурик восхищался, какие великолепные идеи и своеобразные мысли переполняют этих людей. «Однажды, это было в 1936 или 1937 году, — вспоминал Эрих, — мы во время каникул всей семьей отправились на две недели на озеро Кимзее. У нас был заказан отель, но Шурик наотрез отказался оставаться на ночь в номере. Он хотел поставить палатку и расположиться там. Никакие уговоры и увещевания не помогли, и отец махнул на причуды сына рукой. Две недели Алекс провёл рядом с отелем, практически под открытым небом. Как назло, всё время шёл дождь. Хлестало как из ведра, но Шурик не сдавался. Помню, как он укреплял палатку, рыл канавки, чтобы отвести воду». Как знать, может быть, в душе ему и хотелось махнуть на всё рукой, перебраться к родным в тёплое и сухое жильё, но гордость уже не позволяла проявить такое малодушие. Да и как это могли бы расценить близкие? Отец хорошо знал характер старшего сына и потому не судил строго его сумасбродные выходки. Как-то в одном из бесконечных походов Алекс вместе с двумя друзьями Францем Вальтершпилем и Вольфгангом Нуссером угнали в районе Ульма лодку. Проплыв с десяток километров вниз по течению Дуная, путешественники решили, не останавливаясь, устроиться на ночлег. Тент натянули здесь же. Уже в районе Донаувёрта неуправляемая посудина налетела на опору моста. Сонных искателей приключений выбросило в воду, лодка со всеми пожитками камнем пошла на дно. Чудом все трое остались живы. На следующий день Алекс добрался домой в каких-то лохмотьях. Отец, узнав о причинах столь странного явления «блудного сына» в Мюнхене, лишь неодобрительно покачал головой. Спокойствие и рассудительность Гуго Карловича были хорошо известны в семье. Даже с прирождённой аполитичностью доктора Шмореля Александр мирился, несмотря на своё обострённое восприятие окружающего мира. «Отец никогда не лез в политику, — вспоминал Эрих Шморель, — это мама всегда эмоционально комментировала события общественной жизни Германии». После прихода Гитлера к власти в 1933 году дома постоянно разворачивались словесные перепалки. «Какой из него руководитель государства? Это же совершенно невозможный человек», — убеждала Елизавета своих братьев Рудольфа, Николая и Арнольда. Братья Гофманы доказывали обратное, но до ссор дело не доходило. Рудольф, наверное, всё-таки тайно надеялся, что в случае, если границы рейха окажутся восточнее Оренбурга, то и его пивоваренный завод вернут «законному хозяину». Впрочем, таких мыслей вслух он никогда не высказывал, но объяснение действиям Гитлера в семейных спорах всё-таки находил. «Однажды, вернувшись с какой-то очередной политической манифестации, — продолжал Эрих, — мама была полна негодования. Во время речей она сидела недалеко от фюрера. «Ах, он всё время кричал, его же просто невозможно слушать!» — она явно не одобряла манеру выступлений Адольфа». Как бы то ни было, но участие в милитаристских детских организациях в начале 1930-х годов привлекало Александра возможностью новых приключений, походов… Став членами детского объединения «Шарнхорст», названного по имени полководца — борца за свободу времён Наполеоновских войн, Алекс с друзьями отправились на велосипедах в поход. Стояла зима. Эриха брат взял с собой, но тот, самый маленький в отряде, скоро выбился из сил, и ребятам пришлось везти его по очереди на раме. Отряд велосипедистов остановила полиция. Гордо отрапортовав, что отряд «Шарнхорст» направляется в поход, ребята неожиданно услышали в ответ: «A-а, антиправительственная группировка!» У власти в Германии тогда ещё были социал-демократы… В 1933 году организация «Юные баварцы», к которой примкнули братья Шморели, превратилась в гитлерюгенд, а «Стальной шлем», членами которой были старшие ребята, реформировалась в СА — «штурмовые отряды». Эриха приняли в гитлерюгенд, а Алекса — в СА, но в марте 1934 года выяснилось, что Шурик ещё мал для этой организации, ему было шестнадцать, и его «вернули» в гитлерюгенд. Алекс ужасно расстроился, что к нему отнеслись как к маленькому, и сделал несколько попыток пробиться в «штурмовики». Особенно ему нравились кавалерийские подразделения. Это удалось, но вскоре наступило охлаждение. Шморель, как и многие сверстники, на первых порах радовавшиеся вступлению в новые организации, вдруг увидел, что это совсем не то, чего ему хотелось бы. Тупое подчинение и муштра как основы построения новых гитлеровских молодёжных объединений делали невозможным личное восприятие природы, разрушали принципы товарищества, сложившиеся в сознании подростка. Аполитичное, но свободолюбивое отцовское воспитание, не лишённое необходимой доли контроля, любви и поддержки, закалило характер Александра, сделало его невосприимчивым к пропаганде национал-социалистических демагогов. Еще задолго до захвата власти Гитлером его партия с присущими ей методами насильственного распространения, запугивания инакомыслящих не вызывала восторгов в семье Шморель. В доме в Ментершвайге, особенно в первые годы, постоянно вращались русские эмигранты, приверженцы царизма, бежавшие от большевиков. Благодаря рассказам родителей, у которых ещё свежи были в памяти ужасы революции и Гражданской войны, у детей тоже формировалось своё отношение к общественным потрясениям такого рода. Эрих хорошо помнил, что когда Гитлер и его движение заявили о «свершившейся революции», то первой реакцией родителей были слова: «Это мы уже однажды пережили». Скептическое отношение родителей к национал-социализму и собственный печальный опыт в гитлерюгенде, осознание того жестокого пути к власти, который этот австриец Адольф прошёл практически на глазах гимназиста Шмореля, создали у Александра неприятие существовавшей в Германии власти. Поэтому арест и расстрел Рёма, командовавшего до 1934 года отрядами СА и ставшего чересчур опасным для Гитлера, стали последней каплей, переполнившей чашу терпения и без того импульсивного подростка. «Мы сидели с друзьями как всегда у нас дома, — рассказывал Эрих Шморель, — когда Алекс, полный возмущения, обрушился с критикой на то, что творит фюрер. Он назвал его убийцей. В этот момент я впервые осознал, с какой внутренней энергией мой брат противился этой системе». Все, знавшие Александра, отмечали его постоянное стремление к свободе и независимости. Родители относились к этому с пониманием, и потому свои отношения с детскими и молодёжными объединениями Алекс регулировал сам. Разочарование в гитлерюгенде не погасило интереса к приключениям. Много времени он уделял спорту, причём с явным успехом. В декабре 1936 года даже был удостоен спортивного значка штурмовиков — нечто вроде нашего значка «ГТО» советских лет. Шурик отлично плавал, вместе с Кристофом Пробстом посещал в Мюнхене уроки фехтования. Однако ни с чем не могла сравниться его любовь к лошадям. Казалось, русская кровь и бескрайние степные просторы Оренбуржья нашли своё выражение в характере юного страстного наездника. Верховая езда относилась к непременным атрибутам каникул, большую часть которых Александр проводил вместе с Пробстами. Потребность в общении была взаимной. Кристоф, или Кристль, как типично по-баварски, уменьшительно-ласкательно звали его близкие, тоже не мог долго быть вдали от друга. «Я бы очень хотел пригласить Алекса провести хотя бы часть каникул в Рупольдинге, — писал он летом 1936 года своей бабушке, — от него нельзя ожидать каких-либо неудобств или неприятностей, от него просто веет гармонией». Эта гармония чувствовалась в единении Александра с природой, в его музыкальности, любви к литературе, философии, искусству. Шурик восхищался произведениями античной Греции и колоссальными скульптурами Родена и Микеланджело. Родители были хорошо знакомы с профессором Преториусом, известным коллекционером и знатоком восточноазиатского искусства. Бывая у него в гостях, Шурик проникся восхищением и этим направлением в мировой культуре. Ему очень нравились рисунки и живопись, исполненные в своеобразной манере. «Мы втроём могли часами торчать в больших и малых художественных лавках, рассматривать картины, листать папки, покупать репродукции, отказывая себе во всём на свете», — вспоминала после войны Ангелика. Александр не был только созерцательной натурой. Получая наслаждение от соприкосновения с произведениями искусства, он старался творить сам. Знакомые всегда говорили, что у него талантливые руки. Шморель неплохо рисовал, увлёкся в более зрелом возрасте скульптурой. Часами пропадая в отцовской мастерской, Шурик делал рамочки или простенькую мебель, переплетал книги. Неоднократно бывая в доме Шморелей, наблюдая, с какой любовью Эрих заправлял переплётный станок собственного изготовления, я невольно ловил себя на мысли, что привитое в родительском доме почтение к книге и десятилетия спустя не даёт покоя Шморелям-младшим. Сложись судьба Александра по-другому, наверное, он тоже сейчас возился бы в своей мастерской, переплетая книжки в подарок близким. В этом они очень похожи — Эрих из нашего времени и Алекс тех лет. По крайней мере, судя по рассказам людей, знавших Александра, книги много значили для него. В родительской библиотеке была представлена вся основная немецкая и русская классика, но русских авторов было всё-таки больше. Достоевский и Пушкин, Тургенев и Гоголь были не просто авторами из школьной программы, каковыми они, к сожалению, стали для многих из нас. Они были учебником, справочником, энциклопедией жизни, к которым Александр обращался в трудные минуты. И сегодня ещё я вижу перед глазами его брата, медленно поднимающегося на второй этаж своей мюнхенской квартиры к стеллажам, до потолка заполненным книгами, и возвращающегося с томиком, уже раскрытым на нужной странице. Любое произведение, вызывавшее восторг Шурика, немедленно цитировалось друзьям. Отсутствие официальных переводов того или иного русского классика ничуть не смущало его. Он с удовольствием садился за лист бумаги и переводил сам, только чтобы донести до близких ему людей мысль, поразившую его воображение. С неменьшим азартом и видимым удовольствием уже Эрих, спустя десятилетия, переводил на немецкий стихи Марины Цветаевой. Не для публикации, а просто так, для себя, для жены, для детей:ВСТУПЛЕНИЕ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
Детство внезапно закончилось. «Отец нации», любимый фюрер и его партия позаботились о том, чтобы переход к взрослой жизни стал для вчерашнего школьника потрясением. Рейху нужны были те, кто стойко переносил все тяготы судьбы. Слабакам не могло быть места в национал-социалистическом раю! В 1937 году Александр получил аттестат зрелости, но право на взрослую жизнь ещё надо было доказать. Весной того года он, не дожидаясь официального призыва, записался отбывать трудовую повинность. Шмореля направили в городок Ванген в Альгое. Впервые в жизни он познал настоящий вкус свободы — лишившись её. После относительно беззаботной жизни в родительском доме, беспрепятственного общения с друзьями, родными, знакомыми Алекс впервые столкнулся с несвободой национал-социалистического общества. Муштра, требование беспрекословного и бездумного подчинения командирам, мягко говоря, не блещущим интеллектом, ежедневный контроль и слежка за всем и вся и отношение к подчинённым как к людям «второго сорта» до глубины души потрясли молодого Шмореля. Быть может, именно там, в Альгое, Александр впервые начал серьёзно задумываться о происходящих вокруг него переменах. В его письмах домой и друзьям были видны уже не подростковый максимализм и сиюминутное гневное осуждение того или иного явления, а тщательный анализ, процесс осмысления событий и своего места в их развитии. «Ты, наверное, удивляешься, что я ни слова не писал о своих впечатлениях и вообще, о моём настроении здесь, в трудовом лагере, — сообщает Алекс в мае 1937 года сестре Кристофа Ангелике. — Это связано с такими трудностями, даже опасностями, что лучше уж обождать. У нас здесь вскрывают письма. Не все, выборочно. Проверяют содержание. Было бы неприятно, если бы они узнали моё мнение о них. Оно как раз не слишком лестное. И потом, они ведь знают, что я родился в России, что я пишу письма по-русски. Потому-то, наверное, мои письма и вызывают их особый интерес. Вдобавок ко всему, командир нашего отделения был на войне шпионом и, как я слышал, именно в России. Он наверняка понимает по-русски. К счастью, я вовремя узнал об этом и писал всегда очень осторожно. Сейчас, когда я уже могу выходить и опускать письма, где захочу, всё стало по-другому, и я могу писать обо всем открыто». «Другая причина, — продолжает Шморель, — почему здесь так сложно подчиняться — в наших «вождях». Ведь если уж ты хочешь быть предводителем, так ты же будь толковее, лучше, но никак не хуже подчинённого! В любом случае ты должен быть выше среднего уровня. Здесь же всё наоборот! У нашего высшего командования — у всех — на лице скорее гримаса диких зверей, а уж никак не человеческое выражение». Во время трудовой повинности, заключавшейся в строительных работах на Йохбергштрассе, у Алекса впервые в жизни не было свободного времени. Лишь изредка ему удавались минуты уединения. Отношения с товарищами по лагерю тоже не ладились — Александр не мог понять их добровольного слепого послушания. Монотонная, бессмысленная работа превращала минуты в часы, часы в дни, дни в недели. Переписка с Ангеликой, общение с которой стало занимать всё больше места в сердце Шурика, стала для него единственной отдушиной в это неуютное и бесконечно долгое время. «Сегодня после обеда ничего не делали. Поэтому я лежу сейчас на уединённом горном склоне. Под рукой мои книги: «Братья Карамазовы» и Толстой, но я лучше расскажу тебе кое-что другое. В прошлый четверг, когда в обед мы направлялись домой, мне внезапно пришла в голову мысль, как великолепно смотрелся бы здесь лесной пожар! И мне вдруг так захотелось увидеть такой горящий лес, взглянуть на гигантское пламя, подивиться его силе и скорости». По словам Алекса, этой же ночью неподалёку в лесу случился пожар. Что это? Предвидение? Или выдумки мучившегося от бесцельного времяпрепровождения парня? Если второе, то это, безусловно, красивая фантазия. Сумасшедшая. Чокнутый? Как говорил Эрих, чокнутый — это уже не посредственность! Новый, очень неприятный, но в то же время очень жизненный опыт, полученный в Альгое, распалил в душе Шмореля пожар ненависти к национал-социализму, к такому немецкому государству. «Я тут недавно включил радио, вдруг начали исполнять Шопена — такую потрясающе необузданную и страстную вещь. Во мне всё негодование и злость вновь поднялись против этого несвободного существования», — делился он своими переживаниями с Ангеликой. Уже в трудовом лагере, хлебнув взрослой жизни «по Гитлеру», двадцатилетний гражданин великого Третьего рейха принял решение навсегда покинуть Германию и обосноваться в России, как только представится такая возможность: «Но и здесь меня не покидает надежда на счастливое будущее. У меня постоянно перед глазами цель — свободная жизнь, и я лишь смеюсь над этими людьми, окружающими меня. Пойми, если бы не отец, то меня давно уже не было бы в Германии. Но что будет с ним, если у него отнимут его практику, а ведь они, безусловно, способны на это в случае моего бегства! Только из-за этого я вынужден терпеть всё». Тёплым августовским вечером Алекс забрался на своё любимое место: под огромной древней елью, особняком стоявшей на горном лугу. Отсюда, из узкой долины, открывался прекрасный вид на бескрайние просторы. Каждый раз, когда он сидел здесь, вглядываясь в торжество багрового заката, его внезапно охватывала такая страстная тоска по родине, по России. Эта непонятная ностальгия становилась всё сильнее. Особенно невыносима она была в последние месяцы. Проклятаятрудовая повинность! Подспудно Алекс сознавал, что называть охватившее его чувство тоской по дому было бы не совсем верно: не так уж много времени провёл он в далёком степном Оренбурге, да и слишком уж мало запомнил он из того, русского детства. Но именно потому ностальгия переполняла всё его существо — это была тоска по той России, которую он придумал, создал в своём воображении. Такой он хотел её видеть, именно такой она ему нравилась больше всего: бесконечно широкая, просторная, населённая простыми, открытыми и честными людьми. Он пытался выразить переполнявшие его чувства на бумаге. «Пойми, — писал он этим вечером Ангелике, — ты вдали от всех, любящих тебя людей этого мира, должен жить среди чужих, непонятных тебе существ, которых тебе никогда не суждено понять и, уж тем более, полюбить. Ты вынужден жить в стране, которая тебе не нравится, и долгие-долгие годы не можешь вернуться. Ни на минуту эта мысль не будет оставлять тебя, она будет сопровождать тебя, куда бы ты ни пошёл, а любовь к этой мысли будет расти внутри тебя, становиться все больше и больше, переполнять тебя до бесконечности. Так растёт моя любовь к России. Никакая страна не сможет заменить мне Россию, будь она столь же красива! Никакой человек не будет мне милее русского человека!» Алекс сидел под елью, вглядываясь в даль, и мечтал. Каждый раз, когда выдавались свободные часы, он вновь и вновь возвращался сюда, погружаясь в эти мечты, подобные сладостной дрёме. По окончании срока обязательной трудовой повинности Шморель сразу же написал заявление о поступлении на военную службу. Ему хотелось как можно скорее разделаться со всей обязаловкой, «раздать долги» ненавистным партии и правительству. Записываясь добровольцем, Александр надеялся, что армейские чиновники учтут его пожелание и он попадёт в кавалерию. Он считал, что верховая езда и общение с лошадьми могли бы скрасить не внушавшие никакого оптимизма грядущие солдатские будни. 1 ноября 1937 года Александр Шморель был призван в батальон конной артиллерии, дислоцировавшийся в Мюнхене, сроком на 18 месяцев. Уже само начало военной карьеры стало для Алекса очередным испытанием. Первые недели — военная муштра, возросшая во много раз даже по сравнению с работой в Альгое, личная несвобода, терзавшие его душевные противоречия — чуть не привели к нервному срыву. Шморель хотел отказаться от принятия традиционной для любого новобранца присяги на верность Гитлеру. В первые дни он ещё надеялся, что свыкнется со своим новым положением, считал, что войдёт в ритм казарменной жизни, но чем больше он думал об этом, тем меньше оставалось шансов на то, что солдатская жизнь обретёт для него какие-то новые привлекательные стороны. Мысль о том, что он, симпатизируя всем сердцем России, стремясь вернуться в страну своего детства, должен будет носить мундир немецкого солдата, казалась ему абсурдной. О возможности войны с Россией, не говоря уже о собственном участии в ней, Александр не мог даже помыслить. О своих сомнениях молодой солдат доложил командиру отделения, подполковнику фон Ланцелю. Произошло это в казарме артиллеристов в присутствии командира батареи и других офицеров. К счастью, инцидент замяли, а высказанное пожелание оставить доблестные вооружённые силы вермахта списали на неустоявшуюся психику новобранца и переутомление. Тем не менее подполковник попросил о встрече с отцом и высказал Гуго Карловичу свои опасения по поводу нестандартных заявлений его сына. В конце концов Александр принял присягу и не заводил больше разговоров об увольнении. Он любил отца и тяжело переживал, если невольно доставлял тому неприятность. Осенью 1937 года Шурик получил открытку от мачехи. Он должен был ехать с отцом в Венецию. Это рушило все планы Алекса, который давно уже мечтал провести отпуск в Целле, у Ангелики. «Конечно, для меня проще всего было бы ответить, что я не поеду в Венецию, — делился он своими сомнениями с подругой. — Но это мне далось бы ещё труднее и болезненнее, чем отказ от Целле. Ещё с весны мама писала, что отец не совсем здоров: у него проблемы с сердцем. Ему становилось всё хуже, и просто необходимо было взять отпуск на четыре недели. Сейчас для него самой большой радостью было бы отправиться вместе со мной в путешествие… Кроме того, это, пожалуй, единственная возможность побыть с ним длительное время наедине». Так скрепя сердце Александр принял решение ехать в Венецию. Уже вскоре после завершения «курса молодого бойца» подразделение, в котором находился Шморель, было поднято по тревоге. 12 марта 1938 года оно оказалось в составе войск, введённых по приказу Гитлера в Австрию. Фюрер провозгласил «аншлюс» — «воссоединение» Австрии с рейхом. Александр, находившийся в составе своего подразделения в районе Линца, вскоре ощутил отношение большей части австрийцев к такому «воссоединению». Реакция населения, мягко говоря, не совпадала с теми картинами всеобщего ликования, которые преподносила официальная пропаганда Берлина. Ещё полгода спустя Алекс принял участие в немецком вторжении в Судеты. Здесь он впервые стал свидетелем того, как жестоко расправлялись с чехами не только солдаты, но и сами судетские немцы. Увиденное ужаснуло его. Сопротивление местного населения частям вермахта однозначно свидетельствовало, что на них смотрели как на оккупантов. «Освободители исконно немецких земель» оказались обычными захватчиками, а парады под девизом «Судеты возвращаются в рейх», прошедшие по городам Германии, — не более чем грандиозным сверкающим пропагандистским шоу НСДАП. Последние шесть месяцев службы Александр посещал школу санитаров. В марте 1939 года, накануне Пасхи, младший офицер Шморель был уволен в запас. Способствовал этому рапорт, из которого явствовало, что Александр намерен поступать в университет, учиться на врача. Собственно говоря, Алекс давно мечтал о профессии, связанной с искусством. Однако в воздухе уже попахивало порохом, и родители всё чаще высказывали опасения за судьбу сына. Поговаривали, что медики в случае мобилизации не должны будут принимать непосредственного участия в боевых действиях, и по настоянию отца Александр пошёл по его стопам. Долгое время, занимаясь историей «Белой розы», я никак не мог понять, что заставило Шмореля оставить Мюнхен и поступать именно в Гамбургский университет. Подвели неважное знание географии и неосведомлённость о том, сколь много стала со временем значить для Алекса связь с сестрой закадычного друга. Однозначный ответ на вопрос, не дававший мне покоя, дал Эрих Шморель: да, именно из-за Ангелики брат отправился через всю Германию на север страны. Только учёба в Гамбурге давала ему возможность чаще встречаться с той, без которой он уже просто не мог жить. Проучившись один летний семестр в непосредственной близости от интерната в Мариенау, где жила и работала Ангелика, Алексу всё же пришлось перевестись в Мюнхенский университет, так как университет Гамбурга просто закрыли. Но ещё до своего отъезда он должен был, как и все студенты, отработать на уборке урожая. Тогда такое участие учащихся в сельскохозяйственных работах было обязательным. Так летом 1939 года на селе он и познакомился с девушкой по имени Трауте Лафренц. Год спустя она, тоже студентка медицины, переберётся в Мюнхен. 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу, развязав тем самым Вторую мировую войну — войну, которую все ждали, осознавая её неизбежность, и которой все боялись. Весной 1940 года Александр был мобилизован и приписан к мюнхенской санитарной роте, в составе которой вскоре и принял участие в походе на Францию. Первый военный опыт потряс Шмореля. Он не мог смириться с тем ужасом, который сеяли его соотечественники на французской земле, с теми бессмысленными и жестокими человеческими жертвами, на которые обрекало людей по обе стороны фронта правительство национал-социалистов. Постоянное унижение человеческого достоинства как врагов, так и собственных подчинённых вызывало у Александра всё больше и больше отвращения к командирам вермахта и политическому руководству Германии в целом. Осенью 1940 года Александр покинул санитарное отделение. Ему как студенту был предоставлен академический отпуск для продолжения обучения. По правилам военного времени Шмореля прикомандировали ко второй студенческой роте Мюнхенского университета. Но несмотря на явную милитаризованность такого образования, это уже было другое, ни на что не похожее время. Алекс вырвался из душного круговорота казарменной жизни, он мог свободно передвигаться и общаться с близкими ему по духу людьми. Теперь можно было не носить ненавистную военную форму, появилось время для музыки и искусства. Александр окунулся в родную стихию и щедро делился с окружающими своими ощущениями, своим восприятием мира. В сентябре после посещения оперы «Князь Игорь» он восторженно пишет Ангелике: «Эта опера совсем не такая, как все остальные! И потом, «половецкие пляски», они, безусловно, очаровали бы и тебя. Для меня это было просто потрясающее событие! Как в полусне я ехал этой же ночью в Мюнхен». И в те дни, и позже Алекс признавался, что для него никогда не имело значения, кто автор того или иного произведения. Важно было лишь, нравится музыка или нет. Это могла быть классика, могла быть современная вещь. Главным и решающим критерием для него было собственное понимание музыки, первое, очень яркое впечатление. А в это же самое время другой студент медицины, по воле фюрера надевший военную форму, писал родителям из соседней Франции, начавшей оправляться от первого ужаса оккупации: «На следующей неделе я хочу сходить в Парижскую оперу, послушать «Кармен». Этого студента звали Ганс Шоль. В конце сентября он вернётся домой. После двухнедельного отпуска его тоже прикомандируют к студенческой роте Мюнхенского университета, но с Александром они познакомятся несколько позже.ДРУЗЬЯ
Рождество 1940 года хорошо запомнилось Эриху Шморелю. Закончился первый семестр, и у Эриха появилось много хороших знакомых. Он уже был знаком с Гертой, будущей супругой, с которой они долгие годы жили в тихом зелёном уголке Мюнхена. Собрались, как водится, в доме родителей. Народу пришло много — около двадцати человек. Шумная весёлая толпа никак не могла договориться, кому же накрывать на стол. Эрих помнит, как Шурик, ненадолго исчезнувший из поля зрения возбуждённых гостей, вдруг появился облачённым во фрак и картинно стал подавать гостям блюда и приборы. Компания веселилась допоздна. Шурик великолепно справлялся со своими обязанностями «официанта», вызывая каждый раз своим появлением бурю восторгов. Гулять закончили далеко за полночь. Трамвай уже не ходил, и после оживлённой дискуссии на тему: ехать домой или заночевать здесь же, где-то в два часа ночи всё-таки решили заказать такси — только для дам. Когда дом уже почти опустел, Эрих обратил внимание на отсутствие брата. Заглянув по очереди во все комнаты, он бросил взгляд на лестницу, ведущую на чердак. Там, на матрасе, вытащенном бог знает откуда, неловко пристроившись на ступеньках, спал утомлённый бурным вечером и обилием спиртного Александр. Первый и последний раз в жизни Эрих видел своего брата в таком состоянии. Последующие дни, а затем и начало года прошли в какой-то неопределённости. Ясно было одно: прикомандированным к студенческой роте разрешали учиться и им нельзя было покидать Мюнхен. К апрелю студентам-медикам позволили ночевать дома, а не в проклятой казарме, которая всем порядком осточертела. Александр встретил это известие со смешанными чувствами. «Снова нужно жить дома! — делился он с Ангеликой. — Ты знаешь, как я люблю отца, но, тем не менее, мне так тяжело оставаться с родителями. Жить постоянно с оглядкой! Даже если они не хотят, да и не могут мне что-либо запретить (попробуй добейся от меня чего-нибудь!), я вижу, как часто они страдают, не говоря при этом ни слова. Это, конечно, из-за того, что я им почти ничего не рассказываю о себе, моих мыслях, планах, потому что они никогда не знают, чем я дышу, что я делаю». Алекс сознавал, что будь он где-то далеко, они могли бы ещё понять, простить это молчание, но замкнутость сына, находящегося рядом, каждый день, была для них тяжким бременем. Однако даже видя всё это, Александр не мог, не хотел меняться. По его собственным словам, он с малых лет был ужасно стеснительный, особенно по отношению к родственникам и знакомым. Всё, что бы Алекс ни делал, было страшной тайной, никому нельзя было посмотреть. Иногда он задавал сам себе вопрос: почему он был таким, почему таким остался? Ему казалось, что он не хотел слышать критики со стороны других людей, не хотел знать их мнения, опасаясь, что оно может помешать его мыслям, фантазии, работе. Он всегда знал, как действовать и что при этом получится. Этого Александру было достаточно. Он делал что-то не для окружающих, а ради них, ради цели, которая всегда была для него ясна. Ему не нужны были люди, они могли лишь помешать. Быть может, поэтому Шморель и замыкался перед ними. Однако жизнь шла своим чередом. Наступила Пасха 1941 года. В семье всегда отмечали православные праздники. Снова, как и год назад, на столе стоял кулич, испечённый няней и освящённый в церкви. Только настроение у Александра было другое: «На этом празднике нужно радоваться, но у меня не получается… Сегодня величайший церковный праздник. Собственно, он начинается в полночь, но ведь сейчас это запрещено. Поэтому праздновали перед обедом». Замыкаясь в себе, Алекс всё чаще обращался к церкви. Видимо, православная служба была для него важным связующим звеном между ним и русской культурой, русским человеком. Именно в церкви он встречался со своими соотечественниками, мысли о судьбе которых всё чаще занимали его. Как-то в очередной раз Алекс пришёл в русскую церковь. Его сердце сжалось, когда он стоял в углу и наблюдал за верующими: «Где Божья справедливость? Где она? По дороге к церкви в пасхальное воскресенье — простой народ, а обыватели уже перед обедом стояли в очередях перед кинотеатром. Вонючий сброд! Почему у этих созданий есть работа, хлеб, кров, родина? И почему всего этого нет у тех, кого я видел сегодня в церкви? Там тоже было много простого народа, но хорошего, отборного! Это же всё люди, которые потеряли Родину, дабы спастись от несвободы. Они много испытали и вынесли только ради того, чтобы не служить проклятой идее. И как раз тот простой народ, который я видел сегодня, он — самое ценное. Нет, они бежали не для того, чтобы спасти свои деньги и драгоценности. Они бежали, чтобы спасти свободу, свою и своих детей. Известен ли ещё хоть один пример, когда такая чудовищная часть народа нашла в себе мужество оставить всё, что она считала своим, и бежать, бежать от неминуемого порабощения?.. Они молятся уже 22 года. Даже сейчас, когда их гонят уже во второй раз, они всё ещё верят, они все опять идут в церковь и молятся, и надеются. Так почему же Господь посылает им, любящим его больше всех остальных народов, столь много тягот, почему судьба так жестока к ним? Детишки трёх-четырёх лет, они стоят на коленях и молятся, целуют лики святых. Неужели недостаточно единственной молитвы такого ребёнка, чтобы простить грехи этого народа? Они стояли предо мной и молились и верили. Разве вера — не высшее благо?.. Найдите народ, покажите хоть одного человека, кто верил бы больше, чем те, которые сохранили веру после 22-х лет бесплодных молитв! Они не верят в справедливость. Но они верят в свою молитву, в то, что Господь услышит её, и они никогда не перестанут верить. И всё же судьба ни к кому ещё не была безжалостна так, как к самым верующим из людей. Пусть у них будет больше всего ошибок, но ведь у них и любовь и вера, несвойственные никому. Не это ли самое ценное? Не отпустятся ли за это все остальные прегрешения?» Алекс стоял в тёмном углу, смотрел на соотечественников, и скупая слеза текла по его щеке. Он не стыдился этого. В апреле и мае его письма Ангелике полны признаний в любви — и ей, и России: «Я люблю в России вечные степи и простор, леса и горы, над которыми не властен человек. Люблю русских, всё русское, чего никогда не отнять, без чего человек не является таковым. Их сердце и душа, которые невозможно понять умом, а можно только угадать и почувствовать, которые являются их богатством — богатством, которое никогда не удастся отнять. И даже если нам не представится возможность взглянуть в глаза этим людям, то они улыбаются нам со страниц романов и рассказов Гоголя, Тургенева, Чехова, Толстого, Лермонтова, Достоевского…» Россия заполняет собой всё воображение Александра. Он обсуждает с Пробстами прочитанные книги, делает переводы наиболее интересных мест из русской классики на немецкий. «Я нашёл кое-что просто изумительное для перевода, — спешит похвастаться друзьям Шморель, — это «Стихи в прозе». Небольшие наброски Тургенева. Я уже заранее радуюсь тому, как нам удастся перевести некоторые из них». Удивительно, но лишь пару лет назад выяснилось, что Александр не просто делал переводы этих текстов на немецкий, он стенографировал их. Курсы по стенографии он окончил во время учёбы в Новой реальной гимназии ещё в марте 1935 года. А сейчас он целыми днями пропадал в Баварской библиотеке, переводя и стенографируя «Работу актера над собой» К. С. Станиславского! Охваченная порывом Алекса Ангелика пытается учить русский язык. Эта идея вызывает у него бурю восторга: «Мой маленький ангелочек, это было бы просто невообразимо прекрасно, если мы могли бы разговаривать по-русски!» Шурик всячески помогал подруге в освоении этого непростого дела. По их замыслу, занятия языком должны были стать небольшим сюрпризом для Кристофа. Сюрприз, однако, преподнёс сам Пробст. В мае он, ни о чём не догадываясь, сообщил сестре, что начал учить русский. Произошла заминка. Удивлённый Алекс решил прояснить ситуацию: «Послушай, Ангели! Неужели ты подумала, что я доверил ему нашу тайну, и он теперь собирается обогнать тебя? Если ты так подумала, то это всё неправда! Он вообще ничего не знал о твоём плане учить русский язык. Просто ему самому в голову пришла такая мысль. Он же читал «Мёртвые души», и они ему так понравились! Вот он и решил…» Замкнутость Александра исчезала там, где он находил друзей, разделявших его взгляды. Он сразу преображался, мог загореться, увлечь за собой. Ещё в конце 1940 года ему доводилось встречаться с Гансом Шолем, прикомандированным после возвращения из Франции к той же самой студенческой роте. Примерно полгода спустя они познакомились поближе, а вскоре и подружились. Ганс был на год младше Александра. Его отец был бургомистром небольшого вюртембергского городка Ингерсхайма. В 1932 году он возглавил бюро доверительного управления по экономическим и налоговым делам в Ульме, куда и перебралась вся семья. Вопреки возражениям родителей, Ганс вступил в гитлерюгенд. Его, так же как и Алекса, манила романтика походов, он гордился принадлежностью к организации молодёжи, объединявшей и тех, кто моложе, и совсем взрослых ребят. Однако через некоторое время Ганса словно подменили. «Запрещено!» — это слово всё чаще стало встречаться в лексиконе предводителей гитлерюгенда. Вдруг стали запрещены любимые песни под гитару. Вот у Ганса отняли книгу Стефана Цвейга — «запрещено»! Любое отклонение от придуманного нацистами шаблона грозило наказанием. Но оставаться серой посредственностью, держать в узде свою энергию, фантазию, душу — было страшнее наказаний. Последний запрет ниспроверг все представления Ганса о гитлерюгенде как достойной организации передовой молодёжи. Об одном из самых больших разочарований брата рассказала Инге Шоль. Её книга «Белая роза», вышедшая в 1951 году, в одночасье сделала популярной группу мюнхенских студентов-антифашистов — не только в Германии, но и за рубежом. Ганс долгое время был удостоен ребятами чести быть флаговым. С друзьями из своего «звена» он смастерил великолепный флаг с вышитым на нём сказочным зверем. Это был особенный флаг: ребята посвятили его фюреру, на нём они клялись в верности друг другу, он стал символом их дружбы. Однажды вечером во время общего построения один из командиров подошёл к двенадцатилетнему Гансу, гордо сжимавшему древко, и потребовал сдать флаг. «Вам совершенно ни к чему свой собственный флаг! Носите то, что предписано!» Ганс был ошеломлён. С каких таких пор? Разве командир не знает, что означает этот флаг для его звена? Это же не тряпка, которую меняют, кому когда заблагорассудится! Требование сдать флаг прозвучало повторно. Ганс не шелохнулся. Когда командир, срываясь на крик, в третий раз приказал немедленно отдать ему «эту самоделку», Шоль не сдержался. Он сделал шаг вперёд и дал командиру звонкую пощёчину. С тех пор он никогда больше не был флаговым. Глубоко разочаровавшись в гитлерюгенде с его бюрократическим управлением извне и национал-социалистическим идеологическим руководством, Ганс вскоре примкнул к уже запрещенному в то время ответвлению молодёжного движения. Организация называлась «dj. 1.11» (Немецкое молодёжное движение от 1 ноября 1929 г.) и существовала в противовес официальному гитлерюгенду. Приверженцы «dj.1.11» выделялись своим особым стилем — в одежде, в песнях, в манере разговаривать. Для них жизнь была большим приключением, экспедицией в неизвестный, заманчивый мир. Они часто ходили в походы, жили в палатках, сидя по вечерам у костра, читали вслух, пели песни под гитару, банджо или балалайку. Ребята собирали песни разных народов и сочиняли свои собственные, они рисовали и фотографировали, делали альбомы о своих поездках и издавали журналы, читали не слишком популярных в нацистской Германии Рильке и Стефана Георге, Конфуция и Германа Гессе, восхищались творчеством Ван Гога и Гогена — в общем, занимались тем, что доставляло им удовольствие и, одновременно, выделяло их в глазах гестапо из общей серой массы. Они не были «посредственностями». «Чокнутые!» — как сказал бы сейчас Эрих Шморель. Прокатившаяся в 1937 году по оппозиционной молодёжи волна арестов стала вторым большим потрясением для девятнадцатилетнего Ганса Шоля. Отсидка в камере гестапо лишь усилила его ненависть к тоталитарному режиму родного государства. В марте этого же года Ганс сдал экзамен в реальном училище в Ульме, после чего был призван сначала отбывать трудовую повинность, а потом в ряды вермахта. После службы в кавалерийском подразделении Бад-Канштата весной 1939 года Шоль начал изучать медицину в составе студенческой роты Мюнхенского университета, куда и вернулся после военной кампании во Франции, где он летом 1940 года участвовал в качестве фельдфебеля медико-санитарной службы. Знакомство с Александром Шморелем переросло вскоре в прочную дружбу. Они вместе готовились к экзаменам, вместе сбегали с занятий по физподготовке. «Стоит только начаться распределению на спортивной площадке, как двое с полным портфелем тут же незаметно исчезают, идут через луг, скрываясь в высокой траве. Портфель открывается, и они посвящают всё время его содержимому. По секрету скажу тебе, — писал Алекс Ангелике, — что там внутри: бутылка вина и книги». Вскоре Александр представил Ганса своему лучшему другу Кристофу — три родственные души нашли друг друга. С этих пор большую часть свободного времени «тройка» проводила вместе. Эта «неразрывная» дружба, как назвал её в одном из своих писем Кристоф, наверное, осталась бы на века: настолько гармоничной и прочной казалась она окружающим. 22 июня 1941 года случилось то, чего в душе все боялись, но мысль о чём даже в разговорах отметали как невозможную. Нападение на Советский Союз, вчерашнего союзника, стало новым поворотом в политике экспансии Третьего рейха. Войну с СССР Александр воспринял как агрессию против собственной Родины и тяжело переживал её. При этом он проводил чёткую границу между Россией или Советским Союзом как страной, как общностью проживающего на её территории народа и большевизмом как господствующей или, вернее, единственной идеологией этого государства. Высказывания на этот счёт будут два года спустя красной линией проходить во всех его показаниях во время допросов в гестапо: «Я вновь хочу подчеркнуть, что в соответствии с моим мышлением и мироощущением я больше русский, чем немец. Тем не менее, я прошу обратить внимание на то, что Россия и «большевизм» для меня вовсе не одно и то же. Напротив, я являюсь официальным противником большевизма. Из-за сегодняшней войны с Россией я попал в довольно сложное положение. Как уничтожить большевизм и предотвратить при этом завоевание российских земель? На мой взгляд, после того, как Германия так далеко вторглась вглубь российских территорий, для России создалась опасная ситуация…» Александр болезненно относился к этой войне и искренне желал России выйти из неё с минимальными потерями. В июле 1941 года Шморель и Шоль отправились на медицинскую практику. Отказавшись от предложенного места в престижной мюнхенской клинике в Нимфенбурге, Ганс поехал вслед за Алексом в городскую больницу района Харлахинг, вне города. «Мне здесь вновь нравится больше, чем в городе. Вкусы всё-таки меняются! — писал Ганс родителям. — Мы сами себя обслуживаем. В больнице есть нельзя… Работаем ежедневно до 14 часов. Потом — свободное время». Друзья проводили эти часы вместе, предаваясь своим любимым занятиям: обсуждали прочитанные книги, ходили на концерты. Александр впервые серьёзно увлекся рисованием. В сентябре он даже начал посещать вечерние курсы частной мюнхенской студии графики в школе искусств Генриха Кёнига «Форма». Там завязалась его дружба с Лизелоттой Рамдор — Лило, как звали её близкие и друзья. Вот как запомнилось ей первое появление Алекса: «Однажды появился новый ученик — Александр Шморель. Он был высокого роста. Открытым сияющим взглядом с тенью лёгкого смущения он окинул студию и выискал себе место сзади, наверху, под маленьким чердачным окошком. Здесь он без труда мог вытянуть свои длинные ноги, так как последний ряд кресел был отделён проходом». Лило сразу обратила внимание на молодого человека, свободно двигавшегося, независимого, импонировавшего, как выяснилось потом, всем художницам в ателье, а Алекс тоже заметил её и после второго занятия вызвался проводить до дома. Сначала Кристоф, а затем и Ганс стали появляться на занятиях по графике. Лило вспоминала, что Ганс обычно сидел рядом с другом на последнем ряду и наблюдал за тем, как Алекс рисует. Лило бывала с ними в небольшом кабачке «Бодега» поблизости от Академии искусств. Разговаривать там можно было лишь вполголоса: нацисты уже приглядывали за интеллигенцией, и неосторожно обронённое слово могло обернуться большими неприятностями. Иногда Алекс с Лило заглядывали в «Ломбарди» на бокальчик вина, и когда уж очень хотелось есть, то по предложению Алекса они брали ломоть чёрного хлеба или булочку. Однажды руководитель школы искусств Кёниг привёл новую модель — некоего Алоиса Питцингера, городского бродягу. Выразительное лицо типичного баварского крестьянина было по достоинству оценено учениками. Сеансы в ателье были короткими, времени не хватало, и Лило с Алексом договорились с натурщиком, что он за небольшую плату будет приходить на дом к Лило. С этих пор они могли встречаться не только в студии Кёнига. Алексу нравилась тишина в доме Рамдор в Нимфенбурге. Несмотря на разницу в возрасте — Лило была старше на четыре года и уже замужем — они всегда находили общие темы для разговоров. Серьёзная беседа сменялась весёлым смехом. Алекс чувствовал себя свободно, мог подурачиться. «Не надо стыдиться, если в голову вдруг приходят детские мысли, — заявил он как-то, когда во дворе выпал свежий пушистый снег, — пошли в сад, сделаем снеговика!» Снеговик у них получился что надо — на радость соседским детишкам. А потребность выразиться в объёмных формах осталась в сознании Александра. Лило Рамдор хорошо помнила, как Алекс не раз повторял, что карандаш слишком мягок для него. Ему хотелось работать с прочным материалом. Глина, камень или даже дерево привлекали его куда больше, чем графический материал. По сути, Шморель хотел попробовать себя в скульптуре. Вскруживший Александру голову Роден вплоть до 1920-х годов считался независимым творцом, осуществившим революцию в пластическом искусстве. Это был гений, перед которым Александр преклонялся. «Источник» — скульптура жены Родена Камилии так потрясла воображение Алекса, что стала, по сути, последним толчком, побудившим его заняться новым видом творчества. Решение посвятить себя скульптуре окончательно созрело. Медицина, к которой у Алекса не осталось симпатий, стала восприниматься как временная необходимость. Одержимый новой идеей, сгорая от нетерпения, Шморель начал брать частные уроки в мастерской мюнхенского скульптора, профессора Карла Баура, параллельно с курсом рисования. В большой светлой комнате родительского дома Алекс соорудил тоже что-то вроде студии и проводил там целые дни, осваивая азы пластического мастерства. В октябре 1941-го, перед началом семестра, студентам предоставили две недели отпуска. Александр и Ганс отправились в поездку по Дунаю, до Вены — буквально из больницы, где проходили практику. По свидетельству Шоля, решение было принято так спонтанно, что «самые светлые умы главврачей Германии и всего мира не смогли бы постичь этого». «Но мы едем, несмотря ни на что, — продолжал Шоль в своём письме подруге Розе Нэгеле, — и ничего не берём с собой, ровным счётом ничего, кроме зубной щётки». Днями позже Ганс послал весточку сестре Софи: «Большой привет из нашей поездки! До Линца мы дошли на вёслах. Оттуда отправляемся сегодня дальше, в Мельк. Там и заканчивается наше путешествие. Как жаль! Твой Ганс». Такому же импульсивному решению друзей по сей день благодарна библиотека католического монастыря Святого Бонифация в центре Мюнхена. Ганс Шоль и Александр Шморель были частыми гостями этого уникального книгохранилища. Когда возникла опасность расформирования монастыря нацистами, друзья были потрясены до глубины души. «И эту библиотеку вы хотите оставить нацистам, святой отец? Никогда!» — воскликнул, по свидетельству тогдашнего хранителя книг отца Ромуальдо Бауэррайса, Ганс. Вместе с Александром они перевезли на велосипедах множество ценных фолиантов из монастырской библиотеки в дом Шмореля. После войны Гуго Карлович передал спасённые таким образом книги назад, в монастырскую библиотеку. В ноябре в Мюнхене вновь начались лекции. По свидетельству очевидцев тех лет, медицина для многих осталась единственной возможностью хотя бы часть времени отдавать учёбе. Поэтому недовольные военным положением собирались как раз в медицинских ротах. И если власть гестапо полностью распространялась на студенческие аудитории, то казармы служили защитой от вездесущих щупальцев партии. Со временем круг знакомств Шмореля, Пробста и Шоля стал стремительно расширяться. Встречи в доме Шморелей проходили в бурных обсуждениях проблем литературы, философии и идеологии. Политика и современность ещё мало кого интересовали всерьёз. Через своего ульмского знакомого Отля Айхера Шоль познакомился с Карлом Мутом, семидесятилетним католическим публицистом и издателем запрещённого недавно ежемесячника «Хохланд». Занявшись составлением каталога личной библиотеки Мута, Ганс получил возможность встречаться и участвовать в беседах с теологами, философами и писателями, отличавшимися своей оппозиционностью по отношению к правящему режиму. Мут, так же как и запрещённый с 1935 года писатель и философ Теодор Хэкер, с которыми благодаря Шолю друзья имели возможность общаться, оказали огромное влияние на формирующееся мировоззрение «тройки». Хэкер и Мут отрицали национал-социалистическую идеологию, несовместимую с их философией и этикой, опирающихся на христианскую мораль. Хэкер видел в фюрере олицетворение зла, угрозу христианской вере: «Тот, кому неважна свобода личности или народа, тот может быть только врагом христианства». Несмотря на своё неприятие национал-социализма, на стремление к изменению общества, они, движимые принципами христианства, отрицали насильственные перемены: «Кто возьмётся за меч, тот от меча и погибнет». В доме Мута Алекс и Ганс познакомились с архитектором Эйкемайером, который по работе часто ездил в страны Восточной Европы. От него ребята впервые узнали об отправке тысяч евреев в концентрационные лагеря, об их массовом уничтожении за линией фронта, о «расстрельных» отрядах СС. По воскресеньям после обеда Алекс бывал у Лило Рамдор. Он приезжал как всегда на своём ржавом велосипеде. «Верный железный конь» мало чем отличался от таких же потрёпанных жизнью велосипедов Лило или Кристофа. Ребята долгое время мечтали о новых средствах передвижения, и Лило как-то долго смеялась, узнав, что Шморель и Пробст за отсутствием денег на такую покупку решили «обновить» свои велосипеды, поменявшись ими. В своих воспоминаниях Лизелотга Рамдор писала, как подолгу беседовала с Александром, как живо они обсуждали интересующие их проблемы — философию, вопросы религии. Часто таким дискуссиям не было конца. Тогда она заметила, что Алекс был очень скромен, всё время старался держаться в тени. Поэтому и узнавала она за чашкой чаю больше о его друзьях — Гансе, Кристофе и сестре Пробста Ангелике. Ганс время от времени приходил посмотреть, как они рисуют. Шоль запомнился Лило как очень молчаливый гость. Он часто сидел с отсутствующим видом, но само участие в процессе, видимо, привлекало его. Во время каждой встречи Алекс приносил какой-нибудь сюрприз: книгу, рисунок, заметку из газеты, свежий анекдот или чай, который любил заваривать сам. Лило помнит, как Алекс доказывал ей, что заварной чайник или кофейник не следует мыть. Он был абсолютно уверен, что уничтожение коричневого налёта на стенках существенно уменьшает аромат завариваемого напитка. Интересно, но это таинство приготовления чая сохранилось в семье его брата, и Герта Шморель тоже лишь ополаскивала чайник чистой водой, оставляя «дух» предыдущих чаепитий на стенках сосуда. В конце 1941 года почти все друзья Алекса обратились к русской литературе. Было ли это умение Шмореля увлечь за собой, или события на Восточном фронте подталкивали ребят к знакомству с русской культурой — неизвестно. Однако Кристоф зачитывался и восхищался Лесковым, Ганс знакомился с Бердяевым и даже рекомендовал его Отлю Айхеру, а вскоре по примеру Кристофа и Ангелики стал брать у Алекса уроки русского. Но не только русскоязычные авторы вызывали восхищение друзей. Шоль и Шморель были без ума от проповедей католического епископа Клеменса — графа фон Галена, весть об антитоталитаристских высказываниях которого стала широко известна в кругу посвящённых. Это была личность! Алекс негодовал: «Почему духовенство отмалчивается? Я не понимаю, почему именно сейчас церковь осталась в тени? Сейчас, когда её место — в первых рядах борцов против военной машины Гитлера». Воспитанный в православной вере, Александр часто ходил в русскую церковь, нетронутую властями несмотря на войну с Советским Союзом, и «предательское поведение» священнослужителей других конфессий до глубины души возмущало его. Это возмущение зрело, ширилось где-то в глубине его необъятной русской души и требовало выхода. Подобные ощущения испытывал и Ганс Шоль, а вскоре это состояние передалось их друзьям.ТАЙНАЯ ПОЧТА
Зима 1941 года изобиловала неприятными, явно не рождественскими сюрпризами как для высшей партийной и государственной элиты рейха, так и для немецкого обывателя. В окружении Гитлера стало очевидным, что вместо быстрой победоносной войны, которую ожидали от вермахта, военные втянулись в зимнюю кампанию, которая не приносила ничего, кроме головной боли. После парада «блицкригов» удары Германии на Востоке потеряли свою элегантность и уж никак не могли претендовать на эпитет «сокрушительные», напоминая скорее возню ослабевшего боксера на ринге, боящегося разомкнуть объятия вокруг соперника, дабы не получить от него удар, и в то же время не находящего в себе силы на атаку. Вместо того чтобы почивать на охапке лавровых венков, фюрер оказался на растревоженном муравейнике, некоторые обитатели которого стали покусывать вождя, в то время как другие высказывали свое гневное возмущение бесцеремонным поведением «великана». Отпускники приносили с фронтов дурно пахнущие вести о масштабе и форме проведения карательных операций СС на оккупированных территориях, о массовых убийствах, депортации евреев и военнопленных. Выяснилось, что теперь и вермахт, всегда брезгливо морщившийся во время рассказов о деяниях эсэсовских палачей, «запачкался», выполняя приказы. Обещанная солдатам победа до наступления холодов скрылась, замаячив было вдали. Отпуска домой в срочном порядке отменялись «в связи с изменившимся положением». Акции по сбору зимних вещей по принципу «тыл — фронту» и введение ограничений на продажу товаров народного потребления едва ли вызывали чувство оптимизма у граждан «великого рейха». И без того волнующую обстановку на Восточном фронте усугубило объявление войны с Соединёнными Штатами от 11 декабря. В январе 1942 года Александр встретился с Лило. Тем для разговора хватало: война с Америкой, изменившееся настроение в обществе, и тут Александр перешёл почти на шёпот — «Тайная почта!». Размноженные на гектографическом аппарате листки с текстами проповедей епископа Клеменса попали в те дни в почтовые ящики многих из знакомых Шмореля. У Ганса тоже нашёлся экземпляр. Незадолго до этого его отца арестовало гестапо, и семья была взбудоражена этим событием. Случилось так, что в разговоре со своими сотрудниками Шоль-старший назвал Гитлера «бичом божьим». О дерзости донесли. В день обыска и ареста все присутствующие члены семьи остро ощутили свою ничтожность перед лицом машины этого государства. «Доколе?» — не давала покоя крамольная мысль. Облечь эту мысль в слова, слова закрепить на бумаге — на это требовалось большое мужество. Уже в наши дни исследователи деятельности антифашистской группы «Белая роза» долгое время не находили однозначного ответа на вопрос: кто же стоял у истоков? Кто набрался мужества первым написать то, о чём думали остальные? Единственные, кто знал ответ наверняка, погибли под топором палача. Протоколы допросов гестапо были вывезены в Москву, и доступа к ним не было. Книга Инге Шоль — сестры Ганса и Софи, впервые поведавшая миру о деятельности «Белой розы» и ставшая своеобразной «классикой» литературы о студенческом Сопротивлении в годы Второй мировой войны, к сожалению, распространила лишь субъективное и, как потом выяснилось, в корне неверное суждение об авторстве в этой опасной затее. Утверждение Инги Шоль о том, что четыре из пяти текстов листовок были написаны Гансом, а остальные участники группы присоединились лишь позже, не находило документальных подтверждений, но и не могло быть опровергнуто в те годы. Ветер перемен, принесённый Михаилом Горбачёвым и перестройкой, развеял дымку секретности над архивами военных лет. В Москве и Берлине «нашлись» дела членов группы, которые наконец-то пролили свет на истинное развитие событий тех далёких дней. Сопоставление показаний Ганса Шоля и Александра Шмореля на допросах в гестапо, несмотря на попытки каждого взять на себя 66линую часть вины, однозначно свидетельствуют о том, что первые четыре листовки движения Сопротивления «Белая роза» были написаны Алексом и Гансом. Вместе! Эти тексты появились несколько позже, весной, а пока на дворе стояла зима 1942 года, и Алекс часто пребывал в подавленном настроении. Напомним, что ещё раньше Ганс познакомил его с художником Манфредом Эйкемайером, который постоянно находился в разъездах и потому предоставил ребятам своё ателье для встреч с друзьями и вечеринок. От него Александр впервые услышал о еврейских гетто, о систематическом истреблении людей этой национальности. Все эти рассказы лишь утверждали Шмореля в мысли, что Гитлер и всё его окружение подвержены какой-то особенно опасной форме психоза. Ужасно было то, что множество военачальников слепо следовали приказаниям этих маньяков. А может быть, не так уж и слепо? Быть может, в них проснулось их собственное, ранее старательно прятавшееся от окружающих «Я»? Может, исполнение кошмарных приказов вполне соответствовало их внутреннему пониманию своей роли в истории? Все, кто встречался в начале 1942 года с ребятами, пытались потом вспомнить какие-либо намёки, штрихи в поведении, которые могли бы, пусть даже косвенно, указать на запрещённую деятельность студентов медицины. При этом кто-то ошибался, придавая несуществовавший смысл высказываниям, взглядам, жестам, с кем-то сыграла злую шутку память, исказив за десятилетия реальные события и факты. И никто теперь не в силах сказать, как это было на самом деле. Годы спустя после окончания войны Лило Рамдор так писала о дне «X»: «Я никогда не забуду, как узнала о первых часах существования «Белой розы». Алекс был у меня дома буквально несколько секунд. Он не стал садиться. Встав посреди комнаты, он начал говорить. Взор его был направлен на меня. Он тихо и не очень связно рассказывал о пассивном сопротивлении и о том, что сделан первый шаг. Алекс был рад тому, что наконец-то было положено конкретное начало. Он хотел знать, что я думаю по этому поводу». Лило напомнила об опасности, которой он подвергал себя, и о неминуемых последствиях подобных действий. Как бы то ни было, но страсть к приключениям, целеустремлённость Ганса и Алекса подвели их к той грани, за которой начинались серьёзные поступки, требовавшие взвешенного подхода, большого личного мужества и неординарности мышления — «Чокнутые?!». В поисках душевного равновесия Александр погружался в мир искусства. Его посещения ателье Кёнига стали реже, но дома он интенсивно занимался рисованием. Как-то Алекс познакомился с парнем лет двадцати, который привлёк его внимание особой слаженностью пропорций. Лучшей модели для рисования нельзя было представить! Новый знакомый не был ограничен во времени, и они могли работать целыми днями. Кроме того, он пообещал Александру найти ещё нескольких подходящих натурщиков. Шморель с радостью поделился своей творческой находкой в письме Ангелике Пробст. Каждый день в шесть утра Александр поднимался, чтобы к восьми, когда приходил натурщик, были завершены все приготовления. А потом — «потом начинается замечательная работа — знакомство с человеческим телом, анатомическое проникновение в суть каждого движения — сколько работы! Такпостепенно учишься смотреть и видеть. Какое счастье доставляет всё это!» — писал он Ангелике. Очень часто Алекс пропадал в своей импровизированной мастерской, работая с глиной. Он долго трудился над скульптурным портретом своего любимого композитора. Голова Бетховена была слеплена по портрету Леонида Пастернака. Это своё первое значительное произведение пластического искусства Алекс запечатлел на фотографии и очень гордился им. Он любил Бетховена, особенно Концерт для фортепиано № 5 и Седьмую симфонию. Как-то после одного из концертов Баха Александр заявил: «Опять я получил от Баха не то, что хотел. Я слишком сильно люблю Бетховена, чтобы понимать ещё и Баха. Для него у меня просто уже не осталось места». Постоянно переписываясь с Ангеликой, делясь с ней самыми сокровенными мыслями и желаниями, Александр много времени проводил и в обществе Лило Рамдор. Несмотря на разницу в возрасте, они хорошо понимали друг друга. Тяга к искусству и общие взгляды на общественно-политические события того времени служили благодатной почвой для непрекращающихся дискуссий. Тайн друг от друга не было. Почти. Связанный договорённостью с Гансом, Александр старался не распространяться о том, что друзья затевали. Пассивное сопротивление — в какой форме? — пока было их тайной и не должно было нанести вреда ни родным, ни друзьям, ни знакомым. Сколько себя помнит Лило, в семье Шморель при ней никогда не говорили о войне и политике. Алекс просил её тоже не заводить подобных разговоров в семейном кругу. Ужасный пример Шолей, отец которых всё ещё находился в гестапо, заставлял задумываться, что, когда и кому можно доверять, а о чём лучше промолчать.












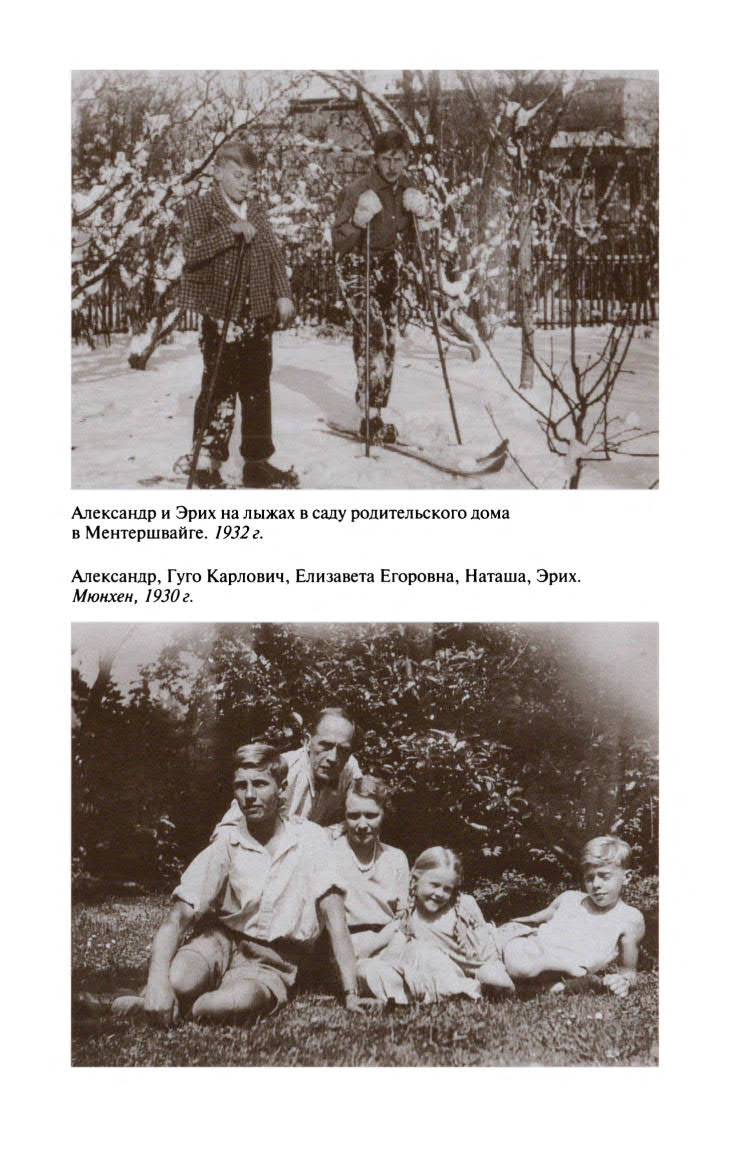

 Учитывая возможные последствия, Александр очень беспокоился о своём лучшем друге детства. В начале 1942 года, да и во время последующих акций уже сформировавшейся группы «Белая роза», Кристофа, к тому времени уже отца большого семейства, старались беречь, не допускать его до особо опасных акций, что, впрочем, удавалось не всегда. После рождения второго сына Кристоф пригласил Алекса в качестве крёстного. Проникшись ответственностью возложенных на него обязанностей, Александр обеспокоился из-за отсутствия подобающего случаю наряда. Он обязательно хотел присутствовать на крестинах в национальном баварском одеянии. Кожаные штаны у Алекса были, а вот традиционный элемент местной одежды — такие же кожаные подтяжки — заставили его попотеть. Целый день он промотался по городу на велосипеде в поисках желанной детали гардероба, пока, наконец, не нашёл подходящее.
В назначенный час крёстный отец появился во всей красе и со знанием дела участвовал в церемонии крещения, которую Пробсты заказали в небольшой капелле где-то в районе Мурнау.
Как-то после очередного занятия по рисованию Алекс и Лило заехали в «Остерию». Заказав, как обычно, красное вино и по кусочку хлеба, они сидели напротив друг друга и разглядывали окружающих. «Внезапно тяжёлая тёмно-зелёная портьера открылась, — вспоминает Лило, — трое мужчин в униформе вошли в ресторанчик. Присутствующие спонтанно приподнялись со своих мест. С грохотом отодвинулись стулья, и все сделали шаг вперёд, подняв руку в приветствии. «Вот он», — прошептал мне Алекс. Адольф Гитлер, сопровождаемый охраной, пересёк помещение и занял самое дальнее место за свободным столиком у задней стены ресторана. Разговоры прекратились. Можно было почувствовать дыхание гостей за соседним столом.
В помещении находился демон. Алекс, словно окаменев, сидел рядом со мной. От его веселья не осталось и следа… Официанты сновали вокруг стола. Трое мужчин казались немыми. Гитлер вообще не открывал рта. Мне казалось, что он и телохранители рассматривали каждого присутствующего. Народ начал потихоньку переговариваться. «Что-то здесь неуютно стало, да и серой запахло», — прошептал Алекс. За соседним столиком кто-то рассмеялся. «Видишь, услышали», — мы быстро рассчитались и выскочили. Вздохнули, лишь оказавшись на свежем воздухе. Алекс вытащил свою трубку из кармана куртки и зажал её между зубами, не раскуривая, что дополнило его облик». Гитлер не произвёл на них особого впечатления. И в то же время они осознавали, что этот невзрачный человек может делать с ними всё, что захочет. Люди для него — человеческий материал, марионетки. ««Вот так, Лило, — сказал Алекс, — теперь наше ремесло — убивать! Нет, только без меня. Бедная Германия, бедная Россия!»
Александр никогда не забывал о России. Как считала Лило, будь Алекс сыном двух немцев, еще неизвестно, стал бы он столь активно участвовать в Сопротивлении. Свидетельством тому были и колебания Шмореля по этому поводу. Но мысли о русских братьях и сёстрах, стремление помочь им требовали активных действий. Всё чаще он возвращался к рассказам о своих земляках. «Вчера вечером, — писал он в мае Ангелике, — мы были с отцом в «Прайзингпале». Мы заказали две бутылки бесподобного рейнского, 1937 года, поздний сбор. Папа рассказал потрясающую историю, которая произвела на меня сильное впечатление. Адмирал Колчак остался после убийства царя регентом российского престола и верховным главнокомандующим белой армии в борьбе против красных. Чехи, находившиеся в России и принявшие было его сторону, предали Колчака, и тот попал в руки красных. Его должны были расстрелять, но перед расстрелом он так мужественно вел себя, что красноармейцы, которые должны были сделать это (представь себе, люди, которые превратились в бестий) — они отказались стрелять! И тут — сейчас будет самое впечатляющее из всего слышанного мной когда-либо ранее — Колчак приказал им стрелять! Лишь тогда они выстрелили… Каким нужно быть человеком, какого необычного мужества! Меня это потрясает каждый раз, когда я об этом думаю». Мог ли Шморель представить себе тогда, что его собственное мужество и мужество его товарищей будет потрясать воображение тысяч людей десятки лет спустя?
В мае 1942 года Ганс и Александр приняли окончательное решение, в какой форме они смогут оказывать сопротивление ненавистному режиму. Рассказ Алекса об этом зафиксируют чуть меньше года спустя, 25 февраля 1943 года, бесстрастные строчки протокола допроса в мюнхенском отделении тайной государственной полиции (гестапо): «Летом 1942 года я и Ганс Шоль договорились издавать листок антинационал-социалистического содержания. Каждый из нас занялся изготовлением своего проекта, которые мы потом сравнили. Результатом такой концепции и стала листовка «Белая роза». Высказывания Ганса на допросе подтверждают слова Александра: «Набросок мы делали вместе. Идея была моя. Шморель сразу же заявил о своей готовности к сотрудничеству». Кроме готовности к действию ребятам предстояло решить ещё ряд технических проблем: нужны были пишущая машинка и множительный аппарат. С машинкой сложностей не возникло: Александр одолжил её у своего старого школьного знакомого Михаэля Пётцеля, жившего неподалеку от дома Шморелей. По иронии судьбы пребывавший в полном неведении относительно целей использования своего имущества Пётцель принадлежал к СС. «Я знаю Александра Шмореля с детства, поскольку он живёт неподалёку от дома моих родителей, — давал он показания по делу «Белой розы» в мюнхенском гестапо 10 марта 1943 года, — мы вместе ходили в среднюю школу, правда, в разные классы, так как Шморель на два года старше меня. Насколько я могу припомнить, Шморель брал у нас на время пишущую машинку марки «Ремингтон портэбл», фабричный номер неизвестен, где-то полтора года назад. Я не знаю, у кого точно. Мне кажется, что он брал её для перепечатывания стихотворений. Он часто рассказывал, что переписывает стихи. Я лично никогда не давал пишущую машинку Шморелю. Однако моя мама и мой младший брат всегда сообщали мне, когда Шморель брал машинку взаймы». Понимая, чем могла обернуться такая «услуга» для соседа, Александр на допросах неоднократно подчёркивал, что не посвящал Михаэля в свою незаконную деятельность и объяснял необходимость печатных работ университетскими заданиями.
Несколько сложнее дело обстояло с множительным аппаратом. Ещё в начале года Александр как-то мимоходом поинтересовался у Лило, как она делала копии своих офортов, нет ли у неё ручного копировального аппарата. На прямой вопрос, зачем ему это нужно, Алекс замялся. Чувствовалось, что ответ ему даётся нелегко. Он спешно скомкал тему. В мае, когда план действий созрел, Александр просто купил множительный аппарат и поставил его у себя дома. Уже тогда в Германии гектографы были в каждой школе, и учителя использовали их для копирования домашних заданий ученикам, поэтому покупка такой техники не вызывала подозрений. Теперь, когда технические предпосылки были созданы, ребята серьёзно взялись за дело. Разработав независимо друг от друга две концепции первой листовки, Ганс и Алекс сравнили их, творчески переработали и озаглавили получившееся произведение «Листовки «Белой розы». Сейчас уже никто не сможет сказать, почему это была именно роза, почему она была белой. Рассказы друзей и близких, некоторых очевидцев деятельности этой группы, едины в одном: название было выбрано почти произвольно. С таким же успехом это могли быть «Молодая гвардия» или «Белый орден». На одном из допросов Ганс Шоль подтвердил, что искал лишь благозвучное понятие, символ. По его мнению, такое название могло ничего не значить само по себе, но становилось мощным идеологическим фактором, если за ним появлялась какая-то программа.
Так на квартире Шморелей появилась первая сотня антиправительственных листков. Читателями стали знакомые и незнакомые мюнхенцы, чьи адреса ребята выписали из телефонного справочника. Листовки отправили по почте — все сразу, сдав их для массовой рассылки. Никто не таился и не прятался, не подсовывал листки по ночам соседям в почтовые ящики. Первая акция Сопротивления прошла на удивление буднично — сто конвертов просунули в окошечко почтового служащего, заплатили деньги, забрали сдачу и… стали ждать результатов. Отзывы от друзей не заставили себя ждать. Никто не догадывался о занятии Ганса и Алекса, но по стилю некоторые почувствовали знакомые мысли. Не были исключением и родственники самих авторов.
Время от времени семейство Шморель навещала Ольга, сестра мачехи Александра. Её муж Франц Монхайм был владельцем крупной кондитерской фабрики «Трумпф» в Аахене. Приехав в очередной раз в Мюнхен на Рождество 1942 года, она поведала родне, что летом получила по почте листовку «Белой розы». Александр невозмутимо выслушал историю, посчитав комментарии излишними. Родители тоже не возвращались к этой теме. Этот случай всплыл значительно позже, после ареста, и Шморелю пришлось давать по этому поводу пространные показания. Листовку посылал, конечно же, он сам. Как бы то ни было, но и пребывавшие в неведении и догадавшиеся об авторстве листовок друзья высказывали своё мнение. Одни были за, другие — против, но первых, очевидно, было больше, и новоиспечённые подпольщики, проанализировав отклики, пришли к выводу: акция удалась!
Неожиданное свидетельство о событиях тех дней попало недавно — подумать только, в год 100-летия Александра! — из Сан-Франциско в Оренбург. В большом видеоинтервью, записанном с княжной Еленой Борисовной Шаховской-Хрущёвой в феврале 2014 года, она, пережившая русскую эмиграцию из Крыма в Галлиполи, затем в Белград и оказавшаяся волею судьбы в Мюнхене в 1942 году, вспоминала Шурика, который был младше её на год. Со своим первым мужем Андреем Петровым — сыном Елены Егоровны Гофман — они некоторое время жили в доме Шморелей в Ментершвайге. И «тётя Лиля» — Елизавета Егоровна, и свекровь великолепно приняли её в свою семью. По-видимому, доверительные отношения сложились и с Шуриком, о котором Елена Борисовна вспоминала с восторгом и восхищением. «Как-то он нас с Андрюшей позвал наверх, в свою комнату. Там на столе лежали кипы серых листков. «Вот, Алёнушка, это листовки против Гитлера, нам это всё надо распространить». Такое Александр Шморель мог сказать только очень близкому человеку.
После первой же рассылки ребятам стало известно, что некоторые из адресатов сдали полученные письма в гестапо, но это уже не могло их остановить.
«Тайная почта», как называл её Александр, была рассчитана в первую очередь на немецкую интеллигенцию. Она должна была подтолкнуть высокообразованные круги к осознанию необходимости Сопротивления. Язык текстов полностью соответствовал поставленной задаче. Яркая публицистика с цитатами из классиков являла собой полную противоположность жёсткому идеологизированному стилю национал-социалистической пропаганды. Расчёт делался на то, что адресаты станут распространителями мыслей «Белой розы», что они будут «просвещать» своих знакомых, учеников, клиентов. В списке гестапо среди получателей значились преимущественно писатели, профессора, директора школ, книготорговцы и врачи. К сожалению, список этот в массе своей состоял как раз из тех, кто из верноподданнических чувств или из страха посчитал необходимым доставить полученный экземпляр в гестапо.
Ганс и Алекс стремились добиться популярности листовок: о «Белой розе» обязательно должны были заговорить в городе! Поэтому часть текстов шла в адрес владельцев кафе и баров, продовольственных магазинчиков и пивных. Где, как не в этих заведениях, мог функционировать «народный телефон»? Откуда ещё с такой скоростью должны были расходиться сплетни и слухи? Чтобы удостовериться, что «тайная почта» не оседает в недрах гестапо и не пропадает за время доставки, несколько листовок они послали сами себе. Система работала!
Ещё в начале мая в Мюнхен переехала сестра Ганса Софи. До этого она жила в Ульме. До выпуска в 1940 году Софи училась в средней школе для девочек. Школьницей она тоже была в гитлерюгенде, а затем в «Союзе немецких девушек». После ареста её братьев и их друзей в 1937 году отношение Софи к гитлеровским организациям резко изменилось. Зная об оппозиционном настрое отца по отношению к Гитлеру, она больше внимания стала уделять знакомствам из среды единомышленников. Чтобы уклониться от трудовой повинности, Софи попыталась отработать «авансом» воспитателем детского сада, но уловка не удалась. Наконец в мае 1942 года она поступила в Мюнхенский университет, где начала изучать биологию и философию. Первое время она жила на квартире у Карла Мута. Ганс познакомил её со своими друзьями, в первую очередь с Александром. В этот узкий круг входила и Трауте Лафренц, с которой Алекс подружился в Гамбурге. Он же и свёл её ещё в мае 1941 года с Гансом Шолем. Бурный роман Ганса с Трауте ни для кого не был секретом, но когда его внимание летом 1942 года внезапно переключилось на подругу Софи Гизелу Шертлинг, то гармония в группе всё же нарушилась. Кристоф Пробст с летнего семестра тоже продолжал учёбу в Мюнхене. Компанию единомышленников органично дополнил присоединившийся к ней в июне Вильгельм Граф.
Вилли, как звали его друзья, родился в городке Кухенхайме, неподалеку от Ойскирхена, но детство его прошло в Саарбрюккене, где отец был управляющим большим оптовым виноторговым предприятием. Мальчик воспитывался в строгой католической атмосфере и был членом школьного католического союза «Новая Германия». После роспуска национал-социалистами религиозных молодёжных объединений Вилли вступил в союз «Серый орден», члены которого искали собственные пути развития, пытались повлиять на реформу католической церкви. Для молодых людей всё яснее становилась несовместимость идеологии фюрера и христианства, и, осознав это, они считали необходимым противостоять режиму. Несмотря на все уговоры и угрозы, Граф так и не вступил в гитлерюгенд. В 1937 году он окончил гуманитарную гимназию. Особый интерес проявлял к немецкому языку и религии, истории и географии, позднее — к греческому языку и музыке. В январе 1938 года Вилли Граф был арестован на три недели за участие в запрещённых собраниях, походах, летних лагерях. Вместе с другими семнадцатью членами «Серого ордена» он предстал перед особым судом города Мангейма по обвинению в «союзных происках». К счастью для него и друзей, дело было вскоре прекращено по амнистии в связи с «присоединением» Австрии.
После отбытия трудовой повинности зимой 1937 года Вилли начал изучать медицину в Боннском университете. В январе 1940 года его призвали на службу в вермахт в качестве санитара. В отличие от Ганса и Алекса, тянувших солдатскую лямку на Западе, Вилли воочию убедился во всех тех ужасах войны, о которых ребята знали лишь понаслышке: ему довелось побывать в Югославии, Польше и России. В январе он пережил тяжёлое отступление 4-й танковой армии из-под Москвы, в хаосе которого впервые во всей полноте столкнулся с реалиями боевых действий. В апреле он получил возможность продолжать обучение в университете и немедленно вылетел из Гжатска, где дислоцировалась его часть, в Германию. По прибытии в Мюнхен его зачислили во вторую студенческую роту, и за пару месяцев Граф успел познакомиться и сдружиться с Александром, Кристофом, Гансом и Софи. Постепенно расширявшийся круг друзей по давней традиции собирался в доме Шморелей. Здесь ребята читали и обсуждали теологические, философские произведения, играли на рояле, знакомились с русской литературой — переводной и в подлиннике — «для отдохновения души», как скажет потом Александр. И всё же, несмотря на тесные, доверительные отношения, ни Алекс, ни Ганс не считали пока возможным посвятить друзей в свою тайну.
Окрылённые первым успехом, Шморель и Шоль сочиняют вторую, а за ней третью и четвёртую листовки. За очень короткий срок — где-то между 27 июня и 12 июля, то есть чуть больше двух недель, «тайная почта» разошлась по адресатам. «Печатное производство» и «редакция» располагались в доме ничего не подозревавших родителей Александра. «При изготовлении и распространении листовок «Белой розы» второго и третьего выпуска мы действовали таким же образом, — давал показания Шморель, — поэтому и эти два выпуска я считаю моей и Шоля интеллектуальной собственностью, Мы делали их вместе. Мы вели себя в доме моих родителей, где у меня на третьем этаже есть собственная комната, так, что они не могли ничего заметить». Во всех четырёх листках немецкая «культурная нация» и интеллигенция обвинялись в том, что позволяли «безответственной и предающейся сомнительным влечениям клике властителей» править собой. По мнению «Белой розы», они становились пассивными соучастниками гитлеровских преступлений. «Немец, — гласила вторая листовка, — должен ощущать не только сострадание, нет, значительно больше: соучастие. Ведь своим апатичным поведением он даёт этим сомнительным людям возможность действовать, он терпит это правительство…» Призывы к пассивному сопротивлению, к просвещению окружающих о сущности «демона», «посла Антихриста» — Гитлера, приносящего в жертву молодое поколение страны, становились от листовки к листовке всё громче и настойчивее. В одном из текстов Александр сформулировал чёткое и ясное руководство к действию: «Смысл и цель пассивного сопротивления — свалить национал-социализм… Этому негосударству должен быть подготовлен возможно более быстрый конец: победа фашистской Германии в этой войне имела бы непредвиденные ужасающие последствия… Саботаж на оборонных предприятиях… во всех печатных изданиях, всех газетах, финансируемых правительством… Не жертвуйте ни одного пфеннига во время уличных сборов… Не сдавайте ничего во время сбора металлолома и пряжи!» Около года спустя, на первом же допросе в гестапо, Александр повторит эту мысль: «В то время мы видели в так называемом пассивном Сопротивлении и саботаже единственную возможность сократить эту войну».
Часть второй листовки, авторство которой историки бесспорно закрепили за Александром, стала единственным до 1942 года известным протестом немецкого движения Сопротивления против геноцида еврейского народа: «Нет, не о еврейском вопросе хотели мы написать в этом листке, не сочинить речь в защиту евреев — нет, только в качестве примера мы хотели привести тот факт, что с момента завоевания Польши триста тысяч евреев в этой стране были убиты самым зверским способом. В этом мы усматриваем ужасающее преступление над достоинством людей, преступление, которому не было равных во всей истории человечества. Евреи ведь тоже люди — как бы мы ни относились к еврейскому вопросу — и над людьми было совершено такое!» С детства, ещё с чаепитий генерала Сахарова в родительском доме, не переносивший антисемитских высказываний, Александр очень болезненно воспринял введение нацистами «расовых законов», обязательное ношение «звезды Давида» лицами еврейской национальности, погромы еврейских магазинов отрядами СС и штурмовиками. Друг Алекса, болгарин армянского происхождения Николай Гамасаспян, приехавший в Германию как раз в то безрадостное время, вспоминал реакцию Шмореля: «Сначала он рассказал мне об этом еврейском погроме, что это бесчеловечно, когда они не имеют права садиться в автобус, когда они должны ходить пешком, и всё это со звездой, с жёлтой звездой». Рассказы друзей и знакомых, побывавших в Польше и России, дополняли картину одного из ужасающих преступлений Третьего рейха против человечества. Довести свои знания до соотечественников, взбудоражить общественность, затронуть что-то в душе каждого немца — вот к чему стремились двое студентов, рассылая заветные письма сотням знакомых и незнакомых людей. «Мы не молчим, мы — Ваша нечистая совесть. «Белая роза» не даст Вам покоя!»
Распространение листовок совпало с массовыми бомбардировками немецких городов. То и дело воздух разрывал протяжный вой сирен. Не проходило дня без объявления воздушной тревоги. Первый грандиозный налёт на Кёльн в ночь с 30 на 31 мая 1942 года потряс воображение немцев. Тысяча бомбардировщиков превратила цветущий город в груду развалин. Теперь уже не только военные, но и гражданские цели становились объектом вражеских бомбардировок. Население городов было охвачено страхом, но ещё неизвестно, какой враг — в воздухе или в почтовом ящике, явившийся в виде «тайной почты», был для людей страшнее всего. Листовки «Белой розы» появлялись не только в Мюнхене, но и в его окрестностях, в небольших баварских городках. Позже они дошли и до Ульма, Штутгарта, Зальцбурга, Регенсбурга и Вены. Ганс и Алекс трудились не переставая, но со временем держать в тайне от друзей такой объём работы стало невозможно. По свидетельству Лило Рамдор, в начале июня в руки Трауте попала листовка, адресованная кому-то из её домашних. Некоторые цитаты из Лао-цзы показались ей подозрительно знакомыми. Совсем недавно она слышала эти самые слова от Ганса в аналогичном контексте! Вскоре и Софи, заглянув в подвал архитектора Эйкемайера в поисках Ганса, застала обоих друзей за работой. Она сразу же всё поняла и охотно вызвалась помогать. Так, волею случая, две девушки подключились к опаснейшему занятию, от которого Алекс и Ганс пытались оградить их столь долгое время.
Ребят заботили в первую очередь проблемы, связанные с множительной техникой — гектографический аппарат, приобретённый Алексом, был слишком изношен и явно не рассчитан на те нагрузки, которым подвергали его юные антифашисты. В силу различных причин конспиративного характера он часто менял «прописку»: Александру приходилось таскать его по городу в чемоданчике — из дома родителей в ателье Эйкемайера и назад. Иногда гектограф «останавливался» инкогнито на ночь у кого-нибудь из друзей. С пишущей машинкой проблем не было: её Алекс брал по мере необходимости всё у того же Михаэля Пётцеля. На первых порах не доверялась девушкам и отправка корреспонденции, коробки с «тайной почтой» Шоль и Шморель возили сами. Они же разносили запечатанные конверты по адресам или по почтовым ящикам. В задачу Софи и Трауте входила добыча расходного материала: бумаги, конвертов, марок. «Пора военного дефицита, — рассказывала мне Герта Шморель, обаятельная, бойкая супруга Эриха, — была в самом разгаре. Почти все товары отпускались с ограничениями: не больше нескольких килограммов, штук, пачек в одни руки. Каких-то вещей с начала войны в продаже не было вовсе». Отсутствие конвертов восполнялось сложенными определённым образом письмами — по типу полевой почты. Почтамты не отпускали больше десяти марок на человека. Для отправки сотен листовок девушкам приходилось обходить десятки почтовых отделений и покупать марки частями. С бумагой тоже были проблемы. В учебных заведениях её выдавали строго по норме. Герта хорошо помнит, что для выполнения домашнего задания каждый получал определённое число чистых листков. Поэтому любая попытка Софи и Трауте купить больше марок, взять больше бумаги вызывала ненужные вопросы, привлекала внимание и грозила провалом.
Одним из адресатов «тайной почты» был профессор философии Курт Хубер. Он родился в Швейцарии в семье немцев, которые несколько лет спустя переехали в Штутгарт. Остаточные явления перенесённой в детстве болезни искажали лицо, сказывались на конечностях профессора, наложили отпечаток на его речь, но не помешали ему добиться признания в области философии и музыковедения. В 1921 году в Мюнхене Хубер стал доктором философии, в 1926-м — получил должность профессора. С 1925 года по поручению немецкой академии он начал собирать старые баварские народные песни. Когда ему отказали в должности руководителя одного из подразделений Берлинского государственного института музыкальных исследований, профессор всё же получил возможность преподавать курс экспериментальной психологии, звуковой и музыкальной психологии в Мюнхенском университете. В 1940 году Хубер вступил в НСДАП, хотя впоследствии стал открыто высказывать своё несогласие с культурной политикой партии.
И Алекс, и Ганс слышали о профессоре Хубере. Он часто выступал на встречах, дискуссионных вечерах. Ещё в апреле Шморель довольно пренебрежительно отзывался о таких лекциях: «Сегодня вечером у фрау Мертенс выступает философ. Хубер из университета. Я не пойду — эта атмосфера мне последний раз что-то мало понравилась. Да и что я, собственно, забыл у какого-то философа?» Но при знакомстве Ганса с профессором впечатление стало иным. В июне друзья неоднократно встречались с Хубером. Одна из встреч проходила в доме Шморелей. Говорили и спорили о многом, но в те дни ребята ещё не были готовы открыто заявить о своей тайной борьбе. Для протокола Александр даст впоследствии нейтральные показания: «На встрече в квартире родителей в начале лета кроме проф. Хубера, брата и сестры Шоль, Лафренц и Шюттекопф был ещё доктор Генрих Эллерманн… Разговор шёл исключительно о культуре и науке. Политических или антиправительственных высказываний определённо не было… Родителей тогда не было дома, они уехали». В обвинительном судебном заключении «беседы о науке и культуре» предстанут уже в несколько ином свете: «Там допускались политические высказывания, в частности, Хубер высказывал точку зрения, что НСДАП все больше «левеет». На севере Германии она настроена практически по-большевистски… Говорили также о том, как должны вести себя молодые люди на полях сражений. Обвиняемый Шморель заявил, что он проявлял бы полную пассивность». Возможно, что после таких откровенных дискуссий профессор всё же догадывался о происхождении листовок, появлявшихся в его почтовом ящике, но открыто ему сказали об этом значительно позже.
«Во время всех моих предыдущих показаний я особенно хотел уберечь проф. Хубера, — сообщит на бог знает каком по счёту допросе Шморель. — По этой причине я кое-что брал на себя и на Шоля, что не соответствует действительности. Антигосударственную листовку «Белая роза» писали и распространяли только мы с Шолем. Об этом я уже неоднократно заявлял. Шоль и я сообщили об этом профессору Хуберу лишь после нашего возвращения с Восточного фронта (ноябрь 1942). Что касается интересующего вас прощального ужина в июне 1942 года в ателье Эйкемайера, Леопольдштрассе 38, на котором также присутствовал проф. Хубер, то ни Ганс Шоль, ни я не сказали проф. Хуберу о том, что мы являемся авторами и распространителями «‘Белой розы».
Несмотря на калейдоскоп событий, связанных с началом «настоящей работы», Александр время от времени всё же появлялся в ателье художника Кёнига. Уже не с Ангеликой, а с Лило ходил он в книжную лавку «Йозеф Зёнген» и читал ей во время встреч на Принценштрассе «Нос» Гоголя, выдержки из Максима Горького и, конечно, из любимого Достоевского, рассказывал сказки Пушкина. Лило казалось, что определённая «независимость» её квартиры благотворно влияла на всех — не только Алекс, но и Ганс с Кристофом как будто успокаивались после очередного вечернего чаепития. Вроде и не существовало уже для них каждодневной опасности, не было никаких листовок, не сбивалась с ног тайная полиция. К счастью, скоро в этой двойной жизни наступило затишье — в июле друзей направили на полевую медицинскую практику на Восточный фронт. Расследование гестапо по факту распространения антигосударственных листовок постепенно зашло в тупик, и за отсутствием сообщений о новых акциях «Белой розы» производство по делу было закрыто.
Учитывая возможные последствия, Александр очень беспокоился о своём лучшем друге детства. В начале 1942 года, да и во время последующих акций уже сформировавшейся группы «Белая роза», Кристофа, к тому времени уже отца большого семейства, старались беречь, не допускать его до особо опасных акций, что, впрочем, удавалось не всегда. После рождения второго сына Кристоф пригласил Алекса в качестве крёстного. Проникшись ответственностью возложенных на него обязанностей, Александр обеспокоился из-за отсутствия подобающего случаю наряда. Он обязательно хотел присутствовать на крестинах в национальном баварском одеянии. Кожаные штаны у Алекса были, а вот традиционный элемент местной одежды — такие же кожаные подтяжки — заставили его попотеть. Целый день он промотался по городу на велосипеде в поисках желанной детали гардероба, пока, наконец, не нашёл подходящее.
В назначенный час крёстный отец появился во всей красе и со знанием дела участвовал в церемонии крещения, которую Пробсты заказали в небольшой капелле где-то в районе Мурнау.
Как-то после очередного занятия по рисованию Алекс и Лило заехали в «Остерию». Заказав, как обычно, красное вино и по кусочку хлеба, они сидели напротив друг друга и разглядывали окружающих. «Внезапно тяжёлая тёмно-зелёная портьера открылась, — вспоминает Лило, — трое мужчин в униформе вошли в ресторанчик. Присутствующие спонтанно приподнялись со своих мест. С грохотом отодвинулись стулья, и все сделали шаг вперёд, подняв руку в приветствии. «Вот он», — прошептал мне Алекс. Адольф Гитлер, сопровождаемый охраной, пересёк помещение и занял самое дальнее место за свободным столиком у задней стены ресторана. Разговоры прекратились. Можно было почувствовать дыхание гостей за соседним столом.
В помещении находился демон. Алекс, словно окаменев, сидел рядом со мной. От его веселья не осталось и следа… Официанты сновали вокруг стола. Трое мужчин казались немыми. Гитлер вообще не открывал рта. Мне казалось, что он и телохранители рассматривали каждого присутствующего. Народ начал потихоньку переговариваться. «Что-то здесь неуютно стало, да и серой запахло», — прошептал Алекс. За соседним столиком кто-то рассмеялся. «Видишь, услышали», — мы быстро рассчитались и выскочили. Вздохнули, лишь оказавшись на свежем воздухе. Алекс вытащил свою трубку из кармана куртки и зажал её между зубами, не раскуривая, что дополнило его облик». Гитлер не произвёл на них особого впечатления. И в то же время они осознавали, что этот невзрачный человек может делать с ними всё, что захочет. Люди для него — человеческий материал, марионетки. ««Вот так, Лило, — сказал Алекс, — теперь наше ремесло — убивать! Нет, только без меня. Бедная Германия, бедная Россия!»
Александр никогда не забывал о России. Как считала Лило, будь Алекс сыном двух немцев, еще неизвестно, стал бы он столь активно участвовать в Сопротивлении. Свидетельством тому были и колебания Шмореля по этому поводу. Но мысли о русских братьях и сёстрах, стремление помочь им требовали активных действий. Всё чаще он возвращался к рассказам о своих земляках. «Вчера вечером, — писал он в мае Ангелике, — мы были с отцом в «Прайзингпале». Мы заказали две бутылки бесподобного рейнского, 1937 года, поздний сбор. Папа рассказал потрясающую историю, которая произвела на меня сильное впечатление. Адмирал Колчак остался после убийства царя регентом российского престола и верховным главнокомандующим белой армии в борьбе против красных. Чехи, находившиеся в России и принявшие было его сторону, предали Колчака, и тот попал в руки красных. Его должны были расстрелять, но перед расстрелом он так мужественно вел себя, что красноармейцы, которые должны были сделать это (представь себе, люди, которые превратились в бестий) — они отказались стрелять! И тут — сейчас будет самое впечатляющее из всего слышанного мной когда-либо ранее — Колчак приказал им стрелять! Лишь тогда они выстрелили… Каким нужно быть человеком, какого необычного мужества! Меня это потрясает каждый раз, когда я об этом думаю». Мог ли Шморель представить себе тогда, что его собственное мужество и мужество его товарищей будет потрясать воображение тысяч людей десятки лет спустя?
В мае 1942 года Ганс и Александр приняли окончательное решение, в какой форме они смогут оказывать сопротивление ненавистному режиму. Рассказ Алекса об этом зафиксируют чуть меньше года спустя, 25 февраля 1943 года, бесстрастные строчки протокола допроса в мюнхенском отделении тайной государственной полиции (гестапо): «Летом 1942 года я и Ганс Шоль договорились издавать листок антинационал-социалистического содержания. Каждый из нас занялся изготовлением своего проекта, которые мы потом сравнили. Результатом такой концепции и стала листовка «Белая роза». Высказывания Ганса на допросе подтверждают слова Александра: «Набросок мы делали вместе. Идея была моя. Шморель сразу же заявил о своей готовности к сотрудничеству». Кроме готовности к действию ребятам предстояло решить ещё ряд технических проблем: нужны были пишущая машинка и множительный аппарат. С машинкой сложностей не возникло: Александр одолжил её у своего старого школьного знакомого Михаэля Пётцеля, жившего неподалеку от дома Шморелей. По иронии судьбы пребывавший в полном неведении относительно целей использования своего имущества Пётцель принадлежал к СС. «Я знаю Александра Шмореля с детства, поскольку он живёт неподалёку от дома моих родителей, — давал он показания по делу «Белой розы» в мюнхенском гестапо 10 марта 1943 года, — мы вместе ходили в среднюю школу, правда, в разные классы, так как Шморель на два года старше меня. Насколько я могу припомнить, Шморель брал у нас на время пишущую машинку марки «Ремингтон портэбл», фабричный номер неизвестен, где-то полтора года назад. Я не знаю, у кого точно. Мне кажется, что он брал её для перепечатывания стихотворений. Он часто рассказывал, что переписывает стихи. Я лично никогда не давал пишущую машинку Шморелю. Однако моя мама и мой младший брат всегда сообщали мне, когда Шморель брал машинку взаймы». Понимая, чем могла обернуться такая «услуга» для соседа, Александр на допросах неоднократно подчёркивал, что не посвящал Михаэля в свою незаконную деятельность и объяснял необходимость печатных работ университетскими заданиями.
Несколько сложнее дело обстояло с множительным аппаратом. Ещё в начале года Александр как-то мимоходом поинтересовался у Лило, как она делала копии своих офортов, нет ли у неё ручного копировального аппарата. На прямой вопрос, зачем ему это нужно, Алекс замялся. Чувствовалось, что ответ ему даётся нелегко. Он спешно скомкал тему. В мае, когда план действий созрел, Александр просто купил множительный аппарат и поставил его у себя дома. Уже тогда в Германии гектографы были в каждой школе, и учителя использовали их для копирования домашних заданий ученикам, поэтому покупка такой техники не вызывала подозрений. Теперь, когда технические предпосылки были созданы, ребята серьёзно взялись за дело. Разработав независимо друг от друга две концепции первой листовки, Ганс и Алекс сравнили их, творчески переработали и озаглавили получившееся произведение «Листовки «Белой розы». Сейчас уже никто не сможет сказать, почему это была именно роза, почему она была белой. Рассказы друзей и близких, некоторых очевидцев деятельности этой группы, едины в одном: название было выбрано почти произвольно. С таким же успехом это могли быть «Молодая гвардия» или «Белый орден». На одном из допросов Ганс Шоль подтвердил, что искал лишь благозвучное понятие, символ. По его мнению, такое название могло ничего не значить само по себе, но становилось мощным идеологическим фактором, если за ним появлялась какая-то программа.
Так на квартире Шморелей появилась первая сотня антиправительственных листков. Читателями стали знакомые и незнакомые мюнхенцы, чьи адреса ребята выписали из телефонного справочника. Листовки отправили по почте — все сразу, сдав их для массовой рассылки. Никто не таился и не прятался, не подсовывал листки по ночам соседям в почтовые ящики. Первая акция Сопротивления прошла на удивление буднично — сто конвертов просунули в окошечко почтового служащего, заплатили деньги, забрали сдачу и… стали ждать результатов. Отзывы от друзей не заставили себя ждать. Никто не догадывался о занятии Ганса и Алекса, но по стилю некоторые почувствовали знакомые мысли. Не были исключением и родственники самих авторов.
Время от времени семейство Шморель навещала Ольга, сестра мачехи Александра. Её муж Франц Монхайм был владельцем крупной кондитерской фабрики «Трумпф» в Аахене. Приехав в очередной раз в Мюнхен на Рождество 1942 года, она поведала родне, что летом получила по почте листовку «Белой розы». Александр невозмутимо выслушал историю, посчитав комментарии излишними. Родители тоже не возвращались к этой теме. Этот случай всплыл значительно позже, после ареста, и Шморелю пришлось давать по этому поводу пространные показания. Листовку посылал, конечно же, он сам. Как бы то ни было, но и пребывавшие в неведении и догадавшиеся об авторстве листовок друзья высказывали своё мнение. Одни были за, другие — против, но первых, очевидно, было больше, и новоиспечённые подпольщики, проанализировав отклики, пришли к выводу: акция удалась!
Неожиданное свидетельство о событиях тех дней попало недавно — подумать только, в год 100-летия Александра! — из Сан-Франциско в Оренбург. В большом видеоинтервью, записанном с княжной Еленой Борисовной Шаховской-Хрущёвой в феврале 2014 года, она, пережившая русскую эмиграцию из Крыма в Галлиполи, затем в Белград и оказавшаяся волею судьбы в Мюнхене в 1942 году, вспоминала Шурика, который был младше её на год. Со своим первым мужем Андреем Петровым — сыном Елены Егоровны Гофман — они некоторое время жили в доме Шморелей в Ментершвайге. И «тётя Лиля» — Елизавета Егоровна, и свекровь великолепно приняли её в свою семью. По-видимому, доверительные отношения сложились и с Шуриком, о котором Елена Борисовна вспоминала с восторгом и восхищением. «Как-то он нас с Андрюшей позвал наверх, в свою комнату. Там на столе лежали кипы серых листков. «Вот, Алёнушка, это листовки против Гитлера, нам это всё надо распространить». Такое Александр Шморель мог сказать только очень близкому человеку.
После первой же рассылки ребятам стало известно, что некоторые из адресатов сдали полученные письма в гестапо, но это уже не могло их остановить.
«Тайная почта», как называл её Александр, была рассчитана в первую очередь на немецкую интеллигенцию. Она должна была подтолкнуть высокообразованные круги к осознанию необходимости Сопротивления. Язык текстов полностью соответствовал поставленной задаче. Яркая публицистика с цитатами из классиков являла собой полную противоположность жёсткому идеологизированному стилю национал-социалистической пропаганды. Расчёт делался на то, что адресаты станут распространителями мыслей «Белой розы», что они будут «просвещать» своих знакомых, учеников, клиентов. В списке гестапо среди получателей значились преимущественно писатели, профессора, директора школ, книготорговцы и врачи. К сожалению, список этот в массе своей состоял как раз из тех, кто из верноподданнических чувств или из страха посчитал необходимым доставить полученный экземпляр в гестапо.
Ганс и Алекс стремились добиться популярности листовок: о «Белой розе» обязательно должны были заговорить в городе! Поэтому часть текстов шла в адрес владельцев кафе и баров, продовольственных магазинчиков и пивных. Где, как не в этих заведениях, мог функционировать «народный телефон»? Откуда ещё с такой скоростью должны были расходиться сплетни и слухи? Чтобы удостовериться, что «тайная почта» не оседает в недрах гестапо и не пропадает за время доставки, несколько листовок они послали сами себе. Система работала!
Ещё в начале мая в Мюнхен переехала сестра Ганса Софи. До этого она жила в Ульме. До выпуска в 1940 году Софи училась в средней школе для девочек. Школьницей она тоже была в гитлерюгенде, а затем в «Союзе немецких девушек». После ареста её братьев и их друзей в 1937 году отношение Софи к гитлеровским организациям резко изменилось. Зная об оппозиционном настрое отца по отношению к Гитлеру, она больше внимания стала уделять знакомствам из среды единомышленников. Чтобы уклониться от трудовой повинности, Софи попыталась отработать «авансом» воспитателем детского сада, но уловка не удалась. Наконец в мае 1942 года она поступила в Мюнхенский университет, где начала изучать биологию и философию. Первое время она жила на квартире у Карла Мута. Ганс познакомил её со своими друзьями, в первую очередь с Александром. В этот узкий круг входила и Трауте Лафренц, с которой Алекс подружился в Гамбурге. Он же и свёл её ещё в мае 1941 года с Гансом Шолем. Бурный роман Ганса с Трауте ни для кого не был секретом, но когда его внимание летом 1942 года внезапно переключилось на подругу Софи Гизелу Шертлинг, то гармония в группе всё же нарушилась. Кристоф Пробст с летнего семестра тоже продолжал учёбу в Мюнхене. Компанию единомышленников органично дополнил присоединившийся к ней в июне Вильгельм Граф.
Вилли, как звали его друзья, родился в городке Кухенхайме, неподалеку от Ойскирхена, но детство его прошло в Саарбрюккене, где отец был управляющим большим оптовым виноторговым предприятием. Мальчик воспитывался в строгой католической атмосфере и был членом школьного католического союза «Новая Германия». После роспуска национал-социалистами религиозных молодёжных объединений Вилли вступил в союз «Серый орден», члены которого искали собственные пути развития, пытались повлиять на реформу католической церкви. Для молодых людей всё яснее становилась несовместимость идеологии фюрера и христианства, и, осознав это, они считали необходимым противостоять режиму. Несмотря на все уговоры и угрозы, Граф так и не вступил в гитлерюгенд. В 1937 году он окончил гуманитарную гимназию. Особый интерес проявлял к немецкому языку и религии, истории и географии, позднее — к греческому языку и музыке. В январе 1938 года Вилли Граф был арестован на три недели за участие в запрещённых собраниях, походах, летних лагерях. Вместе с другими семнадцатью членами «Серого ордена» он предстал перед особым судом города Мангейма по обвинению в «союзных происках». К счастью для него и друзей, дело было вскоре прекращено по амнистии в связи с «присоединением» Австрии.
После отбытия трудовой повинности зимой 1937 года Вилли начал изучать медицину в Боннском университете. В январе 1940 года его призвали на службу в вермахт в качестве санитара. В отличие от Ганса и Алекса, тянувших солдатскую лямку на Западе, Вилли воочию убедился во всех тех ужасах войны, о которых ребята знали лишь понаслышке: ему довелось побывать в Югославии, Польше и России. В январе он пережил тяжёлое отступление 4-й танковой армии из-под Москвы, в хаосе которого впервые во всей полноте столкнулся с реалиями боевых действий. В апреле он получил возможность продолжать обучение в университете и немедленно вылетел из Гжатска, где дислоцировалась его часть, в Германию. По прибытии в Мюнхен его зачислили во вторую студенческую роту, и за пару месяцев Граф успел познакомиться и сдружиться с Александром, Кристофом, Гансом и Софи. Постепенно расширявшийся круг друзей по давней традиции собирался в доме Шморелей. Здесь ребята читали и обсуждали теологические, философские произведения, играли на рояле, знакомились с русской литературой — переводной и в подлиннике — «для отдохновения души», как скажет потом Александр. И всё же, несмотря на тесные, доверительные отношения, ни Алекс, ни Ганс не считали пока возможным посвятить друзей в свою тайну.
Окрылённые первым успехом, Шморель и Шоль сочиняют вторую, а за ней третью и четвёртую листовки. За очень короткий срок — где-то между 27 июня и 12 июля, то есть чуть больше двух недель, «тайная почта» разошлась по адресатам. «Печатное производство» и «редакция» располагались в доме ничего не подозревавших родителей Александра. «При изготовлении и распространении листовок «Белой розы» второго и третьего выпуска мы действовали таким же образом, — давал показания Шморель, — поэтому и эти два выпуска я считаю моей и Шоля интеллектуальной собственностью, Мы делали их вместе. Мы вели себя в доме моих родителей, где у меня на третьем этаже есть собственная комната, так, что они не могли ничего заметить». Во всех четырёх листках немецкая «культурная нация» и интеллигенция обвинялись в том, что позволяли «безответственной и предающейся сомнительным влечениям клике властителей» править собой. По мнению «Белой розы», они становились пассивными соучастниками гитлеровских преступлений. «Немец, — гласила вторая листовка, — должен ощущать не только сострадание, нет, значительно больше: соучастие. Ведь своим апатичным поведением он даёт этим сомнительным людям возможность действовать, он терпит это правительство…» Призывы к пассивному сопротивлению, к просвещению окружающих о сущности «демона», «посла Антихриста» — Гитлера, приносящего в жертву молодое поколение страны, становились от листовки к листовке всё громче и настойчивее. В одном из текстов Александр сформулировал чёткое и ясное руководство к действию: «Смысл и цель пассивного сопротивления — свалить национал-социализм… Этому негосударству должен быть подготовлен возможно более быстрый конец: победа фашистской Германии в этой войне имела бы непредвиденные ужасающие последствия… Саботаж на оборонных предприятиях… во всех печатных изданиях, всех газетах, финансируемых правительством… Не жертвуйте ни одного пфеннига во время уличных сборов… Не сдавайте ничего во время сбора металлолома и пряжи!» Около года спустя, на первом же допросе в гестапо, Александр повторит эту мысль: «В то время мы видели в так называемом пассивном Сопротивлении и саботаже единственную возможность сократить эту войну».
Часть второй листовки, авторство которой историки бесспорно закрепили за Александром, стала единственным до 1942 года известным протестом немецкого движения Сопротивления против геноцида еврейского народа: «Нет, не о еврейском вопросе хотели мы написать в этом листке, не сочинить речь в защиту евреев — нет, только в качестве примера мы хотели привести тот факт, что с момента завоевания Польши триста тысяч евреев в этой стране были убиты самым зверским способом. В этом мы усматриваем ужасающее преступление над достоинством людей, преступление, которому не было равных во всей истории человечества. Евреи ведь тоже люди — как бы мы ни относились к еврейскому вопросу — и над людьми было совершено такое!» С детства, ещё с чаепитий генерала Сахарова в родительском доме, не переносивший антисемитских высказываний, Александр очень болезненно воспринял введение нацистами «расовых законов», обязательное ношение «звезды Давида» лицами еврейской национальности, погромы еврейских магазинов отрядами СС и штурмовиками. Друг Алекса, болгарин армянского происхождения Николай Гамасаспян, приехавший в Германию как раз в то безрадостное время, вспоминал реакцию Шмореля: «Сначала он рассказал мне об этом еврейском погроме, что это бесчеловечно, когда они не имеют права садиться в автобус, когда они должны ходить пешком, и всё это со звездой, с жёлтой звездой». Рассказы друзей и знакомых, побывавших в Польше и России, дополняли картину одного из ужасающих преступлений Третьего рейха против человечества. Довести свои знания до соотечественников, взбудоражить общественность, затронуть что-то в душе каждого немца — вот к чему стремились двое студентов, рассылая заветные письма сотням знакомых и незнакомых людей. «Мы не молчим, мы — Ваша нечистая совесть. «Белая роза» не даст Вам покоя!»
Распространение листовок совпало с массовыми бомбардировками немецких городов. То и дело воздух разрывал протяжный вой сирен. Не проходило дня без объявления воздушной тревоги. Первый грандиозный налёт на Кёльн в ночь с 30 на 31 мая 1942 года потряс воображение немцев. Тысяча бомбардировщиков превратила цветущий город в груду развалин. Теперь уже не только военные, но и гражданские цели становились объектом вражеских бомбардировок. Население городов было охвачено страхом, но ещё неизвестно, какой враг — в воздухе или в почтовом ящике, явившийся в виде «тайной почты», был для людей страшнее всего. Листовки «Белой розы» появлялись не только в Мюнхене, но и в его окрестностях, в небольших баварских городках. Позже они дошли и до Ульма, Штутгарта, Зальцбурга, Регенсбурга и Вены. Ганс и Алекс трудились не переставая, но со временем держать в тайне от друзей такой объём работы стало невозможно. По свидетельству Лило Рамдор, в начале июня в руки Трауте попала листовка, адресованная кому-то из её домашних. Некоторые цитаты из Лао-цзы показались ей подозрительно знакомыми. Совсем недавно она слышала эти самые слова от Ганса в аналогичном контексте! Вскоре и Софи, заглянув в подвал архитектора Эйкемайера в поисках Ганса, застала обоих друзей за работой. Она сразу же всё поняла и охотно вызвалась помогать. Так, волею случая, две девушки подключились к опаснейшему занятию, от которого Алекс и Ганс пытались оградить их столь долгое время.
Ребят заботили в первую очередь проблемы, связанные с множительной техникой — гектографический аппарат, приобретённый Алексом, был слишком изношен и явно не рассчитан на те нагрузки, которым подвергали его юные антифашисты. В силу различных причин конспиративного характера он часто менял «прописку»: Александру приходилось таскать его по городу в чемоданчике — из дома родителей в ателье Эйкемайера и назад. Иногда гектограф «останавливался» инкогнито на ночь у кого-нибудь из друзей. С пишущей машинкой проблем не было: её Алекс брал по мере необходимости всё у того же Михаэля Пётцеля. На первых порах не доверялась девушкам и отправка корреспонденции, коробки с «тайной почтой» Шоль и Шморель возили сами. Они же разносили запечатанные конверты по адресам или по почтовым ящикам. В задачу Софи и Трауте входила добыча расходного материала: бумаги, конвертов, марок. «Пора военного дефицита, — рассказывала мне Герта Шморель, обаятельная, бойкая супруга Эриха, — была в самом разгаре. Почти все товары отпускались с ограничениями: не больше нескольких килограммов, штук, пачек в одни руки. Каких-то вещей с начала войны в продаже не было вовсе». Отсутствие конвертов восполнялось сложенными определённым образом письмами — по типу полевой почты. Почтамты не отпускали больше десяти марок на человека. Для отправки сотен листовок девушкам приходилось обходить десятки почтовых отделений и покупать марки частями. С бумагой тоже были проблемы. В учебных заведениях её выдавали строго по норме. Герта хорошо помнит, что для выполнения домашнего задания каждый получал определённое число чистых листков. Поэтому любая попытка Софи и Трауте купить больше марок, взять больше бумаги вызывала ненужные вопросы, привлекала внимание и грозила провалом.
Одним из адресатов «тайной почты» был профессор философии Курт Хубер. Он родился в Швейцарии в семье немцев, которые несколько лет спустя переехали в Штутгарт. Остаточные явления перенесённой в детстве болезни искажали лицо, сказывались на конечностях профессора, наложили отпечаток на его речь, но не помешали ему добиться признания в области философии и музыковедения. В 1921 году в Мюнхене Хубер стал доктором философии, в 1926-м — получил должность профессора. С 1925 года по поручению немецкой академии он начал собирать старые баварские народные песни. Когда ему отказали в должности руководителя одного из подразделений Берлинского государственного института музыкальных исследований, профессор всё же получил возможность преподавать курс экспериментальной психологии, звуковой и музыкальной психологии в Мюнхенском университете. В 1940 году Хубер вступил в НСДАП, хотя впоследствии стал открыто высказывать своё несогласие с культурной политикой партии.
И Алекс, и Ганс слышали о профессоре Хубере. Он часто выступал на встречах, дискуссионных вечерах. Ещё в апреле Шморель довольно пренебрежительно отзывался о таких лекциях: «Сегодня вечером у фрау Мертенс выступает философ. Хубер из университета. Я не пойду — эта атмосфера мне последний раз что-то мало понравилась. Да и что я, собственно, забыл у какого-то философа?» Но при знакомстве Ганса с профессором впечатление стало иным. В июне друзья неоднократно встречались с Хубером. Одна из встреч проходила в доме Шморелей. Говорили и спорили о многом, но в те дни ребята ещё не были готовы открыто заявить о своей тайной борьбе. Для протокола Александр даст впоследствии нейтральные показания: «На встрече в квартире родителей в начале лета кроме проф. Хубера, брата и сестры Шоль, Лафренц и Шюттекопф был ещё доктор Генрих Эллерманн… Разговор шёл исключительно о культуре и науке. Политических или антиправительственных высказываний определённо не было… Родителей тогда не было дома, они уехали». В обвинительном судебном заключении «беседы о науке и культуре» предстанут уже в несколько ином свете: «Там допускались политические высказывания, в частности, Хубер высказывал точку зрения, что НСДАП все больше «левеет». На севере Германии она настроена практически по-большевистски… Говорили также о том, как должны вести себя молодые люди на полях сражений. Обвиняемый Шморель заявил, что он проявлял бы полную пассивность». Возможно, что после таких откровенных дискуссий профессор всё же догадывался о происхождении листовок, появлявшихся в его почтовом ящике, но открыто ему сказали об этом значительно позже.
«Во время всех моих предыдущих показаний я особенно хотел уберечь проф. Хубера, — сообщит на бог знает каком по счёту допросе Шморель. — По этой причине я кое-что брал на себя и на Шоля, что не соответствует действительности. Антигосударственную листовку «Белая роза» писали и распространяли только мы с Шолем. Об этом я уже неоднократно заявлял. Шоль и я сообщили об этом профессору Хуберу лишь после нашего возвращения с Восточного фронта (ноябрь 1942). Что касается интересующего вас прощального ужина в июне 1942 года в ателье Эйкемайера, Леопольдштрассе 38, на котором также присутствовал проф. Хубер, то ни Ганс Шоль, ни я не сказали проф. Хуберу о том, что мы являемся авторами и распространителями «‘Белой розы».
Несмотря на калейдоскоп событий, связанных с началом «настоящей работы», Александр время от времени всё же появлялся в ателье художника Кёнига. Уже не с Ангеликой, а с Лило ходил он в книжную лавку «Йозеф Зёнген» и читал ей во время встреч на Принценштрассе «Нос» Гоголя, выдержки из Максима Горького и, конечно, из любимого Достоевского, рассказывал сказки Пушкина. Лило казалось, что определённая «независимость» её квартиры благотворно влияла на всех — не только Алекс, но и Ганс с Кристофом как будто успокаивались после очередного вечернего чаепития. Вроде и не существовало уже для них каждодневной опасности, не было никаких листовок, не сбивалась с ног тайная полиция. К счастью, скоро в этой двойной жизни наступило затишье — в июле друзей направили на полевую медицинскую практику на Восточный фронт. Расследование гестапо по факту распространения антигосударственных листовок постепенно зашло в тупик, и за отсутствием сообщений о новых акциях «Белой розы» производство по делу было закрыто.
РОДИНА
23 июля 1942 года друзья по 2-й студенческой роте Александр Шморель, Ганс Шоль, Вилли Граф, Юрген Виттенштайн и Губерт Фуртвенглер неожиданно были откомандированы на Восточный фронт. После войны Лило вспоминала, что накануне заехал Алекс. С ним были Ганс и Вилли. Алекс опять был в военной форме. Его глаза блестели: «Я вновь увижу Россию! Мы будем работать в полевых лазаретах — пока ещё не известно, как долго. Я думаю, что к зимнему семестру мы всё-таки вернёмся в Мюнхен». Ребята собрались в ателье Эйкемайера, где намечалась прощальная вечеринка. Пришли только свои, профессор Хубер в том числе. Впоследствии вездесущее гестапо причислило встречу, затянувшуюся далеко за полночь, к разряду «конспиративных сходок» «Белой розы». На допросах тщательно выяснялись списки присутствовавших, темы разговоров, высказывания каждого в отдельности. Конечно, в тот вечер не обошлось без политики, но это было всё-таки прощание — прощание друзей, связанных одним общим делом, расстающихся надолго, может быть, навсегда. Для остающихся в Мюнхене этот вечер готовил одиночество и печаль, для отъезжающих — новые встречи, впечатления, переживания. Поутру состоялось короткое прощание. Несколько снимков на память. Фото, сделанное Виттенштайном — Ганс и Софи Шоль, Кристоф Пробст, облетело после войны весь мир: эти лица стали олицетворением группы «Белая роза» для миллионов людей. Ровно в семь утра началась погрузка, но лишь в одиннадцать поезд тронулся с Восточного вокзала. Путь лежал через Регенсбург, Цвикау, Дрезден, Гёрлиц — на восток. Друзья разместились в одном купе. Один из них возвращался к местам недавней службы, другой — жаждал встречи с Родиной. Остальные ехали в Россию, томясь неизвестностью. В хорошей компании время пролетало незаметно. Сон сменялся бесконечными разговорами на всевозможные темы. Когда затихала беседа, играли в карты и шахматы. Третий день пути — Польша. Чем дальше на восток продвигался состав, тем больше привлекал ребят вид из окна. Бесконечные просторы неизвестности манили и не позволяли отвести взор. «Две вещи здесь совершенно особенные, — писал родителям Ганс, — деревья и небо. Крестьянские дома покрыты соломой, а хутора прячутся в живописных берёзовых рощах. Закат здесь необычайно красив, и когда всходит луна, околдовывая луга и деревья своим сказочным серебряным светом, то вспоминаешь пленных поляков в Германии, и сразу понятной становится их безграничная любовь к Родине». В полдень 26 июля поезд прибыл в Варшаву. Ближе к вечеру Александр, Ганс, Вилли, Юрген и Губерт выбрались в город. Увиденное потрясло их до глубины души. «Отовсюду на нас смотрит беда. Мы отводим глаза», — пометил Вилли в своём дневнике. «Пребывание в Варшаве сделает меня больным, — писал домой Ганс, — слава Богу, завтра едем дальше! Одни только руины могут ввести в депрессию… На тротуаре лежат умирающие от голода дети и просят хлеба, а с противоположной стороны улицы доносится раздражённый джаз. В то время, когда крестьяне целуют каменный пол в церкви, бессмысленное веселье пивных не знает границ. Повсюду царит пораженческое настроение, но несмотря на это, я верю в неисчерпаемую силу поляков. Они слишком горды, чтобы кому-нибудь удалось завязать с ними беседу. И везде, куда ни глянь, играют дети». На следующий день ночью друзья должны были двинуться дальше. «Прочь, как можно скорее прочь из этого города», — одна мысль гнала молодых студентов из некогда цветущей столицы. Они надеялись, что никогда больше не увидят Варшавы в подобном состоянии. В ожидании отъезда прошёл день. Друзья должны были ехать пустым санитарным эшелоном, который отправлялся в час ночи на Вязьму. Явившихся после полуночи на вокзал практикантов ожидало разочарование: поезд был переполнен. После долгих поисков свободного места все пятеро устроились на ночлег в коридоре, под дверями генерала. Вместо прямой дороги на Восток эшелон отправился в обход: Восточная Пруссия, Литва. Александр повторял тот путь, который проделал в трёхлетием возрасте с родителями. Только на этот раз он ехал не из Оренбурга в Мюнхен, а из Мюнхена в неизвестность. Дорога не отличалась разнообразием. Единственное занятие: сон, чтение и еда сменяли друг друга, образуя тоскливый круговорот. Ребята опять забились в одно купе. Теснота санитарного эшелона уже не располагала к дискуссиям. Жара сменилась похолоданием и сыростью. Путников одолевали полчища мух. В полдень 30 июля состав пересёк границу России. «В России началась равнина, — записывал новые ощущения в своём дневнике Ганс, — сначала мы пересекали мягкий моренный ландшафт: волнистые холмы, подобные застывшему морю. Над ними в голубом небе, покачиваясь, проплывают корабли облаков, сияющие ослепительной белизной в свете вечернего солнца. Все это навевает в душе мелодии молодёжного живого ритма. Я вспоминаю светлые церкви в стиле барокко, Моцарта. За границей началась широкая, бескрайняя равнина, где размывается любая линия, где всё твёрдое растворяется, как капля в море, где нет начала, нет середины и конца, где человек остаётся без Родины, и лишь печаль наполняет его сердце. Мысли подобны облакам, которые, так же бесконечно и непрерывно меняясь, уплывают прочь. Тоска, как ветер, несущий облака. Здесь все опоры, за которые судорожно цепляется человек — Родина, отчизна, профессия — вырваны разом. Почва уходит из-под ног, ты падаешь и падаешь, уже не зная куда… и неожиданно приземляешься мягко, словно на крыльях ангелов на русской земле — на равнине, принадлежащей лишь Богу да его ветру с облаками». В поезде было много разговоров о партизанах — следы их работы были видны повсюду, но, к счастью, к вечеру поезд без особых происшествий добрался до Полоцка. Благодаря дневниковым записям Вилли Графа воссоздать этот маршрут практикантов на фронт не составляет никакого труда. В полдень 31 июля эшелон достиг Витебска. Город разрушен. Движение поезда на восток затруднялось из-за взорванных железнодорожных путей и забитых военными составами узловых станций. На фоне этого вселенского хаоса резко выделялось буйство красок русского лета. Обилие цветов всевозможных видов и дети, играющие среди развалин, поражали воображение молодых немцев. По мере приближения к Смоленску местность за окном стала меняться. Холмы исчезли, появились равнины. К вечеру состав прибыл в Вязьму. Вилли, единственный из пятёрки, уже бывал здесь. В своём дневнике он помечал: «Ужасно долгий марш к фронтовому сборному пункту, первое распределение, размещение на постой. Мы впятером плетёмся через весь город. Грязь. Разорение. Играет немецкий марш. На холме между домов и развалин стоит церковь. Под моросящим дождём мы ещё сидим на скамейке перед нашим жилищем и вспоминаем события последних дней». 2 августа было воскресенье. С утра они впятером отправились в церковь. Два часа, как очарованные, друзья присутствовали на торжественной литургии. В полдень состоялось распределение. Все пятеро попали в 252-ю роту. До отправки оставалось время, и после обеда ребята пошли на местный рынок, поразивший своей нищетой. «Никогда ещё разруха не проявлялась так явственно. Хлеб бьёт все рекорды. Его ищут все», — писал Вилли Граф. Отъезд в Гжатск вечером несколько затянулся, и лишь под покровом темноты друзья добрались до города, где им предстояло провести около трёх месяцев. «Около 10.00 прибыли в Гжатск. Опять бесконечный марш с багажом через весь город. Призрачно возвышаются в свете луны руины опустевших домов. Русская артиллерия обстреливает город, мы прячемся за углами зданий. Лёгкая паника. Мы спим фактически в дерьме», — Вилли лаконично фиксировал события этого вечера в своём дневнике. Именно красочные картины увиденного позволяют нам сегодня приблизиться к тем дням, узнать, с чем столкнулись друзья, оказавшись на нашей земле. 252-я санитарная рота, к которой были прикомандированы студенты-медики, располагалась на окраине города в лесном лагере, рядом с военным аэродромом. Здесь находился главный перевязочный пункт. Близость фронта ощущалась ежеминутно: взлетали осветительные ракеты, время от времени давала о себе знать артиллерия. По словам Алекса, линия фронта проходила в десяти километрах отсюда. Александр воспринял отправку на Восточный фронт как возвращение на родную землю, и никакая атрибутика армейской жизни не могла его заставить почувствовать себя здесь солдатом. Даже будучи убеждённым противником большевизма, Алекс не мог позволить себе поднять руку против своего народа. Позже, после ареста, он скажет на одном из допросов: «Если бы мне пришлось как солдату с оружием в руках бороться против большевиков, то перед исполнением этого приказа мне пришлось бы довести до сведения моих военачальников, что я не могу сделать этого. В качестве фельдфебеля санитарной службы мне не пришлось делать таких заявлений». В течение нескольких дней друзья привыкали к новой обстановке, осматривались, устанавливали первые контакты с местным населением. В субботу 7 августа шёл дождь и все писали письма: Алекс — Лило, Ганс — родителям. Вилли встречался со старыми знакомыми — ещё по первому пребыванию в Гжатске — и вёл дневниковые записи. Каждый писал о своём, но мысли их были схожи в одном: все трое восхищались новой незнакомой страной. Друзей разбросали по отделениям: Ганс и Вилли попали в эпидемиологическое, более или менее знакомое Графу по предыдущему пребыванию в Гжатске, а Алекс оказался в хирургии. Работы для студентов практически не было, и они проводили время вместе, бродя по окрестностям и нанося визиты новым знакомым. Ганс встретился со своим братом Вернером, служившим неподалёку. Прогуливаясь, они заглянули к русскому крестьянину: «Там мы выпили несколько стаканов водки и пели русские песни, как будто вокруг царили мир и покой». Конечно, не всё было так романтично: день и ночь продолжался обстрел Гжатска. Русская артиллерия постоянно давала о себе знать. Рассказы о партизанах тоже настораживали. Так, по словам Ганса, на небольшом отрезке пути только за восемь дней были взорваны 48 составов. Как правило, при этом каждый раз паровозы полностью выводились из строя. По ночам за линией фронта высаживались советские парашютисты. Но несмотря на происходящие вокруг события, друзья чувствовали себя лишними на этой войне. «Нет никакого настроения ни читать, ни писать, ни работать, ни спать», — делал пометки в своём дневнике Вилли. Общение с местными жителями было единственной отдушиной, тем более что в обществе Александра оно наполнялось новым, недоступным многим содержанием. «Я часто и подолгу разговариваю с русским населением — с простым народом и интеллигенцией, особенно с врачами, — писал Алекс домой уже на третий день пребывания в Гжатске. — У меня сложилось самое хорошее впечатление. Если сравнить современное русское население с современным немецким или французским, то можно прийти к поразительному выводу: насколько оно моложе, свежее и приятнее! Странно, но все русские едины в своём мнении о большевизме: нет ничего на свете, чего бы они ненавидели больше. И самое главное: даже если война закончится неудачно для Германии, то большевизм никогда уже не вернётся. Он уничтожен раз и навсегда и русский народ, в равной степени рабочие и крестьяне слишком ненавидят его». Чувство Родины, такой близкой и осязаемой, пьянило Александра. Люди, природа — всё это настраивало на романтический лад. Война отступала на второй план, терялась вдали. Свои ощущения Алекс старался донести до родных и друзей, оставшихся в Германии. «Прекрасная, великолепная Россия! — слагал он своеобразный гимн Родине в письме, адресованном Лило Рамдор. — Берёза — твоё дерево. Там, далеко-далеко, где земля соприкасается с небом, на краю бесконечно широкой долины, она стоит одиноко и тянется к небу. Ты, одинокая берёза, вечный степной ветер ласкает, треплет, ломает тебя. Ты — его вечная игрушка. Разве русский человек не похож на тебя? Разве он не такой же одинокий, разве его цвета — не твои цвета, такие же светлые, белые и нежно-зелёные, его мягкая душа — разве она не похожа на твой мягкий белый ствол, его слабая воля — разве не похожа она на твои упругие ветви, твою дрожащую листву? Разве он не такая же игрушка жизни, как ты — ветра? И разве он не так же прекрасен, как ты?» «Знаешь, Лило, — продолжал Алекс, — русский человек так устроен, что его можно либо очень сильно любить, либо с такой же силой ненавидеть. Его или понимаешь, или нет. И не существует «тёплогосостояния» — только любовь или ненависть. Когда я впервые увидел эти лица, эти глаза, когда я впервые заговорил с ними — каким жизненным светом озарило меня! Нет, не напрасно они страдали эти двадцать лет, да и страдают до сих пор. Здесь, на востоке, в России находится будущее всего человечества. Мир должен стать другим — более русским. И если он не сможет или не захочет сделать это, то дни его сочтены — он превратится в пустой сосуд, без содержимого, где не будет людей… Лило, не верь тому, что тебе будут говорить или писать о тупости русских — никто из них ни капли не понимает русского человека! Как раз в сравнении с немцем можно было бы много чего сказать, очень много, да вот нельзя». Не только Александра, но и его друзей занимала в те дни сущность загадочной русской души. «Русские — поразительные люди», — отмечал в дневнике Шоль. В его памяти возникла картина, которую он вместе с ребятами наблюдал во время посещения церкви в Вязьме: «Это была совершенно другая служба, не такая, как у наших скучных среднеевропейцев. Заходишь в просторный зал. Сводчатые потолки почернели от копоти, полы сделаны из дерева, тёплый полумрак заполняет помещение, и лишь свечи, стоящие под алтарём и иконами, заливают золотистым свечением лики святых. Люди стоят беспорядочными группками — бородатые мужики с добрыми лицами, женщины, одетые в красивые сарафаны с пёстрыми головными платками, то и дело кланяются, осеняя себя андреевским крестным знамением. Некоторые склоняют головы до земли и целуют пол. Расплавленное золото свечей придаёт их лицам красноватый оттенок, глаза блестят, и когда бормотание постепенно смолкает, поп подаёт голос и начинает громко петь. Хор отвечает ему пышными аккордами. Снова поёт поп, и вновь вторит ему хор, усиленный добавившимися голосами — светлыми, как колокольчики, тенорами и чудесными мягкими басами. Сердца всех верующих бьются в такт, почти физически ощущается движение душ, которые выплёскиваются, открываются после этого чудовищного молчания, которые, наконец, нашли дорогу домой, на свою настоящую родину. От радости мне хочется плакать, потому что и в моём сердце оковы падают одна за другой. Я хочу любить и смеяться, потому что вижу, как над этими сломанными людьми всё ещё парит ангел, который намного сильнее, чем силы пустоты. Духовный нигилизм был для европейской культуры крупнейшей опасностью. Однако с наступлением его последствий, то есть этой тотальной войны, перед лицом которой мы потерпели сокрушительное поражение, как только она, подобно морю облаков, закрыла большое небо, мы преодолеваем его. За пустотой ничего нет, но что-то должно появиться, потому что никогда не могут быть уничтожены все ценности всех людей. Всегда найдутся хранители, которые сберегут огонь и будут передавать его из рук в руки до тех пор, пока новая волна возрождения не накроет землю. Покров облаков будет разорван солнцем нового религиозного пробуждения. Я с восхищением вглядываюсь в запоминающиеся лица русских крестьян. Мой взор падает в сумеречный угол, где две женщины, присев на полу, успокаивают своих детей. Я вижу в этом символ непобедимой силы любви». Лирические размышления, навеваемые обилием свободного времени и встречами с местным населением, переполняют дневник и письма Шоля, ими полны дошедшие до нас письма Александра. К великому сожалению, часть из них была предусмотрительно уничтожена адресатами сразу после прочтения, дабы не компрометировать ни себя, ни Алекса содержавшимися в этой переписке слишком уж крамольными мыслями и оценками. В мрачном бункере, куда вскоре после прибытия в Гжатск из-за непрекращающегося артобстрела пришлось перебраться друзьям, проходили совместные вечера. «Невозможно передать, даже очень приблизительно, то, что обрушилось на меня с первого дня после пересечения границы России», — сочинял послание от имени друзей любимому учителю, профессору Хуберу Ганс Шоль. Табачный дым приглушал и без того неяркий свет свечи. Друзья подбирали формулировки, наиболее точно передающие общие ощущения: «Россия во всех отношениях безгранична, как безгранична и любовь её народа к Родине. Война шагает по стране, как грозовой дождь. Но после дождя вновь сияет солнце. Страдание целиком поглощает людей, очищает их, но потом они снова смеются». «Я вместе с тремя хорошими друзьями, которых Вы знаете, — продолжал Ганс, — всё в той же роте. Особенно я дорожу моим русским другом. Очень стараюсь тоже выучить русский язык. По вечерам мы ходим к русским, вместе пьём водку и поём. Русские войска к северу и югу отсюда наступают мощными силами, но ещё неизвестно, что из этого выйдет. С большим приветом! Ваш покорный Ганс Шоль и Ваш Александр Шморель и Ваш Вилли Граф и Ваш Губерт Фуртвенглер». Прорыв Красной армии под Ржевом прибавил забот и практикантам. В первую очередь это коснулось Алекса, занятого в хирургическом отделении. Главный перевязочный пункт быстро заполнился, но навалившаяся вдруг работа, большей частью не очень приятная, оставляла всё же достаточно времени для общения, прогулок, чтения. «Хорошо, что я могу оставаться здесь с хорошими знакомыми из Мюнхена», — писал Вилли Марите Херфельд в Германию. После довольно монотонной зимы, которую он провёл почти в этом же месте, летняя полевая практика выгодно отличалась обилием впечатлений. «Мы ещё до отъезда решили любой ценой попасть в одно подразделение. Таким образом, время проводим вместе. Я думаю, ты понимаешь, как важно это здесь. Один из нас, тоже медик, отлично владеет русским, потому что родился здесь и во время революции вынужден был вместе с родителями покинуть страну. Потом он практически стал немцем. И вот он впервые вновь увидел эту страну, и мне открывается многое, что ранее оставалось неизвестным или, по крайней мере, непонятным. Он часто рассказывает нам о русской литературе, да и с людьми устанавливается совсем другой контакт, чем когда не можешь объясниться. Мы частенько поём с крестьянами или слушаем, как они поют и играют. Так немного забываешь всё то печальное, с которым так часто приходится встречаться». В лагере, расположенном в лесу, работали также несколько гражданских лиц, из местных. По вечерам девушки пели песни. Особенно выделялся звонкий и чистый голос Веры. Она немного говорила по-немецки, и с ней всем было легче общаться. Друзья подсаживались к русским и пытались подпевать под аккомпанемент гитары и балалайки. Инструменты с собой приносили деревенские парни. Это было непередаваемое чувство. Не было больше войны, врагов, языкового барьера. «Так хорошо! Ощущается сердце России, которое мы так любим», — записал в дневнике в один из таких вечеров Вилли Граф. Великолепная погода располагала к вылазкам по окрестностям. Время от времени Ганс с Алексом бродили по лесам, и каждый такой поход неизменно завершался в гостях у крестьян — за чашкой чаю или напитком покрепче, с неизменными песнями по вечерам. Как-то во время прогулки Алекс наткнулся на труп русского солдата. По-видимому, он уже много дней лежал тут. Голова находилась отдельно от туловища, мягкие части тела разложились, прогнившая одежда была полна червей. Вместе с Гансом они выкопали могилу, сложили в неё останки. Уже почти засыпав тело землёй, друзья обнаружили руку, лежавшую на некотором расстоянии от места страшной находки. Её тоже положили в могилу, присыпали землей. Соорудив русский православный крест, установили его на могиле, в надежде, что душа погибшего теперь нашла своё успокоение. Ганс долго не мог забыть происшедшего: «День и ночь я слышу стоны замученных, во сне — вздохи покинутых. И когда я думаю об этом, мои мысли постепенно перерастают в агонию». И всё же, каждый день сталкиваясь с ужасами фронтовых будней, Александр не переставал в душе радоваться тому, что судьба занесла его сюда, в Россию. Где ещё, как не здесь, в российской глубинке, он мог почувствовать дыхание Родины, принявшей в свои объятия блудного сына, столько лет ждавшего этого мига? «Дорогие мама и папа! У меня все хорошо. Жив, здоров и сыт», — Александр писал родителям только по-русски. Так случилось, что эти весточки с фронта, старательно оберегаемые родителями, погибли в пожаре войны. Все письма Алекса Гуго Карлович вывез в Бамберг, подальше от Мюнхена и ежедневных налётов. К несчастью, именно в тот дом и угодила бомба. В семье остались лишь переводы писем на немецкий, бережно сделанные отцом после казни сына — «Каждый второй день у меня выходной, и тогда я хожу гулять (окрестности здесь, как и повсюду в России, прекрасны), или иду в город, где у меня уже много знакомых. Таким образом, я провожу свободное время наилучшим образом. За двадцать лет большевизма русский народ не разучился петь и танцевать, и повсюду, куда ни пойдёшь, слышны русские песни. Поют и старые, и новые. При этом играют на гитаре или балалайке — так здорово! Завтра я иду с одним старым рыбаком на весь день рыбачить. Здесь есть и раки, сколько душе угодно. Несмотря на бедность, народ тут чрезвычайно гостеприимный. Как только приходишь в гости, самовар и всё, что найдётся в доме, сразу же ставится на стол. Я часто захожу к священнику, ещё довольно бодрому старику. Кроме добра я здесь ничего не видел и не слышал. Привет всем! Целую. Ваш Шура». С первыми днями сентября осень вступила в свои права: позолотила кроны деревьев, своим свежим дыханием овеяла луга. Александр внезапно заболел. Его подкосила дифтерия, и он почти месяц провалялся на койке с высокой температурой. Произошли и некоторые перемены в подразделении, где служили ребята. Неожиданно выяснилось, что Графа и Фуртвенглера перевели в 461-й пехотный полк. Ганс с Алексом остались вдвоём, причём несколько дней Шолю пришлось коротать время в одиночестве. «Остаток нашей некогда гордой «пятой колонны», — называл себя в шутку Ганс. Не умереть со скуки помогали знакомства, завязанные с помощью Алекса: «Я знаю одного старого седого рыбака. Это мой приятель. Мы часто сидим с раннего утра до захода солнца на берегу реки и рыбачим, как Святой Пётр во времена Христа. Кроме того, здесь в лагере мы с военнопленными и несколькими русскими девушками создали хор. Недавно мы полночи танцевали так, что на следующий день болели все кости». Удивительно, но читая письма Ганса, Вилли, Алекса с фронта, вникая в их дневниковые записи тех месяцев, не ощущаешь войны. Её нет или почти нет. Артобстрелы, налёты, потоки раненых — всё то, что действительно присутствовало в районе Гжатска в те дни, когда друзья были в России, остаётся как бы на периферии. Не покидает впечатление, что пятеро друзей просто в походе, как в школьные годы. На какое-то время их что-то разъединяет, но они вновь находят друг друга. Они ищут приключений, наслаждаются природой, открывают для себя новый мир, завязывают знакомства и чувствуют себя не группкой практикантов, даже не просто компанией знакомых друг другу людей, а единым целым, организмом, состоящим из пяти частей, каждая из которых страдает, если вдруг плохо становится одной из них. Особенно остро это чувствуется в письмах Графа. Ему было с чем сравнивать — долгие месяцы, проведённые в том же самом районе, но в совершенно другом человеческом окружении, остались для него потерянным временем. Три месяца вместе с Алексом, Гансом и двумя другими товарищами пролетели быстро, но не напрасно. Как много значит быть среди единомышленников! Это была не война, это была поездка в Россию с друзьями. Благодаря Александру, его способности располагать к себе людей, открыто общаться, все пятеро имели уникальную возможность знакомиться со страной и людьми не извне, как туристы, а изнутри. Этому способствовало не только знание русского языка одним из них, но и стремление понять душу русского человека, сравнить это понимание с тем, что они могли почерпнуть из русской же литературы. Не зря ведь, сидя в бункере на окраине Гжатска или, позже, в окопе, в 80 метрах от проволочного заграждения русских, они с таким упоением читали Достоевского, которого ещё раньше, на квартире Шморелей, затаив дыхание, слушали в переводе Алекса. Лишь здесь, на Восточном фронте, многое из прочитанного тогда становилось понятным. «Интересно, что простейшие люди: крестьяне, рыбаки, ремесленники знакомы с Достоевским, осмысливали его не поверхностно, а довольно основательно, — удивлялся Вилли, — о Германии такого не скажешь. Ведь людей, по-настоящему знакомых с Гёте, не так уж и много. Здесь же, в этой стране поэты — воистину народные: их понимают, и так должно быть! Мне так жаль, что я не могу ещё лучше говорить по-русски. Со многими людьми это было бы просто великолепно! В этой стране надо бы побывать три месяца при других обстоятельствах… «У нас, немцев, — подхватывает мысль Ганс, — нет ни Достоевского ни Гоголя. Ни Пушкина, ни Тургенева». «Но Гёте, Шиллер», — ответит кто-то. Кто? Интеллигент. «Когда ты в последний раз читал Гёте?» Я уже не помню. В школе или где-то ещё. Я спрашиваю русского: «Какие у вас есть поэты?» «О, — отвечает он, — все, у нас есть все, и кроме них ничего нет на свете». Кто этот русский? Крестьянин, прачка, почтальон». Нет, не напрасным было время, проведённое друзьями в лесном лагере. Скорее не медицинская, а жизненная и духовная практика стала для немецких студентов бесценным трофеем, унесённым с российской земли. Когда бы ещё, возвращаясь с войны, солдат говорил, что будет скучать по тем дням, проведённым на фронте? Или благодарил Бога за возможность побывать в стране врага? Что это — предательство по отношению к своей отчизне? Или слияние с душой другого народа, понимание её глубины, проявление уважения к ней? Кто они, эта «гордая пятая колонна»? «Чокнутые»? Но ведь «чокнутые» по Эриху Шморелю — выше нас. Зыбкая граница между войной и миром — во всех письмах, дневниках, рассказах. «Поскольку в первой роте есть больной, я направляюсь туда, — писал Вилли Граф в конце сентября, — это замечательная прогулка. Дорога выводит меня из леса. Передо мной простирается широкое поле. На другом краю, наверное, колючая проволока. С края поля на возвышенности — руины села Афанасьевка. На фоне картины, навевающей ощущение мира и покоя, вдруг видишь вымершую и разрушенную деревню. Пробираюсь по окопу. Во многих местах на дне стоит вода. Бросаю взгляд на противоположную сторону. Там в лесу — русские. Разрывы снарядов и облака пыли с той стороны. Несмотря на чудесный осенний день над местностью царит какая-то скованность, неподвижность». Да, это действительно была великолепная осень. Природа припасла все свои краски, как будто специально, назло черноте воронок и серости пепелищ. Но время проводили не только в лесу. Ребята частенько выбирались в Гжатск. «В полдень идём с Алексом в город. Гостим у знакомых: у «тети» Наташи, нашего «молочника» с его тремя очаровательными детьми. Нас пригласили попить молока, но оставляют дома на ночь. Я плохо понимаю их разговор, но Алекса не отвлечь. Время проходит слишком быстро». К сожалению, возвращаться в лагерь всё же приходится, но и здесь продолжается знакомство с Россией: «Вечером мы подсаживаемся к русским в их бараке и слушаем песни их Родины. Лица их расслабляются, взгляд теряется вдали. Одни начинают, другие подхватывают — это впечатляет». С помощью Алекса, а в его отсутствие и самостоятельно Вилли постигал азы русского языка. Позже он вместе с Гансом брал уроки у Зины, работавшей в лагере. К сожалению, этого было ещё недостаточно для непринуждённой беседы, но выход всегда находился. Ребята часто заходили к Зине. Она говорила по-немецки, и от неё можно было много узнать о жизни в Гжатске, о настроении горожан. Как-то после обеда Граф заглянул к ней домой. Собственно говоря, он собирался попросить кое-что из продуктов. Звучала русская музыка с пластинки патефона. Слово за слово завязался разговор. Говорили о каких-то пустяках, но постепенно речь зашла об оккупации. Вилли поразило, как велика была ненависть к немцам — настоящее отвращение. Зина так много и с такой искренней любовью рассказывала о Москве, что он заочно проникся симпатией к этому городу. «С русскими легко общаться, — записал он в тот день в своём дневнике, — среди них я чувствую себя легко и свободно. Многое понимаешь даже по выражению лиц и жестам». Ребята тянулись к своим сверстникам. Питавшие неподдельную симпатию к соотечественникам Александра, они стремились к такому общению. Один такой случай запомнился Вилли: «В деревне, примыкающей к нашей, танцует молодёжь. Когда уже стемнело, я пошёл туда, в крестьянский дом — один немец среди русских. Первая реакция — удивление и скованность, но уже вскоре я оказался в гуще людей. Один из них неутомимо играет на гармошке, пары танцуют в тесноте. Поначалу я чувствую себя не очень уютно — объясниться ни с кем не могу, на меня никто не обращает внимания. Некоторые танцы хороши. Маленькая девочка танцует одна, прекрасно двигаясь. Зина тоже хорошо выделяется на общем фоне. Подрастающее поколение уже не знает старых танцев. Они предпочитают танцевать вальс. Мне нравится, как молодёжь проявляет свою солидарность: дело в том, что встречаться по вечерам вне собственного дома запрещено, но на следующее утро все, кого бы я ни встретил, отрицают свое присутствие на вечеринке. Класс!» Во время таких вылазок «на свободу» Александр познакомился со многими, с кем позже, после возвращения домой в Мюнхен, даже пытался поддерживать переписку. Как знать, чем закончилось знакомство с немецким солдатом для Зины, Нелли, Вали после прихода советских войск — не пришлось ли поплатиться за общение с «врагом»? Да и как сейчас узнать, почему вдруг русские девушки работали в немецком лагере? Эрих Шморель смутно припоминал, что поговаривали-де о их связях с партизанами. У Алекса была даже мысль перейти линию фронта — «к своим». Позже, в письмах в Россию, он намекнёт на те «обязательства», удерживавшие его до поры до времени в Германии — в стране, которую он с детства стремился покинуть. Во время одного из допросов, уже в 1943 году, когда Александр вынужден будет отвечать на вопрос о происхождении записанного у него адреса советского гражданина, он скажет, что познакомившись во время полевой практики в России на центральном перевязочном пункте «Планкенхорн» с военнопленным Андреевым, он записал его адрес, так как собирался навестить его после войны. По-видимому, Андреев и был тем советским офицером, с которым Алекс неоднократно встречался и от которого был наслышан о том, что «немецкие успехи объясняются во многом предательством русских генералов» — об этом он говорил в одном из своих писем с фронта. Письма на фронт, с фронта… Порой такое общение очень сильно растягивалось во времени. «Дорогой мой Щурёнок, — пишет в начале октября Александру его няня из Мюнхена, вернее, письмо она надиктовывает, поскольку писать не умеет. — Вот уже три месяца, а ты мне не написал ни одного слова, я очень беспокоюсь, так как слышала от родителей, что ты болен ангиной, но меня уже утешает то, что тебе, слава Богу, хорошо живётся и что ты хорошо питаешься. Теперь, дорогой Шурик, тебя поздравляю с днём твоего Ангела и днём твоего Рождения, крепко тебя обнимаю и целую, пошли тебе Бог много здоровья, счастья и скорого возвращения домой. Шурик, знай, моё дитя, что твоя старая няня по-прежнему всеми своими мыслями и сердцем вся с тобой и всегда молю Бога, чтобы он тебя, мой дорогой, сохранил на долгие и долгие годы, и всегда хочу быть возле тебя, родной мой, так не забывай свою преданную тебе твою няню и сделай мне радость — пиши мне, хотя бы, если у тебя нет времени, то открыточки. Я, слава Богу, жива и здорова, по-прежнему работаю и всё стараюсь, моя детка, что-нибудь тебе приготовить чего-нибудь вкусненького, побаловать тебя, когда приедешь домой. Береги себя, старайся не пить сырой воды и не простудиться, ведь сейчас уже наступает сырая погода, главное, не промочи ноги. У нас сейчас стоит прямо летняя погода, я хожу в церковь, у нас уже регулярное служение и я всегда, мой Шурик, за тебя помолюсь Господу Богу и Николаю Угоднику, чтобы тебя, радость моя, сохранили святые и послали бы тебе много здоровья и полного душевного спокойствия. Я верю, что Бог милостивый и услышит мои молитвы и вернёт мне моего Шурёнка и я опять буду спокойней и радостней жить. И ты, мой родной, тоже не забудь так преданную твою старенькую няню, что тебя вот уже двадцать три года так любит и всегда бережёт тебя от всего злого и хочет только всегда тебя видеть счастливым и радостным в жизни. Ты пишешь Лялюсеньке, что совершенно не почувствовал лета, так оно пролетело быстро и в работе, но ты не горюй, ведь впереди вся твоя жизнь, и даст Бог, что ты ещё много летних дней проведёшь в радости и как сам будешь хотеть. Так же быстро, как это лето, так же быстро пролетит зима, и ты, мой Шурёнок, приедешь, даст Бог, домой и будешь в кругу своих родных и друзей и возле своей нянюшки, которая уж будет стараться тебе скрасить ещё больше эти летние дни. Была я у тёти Ани две недели, хорошо отдохнула, и конечно, моя детка, всё старалась что-нибудь там достать для тебя, и мне удалось кое-что тебе приготовить вкусненького, которое лежит и ждёт, чтобы мой Шурёнок приехал и полакомился. И няня твоя только будет радоваться и смотреть на тебя со слезами в глазах, что могла тебе сделать радость и гордиться, что вынянчила такого хорошего и красивого, скажу прямо — как родного сына. Дома всё у нас благополучно, все здоровы и нам всем живётся хорошо. Крепко и горячо тебя обнимаю и целую. Пиши, родной мой, порадуй меня. Да хранит тебя Бог и Пресвятая Богородица! Всегда твоя няня». В то время, когда Алекс с друзьями проходил полевую практику в России, Кристоф Пробст был на такой же практике в лазарете военно-воздушных сил, но в Германии. Он очень переживал расставание с друзьями и был рад получить письмо от Ганса, где тот рассказывал о том, как проходит время под Гжатском. «Удивительно, что первое письмо от тебя пришло именно сейчас. Дело в том, что именно на этой неделе во мне пробудилась такая тоска по вам. Действительно, я всё пережил и увидел, как будто я всё время был с вами. Это расставание было для меня очень болезненно. Я всё чаще осознавал, насколько важны для меня эта настоящая мужская дружба, этот духовный или, скорее, даже сердечный обмен», — писал Кристоф на Восточный фронт. По его словам, он очень хорошо представлял себе по рассказам друзей всё, с чем им пришлось столкнуться в России, и так хотел бы быть с ними рядом. Но как и любой поход, как летний палаточный лагерь, подошло к концу и это интересное время: полевая практика в России закончилась. Друзьям повезло — они не участвовали в боевых действиях. Да, они насмотрелись крови — перевязочный пункт на передовой — не санаторий в тылу, но им не пришлось вступать в конфликт с собственной совестью, брать в руки оружие. 30 октября — последнее прощание со знакомыми. Весь этот месяц друзья находились в разных местах и вот — опять волнующая встреча на фронтовом сборном пункте в Вязьме. Ганс, Вилли, Губерт, Алекс вновь вместе, они отправились бродить по городу, наперебой рассказывая друг другу о событиях последних недель. У всех чувствовалась тоска по этим местам. Уезжать не хотелось. Особенно тяжело воспринял отъезд Александр. Ещё один солнечный осенний день в Вязьме был словно подарком судьбы. Ребята любовались красотой русской природы, как будто пытаясь сохранить в памяти все мелочи последних часов пребывания на русской земле. Никто впоследствии не мог вспомнить, чья это была мысль — купить самовар на память. Остатки денег пошли в общий котёл, и пузатый российский сувенир, сверкающий начищенными боками, отправился вместе с весёлой пятёркой на Запад. 1 ноября практикантов погрузили в «теплушку». Вскоре тесно набитый вагон прибыл в Смоленск. Город повидать не удалось. Становилось всё холоднее, и все жались к печке-«буржуйке», стоявшей посреди вагона. По дороге на Оршу настроение несколько поднялось: «Вечером мы пели и большая часть вагона подпевала, — писал Вилли в дневнике. — Чувствуется хорошая атмосфера — среди нас есть хорошие ребята. Время от времени Алекс играет на своей балалайке. Так хорошо!» Постепенно, с длительными стоянками почти в каждом крупном населённом пункте, состав продвигался на запад. Утром 4 ноября поезд достиг Бреста. Во время очередной продолжительной остановки разгорелся скандал — кто-то из ребят хотел подарить русским военнопленным сигареты. Охрана этого не допустила. Началась словесная перебранка. К счастью, до рукопашной не дошло, но сигареты передать так и не удалось. После этого на душе у всех остался неприятный осадок. В полдень состав наконец-то тронулся, мерно постукивая на стыках рельсов, пересёк Буг, и страна романтических надежд осталась позади.БОРЬБА
После возвращения с фронта Александр получил две недели отпуска. «Необычным и чуждым показалось мне всё здесь теперь, после того, как я побывал в России. Никогда больше не смогу я свыкнуться с местной европейской «культивированной» жизнью, никогда! Целыми днями я думаю только о вас и о России, — писал Алекс в ноябре подруге Вале в Гжатск, — по ночам мне снитесь вы и Россия, потому что моя душа, моё сердце, мои мысли — всё осталось на Родине. Здесь я тоже целиком и полностью живу в русском окружении: самовар и русский чай, балалайка, русские книги и иконы. Даже моя одежда — русская: рубаха, мои русские сапоги — одним словом, всё — русское. Мои знакомые тоже русские. Но пока я должен оставаться в Германии. Я смогу много тебе рассказать, когда мы увидимся вновь. Пока же ещё рано об этом говорить». Да, в те дни Александр не мог ещё написать, что по возвращении в Мюнхен друзья приняли твёрдое решение вести самую ожесточённую борьбу с гитлеровским режимом. Их оружием было слово, но в отличие от первого, опасного, но в масштабах страны всё же скромного опыта распространения первых листовок, теперь они были полны решимости воздействовать на самые широкие массы населения. Пребывание в России сплотило ребят, позволило каждому прояснить политическую позицию — свою и друзей. В деятельность по распространению листовок теперь был посвящён и Вилли Граф. Для решения масштабных задач нужны были связи с единомышленниками в других городах Германии. И деньги. Со связями неожиданно помогла Лило Рамдор. Как-то Алекс с Гансом были у неё в гостях. Ганс как бы невзначай завёл разговор о её родственнике по фамилии Харнак, жившем в Кемнице. В то время у них уже на слуху было дело о разоблачении группы антифашистов «Харнак — Шульце — Бойзен», ставшей впоследствии известной под кодовым названием «Красная капелла», которое проходило по документам гестапо. Племянник генерала вермахта Тирпица, старший лейтенант Харро Шульце-Бойзен и старший правительственный советник Арвид Харнак, стоявшие во главе организации в Германии, занимались сбором и передачей разведданных руководству Советского Союза. В 1942 году деятельность «Красной капеллы» была пресечена во время очередного сеанса радиосвязи. До конца Второй мировой войны 76 человек, причастных к деятельности «Красной капеллы», были осуждены, 46 из них были приговорены к смерти и казнены. Фальк Харнак, брат «заговорщика», оставался на свободе и предпринимал тщетные попытки по спасению родственника. В надежде, что он поможет установить контакт с организованными группами Сопротивления, Алекс и Ганс уговорили Лило устроить им встречу в Кемнице. Вскоре пришло письмо от Харнака — он был готов принять гостей. Предприятие, затеянное друзьями, было довольно рискованным. Во-первых, будучи прикомандированными к студенческой роте, они не имели права удаляться от Мюнхена более чем на 50 километров. Во-вторых, они почти наверняка знали, что за Харнаком следит гестапо. В то же время они утешали себя тем, что Фалька Харнака всё же не отстранили от составления программ радио вермахта — значит, доверие со стороны властей он ещё не потерял. Встреча прошла успешно, хотя и не явилась прорывом с точки зрения расширения поля деятельности «Белой розы». Ввиду своего достаточно сложного положения Фальк мог ограничиться только рекомендациями общего характера. В то же время Ганс и Алекс воочию убедились, сколь тяжёлые последствия может иметь антиправительственная деятельность для родных и близких участников Сопротивления. После ареста, давая показания об этой поездке, Алекс всячески отрицал какую-либо заинтересованность Харнака: «Я припоминаю, что во время первой встречи в Кемнице Харнак отклонил возможность сотрудничества. Надо сказать, что мы сообщили Харнаку о наших намерениях свергнуть существующую форму государства с целью замены её демократией. Так как Харнак занял отрицательную позицию, да и со дня на день ожидал отправки на фронт, мы попрощались, не договариваясь о дальнейших встречах». На самом же деле разговор протекал иначе: Фальк Харнак внимательно ознакомился с текстом листовок, дал ребятам некоторые рекомендации, и они договорились встретиться, как только решится вопрос со спасением арестованных членов группы «Красная капелла». Правда, в положительный исход сам Харнак уже не верил. По возвращении из Кемница Алекс и Ганс отправились в Ульм, где остановились у родителей Шоля. Переночевав, они утром выехали в Штутгарт. Ребята направились к Ойгену Гриммингеру — компаньону отца Ганса, который на время ареста Шоля-старшего вёл дела его компании. Одному из немногих взрослых, ему суждено было узнать о «Белой розе». Ганс доверял этому человеку и надеялся на поддержку. «Прибыв к Гриммингеру в Штутгарт, мы дали ему понять, что занимаемся изготовлением и распространением антигосударственных листовок и для этих целей нам нужны деньги, — давал показания Александр в марте 1943 года. — Во время этого визита Гриммингер не дал нам денег, но пояснил, что у него их сейчас нет, и Шоль должен будет ещё раз обратиться к нему, что тот и сделал две недели спустя с успешным результатом». Алекс знал, что всё сказанное им уже давно было известно гестапо, в том числе из показаний самого Ганса, и ему не было смысла что-то выдумывать или выкручиваться на допросе. Полученные 500 рейхсмарок поступили в «кассу» «Белой розы», хранительницей которой по негласной договоренности стала Софи Шоль. Во время пребывания в Ульме Алекс и Ганс посвятили в свои планы восемнадцатилетнего Ганса Хирцеля, приятеля брата и сестры Шоль. Хирцель вызвался организовать распространение листовок в Штутгарте. Активная борьба с режимом, в которую с головой погрузились друзья по возвращении из России, никак не давала о себе знать непосвящённым. Ребята продолжали посещать занятия в университете. Алекс время от времени появлялся в графической студии Кёнига, брал, как и раньше, частные уроки пластического искусства у профессора Баура. «Скоро, через неделю, я опять начинаю работать над скульптурой, — писал Алекс подруге Нелли в Гжатск, — и все мои работы дышат и будут дальше дышать, будут наполняться таким же беспокойством, которое не оставляет мне ни одной спокойной минуты. Причина этого беспокойства — кто знает? — быть может, мой характер, быть может, что-то другое». Алекс, Ганс и Вилли стали активно ходить на концерты, словно навёрстывая упущенное за три месяца. Граф даже записался в хор им. Баха и вечерами ходил на репетиции. Кристоф мучился из-за того, что по распоряжению командования вынужден был продолжать учёбу в Инсбруке, вдали от друзей: «Первые дни здесь были в высшей степени безрадостными — сплошная депрессия. Впрочем, я прежде явился в Мюнхен с рапортом, в котором обосновал своё желание остаться там, но меня даже слушать не стали. К этому я, в общем-то, уже привык. В Мюнхене я был ещё несколько раз — до глубокой ночи вместе с Алексом и Гансом. После длительного расставания это было хоть и недолгими, но всё же встречами. Кстати, Алексу очень понравилось в Р., он действительно неохотно вернулся домой — так тоже бывает!» Ганс теперь часто общался с профессором Хубером. Поддержка авторитетного учёного очень много значила для ребят, и, несмотря на скептическое отношение Хубера к фанатической любви Алекса к России, они понимали друг друга и могли обсуждать проблемы всевозможного характера. Алекс, Ганс, Вилли, Софи — все теперь охотно посещали лекции профессора. Однако учёбой дело не ограничивалось. Неофициальные встречи проходили уже, как правило, в квартире Шоля. Речь шла о продолжении акций по распространению листовок, о их своевременности и аудитории, на которую они должны были быть рассчитаны. Для Александра эта вторая, тайная сторона жизни значила очень много. Он ставил своё пребывание в Германии в прямую зависимость от успеха действий «Белой розы». Только борьба с ненавистным режимом, по его собственным словам, держала его в этой стране. Алекс чувствовал, что ждать падения Третьего рейха оставалось уже недолго. В канун католического Рождества он писал в Гжатск: «Несмотря на присутствие моего отца, которого я очень люблю, я не ощущаю себя здесь как дома. Меня тянет на Родину. Только там, в России, я смогу почувствовать себя дома. Единственное, что утешает меня — это то, что я знаю: это последнее Рождество, которое я праздную в чужой для меня стране, в одиночестве». И как бы в насмешку над военной цензурой, перлюстрировавшей всю переписку с оккупированными территориями, Александр завершил своё письмо в духе геббельсовской пропаганды: «В одном я уверен: теперь, после всех событий последних месяцев, как никогда стало совершенно ясно, что победа будет за Германией». Завершающаяся как раз в это время страшным поражением немецких войск Сталинградская битва не оставляла уже ни у кого из здравомыслящих жителей Германии надежды на победу в этой «молниеносной войне». Наступил 1943 год. Александр, верный семейным традициям, встречал православное Рождество и «старый» Новый год по-русски. «Вся русская молодёжь, — писал он Нелли в Гжатск, — собралась у одного знакомого — русского художника. Горела ёлка, было уютно — простая, непринуждённая атмосфера. Мы пели много русских песен. Завтра мы — вся местная русская молодёжь — будем встречать Новый году меня. Будем пить шампанское, вино и водку. И каждый бокал я буду пить за твоё здоровье — до дна!» Новый год привнёс изменения в настроениях студенчества. Выступление гауляйтера Гислера 13 января перед учащимися и преподавателями Мюнхенского университета в Немецком музее по случаю 470-летия этого высшего учебного заведения было воспринято с возмущением. Призыв Гислера к студенткам — меньше заботиться об учёбе и лучше родить ребёнка «в подарок фюреру» — шокировал даже симпатизировавших нацизму профессоров. О студенческих волнениях заговорил город. «Белая роза» не могла больше ждать. «Был у Ганса до вечера. Мы начинаем действовать. Лёд тронулся!» — эта запись появилась в дневнике Вилли Графа 13 января. Пятая листовка появилась с новой «шапкой» «Листовки движения Сопротивления в Германии» и носила подзаголовок «Воззвание ко всем немцам!». На этот раз Александр и Ганс решили показать свои проекты листовки профессору Хуберу. Вариант Шмореля Хубер отклонил как «прокоммунистический», и за основу приняли текст Ганса Шоля. Согласно показаниям Алекса в гестапо, решение принималось без него: «Я прочитал свой проект Гансу Шолю и профессору Хуберу и принял к сведению их несогласие. Поскольку в этот вечер я и без того собирался идти на концерт в «Одеоне», то я не стал задерживаться в квартире Шоля и ушёл. Поэтому я не могу сказать, как дальше развивалась беседа между Шолем и профессором Хубером». Как всё было на самом деле, уже никто не скажет, но факт налицо: после совместной редакции «Воззвание» обрело лаконичность политических определений и ясность изложения, стало действительно доступным каждому немцу, неравнодушному к судьбе своей Родины. По решению друзей тираж пятой листовки необходимо было впервые сделать по-настоящему массовым. Рассылка по разным городам, из разных мест должна была создать видимость большой и хорошо организованной подпольной группы. Тиражированием листовок на этот раз занялись в квартире Шоля на Франц-Йозефштрассе. Ганс и Софи, Александр и Вилли работали допоздна. В общей сложности было сделано свыше шести тысяч копий. «Это массовое изготовление мы осуществляли не на том множительном аппарате, который использовали для печати листовки «Белой розы», — давал показания Александр следователю гестапо. — В той же фирме на Зендлингерштрассе я приобрёл новый аппарат, примерно за 200 рейхсмарок. Куда делся старый, я не знаю». Со слов Шмореля, зафиксированных официальным протоколом, адреса они с Гансом брали из официальных справочников. Участие ещё кого бы то ни было, кроме них двоих, в изготовлении этой листовки Алекс категорически отрицал. Конверты подписывали сами, марки покупали, в основном, на одном почтамте, что по Леопольдштрассе. Деньги приходилось экономить, поэтому было решено часть «тайной почты» отвозить непосредственно в те города, где находилось большое количество адресатов. 26 января Александр отправился в сторону Австрии. В его рюкзаке было несколько сот листовок. Часть из них была аккуратно упакована в конверты, но в массе своей это были листки, сложенные как письма полевой почты. Скорый поезд прибыл в Зальцбург в первой половине дня. Алекс вышел в город и опустил пачки писем в два почтовых ящика, ближайших к вокзалу. Впоследствии станет известно, что 57 человек из нескольких сотен адресатов законопослушно сдали «Воззвание ко всем немцам!» в полицию. В этот же день, сев на ближайший поезд до города Линц, Александр повторил операцию с отправкой листовок. Уже поздним вечером он приехал в Вену, где и остановился в небольшой гостинице, зарегистрировавшись под своим собственным именем, не прибегая ни к какой конспирации. Распределив часть своего опасного груза по почтовым ящикам города, Александр отправил также пачку листовок, адресованных во Франкфурт-на-Майне. Такой сложной системой рассылки ребята пытались сбить с толку гестапо, чей интерес к авторам подобных текстов был очевиден. Всё свободное от занятий время несколько студентов проводили на квартире Шоля. Работая попеременно, они делали всё новые и новые оттиски, надписывали конверты, клеили марки. Когда закончились марки, ребята решились на более рискованный шаг. 28 января с наступлением темноты Алекс, Ганс и Вилли поделили между собой свежеотпечатанные листки, и каждый отправился по своему маршруту. Александр унёс свою «порцию» в папке, раскладывая по пути около входов в дома, во дворах, телефонных будках, около магазинов по нескольку экземпляров «Воззвания». Обход «своей» территории занял у каждого около двух с половиной часов. В половине первого ночи все собрались на квартире Шоля. Поделившись информацией о проделанной работе, решили устраиваться на ночлег. Алекс остался у Ганса, а Вилли пошёл к себе домой. Софи в ночной вылазке участия не принимала. «На вопрос об участии Софи Шоль в нашей антигосударственной пропаганде могу сообщить следующее, — давал показания Александр на третий день после казни Софи, Ганса и Кристофа. — Она выехала в Аугсбург в то же время, что и я, для распространения там листовки «Воззвание ко всем немцам!». Мне неизвестно, собиралась ли она из Аугсбурга в другие города. Я присутствовал, когда писали адреса на листовках, и среди них я видел адреса жителей Аугсбурга. Кто писал эти адреса, мне неизвестно. Меня не было, когда надписывали именно их». Несмотря на огромное количество распространённых экземпляров отклика от знакомых и близких ребята не получили, но, судя по небольшому количеству заявлений в полицию, труд юных подпольщиков не пропал даром. Их услышали! Гестапо было обеспокоено массовым появлением листовок. Пока ещё не была установлена параллель между рассылкой антигосударственных листков летом 1942 года и появившимся в конце января «Воззванием ко всем немцам!». Другой стиль, огромный тираж — тайная полиция активно занялась поисками авторов и распространителей. Появление листовок сперва в Вене, а потом в Мюнхене, письма со штемпелями почтовых отделений, находившихся в непосредственной близости от вокзала, подвели следователей к мысли, что они имеют дело с «гастролёрами» из Австрии. Были подняты все архивы и установлены личности, отличавшиеся политической неблагонадёжностью. Вскоре гестапо вышло на некоего Макса Штефля, бывшего библиотекаря Мюнхенского университета, уволенного с государственной службы за «антиправительственные настроения». Штефль навлёк на себя подозрения тем, что в день распространения листовок оказался в Вене. За ним немедленно было установлено круглосуточное наблюдение, однако радость следователей гестапо оказалась преждевременной. Слежка не дала никаких результатов. Безрезультатными оказались также и проверки поездов в Мюнхене, Штутгарте, Аугсбурге и других городах Баварии, а дальнейшее развитие событий показало, что бывший библиотекарь не имел никакого отношения к «Листовкам движения Сопротивления в Германии». Лило Рамдор вспоминала, что ещё перед Рождеством в её доме появился рулон серого ватмана шириной около метра. Его как-то вечером принёс Алекс. Развернув ватман на полу, он извинился, что ему приходится доделывать работу у Лило. Контурные буквы толщиной около 10 сантиметров и высотой в метр образовывали надпись «Долой Гитлера!». Алекс принялся вырезать их, следуя линиям карандашной разметки. После установления контактов с Фальком Харнаком от Лило у Алекса не было секретов в отношении деятельности «Белой розы». У неё хранились оттиски листовок, которыми Александр пополнял свой рюкзак перед каждым выходом «на задание». Поэтому шаблон с антигитлеровским лозунгом на полу собственной квартиры не вызвал у Лило особого удивления. Идея Алекса перейти к открытым акциям протеста воплотилась в жизнь лишь в начале февраля. Официальное сообщение о поражении 6-й армии генерала Паулюса под Сталинградом было передано 3 февраля по радио. Газеты также несли жителям Германии эту мрачную весть. В стране был объявлен четырёхдневный траур. Впоследствии на первом же допросе в гестапо Алекс заявит: «В то время как Ганс Шоль был подавлен событиями в Сталинграде, я, как симпатизирующий России, самым настоящим образом порадовался за положение русских на фронте». «Белая роза» моментально отреагировала на события в России: в ночь на 4 февраля Александр и Ганс, вооружившись шаблоном, ведёрком с краской и кисточками, отправились в центр Мюнхена с неслыханными по дерзости намерениями. «Однажды ночью, это была примерно середина февраля, мы (Ганс Шоль и я) вышли с Франц-Йозеф-штрассе инаправились в сторону университета, где я в нескольких местах, примерно на высоте груди, нанёс надписи «Долой Гитлера!», — давал позже показания Александр Шморель. — Ганс Шоль следил в это время, чтобы нас никто не заметил. Оттуда мы отправились кружным путём в центр города и добрались таким образом до Виктуалиенмаркта. По пути я наносил надписи в разных местах — без разбора. И на этот раз Ганс Шоль стоял «на стрёме». Из-за переутомления и так как уже стало светать, там мы и прекратили эту акцию и вернулись в квартиру Шоля. На обратном пути мы проходили мимо здания университета и не могли не сделать ещё одну надпись «Свобода!» (Без шаблона)». Мысль о том, как добиться максимально быстрого и массового эффекта, как обратиться ко всем жителям Мюнхена, нашла своё идеальное воплощение в лозунгах на стенах городских общественных зданий. Алекс приобрёл чёрную, как дёготь, краску заранее, в магазине. В ателье Эйкемайера друзья разжились подходящими кисточками и захватили ещё банку зелёной краски. В общей сложности в эту ночь появилось 29 надписей — в самом центре города! В некоторых местах к лозунгу «Долой Гитлера!» Александр добавлял перечёркнутую свастику. Надпись «Свобода!» появилась не где-нибудь, а справа и слева от центрального входа в университет. Воистину, безумству храбрых поём мы песню! Не укладывается в голове, что в крупнейшем городе гитлеровской Германии, в «партийной столице рейха», как величали в те годы Мюнхен, двое студентов в течение ночи беспрепятственно перемещались от одного здания к другому с краской, кисточками, перепачканным от неоднократного употребления шаблоном. Перенесём ситуацию на минуту, в порядке буйной фантазии, на знакомый нам город — Москву. Метровые буквы чёрной краской на здании Манежа, Центральном телеграфе, книжном магазине «Москва», Елисеевском магазине, кинотеатре «Пушкинский», полиграфическом комбинате «Известия» — и ещё 23 надписи на стенах домов и заборах одной из центральных улиц города! Чокнутые?! В этих акциях потрясает не только то, как Алекс и Ганс смогли совладать со страхом быть замеченными. У них не было заранее определённого плана: «Мы просто ощупывали оштукатуренную поверхность, чтобы определить, подходит ли она для надписей, — признается потом на допросе Ганс. — Кто хоть раз в жизни пробовал красить стены домов, поймёт меня». Кроме мужества для выполнения такого объёма работы требовались сноровка и значительные физические усилия. Неудивительно, что под утро Шоль и Шморель просто выбились из сил. Эффект был потрясающим. На следующее утро всеобщее оживление охватило город. Нет, у надписей не толпились зеваки, на стены домов не показывали пальцами, но о лозунгах знал весь Мюнхен. «Как мы отреагировали на них? — Герта Шморель смеётся. — Мы все обрадовались. Наконец-то было высказано то, о чём думали многие». Да ещё как высказано! Несколько дней бедные женщины-уборщицы, некоторые из них иностранки из оккупированных земель, пытались отскрести крамольные надписи с университетских стен. Потом ещё долго слова проступали на мрачном фоне оштукатуренных стен. «Несколькими днями позже я снова был в квартире Шоля, — давал показания Александр. — Когда я уходил вечером, Ганс Шоль сказал мне, что этой ночью он опять пойдёт «красить». К этому времени нанесённые нами несколько дней назад надписи уже давно были уничтожены. При этом Ганс Шоль сообщил, что этой ночью они пойдут вместе с его другом Вилли Графом». Вооружившись зелёной краской из ателье, двое друзей в ночь с 8 на 9 февраля сделали несколько надписей «Долой Гитлера!» и «Свобода!» на входе в университет. Рискованные выходки «Белой розы» привели в состояние повышенной готовности мюнхенское отделение гестапо. Сразу же после первой вылазки Ганса и Алекса гестапо организовало массовые следственные действия в течение одного дня, которые, правда, не увенчались успехом. Тем не менее вскоре были получены результаты криминалистической экспертизы, которая однозначно указала на родственное происхождение «Воззвания» и листовок, появлявшихся в Мюнхене летом 1942 года. Круг поиска сузился: преступники должны были быть из Мюнхена или пригородов. 5 февраля через газету «Мюнхенер нойесте нахрихьтен» полиция обратилась к населению с просьбой оказать содействие в поимке преступников. Солидное вознаграждение в размере тысячи рейхсмарок говорило о высокой степени озабоченности нацистского руководства. Кристоф Пробст посетил друзей в эти дни. Он привёз свой проект новой листовки, написанной под впечатлением поражения под Сталинградом. Впоследствии этот текст, найденный у Ганса, при аресте, будет стоить Пробсту жизни. Пока же он живо обсуждал с ребятами последние события. Кристоф расценил идею Шмореля с настенными надписями как детскую и просто безумную. Критика больно задела Алекса, но не более того. Бальзамом на его душу были слова Фалька Харнака, который приехал в Мюнхен 8 февраля и одобрил не только смелость поступка, но и меткость самого лозунга. В последующие дни ребята несколько раз встречались на квартире Шоля. Харнак и Хубер также принимали участие в этих встречах. Время проходило в спорах по принципиальным вопросам. В то время как Хубер категорически отрицал возможность какого бы ни было сотрудничества с Советским Союзом, Алекс считал, что у России большое будущее в политическом и экономическом плане. Он подчёркивал, что его отрицательное отношение к коммунизму ни в коей мере не сказывается на отношении к народу, к стране своего детства. Взгляды Харнака и Хубера на послевоенное политическое устройство Германии тоже разнились. «После того, как в квартире Шоля говорили на общеполитические темы, последовал обмен мнениями между профессором Хубером и доктором Харнаком, — давал показания Александр на очередном допросе. — При этом Харнак высказывался за социалистическую форму (национализация крупных предприятий). Профессор Хубер больше склонялся к демократическим воззрениям. Возможно, что Харнак порой высказывал коммунистические идеи, которые, в свою очередь, были отклонены профессором Хубером. По этому вопросу Харнак ссылался на книгу Сталина. В итоге все эти высказывания создали впечатление, что оба собеседника отдавали предпочтение демократической форме правления». Несмотря на довольно яростные споры, действительно разгоравшиеся по многим вопросам, профессор подтвердил, что поддержит студентов в их антигитлеровской борьбе. Этот, один из главных результатов встречи на квартире Шоля Александр сохранил в тайне. События последних дней под Сталинградом стали поводом для написания новой листовки. На этот раз автором её стал сам Хубер. «Студенты! Студентки! Наш народ потрясён гибелью воинов под Сталинградом. Гениальная стратегия ефрейтора мировых войн бессмысленно и безответственно погнала тридцать тысяч немцев на гибель. Спасибо, фюрер!» — гласил текст, написанный якобы студентами и для студентов. Не только Сталинград, но и события, происходившие в стенах Мюнхенского университета, вся политика высшего образования Третьего рейха нашли критическое отражение в этом воззвании. Согласившись со всеми основными положениями шестой листовки, ребята категорически настояли на том, что слова профессора об уничтожении русского большевизма «во всех его проявлениях», а также о необходимости спасения «прославленного немецкого вермахта» исчезли из предложенного текста. По словам самого профессора, после такого выпада он, возмущённый, покинул квартиру Ганса. Однако, несмотря на демарш учителя, листовка пошла в тираж. «После того, как эти места были вычеркнуты, я напечатал последнюю листовку на машинке. Я помогал также при её размножении и распространении», — рассказывал позже Алекс. На своих первых допросах он категорически отрицал причастность профессора Хубера к изготовлению листовок, брал всю вину на себя и Ганса. Позднее, под давлением показаний других участников процесса, Шморель всё же рассказал об участии профессора в работе группы. Завершая показания по вопросу об авторстве шестой листовки, Шморель сказал: «Если в этой связи речь идёт о том, что своими изменениями проекта последней листовки я выразил мой коммунистический настрой и фанатическую неприязнь к национал-социализму, то я со всей силой должен возразить такому упрёку, так как в действительности я являюсь убеждённым противником большевизма». За один день Ганс, Алекс и Вилли откатали около трёх тысяч экземпляров. В эти дни Софи находилась в Ульме, у родителей. Кристоф, приехавший на время из Инсбрука, намеревался вместе с Гансом разложить свежую партию листовок в здании университета. Алекс и Вилли в категоричной форме отговорили его от этой безумной затеи, памятуя о том, что Герта, жена Пробста, ждала третьего ребёнка. В понедельник, 15 февраля, листовки готовили к отправке. К работе подключилась и Софи, вернувшаяся от родителей. Адреса для рассылки взяли из старого студенческого справочника. Пока хватало конвертов, надписывали их. Потом адреса стали писать на сложенных листовках. По свидетельству Алекса, в ход пошли обе пишущие машинки, имевшиеся в квартире Ганса. Одна из них — портативная «Эрика» — принадлежала хозяйке квартиры. «Ганс Шоль, Вилли Граф и я разнесли изготовленные нами листовки по разным почтамтам и отправили их поздним вечером 15.2.43. Было около 22 часов. Мы вышли из квартиры Шоля и направились к 23-му почтовому отделению на Ветеринэрштрассе, где один из нас опустил свои листовки в почтовый ящик. Кто был первым, я уже не помню. От Ветеринэрштрассе мы направились через Каульбахштрассе к главпочтамту на Резиденцштрассе, где второй из нас опустил свою корреспонденцию в ящик». «Отметившись» таким образом ещё в двух местах, ребята направились домой. По пути к дому Шоля они не удержались от искушения написать на стене книжного магазина «Долой Гитлера!» и «Гитлер — массовый убийца!». Пока Алекс с Гансом занимались лозунгами, Вилли охранял подходы к магазину. У друзей оставалось ещё около полуторы тысяч листовок. Адресов для рассылки больше не было, и родилась идея разложить оставшиеся экземпляры в университете перед аудиториями. Сделать это надо было незадолго до перемены. «Эта мысль возникла то ли у меня, то ли у Ганса, — говорил впоследствии следователю Александр. — Во всяком случае, мы были едины в этом намерении. Когда мы обсуждали этот план, не было ни Софи Шоль, ни Графа. Я не могу сказать, узнал ли Вилли Граф о нашем плане впоследствии от Ганса Шоля». «Березина и Сталинград вспыхнули на Востоке. Павшие под Сталинградом взывают к нам!» — в сознании друзей опасность отступила. Удачные ночные вылазки, безнаказанные акции — всё это кружило голову, требовало продолжения. Чокнутые! Неужели они не понимали, что за успехом может последовать и поражение, и что поражение это будет ужасным? Ответом на этот вопрос могут служить лишь слова Александра, сказанные в лицо следователю и зафиксированные в протоколе 25 февраля: «Изготовлением и распространением наших листовок мы — Ганс Шоль и я — хотели добиться переворота. Мы отдавали себе отчёт, что наши действия направлены против сегодняшнего государства и что нас в случае расследования будет ожидать тяжелейшее наказание. Несмотря на это, мы не могли удержаться от подобных действий по отношению к существующему государству, потому что мы оба придерживались точки зрения — таким образом можно остановить войну».ПРОВАЛ
Может показаться странным, что группа студентов, которых никто никогда не учил навыкам конспирации или подпольной борьбы, на протяжении столь длительного времени водила за нос гестапо. При этом никто из ребят не прибегал к каким-то особым ухищрениям. Всё происходило быстро, изящно, без лишних слов. Как-то во время очередной выставки, посвящённой деятельности «Белой розы», невольно услышал разговор сотрудниц музея, принимавшего экспозицию. Две женщины обсуждали одноимённый художественный фильм, снятый немецкими кинематографистами. Фильм создавался при активном участии родственников казнённых. Родные привнесли в сюжет множество небольших деталей, имевших место в действительности. Умудрённые опытом просмотра боевиков и триллеров последних лет, научные сотрудники солидного исторического учреждения раскритиковали «методы работы» юных антифашистов в пух и прах: «Наши дети-то, поди, умнее себя вели бы, уж они бы точно придумали, как похитрее эти листовки распространять! А то уж больно просто всё у этих героев выходит». Не берусь судить о методах подпольной борьбы, и не дай бог, чтобы детям нашим довелось на практике знакомиться с ними. Верно только одно: вплоть до 17 февраля 1943 года у гестапо не было однозначной версии происходящих в городе антиправительственных акций. С 9 февраля, после того как надписи появились в городе во второй раз, за Мюнхенским университетом было установлено постоянное наблюдение. Через два дня начала работать специально созданная особая комиссия гестапо под руководством старшего окружного криминального секретаря Роберта Мора. «Появление относительно большого количества листовок в «столице движения» вызвало огромное беспокойство в высших эшелонах власти», — рассказывал он в 1951 году. Как-то утром в кабинете Мора, во Дворце Виттельсбахов раздался звонок руководства. Оказавшись через пару минут у старшего правительственного советника Шефера, Мор увидел груды листовок, штабелями разложенные на столе шефа. «Бросьте все дела, займитесь вот этим, немедленно!» К исполнению приказа приступили не мешкая. Спустя некоторое время удалось установить что все конверты, в которых рассылались листовки, были изготовлены на мюнхенской конвертной фабрике. Бумага, на которой печатались тексты, продавалась, вероятно, только в городе. Вдобавок к этому группа Мора получила сведения о том, что в 23-м почтовом отделении по Людвигштрассе некто приобретал необычно большое количество почтовых марок по 8 пфеннигов. 17 февраля особая комиссия передала пятую и шестую по счету листовки «Белой розы» профессору Хардеру, специалисту по древнегреческим авторам, для проведения анализа текстов с целью составления «политико-социологического» портрета искомых преступников. Портрет получился на редкость привлекательным: «Оба текста отличаются необыкновенно высоким уровнем. Это пишет человек, в совершенстве владеющий немецким языком, продумавший предмет до мельчайших подробностей. Автор точно знает, чего он хочет. Он знаком с деталями. Это немец, причём не эмигрант, а немец, который на протяжении нескольких лет до сегодняшнего дня переживал все политические события внутри страны. Он очень точно ориентируется в политических и личностных взаимосвязях, особенно в Мюнхене…» На пяти страницах заключения, отличающегося подробным анализом отдельных пассажей, Хардер неоднократно восхищается языком листовок: «Автор пишет великолепным немецким стилем, которым может пользоваться лишь человек, давно занимающийся немецкой литературой — предположительно учёный в области духовных наук или теолог». В заключение эксперт сделал утешительный вывод, что целевой аудиторией этой пропаганды, по-видимому, являлись академические круги и студенчество, но узкая направленность листовок и излишняя абстрактность формулировок не могли позволить широкой общественности последовать провозглашаемым преступным лозунгам. Неизвестно, сколько времени и какие ещё методы понадобились бы гестапо для того, чтобы выйти на «Белую розу». «Первый звонок» раздался вдали от Мюнхена: 17 февраля штутгартское отделение полиции задержало Ганса Хирцеля. Двое его знакомых, с которыми он поделился намерениями распространять листовки в Штутгарте, донесли на него в полицию. Гестапо немедленно разыскало Хирцеля и допросило. Впервые в официальном протоколе было зафиксировано имя Софи Шоль. Вечером того же дня Гансу удалось сообщить о случившемся родителям Шолей, жившим в Ульме. Но это ещё не был провал. По-настоящему роковым для «Белой розы» стал следующий день, четверг 18 февраля. Утром брат и сестра Шоль отправились в университет. С собой у них были коричневый чемоданчик и портфель, заполненные листовками. Кроме текста шестой листовки, они взяли остатки тиража пятой. В здании университета столкнулись с Трауте Лафренц и Вилли Графом. Теперь уже никто не узнает, сообщили ли Ганс и Софи друзьям о своих намерениях, но распространяли они свой опасный груз в пустынных коридорах альма-матер в одиночку. Они спешили опустошить чемодан до окончания лекции и пачками раскладывали антиправительственные листки около входов в аудитории. Не пропустив ни одной двери, Ганс и Софи оказались перед выходом на Амалиенштрассе. В чемодане оставалось несколько сот листовок. До перемены была ещё пара минут. Недолго мешкая, брат и сестра побежали на второй этаж, выложили несколько пачек там. Софи поднялась этажом выше. Длинный коридор, одна сторона которого образовывала лоджию, выходившую в просторный университетский холл, был пуст. Разложив на широких перилах десятки листовок, Софи разом опорожнила чемодан, сбросив остатки содержимого вниз. Это было ужасной ошибкой. Университетский слесарь Якоб Шмид, случайно проходивший мимо, увидел парящие в воздухе листки и бросился вверх по лестнице, надеясь застать хулиганов. Навстречу ему попались Ганс и Софи с пустым чемоданом. Шмид тут же задержал их и не отпускал до прибытия полиции. Брат и сестра не сделали ни малейшей попытки бежать, только Ганс выразил своё удивление: «Это просто смешно, какая дикость, арестовывать прямо в университете!» Гестапо не заставило себя долго ждать и вскоре увезло обоих. Весть об аресте молнией разлетелась по университету. Некоторое время в здание никого не впускали. Выходы тоже были перекрыты. Разбросанные по всему университету листовки собирали специальные группы. Все находки сдавали в ректорат. Александр узнал о случившемся в полдень, по пути на занятия. Судя по всему, происшедшее стало для него действительно неожиданностью. «Как я уже сообщал, Шоль и я обсуждали за день или за два до случившегося, что оставшиеся листовки можно было бы разложить в университете в Мюнхене. Детали, в особенности, когда это должно произойти и кто этим будет заниматься, мы не оговаривали», — давал впоследствии показания Алекс. Знакомый из студенческой роты по фамилии Айххорн, которого Алекс встретил, подъехав на трамвае к университету, рассказал ему, что только что в университете арестовали двоих студентов во время разбрасывания листовок. Имён он не знал, но Шморель сразу понял, о ком шла речь: «Я сразу подумал о Гансе Шоле и позвонил ему домой из телефонной будки. Никто не отвечал. Мои дальнейшие попытки дозвониться до Шоля не увенчались успехом». Они же не договаривались! Выходит, друзья в одиночку пошли на такой риск. Провал! Александр бросился к Вилли Графу, но того тоже не было. Ещё раз позвонил домой Шолям. Незнакомый голос ответил, что Ганса нет. Алекс тут же повесил трубку. Запыхавшись, он прибежал к Лило, попросил её связаться с родителями. На телефонный звонок отозвалась служанка Мария. Она была одна. Алекса, по словам девушки, никто не спрашивал. О том, как Александр понял, что квартира была под наблюдением, мы, вероятнее всего, уже не узнаем. На этот счёт существовала версия, что Шморель встречался с Юргеном Виттенштайном, который заходил под видом пациента к отцу Алекса на работу. Гуго Карлович принял «больного» и, накладывая дня отвода глаз повязку на ногу студента, поведал, что в доме на Бенедиктенвандштрассе сыну появляться уже нельзя. Как рассказывала Лило Рамдор, Алекс, услышав плохие новости, лишь заметил: «Быстро же работает гестапо». Он уже понял, что нужно бежать, причём как можно скорее. Александру требовалось срочно достать новые документы. С этим помог его приятель Николай Николаев-Гамасаспян, болгарский подданный, потомок русских эмигрантов армянского происхождения. Узнав об опасности, которой подвергался Александр, он дал ему свой паспорт. Друзья договорились, что в случае ареста, чтобы не пропадать вместе, они скажут, что паспорт Алекс украл, когда заходил на минутку к Николаю. Шморель сдержал слово: «Когда я второй раз заходил к нему, — давал он показания по этому поводу, — Николаев оставил меня на короткое время одного в комнате. Я воспользовался случаем и присвоил паспорт Николаева, чтобы на время бегства у меня были другие документы. На эту мысль меня навёл тот факт, что один из ящиков шкафа в комнате Николаева был выдвинут, и я заметил там паспорт. Таким образом, мне удалось присвоить его без особых затруднений». Перед уходом Гамасаспян дал Александру немного денег и кое-что из одежды. «Истинную причину — намерение бежать из Мюнхена — я скрыл от Николаева», — утверждал Александр во время допросов. По приключенческим романам Алекс знал, что в паспорте надо переклеить фотографию. Легко сказать! Он вновь отправился на квартиру к Лило. Было что-то около трёх. Лило забрала с собой паспорт, новую фотографию Шмореля и отправилась к своей хорошей знакомой, у которой могла быть штемпельная мастика. Вместе они осторожно отклеили фотографию Николая, заменили её новой и подрисовали печать. Возились довольно долго. Вернувшись домой с готовым паспортом, Лило обсудила с Алексом дальнейший план действий. Шморель собирался во что бы то ни стало встретиться на следующее утро с Вилли Графом. Он ещё не знал, что его друг к тому времени уже был арестован гестапо. Первые же допросы задержанных показали, что к ближайшему окружению Ганса и Софи Шоль принадлежали Вилли Граф и Александр Шморель. Оба немедленно были объявлены в розыск. Вилли боялся, что в случае его попытки к бегству это будет расценено как дезертирство, и потому даже не пробовал скрыться. Гестапо встретило его, когда он пришёл домой вечером того же дня. С Кристофом Пробстом дела обстояли ещё хуже: во время ареста в кармане Ганса был обнаружен рукописный вариант очередной листовки — вклад Кристофа в общее дело. Этот листок означал для Пробста смертный приговор. Его схватили, когда он пришёл за увольнительной, чтобы посетить жену. У них как раз родился третий ребёнок. Удивительно, что, несмотря на неожиданность случившегося и явную легкомысленность друзей, приведшую к провалу всей группы, никто из «Белой розы» не упрекал Ганса и Софи. Все восприняли происходящее как общее дело, как общую неудачу. По словам Герты Шморель, когда родители Александра попытались заговорить с ним об этом в тюрьме, он лишь махнул рукой — для него всё это было уже несущественно. «В этот четверг я бесцельно бродил по Мюнхену, не решаясь больше идти домой. В конце концов ночь я провёл в Английском саду», — на допросах Александр старался отвести подозрения от близких ему людей. Сообщение о том, что ночь с 18 на 19 февраля он провёл у Лило, могло бы обернуться для неё смертным приговором за укрывательство государственного преступника. Утром 19 февраля Алекс намеревался встретиться с Вилли на штарнбергском вокзале. Лило ожидала его неподалёку. Александр вернулся слишком быстро. Вилли не пришёл. Вместо этого на перроне сотрудники гестапо проверяли документы. Назад, на Принцен-штрассе шли пешком, опасаясь облавы в трамвае. В этот день Александр впервые не явился на утреннюю поверку, что лишь подтвердило опасения гестапо о его бегстве. Розыск Шмореля шёл полным ходом. Дома на Бенедиктен-вандштрассе в комнате Александра гестапо провело тщательный обыск. Во время осмотра вещей присутствовала его сестра Наташа. Усилия следователей увенчались успехом: найденные матрицы, копировальная бумага, большое количество почтовых марок, армейский револьвер русского производства с боеприпасами — всё это хоть и косвенно, но всё же свидетельствовало о незаконной деятельности подозреваемого. Весь дом осматривать не стали. День Александр провёл в доме Лило. Попытки связаться с Вилли не дали результатов. Надо было уходить. В ночь на 20 февраля Александр покинул Мюнхен. Доехав до Талькирхена, он отправился пешком в Эбенхаузен, следуя вдоль берега Изара. Алекс добрался до цели около трёх часов ночи. Из Эбенхаузена утренним поездом он уехал в сторону озера Кохель. О событиях этих дней Алекс подробно рассказывал следователю. В своих показаниях он старательно обходил все встречи, ни разу не назвав людей, приютивших его. О том, что ночевал он всё же не в стогах сена, станет известно лишь гораздо позже от общих знакомых, но ввиду частого несовпадения рассказов разных людей сегодня воссоздать точный маршрут Александра в те дни и ночи его бегства уже не представляется возможным. Вечером 20 февраля Шморель добрался до Вальхензее, где остановился на ночлег в пансионе «Эдельтрауд». Там он зарегистрировался под фамилией Николаев. «Прежде чем записаться под чужим именем, я оторвал со своего студенческого билета фотографию и переклеил её в болгарский паспорт Николаева, — сочинял Александр свою версию гестаповцам. — Чтобы полиция меня не заподозрила, я во время бегства уничтожил студенческий билет, солдатскую и сберегательную книжку». В воскресенье 21 февраля Александр отправился пешком в Крюнн, а оттуда — в Эльмау. Попытка скрыться у знакомых Пробста в «Замке Эльмау» оказалась неудачной — Алекса там не ждали. Пришлось обратиться к знакомому русскому кучеру, жившему также в Эльмау и сразу же согласившемуся приютить Алекса на ночь. Это Александр тоже утаил во время допросов. Михаил, так звали кучера, помнил Алекса в немалой степени благодаря его любви к лошадям, ведь они с Кристофом частенько бывали здесь в прошлом. К несчастью, на второй день кто-то из местных узнал Шмореля и сообщил об этом в полицию. Ещё раньше гестапо, осведомлённое о связях Пробста с Эльмау, направило в местное отделение соответствующий запрос. Поэтому двое полицейских немедленно последовали на проверку сигнала. Они потребовали документы незнакомца, но, к удивлению самого беглеца, не заметили подделки. «Хотя указанные выше жандармы имели определённые сомнения по отношению к моей персоне, задерживать меня они всё же не стали, и я мог продолжать свой путь в Кохель». Несмотря на удачный исход неожиданной встречи, оставаться в Эльмау дольше уже было опасно. Александр предпринял последнюю, отчаянную попытку уйти в сторону границы. Попасть в нейтральную Швейцарию — было бы верным спасением, но снежные заносы на горных дорогах и расстояние до альпийской республики, примерно равное тому, которое он проделал за все эти дни от Мюнхена, вынудили его отказаться от авантюрного плана. Ситуация сложилась безвыходная, и он решил вернуться в Мюнхен. «24 февраля весь день я кружил в районе Кохеля. В 19 часов я выехал оттуда на поезде, следующем через долину Изара в Мюнхен». По словам Алекса, около десяти вечера он прибыл в Мюнхен-Талькирхен и на трамвае поехал в сторону Курфюрстен-плац. Согласно показаниям в гестапо, он собирался посетить одну знакомую, которая, как он полагал, могла бы его обеспечить ночлегом. Он уже был на подходе к дому, когда объявили воздушную тревогу… Сразу же после исчезновения Шмореля в Мюнхене гестапо взяло в разработку все возможные адреса, по которым мог объявиться беглец. Оно нагрянуло в Вассербург, где жил Рудольф Гофман. Вполне лояльный гражданин рейха был обескуражен таким визитом. Квартиру обладателя золотого партийного значка обыскивать не стали, но строго предупредили о необходимости немедленно сообщить гестапо в случае неожиданного появления Шмореля. Гофман, который с большой симпатией относился к племяннику, потом искренне сожалел, что Александр не обратился к нему за помощью. Он был наивно уверен, что ему, старейшему члену НСДАП, получившему высшую партийную награду не за какие-то особые подвиги, а за принадлежность к первым ста тысячам национал-социалистов, тайная полиция поверила бы на слово и не стала бы обыскивать дом даже при более серьёзных подозрениях. Одновременно с гестапо делом «Белой розы» занималось и высшее руководство вермахта. По указанию рейхсляйтера Мартина Бормана из штаб-квартиры фюрера уже на следующий день после ареста Ганса и Софи Шоль, а также Вилли Графа фельдмаршалом Кейтелем был отдан приказ о немедленном увольнении арестованных студентов из рядов вермахта. Армия должна была быть чиста от подозрений в заговорах и антиправительственной деятельности! Уже 22 февраля состоялся первый, состряпанный на скорую руку, процесс по делу «Белой розы». Он длился не более двух часов. Председательствовал на нём специально прибывший из Берлина шеф так называемого «Народного суда» Роланд Фрайслер. Специалист по громким политическим процессам, считавший себя учеником советского «коллеги» Вышинского, Фрайслер устроил превосходное политическое шоу — показательное судилище над тремя студентами. Вердикт, предопределённый самой целью процесса, гласил: «смертная казнь». Приведение приговора в исполнение состоялось в день судебного заседания, а сообщение об очередной идеологической победе над врагами рейха появилось во всех газетах уже на следующее утро. Вернувшийся 24 февраля в Мюнхен Александр даже не мог предположить, до какой степени его личностью интересовалась государственная тайная полиция. В тот день одна из крупнейших газет рейха «Фёлькишер беобахтер» вышла с портретом Шмореля. «Вознаграждение 1000 марок за поимку преступника», — гласил заголовок объявления о розыске «бывшего студента», родившегося в Оренбурге и «до недавнего времени проживавшего в Мюнхене». Клеймо уголовника, разыскиваемого полицией, проставленное таким образом на личности Александра, говорят, возмутило даже видавшего виды командира студенческой роты, к которой был прикомандирован Шморель. Идеологи Гитлера в который уже раз наступили на больную мозоль руководства вермахта. Ведь по закону преступления, совершаемые солдатами, должны были расследоваться соответствующими военными органами, а уж никак не криминальной или политической полицией! И вот, появившись в мюнхенском районе Швабинг, в двух шагах от дома своей знакомой, Александр был застигнут врасплох воздушной тревогой. Деваться было некуда, и ему пришлось отправиться в ближайшее бомбоубежище. Оказавшись на пороге, Алекс не стал проходить внутрь, окликнув свою знакомую по имени: «Анна-Луиза!» Девушка его сразу узнала: он стоял в дверном проёме, хорошо различимый. И вот тут началось, на мой взгляд, самое мерзкое из того, с чем мне довелось познакомиться в своей жизни: предательство. Об этом никогда не говорили в семье Шморель, и я, по-видимому, так и продолжал бы считать, что не существует однозначной версии того, что же произошло в этом подвале. Если бы не документы, которые мне довелось обнаружить в мюнхенском Институте новейшей истории, а именно, послевоенное письмо госпожи Анны-Луизы Упплегер отцу Александра Гуго Шморелю. Да, она узнала Алекса. Но помнила об объявлении «о поимке опасного преступника» и задумалась. Вместе с находившимися с ней в бомбоубежище женщинами она начала обсуждать возникшую проблему: выдавать или не выдавать полиции пришедшего к ней молодого человека. Всё это время ничего не подозревающий Александр ждал свою знакомую, и когда она приняла, наконец, решение, думаю, он даже не предполагал, чем обернётся для него этот визит. Через несколько минут, где-то около половины двенадцатого, Александра арестовали. «Из бомбоубежища вышел мужчина лет сорока пяти в форме железнодорожника и объявил, что я арестован. Хотя я и попытался вырваться, но подоспевшие на помощь люди в униформе скрутили меня и передали полиции» — так запомнил Александр происходившее в тот миг на ступенях убежища. Анна-Луиза решила, что так будет правильно. Она даже пыталась объяснить это отцу Александра в том самом письме, написанном уже после окончания войны. Она просила Гуго Шмореля о прощении, но объясняла, что вряд ли могла поступить иначе, ведь в те февральские дни она ждала ребёнка, да и с гестапо шутки были плохи, и вообще, если бы даже не она, то Александра всё равно, рано или поздно, опознали бы по фото в газете… В этот же день его брат Эрих, находившийся в студенческой роте во Фрайбурге, вернувшись с лекции, обнаружил в вечерней почте письмо из дома. Мама взволнованно сообщала, что Шоль и Пробст казнены, а Шурику удалось скрыться. Эрих, не веря своим глазам, ещё держал развёрнутое письмо в руке, когда появившийся невесть откуда фельдфебель сообщил ему, что он арестован. Первый вопрос, заданный Эриху офицером, гласил: «Известно ли вам, за что вас арестовали?» Эрих молча кивнул. «Откуда?» — Шморель пояснил, что он как раз едва успел прочитать письмо матери. Буквально через два дня его отпустили, но ненадолго. Первый допрос Александра состоялся в мюнхенском отделении гестапо: «Я родился 16 сентября 1917 года в Оренбурге (Россия). То, что в качестве дня рождения указывается также 3.9.17 г., связано с русским календарём. Во время моего рождения отец находился в России в качестве врача. Когда родители поженились, я не знаю…» По требованию следствия Александр подробно, в хронологическом порядке описывал детали родственных связей, события своего детства и юности. Постепенно допрашивающие подобрались к сути предъявляемых обвинений. 12 страниц машинописного текста содержат чёткие и ясные ответы на вопросы следователей: «Да, знали! Стремились к свержению… Осознавали возможные последствия… Хотели прекратить эту войну…» Родные Александра предполагают, что в день первого допроса он ещё не слышал об ужасной судьбе своих друзей. Знай он о приведённой в исполнение казни, быть может, не стал бы брать на себя некоторые из эпизодов антиправительственных деяний «Белой розы». Как бы то ни было, но поспешность судебного процесса и самой казни Ганса и Софи Шоль, а также Кристофа Пробста привела к трениям между гестапо и вермахтом. Разгорелся спор по поводу разделения компетенции. С амбициями военных приходилось считаться, и потому второй процесс по делу «Белой розы» готовили более тщательно. Почти два месяца родные Александра надеялись на то, что ему всё-таки сохранят жизнь. На происходившее с ними самими они внимания уже почти не обращали. 26 февраля, в субботу вечером, опять арестовали Эриха. Его поместили в военную тюрьму Фрайбурга. Она произвела на него мерзкое впечатление. На следующий день его должны были переправить в Мюнхен. Двое солдат сопровождения ехали с Эрихом в одном купе. Как бывает в жизни, люди встречаются разные, и один из конвоиров явно симпатизировал арестанту. Он понимал, что сопровождает своего сослуживца, по сути не совершившего ничего предосудительного. Надо сказать, что почти до самой смерти доктор Шморель поддерживал с ним хорошие отношения. Другой охранник был явно настроен против молодого солдата и сразу же заявил, что «если что», то будет стрелять. Эту решимость он показывал всем своим видом на протяжении нескольких часов пути, что портило и без того не слишком весёлую атмосферу. В Мюнхене сотрудники гестапо первым делом доставили Эриха домой. Ему велели переодеться в гражданскую одежду — лишний раз связываться с военными тайной полиции всё же не хотелось. Родители и Наташа находились уже в тюрьме, няни и служанки на месте не оказалось. Два или три дня спустя Эриху дали возможность встретиться с родителями. Во время встречи присутствовал какой-то чин гестапо. Эрих застал родных в очень взволнованном состоянии. Оказывается, буквально за несколько минут до его прихода им случайно удалось повидаться с их Шуриком. По-видимому, тюремные служители перепутали братьев и вместо Эриха привели на свидание Александра. Увидев ошибку, офицер буквально вытолкал Алекса из камеры: «Не этого сына, другого!» — прорычал он подчинённым. В заключении семья Шморель провела около трёх недель. Эрих находился в двухместной камере, и к нему всё время подсаживали людей, которые день за днём подробно рассказывали ему о своей судьбе, буквально изливая душу. Он подозревал, что таким образом его пытаются «раскрутить» на откровения, но, учитывая то, что ему и без того было слишком мало известно о жизни родного брата в последние годы, порадовать «подсадных уток» было нечем. Впрочем, вскоре провокации прекратились. Отпустили старших Шморелей и Эриха вместе — так же внезапно, как и забирали. Они вернулись домой поздно. Уже стемнело. В тот вечер к ним приходили соседи — приносили какие-то гостинцы, говорили что-то в поддержку. Эрих помнит, как один из них всё выговаривал родителям, что они раньше ничего не рассказывали о своей антигитлеровской борьбе… Все разговоры в последующие недели крутились вокруг возможного исхода процесса, которого все ждали с внутренним напряжением и тайной надеждой. Спустя несколько дней после освобождения Эрих вернулся во Фрайбург. Когда он приехал в свою студенческую роту, то увидел, что все его сослуживцы уже получили повышение по службе. На следующее утро во время общего построения командир вызвал его перед строем: «Младший офицер Шморель!» — «Я!» — «Вам присвоено очередное звание «фельдфебель»!» Жизнь продолжалась своим чередом. Александр ждал суда. Лишь в девяностые годы перестройка эры Горбачёва и последовавшее за ней объединение Германии позволили узнать, пусть и сухими фразами официальных протоколов, о том, что думал и говорил Александр в ожидании приговора. Протоколы допросов Шмореля по обвинению в государственной измене вместе с другими документами по делу «Белой розы» были вывезены по окончании войны в Советский Союз. Ставшие в восьмидесятые годы доступными для историков материалы о его соратниках были переданы в Федеральный архив в Потсдаме. В Москве осталось лишь досье нашего соотечественника. Копии этих архивных документов брат Александра получил несколькими годами позже. Как стало известно, Алекса допрашивали сразу же после задержания два дня подряд. Последующие допросы повторялись с неравномерными временными интервалами и служили уточнению отдельных эпизодов по делу. Из текста протокола неясно, какие именно вопросы задавали Шморелю, в каком порядке он отвечал на них. Лишь самые принципиальные моменты нашли своё отражение в официальных документах. «На вопрос, к какому политическому направлению я принадлежу и как отношусь к национал-социализму, я однозначно признаю, что не считаю себя национал-социалистом, потому что меня в большей степени интересует Россия. В любви к России я сознаюсь безусловно. В то же время я отрицательно отношусь к большевизму, — излагал Александр свою жизненную позицию непримиримым врагам на первом же допросе. — Моя мама была русской, я родился там — как мне не симпатизировать этой стране? Я открыто заявляю, что я монархист, но это относится не к Германии, а к России. Если я и говорю о России, то вовсе не хочу прославлять большевизм или причислять себя к его приверженцам, я говорю лишь о русском народе и о России как таковой». Александр не скрывал своих политических воззрений. Более того, он обосновывал их, подтверждая примером всей своей жизни. Только так можно объяснить его подробный рассказ следователям о том, как он пытался отказаться от присяги на верность Гитлеру. Каждого из таких «примеров» могло бы хватить на пару лет тюремного заключения. Чего стоило, например, заявление Александра о том, что он не стал бы с оружием в руках выступать против своих русских братьев? Неужели он не понимал, что каждое его подобное слово ложится тяжёлым камнем в фундамент обвинительного заключения? Чокнутый! Неужели инстинкт самосохранения подвёл молодого студента? Не оговаривать товарищей, не предавать друзей — это святое, но зачем же своими руками подписывать себе смертный приговор? По свидетельству Эриха, встретившего брата в тюрьме, Александру всё это было уже безразлично. Совместная борьба, прервавшаяся вдруг нелепо, неожиданно, — закончилась. Больше незачем было скрывать свои мысли, чувства. Александр говорил, а следователи фиксировали его мысли на бумаге. Единственное, чего старательно избегал Шморель — это имён, фамилий своих знакомых, ещё не втянутых гестапо в этот грандиозный следственный водоворот. «По существу дела: вернувшись с Восточного фронта, я продолжил обучение в Мюнхене в качестве студента медицины. Особую дружбу я поддерживаю уже на протяжении двух лет с Гансом Шолем, который в последнее время проживал в Мюнхене, Франц-Йозеф-штрассе, номер неизвестен». Зная об аресте друзей, Александр не скрывал их совместных тайных занятий, но старательно обходил в своих показаниях всех тех, кто вольно или невольно мог попасть под жернова нацистского правосудия: родители ничего не знали, владельца пишущей машинки он обманул, деньги добывали сами, Вилли Граф хотя и присутствовал при изготовлении оттисков, но участия в написании листовки не принимал, о помощи Софи брату не могло быть и речи. Весь первый допрос проходил в таком духе, и со стороны могло создаться впечатление, что кроме двух злоумышленников и пары свидетелей в деле на самом деле никто не замешан. Однако в гестапо тоже работали профессионалы. Так или иначе, но в первый же день Александр сознался в том, что профессор Хубер был посвящён в антиправительственную затею молодых подпольщиков, что указал им на опасность таких действий и, как показалось Алексу, не собирался предавать их. Как знать, чего стоило Александру беспримерное отрицание всех и вся, его несгибаемая политическая позиция на протяжении многочасового допроса в первый же день после ареста? Во время одной из встреч в Мюнхене я почувствовал, сколько мук доставляла Эриху одна только мысль: не пытали ли его брата, добиваясь правдивых показаний? Сейчас уже некому ответить на этот вопрос. Второй допрос 26 февраля был ещё более длительным, подробным, неприятным. Каки накануне, Александр вновь подчеркнул свою приверженность России, неприязнь по отношению к большевизму и своё стремление остановить войну между двумя великими государствами любой ценой. Он не скрывал, что именно пропаганде этих идей и должны были послужить листовки, в изготовлении которых он принимал самое непосредственное участие: «В настоящее время я не мог довольствоваться тем, чтобы просто быть «тихим» противником национал-социализма. Беспокоясь о судьбе обоих народов, я собирался внести свой вклад в изменение строя рейха», В лице Ганса Шоля, по словам Алекса, он нашёл верного соратника. Призывами к сопротивлению и саботажу они пытались удержать военную машину, повернуть события вспять, найти оптимальное решение для обеих воюющих сторон. «Нам было абсолютно ясно, что изготовление антиправительственных печатных листков является действием, направленным противнационал-социалистического правительства, которое в случае расследования может привести к тяжелейшим последствиям. Всё, что я делал в этой связи, я делал осознанно и даже был готов к тому, что в случае преследования мне придётся расстаться с жизнью». Среди множества вопросов о соучастниках, источниках финансирования Александру не удалось избежать объяснений по поводу возможной работы на вражеские спецслужбы: «Предположения о том, что я состоял в связи с российскими гражданами либо организациями с целью передачи разведывательной информации, не соответствуют действительности. Я категорически возражаю против подобных обвинений как не имеющих под собой никакой почвы». Без тени сомнения подписывая собственноручные признания в государственной измене, Шморель в резкой форме отвергал попытки представить его в образе «врага народа». Четыре следующих протокола, датированные 1, 11, 13 и 18 марта, были посвящены уточнению деталей. В частности, речь постоянно заходила об отношениях с Фальком Харнаком. Возможная связь «Белой розы» с «Красной капеллой» казалась такой очевидной, что следователи гестапо снова и снова отрабатывали каждый известный им факт, пытаясь поймать допрашиваемых на неточностях или противоречиях показаний. Всё это время заключённые находились в одиночных камерах тюрьмы предварительного заключения, не имея никаких сведений друг о друге. По рассказам Лило, в помещении над ней ночью кто-то ходил взад-вперёд. Яркий электрический свет не выключался круглые сутки. Это тяжело действовало на психику. Дежурный заключённый, разносящий еду и просовывающий её в маленькие окошечки в двери, шепнул девушке, что над ней расположена камера Александра. Лило опасалась провокации и не знала, верить ли словам незнакомого человека. Арестантов не выводили из камер даже во время массированных бомбёжек Мюнхена. Лишь однажды Харнак встретился в коридоре с Алексом. С багровым лицом и горящим взглядом Шморель шёл с очередного допроса. Они сдавленно поздоровались. Спустя несколько томительных недель, когда вопросы следователей иссякли, друзей распределили по разным тюрьмам в ожидании судебного процесса. Александра Шмореля, профессора Хубера и ещё несколько человек перевели в следственный изолятор Нойдек. Таким образом, гестапо направило все дела в руки нацистской юстиции. Однако своё последнее слово Александр сказал, не дожидаясь итогов приговора Народного суда: 8 марта он написал политическое завещание, поставив тем самым для себя точку в этом деле и воспринимая всю последующую юридическо-административную суету следователей, тюремщиков, прокуроров и судей как формальность, обусловленную правилами этого кошмарного идеологического спектакля.ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ (Показания Александра Шмореля)
Если вы меня спрашиваете, какую форму государственного устройства я предпочитаю, то я отвечу: для каждой страны свою собственную, ту, которая соответствует характеру государства. Правительство, по моему мнению, является всего лишь исполнителем народного волеизъявления. По крайней мере, оно должно быть таковым. В этом случае оно, само собой разумеется, пользуется доверием народа, нравится народу — оно же является его представителем, олицетворяет его мысли и волю, оно — сам народ. А народ не может быть против такого правительства. В то же время оно должно быть его предводителем, ибо простой человек не может вникать во всё сам, решать всё самостоятельно, да он и не собирается этого делать — он доверяет своим предводителям, интеллигенции, которая разбирается в этом лучше него. Этот слой интеллигенции должен быть единым целым со своим народом, должен думать о том же самом, чувствовать то же, что и народ, иначе они не поймут друг друга и интеллигенция будет проводить свою собственную политику, не обращая внимания на народ, не считаясь с его интересами, несмотря на то, что народ в любом случае будет являться большинством. Поэтому я ни в коем случае не причисляю себя к решительным сторонникам монархии, демократии, социализма, как бы ни назывались все эти различные формы. То, что хорошо и даже великолепно для одной страны, может быть, для другой как раз наоборот — то, что меньше всего подходит ей. Вообще, все эти формы правления являются лишь внешней оболочкой. Поскольку я часто заявлял о себе как о русском, то считаю, что единственной возможной формой государственного устройства России является только царизм. Я не хочу этим сказать, что форма правления в том виде, в каком она существовала до 1917 года, является моим идеалом — нет. У этого царизма тоже были ошибки, быть может, даже очень много ошибок — но в основе своей он был верен. В лице царя русский народ имел своего представителя, своего отца, которого он горячо любил — и по праву. В нём видели не столько главу государства, сколько отца, кормильца, советника для народа — опять-таки с полным на то основанием, ведь именно таким было отношение между царём и народом. Непорядок был в России лишь с интеллигенцией, почти со всей, которая полностью потеряла связь с народом и никак не могла её возобновить. Однако несмотря на эту смертельно больную интеллигенцию, а следовательно, и на правительство, единственно верной формой правления в России я вижу царизм. Безусловно, в государстве, которое я себе представляю, будет существовать и оппозиция. Она будет существовать всегда, поскольку очень редко весь народ бывает единого мнения, но и её необходимо терпеть и уважать. Ведь она вскрывает ошибки действующего правительства (а какое правительство не делает ошибок!) и критикует. Правительство должно быть просто благодарно за то, что ему показывают ошибки, которые нужно исправлять. Вы спрашиваете меня, почему я не согласен с нац. — соц. формой правления? Потому что она, как мне кажется, не соответствует моему идеалу. По моему мнению, нац. — соц. правительство делает слишком большой упор на ту власть, которую она сконцентрировала в своих руках. Оно не терпит оппозиции, критики. Поэтому ошибки, которые допускаются, не могут быть распознаны и устранены. Кроме того, я считаю, что оно не являет собой выражения народной воли. Оно делает невозможным для народа высказывать своё мнение, менять что-либо в нём самом, даже если он (народ) с чем-либо не согласен. Оно создано, и в нём ничего нельзя критиковать, ничего нельзя менять — это я считаю неверным. Правительство должно идти в ногу с народной мыслью, быть гибким и не только приказывать. По-моему, правительство, если оно видит, что народ не согласен с ним по какому-нибудь вопросу, должно в первую очередь позволить самому народу высказать свою точку зрения и, во-вторых, исправить эту ошибку. В противном случае оно не отвечает воле народа и работает, подчас, против него, и тогда оно уже не представляет собой народ. Я считаю, что сейчас каждый гражданин просто боится высказать что-либо правительственным органам, ведь его накажут за это. Вот этого нужно избегать. Я даже склоняюсь к тому, чтобы отдать пальму первенства авторитарным формам государственного правления, а не демократическим. Ведь мы все знаем, куда завели нас демократии. Авторитарную форму я предпочитаю не только для России, но и для Германии. Только народ должен видеть в своём предводителе не только политического вождя, но в большей степени отца, представителя, защитника. А в нац. — соц. Германии это, как мне кажется, как раз не тот случай. Когда началась война, я почувствовал, что немецкое правительство занялось насильственным увеличением своих территориальных владений. Это ни в коей мере не соответствует моему идеалу. Наверное, народ имеет право встать во главе других народов и возглавить это движение ко всеобщему породнению всех наций — однако ни в коем случае не насильно! — лишь тогда, когда он познает освобождающее слово, когда он произнесёт его и ему последуют добровольно все народы, постигшие истину и уверовавшие в неё. Я уверен, что этим путём в конце концов произойдёт породнение всей Европы и мира — путем братства и добровольного следования. Вы можете представить себе, как больно мне было, когда началась война с Россией — моей Родиной. Конечно, там царит большевизм, но, тем не менее, она остаётся моей Родиной, русские остаются моими братьями. Ничего не желал бы большего, чем если большевизм исчез бы, но, конечно, не за счёт потерь таких важных областей, какие Германия завоевала до сих пор, которые, по сути, охватывают почти весь центр России. Я думаю, что как немцы, вы не думали бы иначе, если, предположим, Россия захватила бы такую же большую часть Германии, как Германия сделала это на востоке! Это же совершенно естественное чувство — преступно было бы испытывать какие-то другие чувства по отношению к своей собственной Родине. Это доказало бы лишь, что вы — человек без рода, без племени, какой-то интернациональный пловец, который стремится лишь туда, где ему лучше.Мюнхен, 8 марта 1943 г.Александр Шморель
ФИНАЛ
Бюрократическая машина нацистского правосудия завертелась. Потянулись томительные недели ожидания — ожидания суда, приговора, смерти. Не рассчитывая на мягкий вердикт для своего родственника, Рудольф Гофман решил опередить события и 17 марта направил прошение на имя рейхсфюрера СС Гиммлера. Обладатель золотого партийного значка НСДАП просил пощадить чувства сестры и сохранить жизнь её сыну Александру. Обращение старейшего члена партии было высочайше рассмотрено. Спустя месяц Гофман даже получил письмо за подписью Гиммлера, в котором шеф гестапо выражал сожаление по поводу «недостойного деяния Александра Шмореля» и сообщал, что не может содействовать помилованию. В качестве обоснования необходимости смертной казни он предлагал «уважаемому партайгеноссе» лично ознакомиться с материалами дела. Первопричиной зла, по его глубокому убеждению, было присутствие русской крови в жилах Александра. Таким образом, приговор был вынесен, не дожидаясь юридических формальностей. События тех дней довольно подробно описывает Фальк Харнак. Лишь двое из четырнадцати подсудимых — Шморель и Хубер — могли выбирать адвокатов. Защитников для остальных назначил сам Народный суд. За три дня до процесса появился официальный текст обвинительного заключения, в котором наряду с «призывами к саботажу в военное время», «разложением вермахта» и прочими прегрешениями имелись даже пассажи о «гнусном оскорблении фюрера». Дата суда была назначена на 19 апреля 1943 года. Ранним утром обвиняемых на зелёном тюремном фургоне доставили во Дворец юстиции, заезжая по пути во все тюрьмы временного содержания и забирая группы остальных заключённых. За долгие месяцы они впервые оказались вместе. Машина ехала через весь город. Разговаривать было нельзя. Настроение было тяжёлое, но, как отмечает Харнак, «между нами царила какая-то необъяснимая внутренняя гармония». Сквозь щели в кузове фургона время от времени можно было увидеть кусочки мюнхенского пейзажа. Во дворе подсудимых встретил полицейский кордон. Им сковали руки и препроводили в большую камеру. Друзья могли обмениваться лишь краткими репликами. Александр молчал. Он уже всё решил и не тешил себя никакими надеждами. Через какое-то время двери открылись. Друзей, не снимая наручников, повели по длинному коридору, вдоль стен которого толпились люди: студенты Мюнхенского университета, рабочие, солдаты. В их взглядах не было осуждения, лишь сочувствие. Первым в зал судебных заседаний вошел Шморель. Следом за ним — профессор Хубер. Затем проследовали остальные. Рядом с каждым из подсудимых находился охранник. В зале было много народа — процесс был «открытым», то есть на нём присутствовали исключительно партийные функционеры, агенты гестапо, старшие офицеры. Среди этой безликой массы выделялись два боевых генерала, обер-бургомистр Мюнхена, заместитель гауляйтера и другие высокопоставленные особы. Их настрой был диаметрально противоположен настроению, царившему в коридоре. Вскоре открылась дверь рядом со столом заседаний, и из неё появились члены суда. За председателем Фрайслером проследовали директор Земельного суда Штир, группенфюрер СС, генерал-лейтенант Брайтхаупт, группенфюрер СА Бунге, группенфюрер СА, госсекретарь Кегльмайер. Генеральный имперский прокурор занял место за своим столом. В свойственной ему вызывающе хамской манере Роланд Фрайслер зачитал отдельные пункты обвинения. Как рассказывал Харнак, после оглашения текста листовок «Белой розы» случилось непредвиденное: адвокат профессора Хубера вскочил, выкрикнул приветствие «Хайль Гитлер» и с пафосом обратился к председателю Народного суда с просьбой освободить его от защиты клиента. «Поскольку я лишь сейчас узнал о содержании листовок, то как гражданин Германии и блюститель права германского рейха считаю для себя невозможным осуществлять защиту такого чудовищного преступления». Торжествующий Фрайслер одобрил поступок «адвоката». Первым к барьеру вызвали Александра. Бесконечный поток обвинений обрушился на голову студента. То и дело срываясь на крик, беснуясь и извергая одно оскорбление за другим, Фрайслер не давал обвиняемому ни секунды на парирование того или иного чудовищного измышления. Шморель не собирался оправдываться. Но даже попытки объяснить мотивацию своих поступков обрывались председательствующим на полуслове, тонули в истеричной демагогии Фрайслера. На вопрос о том, что подсудимый делал на фронте, Алекс спокойно ответил: «Заботился о раненых в соответствии с моими врачебными обязанностями». «Когда русские наступали, — спросил Фрайслер, — вы не стреляли по ним?» Утвердительный ответ Александра, пояснившего, что он не стрелял в русских, как не стал бы стрелять и в немцев, взбесил председательствующего, дав повод для очередного упражнения в риторике. Несмотря на бешеный темп ведения заседания — а технику политического процесса Фрайслер отточил до совершенства — Шморелю всё же удалось высказать несколько суждений. В частности, он довёл до сведения присутствующих факт отказа от принятия присяги Гитлеру и своё русско-немецкое происхождение, но это не интересовало ни судей, ни сидящую в зале массовку. После Шмореля вызвали Хубера, которому сразу же сообщили, что университет лишил его профессорской должности и докторского звания за «разложение немецкой молодёжи». Профессору стоило немалых усилий выдержать неослабевающий натиск Фрайслера. Третьим перед судом предстал Вилли Граф. Процесс длился 14 часов. В обеденный перерыв, когда члены Народного суда удалились из зала, подсудимых оставили на своих местах. Литровая кружка воды, принесённая одним из охранников, одна на всех, облегчения не принесла. Около девяти вечера прокурор начал зачитывать обвинительное заключение. Суду предлагалось приговорить к смертной казни Шмореля, Хубера, Графа и Гриммингера. Последнее слово старших товарищей было произнесено каждым как хорошо подготовленная финальная речь, причём в случае с Гриммингером произошёл инцидент, спасший впоследствии ему жизнь. При обсуждении вопроса о деньгах, которые он дал студентам, вмешалась его секретарша, показания которой свели всю политическую подоплёку дела к простой поддержке «бедствующих студентов». Граф и Шморель ещё раз коротко подтвердили своё осознанное участие в «Белой розе» во имя «новой Германии». Поздно вечером всех подсудимых препроводили в общую камеру, где им предстояло дожидаться вынесения приговора. Густая каша, предложенная заключённым, не лезла в горло после многочасового невероятного нервного напряжения. Никто даже не присел. Все ходили взад и вперёд в томительном ожидании. Присутствующие охранники ни во что не вмешивались, и казалось, происходящее мало интересовало их. В половине одиннадцатого вечером было предложено проследовать на оглашение приговора. Всем подсудимым опять надели наручники. В зале заседания присяжных Фрайслер зачитал приговор, сопровождая его собственными пространными комментариями. Александр Шморель, Курт Хубер и Вилли Граф были приговорены к смертной казни. Остальные получили различные сроки тюремного заключения или каторжных работ. Фальк Харнак был оправдан. Друзья восприняли приговор внешне спокойно. Что творилось в душе каждого из них, мы никогда не узнаем. Лишь благодаря подробному описанию Фалька Харнака можно реконструировать хронологию событий того страшного дня. Осуждённых сразу вывели под конвоем во двор, где их уже ожидала тюремная машина. Началась поездка по ночному Мюнхену. Нужно было забрать личные вещи в тюрьмах, где молодые люди содержались до суда. Сперва заехали в Нойдек. Александру, профессору и другим, «квартировавшим» здесь несколько недель, понадобилось не больше четверти часа. Дальше машина направилась в «Корнелиус». Тюремные служащие уже приготовили нехитрые пожитки Графа и Харнака. Зелёный фургон тронулся. Друзей везли на окраину города — в Штадельхайм. Через полчаса машина остановилась. Скрипнули ворота тюрьмы, и группа заключённых оказалась во дворе. В приёмнике их ожидал инспектор со списком арестантов в руке. По свидетельству Харнака, вновь прибывших стали сортировать как товар: «Смертная казнь — в правый угол, колония — в левый, тюрьма — вон туда». Фалька, недолго думая, отправили к «смертникам». Прощание было неописуемо. Шмореля, Хубера, Графа и Харнака повели длинными извилистыми коридорами, пока они не оказались перед открытыми дверями, обитыми железом. На каждой двери была прикреплена чёрная табличка с белыми буквами «TU» — «смертный приговор». У входа лежали пакеты для одежды. Как писал позже Харнак, смертникам запрещалось спать в одежде, и на ночь их заковывали. Перед тем, как разойтись, теперь уже навсегда, друзья коротко, но очень тепло попрощались. «Передай привет Лило, я много о ней думал», — сказал Алекс напоследок Фальку. Тайным надеждам родных и друзей Алекса на чудо не суждено было сбыться. Памятуя о незамедлительном приведении приговора в исполнение после первого процесса по делу «Белой розы», родители написали прошение о помиловании сына на имя самого фюрера. Они умоляли «вождя» позволить Александру в порядке исключения пасть как солдату на поле сражения, а не под топором палача. Этот крик души Гуго Карловича и Елизаветы Егоровны был отклонён, их вновь арестовали. Вступаясь за «врага народа», который был их собственным сыном, родители сами «выступили против государственного строя» и, пользуясь терминологией Гиммлера, «должны были быть исключены из общества». Шморелям грозил концлагерь. Мачеха Александра не выдержала напряжения последних недель и тяжело заболела. Тюремный врач объявил о невозможности её дальнейшего пребывания под арестом. На этот раз другой родственник Гофманов Ганс Мёссмер, директор пивоваренного завода в Бамберге, поднял свои старые берлинские связи. «Нельзя же карать родителей за деяния сына!» — взывал он к нацистским бонзам. Родителей отпустили домой. Александр ждал своего смертного часа. Восприятие времени в тюрьме и на воле претерпело удивительное искажение. Дни, тянувшиеся для родных мучительно долго, сменялись перед Александром как в калейдоскопе. После вынесения приговора Шморелю изредка разрешалось передавать письма родителям. «Ничего нового написать не могу. Один день похож на другой. Время летит быстро…» «Вот ещё две недели прошли! Я не могу понять, как быстро они мелькают. Не успеешь оглянуться, а уже опять воскресенье!» Ещё в мае, когда родные надеялись на помилование, Алекс пытался успокоить их, подготовить к тому, что чуда, на которое они так надеялись, не свершится: «Дорогой папа, дорогая мама! Если мне придётся умереть, если прошение будет отклонено, знайте: я не боюсь смерти, нет! Поэтому не мучайте себя! Я знаю, что нас ожидает другая, более прекрасная жизнь, и мы ещё обязательно встретимся». «Поймите, смерть не означает завершения жизни. Наоборот, это — рождение, переход к новой жизни, великолепной и вечной! Страшна не смерть. Страшно расставание». Александр тяжело переживал разлуку с близкими: «Лишь сейчас, когда нас разлучили, когда я потеряю вас всех, я осознал, как любил я вас», «Помните о встрече здесь, на земле, или там, в вечности. Господь направляет ход вещей на своё усмотрение, но на наше благо. Потому мы должны довериться ему и отдать себя в его руки, и тогда он никогда не оставит нас, поможет нам и утешит нас». Каждое письмо — утешение родным, жизнеутверждающий оптимизм. «У меня всё в порядке… Я много читаю — мне дают много хороших книг… Высыпаюсь — сплю по 11–12 часов… Каждый второй день — часовая прогулка, вчера даже искупался… Настроение хорошее. Недавно прочитал в одной значительной книге пассаж, который так хорошо подходит к вам: «Чем больше трагика жизни, тем сильнее должна быть вера, чем сильнее кажется, что Бог отвернулся от нас, тем больше должны мы доверять свои души его отеческим рукам». Кажется, этот настрой не был показным. Он шёл из глубины души, от самого сердца. «Ты, наверное, удивишься, — писал Александр 2 июля сестре Наташе, — что я изо дня в день становлюсь всё спокойнее, даже радостнее, что моё настроение здесь зачастую бывает намного лучше, чем раньше, когда я был на свободе! Откуда это? Я сейчас объясню. Всё это ужасное «несчастье» было необходимо, чтобы направить меня на истинный путь, и потому это, собственно, совсем не «несчастье». Прежде всего, я счастлив и благодарю Господа за то, что он дал мне понять это знамение Божие и последовать в верном направлении. Что я знал прежде о вере, о настоящей, искренней вере, об истине, о Боге? — Так мало!.. Всё это несчастье было необходимо, чтобы открыть мне глаза. Нет, не только мне, всем нам, всем тем, кого коснулась чаша сия, в том числе и нашей семье. Я надеюсь, вы тоже правильно поняли этот божественный знак». У Наташи во время заключения в гестапо произошло отслоение сетчатки. Она почти ослепла на один глаз. Александру в порядке исключения позволили написать короткую записку родителям, где он очень беспокоился по поводу здоровья сестры, давал рекомендации, к кому лучше обратиться за помощью, просил неукоснительно следовать рекомендациям специалиста. Знал ли он тогда, что до его казни оставалось всего два дня? Это случилось 13 июля 1943 года. «Мои дорогие папа и мама! Ничего не поделаешь. Сегодня по Божьей воле мне суждено завершить земную жизнь, чтобы перейти в другую, которая никогда не закончится и в которой мы все снова встретимся. Пусть эта встреча будет вашим утешением и вашей надеждой. К сожалению, для вас этот удар тяжелее, чем для меня, потому что я ухожу с сознанием, что служил моим искренним убеждениям и правому делу. Это позволяет мне со спокойной совестью ожидать смертного часа. Помните о миллионах молодых людей, расстающихся с жизнью там, на поле битвы. Их судьба — моя судьба. Огромный сердечный привет всем моим дорогим! В особенности, Наташе, Эриху, няне, тёте Тоне, Марии, Алёнушке и Андрею. Через несколько часов я окажусь в ином, лучшем мире, у мамы. Я не забуду вас и буду молить Господа об утешении и покое для вас. Я буду ждать вас! Об одном прошу Вас: не забывайте Бога! Ваш Шурик. Со мной идёт проф. Хубер, от которого передаю вам сердечный привет!» Казнь была назначена на 17 часов. В полдень Александра посетил священник Русской православной церкви, который исповедовал его. Чуть позже в камеру пришёл адвокат Зигфрид Дайзингер — защитник Шмореля. Его описание воссоздаёт атмосферу последних часов жизни Алекса. «Вы удивитесь, что я совершенно не волнуюсь в такой момент, — обратился к адвокату Шморель, — но я должен сказать, что даже если вы принесли бы мне известие о том, что вместо меня должны казнить, к примеру, моего же охранника, то я всё равно предпочёл бы смерть. Знаете, я пришёл к выводу, что моя жизнь должна завершиться сейчас, как рано бы это ни показалось. Я выполнил свою миссию в этой жизни и не представляю себе, чем мог бы ещё заняться в этом мире, даже если бы меня сейчас освободили». Александр мужественно попрощался с Дайзингером. Перед тем, как адвокат успел покинуть камеру, Шурик передал ещё один тёплый привет родным. По словам адвоката, за 15 минут до казни в помещении комиссии по приведению приговоров в исполнение неожиданно появились трое офицеров СС — два подполковника и майор. У них было письменное разрешение Генеральной прокуратуры и гестапо на присутствие во время экзекуции. Это поразило всех присутствующих, так как даже тюремные служащие не имели права находиться при приведении приговора в исполнение. Дайзингеру запомнилось, как долго эсэсовцы выясняли у тюремного врача мельчайшие подробности казни. Судя по всему, они прибыли полюбоваться на повешение, и тот факт, что осуждённый будет гильотинирован, разочаровал их. Процедура затянулась ещё на несколько минут, поскольку директор тюрьмы посчитал необходимым показать нежданным гостям помещение изнутри, рассказать о принципе действия рубящего механизма и сроке службы подобной гильотины. Наконец, когда животное любопытство присутствующих было утолено, вызвали Алекса. Чётко и громко прозвучал его ответ «Да» на вопрос дежурного прокурора о том, действительно ли осуждённый является Александром Шморелем. Пару мгновений спустя жизнь двадцатипятилетнего молодого человека оборвалась. Зигфрид Дайзингер принёс родителям ужасную весть. Чуть позже доставили официальное уведомление дирекции отдела захоронений о приведении приговора в исполнение, месте и времени захоронения, куда надлежало явиться родным, имея при себе 100 рейхсмарок на оплату расходов по погребению. В тот же день верховный прокурор Мюнхена отчитался перед руководством о проделанной работе: телеграмма, отправленная в Берлин в 17:20, гласила: «мероприятие проведено сегодня без каких-либо происшествий». Вечером следующего дня тело Александра было предано земле на мюнхенском кладбище Ам Перлахер Форет. Присутствовали только близкие родственники и адвокат. Эрих Шморель хорошо помнит, как, подходя к могиле Александра, господин Дайзингер украдкой снял с лацкана пиджака свой партийный значок. Никаким особым репрессиям семья казнённого более не подверглась. Зверства гестапо в отношении всех, кто окружал «врагов нации», начались значительно позже, после неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. Тогда целые семьи причастных к заговору графа фон Штауффенберга попадали в концентрационные лагеря, детей отнимали у матерей, малейшее подозрение в пособничестве могло закончиться смертной казнью. Для Гуго Карловича всё обошлось относительно благополучно. Мюнхенский профсоюз врачей хотел лишить его врачебной лицензии. Коллеги долго спорили. В конце концов председатель высказался в том духе, что «родители не должны отвечать за проступки детей», и тему закрыли. Некоторое время спустя Шморели получили ещё одну запоздалую весточку от сына. Адресована она была подруге из Гжатска и датирована 18 июня. Написанное на клочке бумаги письмо вынес священник, исповедовавший Александра перед казнью. Как знать, быть может, эти строки, написанные по-русски в соответствии со старой орфографией, ещё найдут своего адресата: «Милая Нелли! Раньше, чемъ мы всѣ думали, мнѣ было суждено бросить земную жизнь. Мы съ Ваній и другими работали противъ немецкаго правительства, насъ поймали и приговорили къ смерти. Пишу тебѣ изъ тюрмы. Часто, часто я вспоминаю Гжатскъ! И почему я тогда не остался въ Россіи?! Но все это воля Божія. Въ загробной вечной жизни мы опять встретимся! Прощай, милая Нелли! И помолись за меня! Твой Саша. Все за Россію!!!»ПОСЛЕСЛОВИЕ
За вторым процессом по делу «Белой розы» последовали третий, четвертый, пятый. В общей сложности были приговорены 29 человек. Ещё десятки, если не сотни людей длительное время провели в следственных изоляторах и камерах предварительного заключения. Но зёрна, посеянные «Белой розой», не погибли на железобетонных руинах немецких городов, разрушаемых смертоносным дыханием войны, зародившейся здесь же, в Германии. Они были подхвачены ветром свободы и понеслись по свету. Часть из них попала на благодатную почву. Текст шестой листовки через участников скандинавского Сопротивления оказался в Великобритании. Ещё шли процессы Народного суда, ещё бесновался Фрайслер, изощряясь в формулировках обвинений, а текст «Белой розы», сопровождённый небольшим комментарием и заголовком «Манифест мюнхенских студентов», уже был отпечатан огромным тиражом. В июле 1943 года тысячи этих листовок были сброшены самолётами Британской королевской авиации над крупнейшими городами «великого и несокрушимого» Третьего рейха. Пленённые на Восточном фронте солдаты и офицеры, объединившиеся в Национальный союз «Свободная Германия» и с разрешения советских властей призывавшие своих товарищей, находящихся по другую сторону линии фронта, к прекращению военных действий, были потрясены известием о подвиге мюнхенских студентов. «Склоните знамёна над свежими могилами борцов за свободу и независимость Германии!» — была озаглавлена их листовка, рассказывающая о беспримерном мужестве молодых людей, выступивших против нацистского террора, против геббельсовской кампании лжи, против осознанного уничтожения немецкого и десятка других народов в горниле бессмысленной по сути и ужасной по масштабу войны. Прошли годы. С окончанием Второй мировой на свободу вышли оставшиеся в живых, осуждённые по делу «Белой розы». Как относились к ним, к их казнённым товарищам соседи по улице, сослуживцы на работе, знакомые продавцы в магазине? Были ли участники Сопротивления в сознании окружающих героями, или к ним всё же подспудно относились как к предателям, пособничавшим врагу и приведшим к краху цветущего государства? Сложный вопрос. Потребовалось ещё много лет, чтобы в сознании всех немцев история «Белой розы» стала символом, образцом свободомыслия и гражданского мужества. Книга Инги Шоль, сестры Софи и Ганса, рассказала о «Белой розе» миллионам читателей — по-своему, субъективно, но именно после её выхода в свет память ребят стали чтить. Не только в Германии, но и во многих странах мира. В большинстве случаев — искренне, кое-где — официозно, напыщенно. Но нет сейчас города или посёлка в Германии, где улица, площадь, школа или парк не носили бы имя «Белой розы» или кого-нибудь из её участников. Есть в Мюнхене и Шморель-плац, неподалеку от несуществующего уже дома родителей в Ментершвайге. Родственники Александра были против, но бургомистрат Мюнхена решил таким образом увековечить память одного из основателей «Белой розы». В 1987 году родственники и близкие казнённых создали фонд имени «Белой розы», занимающийся популяризацией истории движения студенческого Сопротивления, доводящий до сегодняшней молодёжи идеи, которыми руководствовались её сверстники в годы Второй мировой войны. Эрих и Наталья Шморель не вошли тогда в этот фонд. Да, Эрих время от времени ездил с выступлениями по приглашению школ, музеев Германии, но делал это больше «по обязанности» — люди приглашали, просили рассказать о брате… Семья, исконно чуждая идеологических догм, не желала «создавать себе кумира». Она хотела оставить память об Александре, Алексе, Шурике как о брате, Человеке, а не национальном герое. Лишь Шморели не издали своих интервью, воспоминаний, фотоальбомов об Александре. Собрание его писем, переведённое на немецкий язык, аккуратно перепечатанное и бережно переплетённое, хранилось в их личном архиве. Удивительно, но экспозиция мюнхенского фонда им. «Белой розы» на нескольких иностранных языках и в нескольких экземплярах одновременно выставлявшаяся в разных городах Европы и Америки, художественный фильм известного немецкого режиссёра Михаэля Ферхёвена и одноимённая опера выдающегося композитора Удо Циммермана, наверное, так и колесили бы вдали от России, если бы Эрих Шморель вместе с супругой Гертой не посетили в июне 1999 года родину своих предков. Неделя, проведённая в Оренбурге, знакомство с городом, о котором столь много было говорено, столь много прочитано за все эти десятилетия, обострили чувства, освежили в памяти приглушённые картины минувших дней. Не могу забыть тот миг, когда, подъехав к знаку, символизирующему границу Европы и Азии, расположенному на берегу Урала, гость города вдруг устремился не к туристической достопримечательности, а вниз, к воде. Лицо Эриха, ополоснувшего руки уральской водой, излучало такое счастье, как будто свершилась самая заветная мечта его жизни. Может, это и была его тайная надежда, хранившаяся глубоко в укромных уголках подсознания? Посещение Государственного архива Оренбургской области, прикосновение к документу, написанному рукой матери, произвели на гостя из Мюнхена гораздо большее впечатление, чем гостеприимно продемонстрированный директором оригинал «Привилегии городу Оренбургу…» с автографом императрицы Анны Иоанновны. А разве небезразличны были для Эриха посещения пивоваренного завода, принадлежавшего деду, и улицы, где раньше стоял дом Шморелей? Осенью 1999 года в Оренбурге стартовало выставочное турне по России ««Белая роза» — студенческое Сопротивление гитлеровскому режиму. Мюнхен, 1942–1943 гг.». В нём, так же как на англоязычной, немецкой, французской, итальянской выставках, рассказывается о друзьях, объединённых общей идеей, о нашем земляке Александре Шмореле, о его любви к России. За минувшие годы эта выставка стала откровением для тысяч людей от Калининграда и Смоленска на западе до Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска на востоке. Вместе с послами России и Германии, Израиля, с главами епархий Русской православной церкви мы открывали эту экспозицию в Минске и Киеве, Риге, Астане, Алма-Ате, Ташкенте, «Белая роза» несколько раз демонстрировалась в Москве и Санкт-Петербурге. Особые чувства она вызвала у посетителей на гжатской земле. Сотрудники Объединённого мемориального музея Ю. А. Гагарина до сих пор не теряют надежды узнать о судьбе упоминавшихся Вали, Зины, «тёти Наташи». Как сложилась судьба Нелли, так и не получившей последнего письма Александра? Благодаря освещению хода выставочного турне в центральных средствах массовой информации, нашлись и потомки Шморелей, живущие ныне в России — в Москве и Калининграде. В 2000 году судьба свела известного российского кинорежиссёра Савву Кулиша и ключаря русского православного собора в Мюнхене отца Николая. Узнав от священнослужителя историю Александра, процесс канонизации которого в Германии уже был инициирован Русской Православной Церковью Заграницей и чей образ уже был запечатлён на иконе в Мюнхенском Кафедральном соборе святых Новомучеников и исповедников Российских, Кулиш договорился о встрече с Эрихом Шморелем. После беседы с ним, по словам самого режиссёра, он просто не мог не снять новый документальный фильм «В поисках «Белой розы». Эту замечательную, искреннюю картину уже увидели и ещё увидят тысячи людей. Александр хотел быть похороненным в русской земле. Его мечта сбылась спустя более полувека. В первый приезд брата в Оренбург настоятель Дмитриевской церкви отец Александр в торжественной и очень трогательной обстановке освятил оренбургскую землю и передал её Шмо-релям. Бережно доставленная в Мюнхен и в полном соответствии с православным обрядом возложенная на могилу Александра, она упокоила душу нашего земляка. А 16 сентября 2007 года впервые за всю послевоенную историю день рождения Александра Шмореля — его 90-летний юбилей — отметили в Оренбурге. Для большой делегации, приехавшей из Германии и США, по этому случаю был приём у главы города. А ещё была панихида по Александру в Никольском Кафедральном соборе, служил которую архиепископ Берлинский и Германский Марк. И было множество разговоров и воспоминаний, ведь среди гостей находился друг Алекса Николай Данилович Гамасаспян. Тогда, в беседе с владыкой Марком я задал, наверное, наивный вопрос о том, как много времени потребуется ещё на то, чтобы процесс канонизации нового святого был завершён. Ответ меня смутил: «Остаётся лишь написать текст службы по святому новомученику». «Как, всего лишь?» — удивился я. «Да, только путь к этому нелёгкий. Этот текст нельзя просто сочинить, он должен прийти». Лишь посвящённые знают, что именно владыка Марк был тем человеком, который непосредственно готовил историческое решение о воссоединении Русской православной церкви Московского патриархата и Русской Православной Церкви Заграницей, по сути, ликвидации раскола, возникшего в результате революции 1917 года и Гражданской войны. Такой «Акт о каноническом общении», восстанавливающий единство внутри Поместной Русской православной церкви, был торжественно подписан 17 мая 2007 года в храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Лавром в присутствии президента России Владимира Путина. А уже год спустя Отдел внешних сношений Московского патриархата распространил официальное заявление о том, что Александр Шморель станет первым новомучеником Российским, прославленным после долгожданного объединения! Неужели и после смерти Александр продолжает служить делу мира и согласия между народами, странами, конфессиями, сближает людей? Сообщение о торжественной заключительной церемонии канонизации, намеченной на 4–5 февраля 2012 года в Мюнхене, пришло неожиданно. Честно говоря, я вовсе не думал ехать туда. Промозглым ранним утром мы говорили об этом с сопредседателем фонда «Белая роза» Вернером Рехманом в привокзальном кафе Ораниенбурга — городка чуть севернее Берлина, сюда нас привели съёмки фильма о Грабовзее — месте, где прошло моё детство. «Ты просто обязан быть там — ты же биограф Шмореля!» — воскликнул Вернер. Я полетел в Мюнхен, оповестив о событии российские федеральные каналы и пару знакомых из ведущих газет Германии, даже не предполагая, какое медийное эхо вызовет это событие. Торжественная церемония, проходившая в Мюнхенском Кафедральном соборе святых Новомучеников и исповедников Российских и святителя Николая, длилась два дня и сопровождалась необычайным для юга Германии, поистине сибирским морозом — минус 26 градусов. Но это никоим образом не испортило настроения собравшимся на это знаменательное событие людям. И крестный ход от храма на кладбище с отданием почестей на могилах Ганса и Софи Шоль, Кристофа Пробста, Эриха Шмореля и няни Шурика, родителей Александра, захороненных по европейской традиции в его же могиле, и всенощное бдение в соборном храме с выносом иконы новомученика и исполнением новописаной службы — все это стало большим праздником — и для православных, и для представителей других конфессий, и для неверующих. Среди гостей этого торжества были родные и близкие Александра, потомки других казнённых участников группы «Белая роза». На следующее утро служившие Божественную литургию митрополит Оренбургский и Бузулукский Валентин, митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, архиепископ Берлинский и Германский Феофан (Московский патриархат), епископ Женевский и Западно-Европейский Михаил, епископ Штутгартский Агапит получили в дар по иконе с ликом новомученика святого Александра Мюнхенского (Шмореля). Оказалось, что создание иконы святого — тоже непростое дело. Особенно когда речь идет о новомучениках недавнего прошлого — о тех, чьё фотографическое изображение дошло до наших дней. Что уж тут говорить об Александре Шмореле, когда на церемонии канонизации были и его друг Николай Гамасаспян, и один из обвиняемых по делу «Белой розы» Генрих Гутер, когда в 2013 году в солнечной Санта-Барбаре в штате Калифорния я подарил изображение иконы святого Александра Юргену Виттенштайну — товарищу Алекса, сделавшему в 1942 году массу фотографий Шмореля и его друзей, а после войны — блестящую карьеру кардиохирурга в Соединённых Штатах? А с какими чувствами посмотрит на лик святого Алёнушка — княжна Шаховская, живущая сейчас под Сан-Франциско, но сохранившая его в своей памяти как Шурика? Секретарь Германской епархии Русской Православной Церкви Заграницей — он же ключарь Мюнхенского Кафедрального собора протоиерей Николай Артёмов рассказывал, как сложно давалось создание образа иконописцу иерею Алексею Леммеру. Дело в том, что на тот момент ему в руки не попалось ни одной фотографии, где Александр был бы изображен анфас. На всех снимках его взгляд устремлен вниз, в сторону. То он слушает лекцию, то смотрит на друга — Кристофа Пробста, то запечатлён со спины в купе поезда по пути в Гжатск. Даже фотографии на документы сделаны в европейской манере — в полупрофиль. «Он как-то пришёл ко мне, не скажу, что в отчаянии, ибо священнослужителю не пристало отчаиваться, — рассказывал отец Николай о творческих муках отца Алексея, — сказал, что не получается у него лик святого. На что я ответил ему: «Иди, будем молиться, и всё получится»!» Икона действительно получилась, сейчас в Мюнхенском Кафедральном соборе она считается «основной», но интересно, что уже когда лик святого Александра был написан, в руки отца Николая попала фотография из протокола гестапо — из тех, что делают в полиции при задержании — анфас, профиль. Снимок поразил его — он настолько походил на лик иконы, что можно было подумать, икону писали с него. В тот вечер, когда завершились два дня церковных торжеств, когда память Александра почтили тёплой светской церемонией в главном культурном центре баварской столицы — Гастайге, мы приехали с отцом Николаем и руководителем Центра русской культуры в Мюнхене «МИР» Татьяной Лукиной к ней домой — в тот самый мюнхенский район Швабинг, где семь десятилетий назад проходили основные акции «Белой розы». Приехали, перевели дух. И тут Татьяна, которая из года в год собирает полные залы немцев и русских, постоянно напоминает им о подвиге Александра, та самая Татьяна, к которой так тепло относился Эрих Шморель, вспомнила о его подарке. Незадолго до смерти доктор Шморель принёс ей семейную реликвию — подвеску из монеток. Российских монеток! В Баварии такие подвески прикрепляют к праздничному национальному костюму и называют доставшимся ещё от Наполеоновских войн французским словом «шаривари». Эрих Шморель передалэту реликвию Татьяне — в память о Шурике. Это было для него очень важно. В тот незабываемый вечер Татьяна передала шаривари отцу Николаю — в дар иконе. Теперь баварское украшение из российских монет покоится на окладе образа святого Александра Мюнхенского. Так замкнулся удивительный исторический круг. Вообще за десятилетие, прошедшее с 2007 года — с первого юбилея Александра, который достойно отметили в его родном Оренбурге — о Шмореле, о «Белой розе» в России стало известно больше. По Центральному телевидению прошло несколько документальных фильмов о нём, оказалось востребованным двуязычное немецко-русское издание протоколов допросов Александра в гестапо, до сих пор хранящихся в трофейном фонде Российского государственного военно-исторического архива в Москве. В Оренбурге Шморель стал одним из героев современного спектакля областного театра драмы «Позови меня в прошлое», поставленного по пьесе Павла Рыкова. Появился в родном городе и сквер, носящий его имя. В Европе, да и не только, нашего земляка тоже не забывают. В 2010 году, ещё до канонизации, стараниями фонда А. К. Глазунова на знаменитом Александровском подворье Старого города Иерусалима, за стеной которого находится главная христианская святыня — Храм Гроба Господня, была установлена мемориальная доска в честь Александра — в одном ряду с такими именами Русского Зарубежья, как Мать Мария (Скобцова), Вера Оболенская, Борис Вильде. Только в 2013 году на крупнейшем книжном форуме мира — Франкфуртской книжной ярмарке — было представлено сразу пять новых изданий, посвящённых нашему соотечественнику. А в год 100-летия Александра как раз в канун Дня Победы в пригороде этого немецкого мегаполиса Раунхайме появились памятный знак и площадь Александра Шмореля. Так что память — она живёт. Живёт даже не в монументах и названиях улиц, а в сердцах людей, знающих о том, что был такой парень с русской душой Александр Шморель, который очень любил свою Родину и любовь эту оценил дороже своей собственной жизни.ПРИЛОЖЕНИЯ
I ЛИСТОВКИ «БЕЛОЙ РОЗЫ»
Нет ничего более недостойного для культурной нации, чем безо всякого сопротивления позволить «править» собой безответственной и предающейся сомнительным влечениям клике властителей. Разве не стыдится сегодня своего правительства каждый честный немец? Да и кто из нас догадывается о масштабе позора, который ляжет на нас и наших детей, когда пелена падёт с наших глаз и ужаснейшие, выходящие бесконечно далеко за все рамки преступления появятся на свет? Неужели немецкий народ в самом своём существе уж так коррумпирован и настолько разложился, что, не шевельнув пальцем и легко доверяя весьма спорной закономерности истории, поступается важнейшим, чем обладает человек и что возвышает его над любой другой тварью, а именно: свободной волей, свободой человека, воздействием на ход истории и подчинением его своему разумному решению? Если немцы — лишённые всякой индивидуальности — уже превратились в бездушную и трусливую массу, тогда, да — тогда они заслуживают гибели. Гёте говорит о немцах как о трагическом народе, таком же, как евреи и греки. Но сегодня они скорее производят впечатления ограниченного, безвольного стада прихлебателей, у которых удалён спинной мозг и которые теперь, утеряв стержень, готовы позволить гнать себя к гибели. Так кажется. Но это не так. Более того, медленным, коварным, систематическим изнасилованием каждый по отдельности был загнан в духовную тюрьму, и лишь когда уже связанный лежал в ней, осознал этот рок. Немногие распознали угрожающую порчу, а расплатой за их героическое предупреждение стала смерть. О судьбе этих людей ещё нужно будет говорить. Если каждый будет ждать, пока начнёт другой, посланцы мстящей Немезиды будут неудержимо надвигаться всё ближе и ближе, и последняя жертва будет бессмысленно брошена в пасть ненасытного демона. Поэтому каждый должен, осознавая свою ответственность, как член христианской и европейской культуры, защищаться в этот последний час как только он может, работать против заложников человечества, против фашизма и каждой подобной ему системы абсолютного государства. Оказывайте пассивное сопротивление — сопротивление — где бы вы ни находились; предотвращайте дальнейший бег этой атеистической военной машины, пока не будет слишком поздно, пока последние города не превратились в груду развалин, подобно Кёльну, и пока остатки молодёжи нашей нации не истекли где-нибудь кровью за наглую заносчивость недочеловека. Не забудьте, что каждый народ заслуживает то правительство, которое он терпит! Из Фридриха Шиллера, «Законодательство Ликурга и Солона»: «…По сравнению со своим собственным назначением законодательство Ликурга является шедевром государство- и человековедения. Он желал сильного, основанного на самом себе, нерушимого государства. Целью его стремлений была политическая сила и долговечность, которых он достиг настолько, насколько это возможно было в его положении. Но если сравнить эту цель со смыслом человечества, то на месте восхищения возникает глубокое неодобрение, что омрачает первый, поверхностный, взгляд. Всё может быть принесено в жертву во благо государства, только не то, чему само государство служит средством. Государство никогда не является смыслом, оно важно лишь как условие, при котором смысл человечества есть не что иное, как развитие всех человеческих сил, прогресс. Если конституция государства мешает развитию сил, находящихся в человеке, мешает прогрессивному развитию духа, то она порочна и вредна, сколь бы продуманна и совершенна в своём роде она ни была. Её долговечность послужит ей скорее упрёком, чем славой, — она будет лишь растянутым во времени злом. Чем дольше она держится, тем больше вреда она приносит. …За счёт нравственных чувств были достигнуты политические заслуги и развита способность к ним. В Спарте не существовало ни супружеской любви, ни материнской, ни детской, не было дружбы — ничего, кроме граждан, ничего, кроме гражданского достоинства. …Государственный закон вменял спартанцам в обязанность бесчеловечность по отношению к рабам; в лице этих несчастных жертв было поругано и истязалось человечество. Даже в сборнике спартанских законов проповедовался опасный принцип — рассматривать человека как средство, а не как смысл. За счёт этого были закономерно разрушены устои природного права и нравственности. …Какое прекрасное зрелище являет собой суровый воин Кай Марций в своём лагере пред Римом, отданный в жертву отмщению и победе за то, что не мог видеть, как текут слёзы матери! …Государство (Ликурга) могло продолжать своё существование лишь при одном условии: если бы дух народа замер; оно могло бы сохранить себя только, если не был бы достигнут высший и единственный смысл государства». Из Гёте, «Пробуждение Эпименидия», второй акт, явление четвёртое: Гении:II ЛИСТОВКИ «БЕЛОЙ РОЗЫ»
С национал-социализмом нельзя полемизировать в душе, потому что он недуховен. Неверно говорить о национал-социалистическом мировоззрении, потому что, если бы таковое существовало, необходимо было бы попытаться доказать, что оно есть. Либо победить его духовными средствами. Реальность предлагает нам совершенно иную картину. Уже в своём зародыше это движение зависело от обмана окружающих, уже тогда оно прогнило изнутри и могло спасти себя лишь за счёт постоянной лжи. Ведь сам Гитлер пишет в раннем издании своей книги (книги, написанной на худшем немецком языке, который мне доводилось когда-либо читать, тем не менее вознесённой братией писателей и мыслителей до уровня Библии): «Невероятно, как нужно обманывать народ, чтобы править им». И если вначале эта раковая опухоль немецкого народа была не столь заметна, то лишь потому, что достаточно было хороших сил, сдерживающих её. Она становилась всё больше и больше, и, наконец, после прихода Гитлера к власти, благодаря последней подлой коррупции, нарыв лопнул и осквернил всё тело. Большинство бывших противников спрятались, немецкая интеллигенция сбежала в подвал, чтобы там, как картошке, укрытой от света и солнца, постепенно задыхаться. Сейчас мы находимся перед концом. Сейчас важно овладеть собой, взаимно просвещать друг друга, всё время думать об этом и не давать себе покоя, пока последний не убедится в чрезвычайной необходимости своей борьбы против этой системы. Когда по стране пройдёт волна смятения, когда недовольство будет витать в воздухе, когда многие примут участие, только тогда эту систему можно будет стряхнуть последним, титаническим усилием. Ужасный конец всё-таки лучше, чем ужас без конца. Нам не дано выносить окончательный приговор о смысле нашей истории. Если же эта катастрофа пойдёт нам во благо, то только за счёт того, что, пройдя очищение страданием, из глубины ночи мы увидим свет, соберёмся с силами и, наконец, сбросим ярмо, гнетущее мир. Нет, не о еврейском вопросе хотели мы написать в этом листке, не сочинить речь в защиту евреев — нет, только в качестве примера мы хотели привести тот факт, что с момента завоевания Польши триста тысяч евреев в этой стране были убиты самым зверским способом. В этом мы усматриваем ужасающее преступление над достоинством людей, преступление, которому не было равных во всей истории человечества. Евреи ведь тоже люди — как бы мы ни относились к еврейскому вопросу — и над людьми было совершено такое! Наверное, скажет кто-нибудь, евреи заслужили такую судьбу. Такое утверждение было бы чудовищной дерзостью. Но, предположим, кто-то сказал это. Как отнесётся он тогда к тому факту, что вся польская дворянская молодёжь уничтожена (дай Бог, если ещё не вся!)? Каким образом, спросите вы, такое произошло? Все потомки мужского пола из дворянских родов от 15 до 20 лет были насильно вывезены в концентрационные лагеря в Германию для принудительных работ, а все девушки того же возраста отправлены в Норвегию, в бордели СС. Зачем мы всё это вам рассказываем, ведь вам знакомы если не эти, то другие такие же тяжёлые преступления чудовищного недочеловечества? Только потому, что здесь затрагивается вопрос, касающийся всех нас и дающий каждому повод для размышления. Почему немецкий народ столь апатично ведёт себя перед лицом этого чудовищного, в высшей степени недостойного человечества преступления? Едва ли кто-нибудь задумывается над этим. Факт принимается как таковой и больше не рассматривается. Немецкий народ вновь спит своим тупым сном и даёт фашистским преступникам силы и возможность зверствовать дальше. И они делают это. Означает ли это, что немцы очерствели в своих простейших человеческих чувствах, что ни одна струна не вскрикнет пронзительно перед лицом деяний нацистов, что народ погрузился в смертельный сон, от которого не бывает пробуждения никогда? Если немец не очнётся от этой тупости, если он не будет протестовать, где только возможно, против преступной клики, если не будет сопереживать сотням тысяч жертв, то, наверное, так оно и есть. Он должен ощущать не только сострадание, нет, значительно больше: соучастие. Ведь своим апатичным поведением он даёт этим сомнительным людям возможность действовать, терпит это правительство, которое взвалило на себя бесконечную вину. Да, ведь он сам виноват в том, что оно вообще смогло возникнуть! Каждый хочет оправдаться от такого соучастия, но творит и засыпает потом со спокойной, чистой совестью. Но нет ему оправдания, каждый виновен, виновен, виновен! Ещё не поздно уничтожить это омерзительнейшее из всех правительств, чтобы не взвалить на себя ещё больше вины. Сейчас, когда в последние годы у нас полностью открылись глаза, когда мы знаем, с кем имеем дело, сейчас — самое подходящее время искоренить эту коричневую шайку. До начала войны, когда бблыиая часть немецкого народа была ослеплена, национал-социалисты не показывались в своем истинном обличье, но теперь, когда их распознали, единственной и высшей обязанностью, святейшей обязанностью каждого немца должно стать уничтожение этих бестий!«Тот, чьё управление незаметно, его народ рад. Тот, чьё управление навязчиво, его народ сломлен. Нищета. Ах, это то, на чём зиждется счастье. Счастье. Ах, скрывает лишь нищету. Где выход? Не видно конца. Упорядоченное превращается в хаос, Хорошее превращается в плохое, Народ приходит в смятение. Не это ли повторяется ежедневно? Потому Высокий Человек прямоуголен, Но он не задевает. Он ребристый, Но не повреждает. Он прямой, Но не отвесный. Он прозрачен, Но не хочет блестеть».(Лао-Цзы)
«Кто хочет завоевать империю и устроить её согласно своей прихоти, я вижу: он не достигнет своей цели; это всё. Империя — это живой организм; его нельзя сделать, действительно! Кто хочет его делать, испортит его, кто хочет овладеть им, потеряет его. Потому: Из существ некоторые идут впереди, другие следуют им, некоторые дышат тепло, другие — холодно, некоторые сильны, другие — слабы, некоторые добиваются изобилия, другие уступают. Поэтому Высокий Человек отрекается от преувеличения, отрекается от высокомерия, отрекается от злоупотребления».Мы просим переписать этот текст с возможно большим количеством копий и передать дальше.(Лао-Цзы)
III ЛИСТОВКИ «БЕЛОЙ РОЗЫ»
«Salus publica suprema lex» («Благо народа — высший закон»). Все идеальные государственные формы являются утопиями. Государство не может быть сконструировано чисто теоретически. Оно должно расти, зреть, как каждый человек. Однако нельзя забывать, что каждая новая культура всегда содержит элемент предыдущего государства. Семья так же стара, как и сам человек, и из первоначальных отношений соседства человек разумный создал государство, основой которого должна быть справедливость, а высшим законом — всеобщее благо. Государство должно представлять аналогию божественного порядка, и высшая из всех утопий, civitas Dei, есть образец того, к чему оно в конце концов должно приблизиться. Мы не хотим здесь останавливаться на различных государственных формах: демократии, конституционной монархии, королевстве и т. д. Только одно необходимо подчеркнуть однозначно и чётко: каждый человек имеет право на полезное и справедливое государство, которое обеспечивает как свободу каждого в отдельности, так и благо всех вместе. Человек по воле Божьей должен свободно и независимо, сосуществуя и содействуя государственной общности, пытаться достичь своей природной цели, своего земного счастья в самостоятельности и самодеятельности. Наше сегодняшнее «государство» есть диктатура зла. «Нам это давно известно, — слышу я твоё возражение, — и не нужно нам ещё раз указывать на это». Тогда, спрашиваю я тебя, если вам это известно, то почему вы не шевелитесь, почему терпите, как эти власть предержащие шаг за шагом, открыто и тайно грабят один за другим оплоты вашего права. Они будут делать это до тех пор, пока однажды не останется ничего, совершенно ничего, кроме механизированной государственной машины, руководимой преступниками и пьяницами? Поддался ли ваш дух насилию настолько, что вы забыли, что это не только ваше право, но и ваша моральная обязанность — устранить эту систему? Если у человека нет больше сил требовать свои права, то он неизбежно должен погибнуть. Мы заслужим того, чтобы быть развеянными по всему свету, как пыль на ветру, если в этот роковой час не соберёмся с силами и наконец-то не найдём мужества, которого нам так не хватает до сих пор. Не скрывайте вашу трусость под личиной благоразумия! Ведь с каждым днём, пока вы медлите, пока вы не противостоите этому исчадию ада, растёт ваша вина, становясь, подобно параболе, всё выше и выше. Многим, возможно, и большинству читателей этих листовок неясно, как они должны оказывать сопротивление. Они не видят никакой возможности. Мы хотим попытаться показать вам, что каждый в состоянии внести свой вклад в разрушение этой системы. Нет, не личный враждебный настрой в форме озлобленного отшельничества даст возможность подготовить почву для падения этого правительства или, более того, быстро осуществить переворот. Это осуществится лишь благодаря совместной деятельности многих убеждённых, энергичных людей, людей, единых в том, какими средствами они смогут достичь своей цели. У нас нет большого выбора этих средств, только одно находится в нашем распоряжении — пассивное сопротивление. Смысл и цель пассивного сопротивления — свалить национал-социализм. В этой борьбе нас не должны пугать никакие пути и никакие поступки, к какой сфере деятельности они бы ни относились. На национал-социализм нужно нападать во всех местах, где только возможно. Этому негосударству должен быть подготовлен возможно более быстрый конец — победа фашистской Германии в этой войне имела бы непредвиденные ужасающие последствия. Не военная победа над большевизмом должна быть первоочередной заботой каждого немца, а поражение национал-социалистов. Это обязательно должно быть на первом месте. Огромную необходимость этого последнего требования мы докажем вам в одной из наших следующих листовок. И сейчас каждый решительный противник национал-социализма должен задаться вопросом: как может он более действенно начать борьбу против современного «государства», как нанести ему более ощутимые удары? Бесспорно — путём пассивного сопротивления. Ясно, что мы не можем дать каждому указания о том, как вести себя. Мы можем лишь создать общее представление, а путь реализации каждый должен найти сам. Саботаж на оборонных предприятиях, саботаж на всех собраниях, митингах, торжествах, во всех организациях, которым положила начало нац. — соц. партия. Предотвращение безупречной работы военной машины (машины, которая работает только на войну, которая занята лишь сохранением нац. — соц. партии и её диктатуры). Саботаж во всех областях науки и умственного труда, работающих на продолжение этой войны, повсюду: в университетах, институтах, лабораториях, исследовательских заведениях, технических бюро. Саботаж всех мероприятий культурного характера, которые могли бы «поднять» фашистов в глазах народа. Саботаж во всех отраслях изобразительного искусства, поддерживающих хотя бы малейшую связь с национал-социализмом или служащих ему. Саботаж во всех печатных изданиях, во всех газетах, финансируемых правительством, борющихся за его идеи, за распространение коричневой лжи. Не жертвуйте ни одного пфеннига во время уличных сборов (даже если они проводятся под прикрытием благотворительных целей) — это лишь прикрытие. В действительности сборы не попадают ни Красному Кресту, ни страждущим. Правительству не нужны эти деньги, оно не зависит от этих акций — печатный станок постоянно включён и произведёт любое количество бумажных денег. Народ должен пребывать в постоянном напряжении — никогда нельзя ослаблять поводья! Не сдавайте ничего во время сбора металлолома и пряжи! Пытайтесь убедить знакомых, даже среди низших слоёв населения, в бессмысленности продолжения, в безысходности этой войны; в неизбежном духовном и экономическом порабощении, в разрушении всех нравственных и религиозных ценностей национал-социализмом! Подтолкните их к пассивному сопротивлению! Аристотель «О политике»: «…Ещё для его (тирана) сущности характерно стремиться к тому, чтобы от него не ускользнуло то, о чём говорит или что делает подданный, которого повсюду должны подслушивать соглядатаи… а ещё — натравить всех друг на друга, сделать врагами друзей и поссорить народ с аристократией, а богачей — между собой. Тираны стараются сделать подданных бедными, чтобы отдать их деньги своим телохранителям и чтобы у бедняков, озабоченных поиском средств к существованию, не оставалось времени для заговоров… Ещё они хотели бы ввести такие высокие налоги, как в Сиракузах, когда во времена правления Дионисия граждане этого государства в течение пяти лет спустили всё своё состояние в виде налогов. А ещё тираны склонны к постоянному ведению войн…» Пожалуйста, размножьте и передайте дальше!IV ЛИСТОВКИ «БЕЛОЙ РОЗЫ»
Есть старая мудрость, которую постоянно внушают детям: кто не хочет слушать, должен почувствовать. Умный ребёнок обожжёт себе пальцы о горячую печь только один раз. За прошедшие недели Гитлер добился успехов как в Африке, так и в России. Вследствие этого оптимизма у одной, а уныния и пессимизма у другой части населения прибавилось с непостижимой для немецкой инертности быстротой. Повсюду среди противников Гитлера, а значит, среди лучшей части народа, слышатся сетования, слова разочарования и уныния, которые часто заканчиваются восклицанием: «Неужто Гитлер и вправду?..» Между тем немецкое наступление в Египте остановилось, Роммель вынужден замереть в довольно опасном положении — но наступление на Востоке продолжается. Этот кажущийся успех куплен ценой чудовищнейших жертв, так что его уже нельзя рассматривать как достижение. Поэтому мы предостерегаем от всяческого оптимизма. Кто считал убитых, Гитлер или Геббельс? — скорее, никто из них. В России ежедневно гибнут тысячи. Это время урожая, и косарь со всего размаха врезается в зрелое жито. Печаль приходит в родные дома, и некому вытереть слёзы матери. Гитлер обманывает тех, чьё самое дорогое он украл и отправил на бессмысленную смерть. Каждое слово, исходящее из уст Гитлера — ложь: если он говорит «мир», то подразумевает войну, и если он самым кощунственным образом упоминает имя Господа, то имеет в виду власть зла, падшего ангела, сатану. Его рот — это зловонная пасть преисподней. Его власть порочна в своей сути. Очевидно, необходимо рациональными средствами вести борьбу против национал-социалистического террористического государства. Тот, кто сегодня ещё сомневается в реальном существовании демонической силы, совершенно не понял метафизической подоплёки этой войны. За конкретным, за осязаемым, за всеми обстоятельными логическими рассуждениями, стоит иррациональное, это — борьба против демона, против посла Антихриста. Повсюду и во все времена демоны в темноте поджидали того часа, когда человек ослабеет, когда он сам оставит свою, основанную Богом на принципах свободы позицию, когда он поддастся давлению зла, освободится от сил высшего порядка, а затем, когда он добровольно сделает первый шаг, его будут подталкивать ко второму, третьему — со всё возрастающей скоростью. Повсюду и во все времена страшнейшие беды поднимали людей — прорицателей, святых, которые сохранили свою свободу, которые тянулись к одному Богу и с его помощью призывали народ изменить ход событий. Человек, конечно, свободен, но без истинного Бога он беззащитен перед злом, он — как корабль без руля, отданный на волю волн, как грудной младенец без матери, как облако, тающее в небе. Есть ли, спрошу я тебя, ведь ты христианин, есть ли в этой борьбе за сохранение твоих высших ценностей нерешительность, игра в интриги, не откладывается ли принятие решения в надежде, что оружие в твою защиту поднимет кто-либо другой? Мы должны нападать на зло там, где оно сильнее всего, а сильнее всего оно во власти Гитлера. «Я оглянулся и посмотрел на всё то несправедливое, что происходило под солнцем; и смотри, там были слёзы тех, кто страдал от несправедливости, и не было у них утешителя; а те, кто был несправедлив к ним, — они были слишком могущественны, так что они не могли иметь утешителя. Я воздал хвалу мёртвым, которые уже умерли, но ещё больше — живым, в которых ещё была жизнь…» (сентенции). Новалис: «Истинная анархия — зачаточный элемент религии. Из уничтожения всего положительного она высовывает свою прославленную голову как новая создательница мира… Если бы Европа снова захотела проснуться, если бы государство государств представило нам политическую научную теорию! Или, по-вашему, иерархия… должна стать… принципом союза государств?…Кровь будет потоками течь по Европе до тех пор, пока нации не заметят своего чудовищного безумства, которое водит их по кругу, и не предстанут пред бывшими алтарями пёстрой толпой, поражённые и смиренные святой музыкой; они займутся мирным трудом и на дымящихся полях сражений будут со слезами на глазах веселиться на празднике мира. Только религия сможет вновь пробудить Европу, обеспечить права народа и восстановить на земле христианство во всём его новом величии в его миротворческой должности». Мы ещё раз подчёркиваем, что «Белая роза» не является наёмником каких-либо зарубежных сил. Хотя мы знаем, что национал-социалистская власть должна быть сломлена военным путём, мы пытаемся достичь обновления тяжело уязвлённого немецкого духа изнутри. Предпосылками этого возрождения должны быть чёткое осознание всей той вины, которую немецкий народ взвалил на себя, а также беспощадная борьба против Гитлера и его многочисленных приспешников, членов партии, коллаборационистов и т. п. Со всей жестокостью нужно создать пропасть между лучшей частью населения и всем тем, что связано с национал-социализмом. Для Гитлера и его сторонников на этой земле нет такого наказания, которое соответствовало бы их деяниям. Однако из любви к подрастающим поколениям по окончании войны их нужно наказать в пример другим, чтобы ни у кого никогда не возникло даже малейшего желания повторить содеянное. Не забудьте также мелких негодяев этой системы, чтобы ни один не ушёл! Чтобы им не удалось в последнюю минуту после всех этих чудовищностей переметнуться на другую сторону и сделать вид, как будто ничего не было! Для Вашего спокойствия мы хотели бы ещё добавить, что адреса читателей «Белой розы» нигде не записаны. Они произвольно берутся из адресной книги. Мы не молчим, мы — Ваша нечистая совесть. «Белая роза» не даст Вам покоя! Пожалуйста, размножьте и перешлите дальше!V ЛИСТОВКИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ГЕРМАНИИ
Воззвание ко всем немцам! Война однозначно приближается к концу. Как ив 1918 г., немецкое правительство пытается отвлечь всё внимание на увеличивающуюся опасность подводных лодок в то время, как армии на Востоке непрерывно отступают, а на Западе ожидается интервенция. Вооружение Америки ещё не достигло своего пика, но уже сегодня оно превосходит всё, существовавшее в прошлом. С математической точностью Гитлер ведёт свой народ в бездну. Гитлер не может выиграть войну, он может лишь затянуть её! Его вина и вина его приспешников бесконечно далеко перешла все границы. Справедливое возмездие всё ближе и ближе! Что же делает немецкий народ? Он ничего не видит и не слышит. Он слепо следует за своими искусителями на верную гибель. «Победа любой ценой», — написано на их знамёнах. «Я борюсь до последнего человека», — заявляет Гитлер в то время, когда война уже проиграна. Немцы! Неужели вы хотите, чтобы вас и ваших детей постигла участь евреев? Неужели вы хотите, чтобы вас мерили одной меркой с вашими предводителями? Неужели мы навсегда станем народом, отвергнутым и ненавистным всему миру? Нет! Поэтому порвите с национал-социалистическим недочеловечеством! Докажите делом, что вы думаете иначе! Приближается новая освободительная война. Лучшая часть народа борется на нашей стороне. Прорвите оболочку равнодушия, окружающую ваше сердце! Решайтесь, пока не поздно! Не верьте национал-социалистической пропаганде, пронизавшей всю вашу плоть ужасом большевизма! Не верьте, что спасение Германии связано с победой национал-социализма на веки вечные! Преступность не может одержать победу. Своевременно освобождайтесь от всего, что связано с национал-социализмом! Скоро наступит день ужасного, но справедливого суда над теми, кто был так труслив и нерешителен. Чему учит нас финал этой войны, которая никогда не была национальной? Империалистический насильственный образ мышления, откуда бы он ни происходил, должен быть обезврежен на все времена. Односторонний прусский милитаризм никогда не должен прийти к власти. Только масштабное сотрудничество европейских народов может создать почву, на которой станет возможным новое строительство. Любая централизованная власть, какой попыталось стать прусское государство в Германии и Европе, должна быть уничтожена в зародыше. Новая Германия может быть только федералистской. Лишь здоровый федералистический государственный порядок сможет сегодня наполнить ослабленную Европу новой жизнью. Рабочий класс должен быть освобождён разумным социализмом из состояния низменного рабства. Из Европы должен исчезнуть фантом экономики, независимой от ввоза. Каждый народ, каждый в отдельности, имеет право на блага мира! Свобода слова, вероисповедания, защита каждого гражданина от произвола преступных государств-агрессоров — вот принципы новой Европы. Окажите поддержку движению Сопротивления, распространяйте листовки!VI ЛИСТОВКИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ГЕРМАНИИ
Студенты! Студентки! Наш народ потрясён гибелью воинов под Сталинградом. Гениальная стратегия ефрейтора мировых войн бессмысленно и безответственно погнала триста тридцать тысяч немцев на гибель. Спасибо, фюрер! В немецком народе зреет вопрос: будем ли мы и впредь доверять дилетанту наши армии? Принесём ли мы остаток нашей молодёжи в жертву властным инстинктам партийной клики? Никогда! Час расплаты настал, расплаты нашей немецкой молодежи с омерзительнейшими тиранами, которых когда-либо терпел наш народ. От имени всей немецкой молодёжи мы требуем от государства Адольфа Гитлера вернуть нам свободу личности — самое ценное, что есть у немцев и чего нас лишили самым подлым способом. Мы выросли в государстве, которое беспощадно подавляет любое свободное выражение мысли. Гитлерюгенд, штурмовики, СС пытались облечь нас в униформу, революционизировать, наркотизировать в самые плодотворные годы нашего становления. «Мировоззренческое обучение» — так назывался достойный презрения метод удушения наклёвывающегося самосознания и самооценки. Отбор, который производит фюрер — а более тупого и дьявольского отбора невозможно представить — превращает будущих партийных бонз в безбожных, бесстыдных и бессовестных эксплуататоров, в палачей, способных лишь на слепое и ограниченное служение фюреру. Именно мы, «работники мысли», смогли бы вставить палки в колеса этой новой прослойке властителей. Студенческие руководители и аспиранты-гауляйтеры грубо одёргивают фронтовиков как школьников, гауляйтеры оскорбляют студенток похотливыми шутками. Немецкие студентки мюнхенской высшей школы дали достойный отпор тем, кто замарал их честь, немецкие студенты вступились за своих сокурсниц и устояли. Это — начало борьбы за наше свободное самоопределение, без которого невозможно создание духовных ценностей. Мы благодарны отважным товарищам и подругам, которые пошли впереди с ярким примером! У нас есть только один девиз: борьба с партией! Долой из партийных подразделений, в которых нас и дальше хотят держать с заткнутым ртом! Вон из аудиторий, где господствуют СС, унтер- и оберфюреры, прочие партийные прихвостни! Мы говорим об истинной науке и подлинной свободе духа! Никакие угрозы, вплоть до закрытия наших вузов, не отпугнут нас. Ценится борьба каждого из нас за наше будущее, нашу свободу и честь в государственной системе, осознающей свою моральную ответственность. Свобода и честь! Десять долгих лет Гитлер и его единомышленники выжимали, выворачивали эти два прекрасных немецких слова до омерзения, как способны только дилетанты, бросающие высшие ценности нации под ноги свиньям. За десять лет разрушения всяческой материальной и духовной свободы, всех моральных понятий немецкого народа они достаточно показали, что значат для них свобода и честь. Кровавая бойня, которую они устроили в Европе и продолжают изо дня в день под лозунгом свободы и чести, открыла глаза даже самым глупым немцам. Имя немцев навсегда останется опозоренным, если немецкая молодёжь в конце концов не встанет, не начнёт мстить и карать одновременно, не разнесёт своих мучителей, пока она не поднимет на ноги новую, одухотворённую Европу. Студентки! Студенты! На нас смотрит немецкий народ! Он ждёт от нас в 1943 году так же, как в 1813 г., когда был разбит Наполеон, разгрома национал-социалистического террора силой духа. Березина и Сталинград вспыхнули на востоке. Павшие под Сталинградом взывают к нам! «Обновись, мой народ, огненные знаки дымятся!» Наш народ готов к походу против порабощения Европы национал-социализмом в новом чистом порыве свободы и чести!ПРОТОКОЛ ОБЫСКА КОМНАТЫ А. ШМОРЕЛЯ ГЕСТАПО
Б.№ 13 226/43 IIА Зонд/За, Мюнхен, 19.2.43 Тайная полиция Государственное полицейское управление Мюнхена В соответствии с полученным приказом К. А. Гримм из отделения П-Б и нижеподписавшийся произвели детальный осмотр меблированной комнаты студента медицины Шмореля Александра, род. 16.9.17 в Оренбурге, холостого, проживающего у родителей в Мюнхене, Бенедиктенвандштрассе, 12/1. Обыск производился в меблированной комнате, где проживает Александр Шморель, и в подсобном помещении. При осмотре присутствовала сестра Шмореля, Натали Шморель. Было обнаружено множество чистых матриц, копировальная бумага, около 50 листов промокательной бумаги, которая могла быть использована для изготовления оттисков. Кроме того, были обнаружены: 29 почтовых марок немецкой имперской почты по 8 пфеннигов, 70….. по 4…., 1 русский армейский пистолет (барабанный револьвер) с кожаной кобурой и 50 боевых патронов. Кроме того, была обнаружена переписка Шмореля. Все временно конфискованные предметы были упакованы в старый чемодан и доставлены в нём в отделение. Подпись К. С.ОБЪЯВЛЕНИЕ В «ФЁЛЬКИШЕР БЕОБАХТЕР» о розыске преступника
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПРЕСТУПНИК Вознаграждение 1000 марок Государственная криминальная полиция, Управление криминальной полиции Мюнхена сообщают: Разыскивается изображённый рядом бывший студент Александр Шморель, род. 16 (3) сентября 1917 г. в Оренбурге, проживавший в последнее время в Мюнхене. Рост Шмореля 182–185 см, он худощав, тёмный блондин, глаза серо-голубые, уши большие, оттопыренные, кадык выступающий, походка ровная. Говорит на правильном немецком языке с небольшим баварским акцентом. В последний раз на нём была серо-зелёная спортивная шляпа с бело-серой лентой, серо-зелёная ветровка, серая куртка, длинные светло-серые брюки и коричневые поношенные полуботинки. Население приглашается к участию в поимке преступника на условиях объявленного вознаграждения, предназначенного исключительно для частных лиц. Информацию по данному вопросу, которая, в соответствии с пожеланием, может быть рассмотрена анонимно, просим сообщать в Управление криминальной полиции Мюнхена, 16-е подразделение, кабинет 385, телефон 1-43-21, добавочный 457, или в ближайший полицейский участок.ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ ГЕСТАПО От переводчика
В этом году исполняется 75 лет со дня трагического провала одной из самых известных групп Сопротивления, действовавших в годы Второй мировой войны в Третьем Рейхе — группы мюнхенских студентов, назвавших себя «Белая роза». В 1943 году в Мюнхене состоялись судебные процессы по делу «Белой розы», её лидеры казнены, а причастные к деятельности приговорены к различным срокам тюремного заключения. Материалы допросов участников «Белой розы» попали в конце войны в СССР. Часть из них, хранящаяся в трофейном фонде Российского государственного военного архива, предлагается вашему вниманию. И сейчас, 75 лет спустя, эти документы потрясают читателя. Протоколы допроса Александра Шмореля следователями мюнхенского управления государственной тайной полиции были обнаружены почти случайно. При просмотре судебно-следственных дел на лиц, обвинённых в коммунистической и антифашистской деятельности, в причастности к движению Сопротивления или принадлежности к иностранным разведкам, немецкий исследователь Ганс Коппи, сын казнённых участников Сопротивления Ганса и Хильды Коппи[1], наткнулся на известное в послевоенной Германии имя Александра Шмореля. Это имя не могло ничего сказать старшему оперуполномоченному отдела «А» МГБ СССР майору госбезопасности Ефанову, просматривавшему дело в январе 1953 года перед передачей актов в архив. Составленный переводчицей Смирновой текст аннотации гласил: «По делу проходит Шморель Александр, род. в 1917 г., в г. Оренбург, Россия. Проживал в Мюнхене (…) подданный Германии. Арестован органами немецкой полиции в 1943 году. Обвинён в антифашистской деятельности. Кем и когда рассматривалось дело, из материалов не видно. Судьба арестованного неизвестна. Советские граждане по делу не проходят». Впервые имя нашего соотечественника будет упомянуто в СССР лишь в 1961 году в книге Л. И. Гинцберга и Я. С. Драбкина «Немецкие антифашисты в борьбе против гитлеровской диктатуры (1933–1945)»[2]. Основываясь на материалах книги Инге Шоль «Белая роза»[3], вышедшей в ФРГ в 1952 году, и сборника «К истории немецкого антифашистского движения»[4], появившегося в 1958 году в ГДР, авторы рассказали о студентах медицины мюнхенского университета Гансе Шоле и Александре Шмореле. Летом 1942 года эти молодые люди — великолепно образованные и имеющие за плечами не только беззаботное детство, но и имперскую трудовую повинность, и первый военный опыт службы в вермахте, пришли к мысли о необходимости борьбы с собственным правительством — правительством Гитлера. Они начали сочинять и тайно распространять на юге Германии прокламации, озаглавленные «Листовки «Белой розы». Вскоре к ним присоединились друзья. Этот круг единомышленников войдёт впоследствии в историю как группа студенческого Сопротивления «Белая роза». В книге Л. И. Гинцберга и Я. С. Драбкина упоминалось, что молодые люди были на полевой медицинской практике на восточном фронте, в районе Гжатска, и знали о войне и о СССР не понаслышке. Говорилось в ней и о том, что поражение вермахта под Сталинградом подтолкнуло Г. Шоля, А. Шмореля и их друзей не только к дальнейшему распространению листовок, но и к дерзким ночным акциям по написанию антигитлеровских лозунгов на улицах Мюнхена. Тогда в Германии фамилия Шморель впервые появилась в нацистской печати. «Вознаграждение 1000 марок за поимку преступника», — гласила заметка с портретом Александра в «Боевом листке национал-социалистского движения Великой Германии» — «Фёлькишер беобахтер» 24 февраля 1943 года[5]. Это произошло через два дня после того, как осуждённые по делу «Белой розы» Ганс и его сестра Софи Шоль, а также друг детства Шмореля Кристоф Пробст были казнены в мюнхенской тюрьме Штадельхайм. Два месяца спустя на втором процессе нацистского «Народного суда» приговорили к смерти на гильотине Александра Шмореля, его друга Вилли Графа и университетского профессора Курта Хубера. «Справедливое наказание предателей борющейся нации», — сообщила об этом немецкая пресса[6]. На втором и трёх последующих процессах были осуждены 26 человек, так или иначе причастных к деятельности «Белой розы». Первой существенной публикацией о «Белой розе» в послевоенной Германии стала речь католического теолога Романо Гуардини, произнесённая им 4 ноября 1945 года «в память о Софи и Гансе Шоль, Кристофе Пробсте, Александре Шмореле, Вилли Графе и профессоре д-ре Хубере» и опубликованная в 1946 году[7]. Широкую известность в послевоенной Германии и во всём мире история «Белой розы» получила благодаря книге Инге Шоль — сестры казнённых в феврале 1943 года участников группы Софи и Ганса Шоль. Произведение, изданное спустя десять лет после мюнхенских событий, вызвало большой общественный резонанс, неоднократно переиздавалось и, таким образом, определило образ «Белой розы» на ближайшие десятилетия. В своем публицистическом произведении сестра по понятным причинам заострила внимание на образах Ганса и Софи Шоль. Такая расстановка акцентов была подхвачена средствами массовой информации, авторами книг о «Белой розе» и оставила в тени других участников группы. Несмотря на то, что в работе Инге Шоль присутствует довольно яркий портрет Александра Шмореля и однозначное указание на его роль в деятельностиподпольной группы: «Я уверена, что инициатива акций Сопротивления «Белой розы» исходила от него и Ганса»[8], о Шмореле долгое время не говорили. Несколько десятилетий замалчивания (но не забвения) роли Александра Шмореля в деятельности «Белой розы» были прерваны именно этими протоколами, хранившимися в Москве. Вывезенная в ФРГ копия попала не только родственникам (брат Александра Эрих и сестра Наталья родились уже после переезда родителей из Оренбурга в Мюнхен). На основании этих документов немецкие исследователи смогли подтвердить предположение о том, что Шморель и Шоль были инициаторами и единственными авторами первых четырёх из шести листовок «Белой розы». С большой степенью вероятности было установлено, например, что часть второй листовки, обличающая геноцид еврейского и польского народов, а это — первый известный случай противодействия Холокосту в истории немецкого Сопротивления, была написана уроженцем Оренбурга Шморелем. К сожалению, при использовании этих протоколов немецкие учёные (российские ими даже не занимались) не всегда могли точно указать место их хранения. Бывший Центральный государственный особый архив (ЦГОА) был переименован в 1992 году в Центр хранения историко-документальных коллекций (ЦХИДК), который, в свою очередь, вошёл в 1999 году в состав нынешнего Российского государственного военного архива (РГВА). С 2005 года доступ к делу 8808 первой описи фонда 1361 К для учёных как на Западе, так и на Востоке стал намного проще — в Оренбурге при всесторонней поддержке со стороны архива были опубликованы факсимиле протоколов с параллельным переводом на русский язык[9]. Документы, представленные вашему вниманию, достаточно красноречивы. При переводе были сохранены стиль оригинала и даже неточности в именах и фамилиях, записанных следователем на слух. При прочтении этих протоколов становится очевидным, что имел в виду Александр Шморель, признаваясь перед следователями гестапо в государственной измене, но категорически отрицая измену Родине.Игорь Храмов
ПОКАЗАНИЯ А. ШМОРЕЛЯ
Мюнхен, 25 февраля 1943 г. Биографические сведения Я родился 16 сентября 1917 года в Оренбурге / Россия. Тот факт, что в качестве дня рождения называется 3.9.17, связан с русским календарем. Мой отец в то время, когда я родился, находился в России в качестве врача. Когда мои родители поженились, я не знаю. Когда мне было 2 года, моя мама Наталия, урождённая Введенская, умерла от тифа. Других братьев и сестёр у меня не было. Примерно в 1920 году мой отец вторично женился на дочери владельца пивоваренного завода Елизавете Гофман (немецкого происхождения). Это было в Оренбурге. От этого брака у него двое детей. Они родились в Германии, так как мои родители переехали в 1921 году в Мюнхен. Мой сводный брат Эрих Шморель родился в 1921 году в Мюнхене. В настоящее время он студент медицины и находится во Фрайбурге. Моя сестра Натали Шм. родилась в 1925 году, живёт у родителей и работает в настоящее время в Жозефинуме. Мои родители владеют домом по адресу Бенедиктенвандштрассе, 12 в Мюнхене. У моего отца есть частная практика, расположенная по адресу Вайнштрассе, 11.



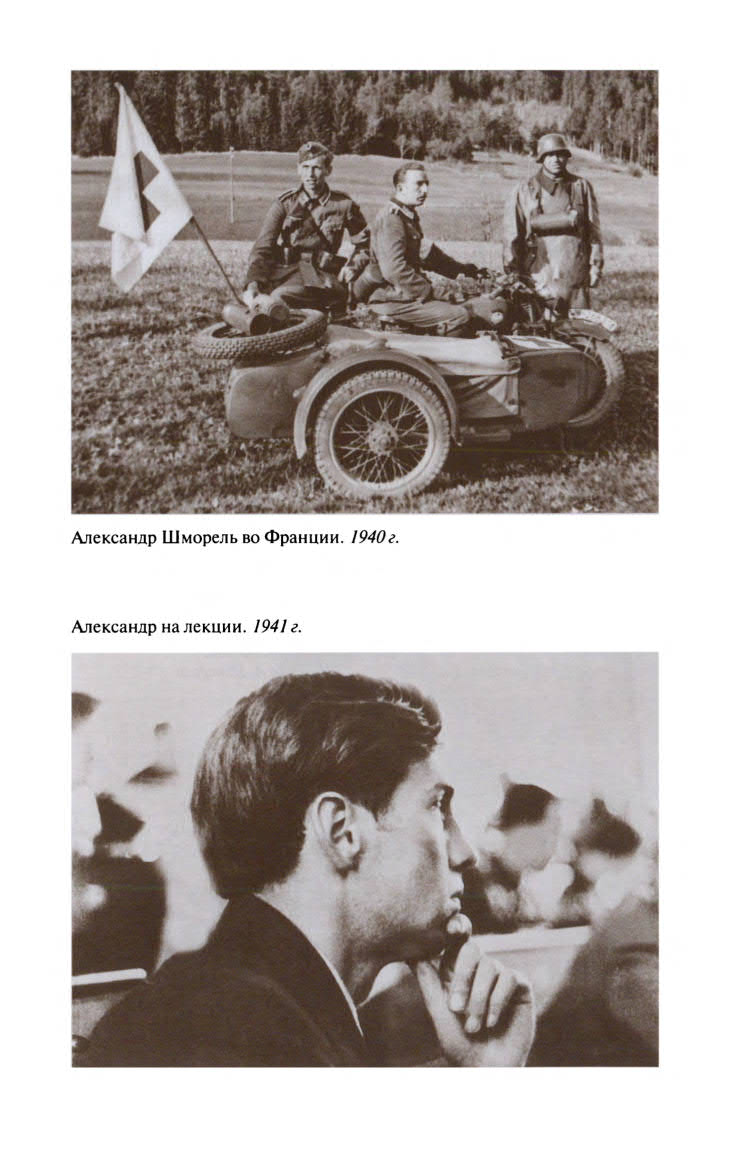










 С 1924 по 1928 год я посещал в Мюнхене частную школу Энгельсбергера (Гайзельгастайг). С 1928 по 1937 год я посещал в Мюнхене гимназию. Во втором классе я был оставлен на второй год из-за неудовлетворительного знания латыни. Выпускной экзамен я сдал в Мюнхене в 1937 году. Весной 1937 года я прибыл в Ванген для исполнения трудовой обязанности. Я записался туда добровольно. В ноябре 1937 года я записался в ар. 7[10] в Мюнхене. В течение одного года я обучался на артиллериста, после чего полгода посещал школу санитаров. В марте 1939 года я был демобилизован в звании младшего офицера, так как я изъявил желание стать врачом. Осенью 1939 года я начал учиться в Гамбурге. После того, как я проучился там 1 семестр, я вновь вернулся в Мюнхен, чтобы продолжить здесь обучение. Весной 1940 года я был призван в Мюнхенское санитарное подразделение и откомандирован во Францию. На Западном фронте я находился в звании младшего офицера санитарной службы. Осенью 1940 года меня отпустили из моего санитарного подразделения в отпуск для продолжения учёбы в университете. Во время каникул 1942 года я 3 месяца провёл на Восточном фронте в качестве санитара-фельдфебеля. В ноябре 1942 года я вновь вернулся в Мюнхен и учусь сейчас на 9 семестре. Летом этого года я должен был завершить учёбу и стать врачом. Во время этой учёбы я был приписан в состав 2-й студенческой роты и до настоящего времени получал ежемесячное полевое жалованье в размере 135 РМ[11], ежемесячное военное жалованье 54 РМ и месячные пайковые в размере 64 РМ, всего 253 РМ. Обучение оплачивал мой отец, у которого я проживал до настоящего времени.
Если вначале я на полном серьёзе стремился к тому, чтобы стать врачом, то в последнее время я пришёл к мысли заняться скульптурой.
Кроме того времени, которое я посвящал учёбе, я поддерживал отношения с небольшим кругом друзей. К нему относятся в первую очередь Ганс Шоль и Кристоф Пробст, которые также изучают медицину.
На вопрос, к какому политическому течению я принадлежу, в частности, как я отношусь к национал-социализму, я открыто признаю, что я не являюсь национал-социалистом, так как я больше интересуюсь Россией. Я открыто признаюсь в моей любви к России. В то же время я отрицаю большевизм. Моя мама была русская, я там родился и не могу не симпатизировать этой стране. Я открыто признаю себя приверженцем монархизма. Эта приверженность относится не к Германии, а к России. Когда я говорю о России, то вовсе не желаю превозносить большевизм, или причислять себя к его сторонникам, я имею в виду только русский народ и Россию как таковые. По этой причине война, идущая между Германией и Россией, чрезвычайно заботит меня. Я был бы рад, если это противостояние могло бы каким-нибудь образом прийти к максимально быстрому финалу. Я ни в коем случае не собираюсь умалчивать, что мне будет очень больно, если Россия в результате этой войны понесёт большие территориальные потери. Такая позиция может выглядеть несколько странной, но я прошу принять во внимание, что моя мать была русской и я, по-видимому, был щедро наделён её любовью.
Когда я в 1937 году был призван в немецкие вооружённые силы (я записался добровольцем), я присягал на верность фюреру. Я открыто заявляю, что уже тогда испытывал в этой связи моральные затруднения, но относил их на счёт непривычной обстановки военной жизни и надеялся со временем преодолеть их. Эти надежды не оправдались, так как по прошествии некоторого времени я оказался в противоречии со своей совестью, когда я размышлял о том, что с одной стороны я ношу мундир немецкого солдата, а с другой — симпатизирую России. О том, что дело может дойти до войны с Россией, я тогда просто не верил. Чтобы положить конец моим душевным терзаниям, я, в то время, когда был солдатом примерно 4 недели, обратился к командиру моего подразделения подполковнику ф. Ланцелю и сообщил ему, о чём у меня болит душа. Это заявление было сделано в артиллерийской казарме VII в присутствии командира батареи капитана Майера, лейтенанта Шелера и старшего фельдфебеля (имя я забыл). Заявление о моём политическом настрое и моё прошение об увольнении с военной службы остались без результата. Мою просьбу сочли следствием переломного возраста или нервного срыва. Чтобы прояснить ситуацию, один из моих тогдашних военных командиров пригласил на беседу моего отца. Как он мне потом дал понять, мой отец как немец был оскорблён моей позицией по отношению к России. Как раз недавно отец отчётливо подтвердил это, причём так, что это привело к небольшой размолвке. После того, как моя просьба об увольнении из немецкой армии осталась без удовлетворения, я носил мундир немецкого солдата против своей воли. Однако я прекратил пропаганду России среди своих сослуживцев. За прошедшее время я много занимался русской литературой и должен сказать, что я очень много узнал из неё о русском народе такого, что лишь приятно укрепило меня в моей любви к нему. Эта любовь к русскому народу усилилась ещё больше благодаря моему пребыванию на Восточном фронте летом 1942 года, когда я своими собственными глазами увидел, что черты и характер русского народа не претерпели при большевизме больших изменений. В этой связи, наверное, будет более понятно, как болезненно для меня состояние войны между русским и немецким народами и почему у меня появилось желание, чтобы Россия вышла из этой войны с минимальными потерями. Во время моего пребывания на Восточном фронте летом 1942 года я не попадал в ситуацию, когда моя позиция по отношению к России могла бы, скажем так, нанести ущерб интересам Германии. Если мне как солдату нужно было бы с оружием в руках бороться с большевиками, то перед выполнением этого приказа я довел бы до сведения моих военных командиров, что я не могу исполнить такой приказ. При моём статусе санитара-фельдфебеля в таком рапорте у меня не было необходимости. Когда я время от времени слышу те или иные заявления немецкой пропаганды о русском недочеловечестве, то для меня это никогда не было достаточно убедительно. Наоборот, я представлял себе, что исключения, вероятно, есть и среди русских солдат — как и везде. На перевязочном пункте Бланкенхорн я несколько раз общался с одним русским офицером, который говорил мне, что успехи немцев связаны, прежде всего, с предательством русских генералов. Такое же мнение я слышал и из уст пленных большевиков. Хотя во время пребывания на Восточном фронте я лишь укрепился в своей любви к России, я по возвращению в Германию ни в коей мере не преследовал мысль внести какой-либо вклад в продолжение или исход этой войны.
С 1924 по 1928 год я посещал в Мюнхене частную школу Энгельсбергера (Гайзельгастайг). С 1928 по 1937 год я посещал в Мюнхене гимназию. Во втором классе я был оставлен на второй год из-за неудовлетворительного знания латыни. Выпускной экзамен я сдал в Мюнхене в 1937 году. Весной 1937 года я прибыл в Ванген для исполнения трудовой обязанности. Я записался туда добровольно. В ноябре 1937 года я записался в ар. 7[10] в Мюнхене. В течение одного года я обучался на артиллериста, после чего полгода посещал школу санитаров. В марте 1939 года я был демобилизован в звании младшего офицера, так как я изъявил желание стать врачом. Осенью 1939 года я начал учиться в Гамбурге. После того, как я проучился там 1 семестр, я вновь вернулся в Мюнхен, чтобы продолжить здесь обучение. Весной 1940 года я был призван в Мюнхенское санитарное подразделение и откомандирован во Францию. На Западном фронте я находился в звании младшего офицера санитарной службы. Осенью 1940 года меня отпустили из моего санитарного подразделения в отпуск для продолжения учёбы в университете. Во время каникул 1942 года я 3 месяца провёл на Восточном фронте в качестве санитара-фельдфебеля. В ноябре 1942 года я вновь вернулся в Мюнхен и учусь сейчас на 9 семестре. Летом этого года я должен был завершить учёбу и стать врачом. Во время этой учёбы я был приписан в состав 2-й студенческой роты и до настоящего времени получал ежемесячное полевое жалованье в размере 135 РМ[11], ежемесячное военное жалованье 54 РМ и месячные пайковые в размере 64 РМ, всего 253 РМ. Обучение оплачивал мой отец, у которого я проживал до настоящего времени.
Если вначале я на полном серьёзе стремился к тому, чтобы стать врачом, то в последнее время я пришёл к мысли заняться скульптурой.
Кроме того времени, которое я посвящал учёбе, я поддерживал отношения с небольшим кругом друзей. К нему относятся в первую очередь Ганс Шоль и Кристоф Пробст, которые также изучают медицину.
На вопрос, к какому политическому течению я принадлежу, в частности, как я отношусь к национал-социализму, я открыто признаю, что я не являюсь национал-социалистом, так как я больше интересуюсь Россией. Я открыто признаюсь в моей любви к России. В то же время я отрицаю большевизм. Моя мама была русская, я там родился и не могу не симпатизировать этой стране. Я открыто признаю себя приверженцем монархизма. Эта приверженность относится не к Германии, а к России. Когда я говорю о России, то вовсе не желаю превозносить большевизм, или причислять себя к его сторонникам, я имею в виду только русский народ и Россию как таковые. По этой причине война, идущая между Германией и Россией, чрезвычайно заботит меня. Я был бы рад, если это противостояние могло бы каким-нибудь образом прийти к максимально быстрому финалу. Я ни в коем случае не собираюсь умалчивать, что мне будет очень больно, если Россия в результате этой войны понесёт большие территориальные потери. Такая позиция может выглядеть несколько странной, но я прошу принять во внимание, что моя мать была русской и я, по-видимому, был щедро наделён её любовью.
Когда я в 1937 году был призван в немецкие вооружённые силы (я записался добровольцем), я присягал на верность фюреру. Я открыто заявляю, что уже тогда испытывал в этой связи моральные затруднения, но относил их на счёт непривычной обстановки военной жизни и надеялся со временем преодолеть их. Эти надежды не оправдались, так как по прошествии некоторого времени я оказался в противоречии со своей совестью, когда я размышлял о том, что с одной стороны я ношу мундир немецкого солдата, а с другой — симпатизирую России. О том, что дело может дойти до войны с Россией, я тогда просто не верил. Чтобы положить конец моим душевным терзаниям, я, в то время, когда был солдатом примерно 4 недели, обратился к командиру моего подразделения подполковнику ф. Ланцелю и сообщил ему, о чём у меня болит душа. Это заявление было сделано в артиллерийской казарме VII в присутствии командира батареи капитана Майера, лейтенанта Шелера и старшего фельдфебеля (имя я забыл). Заявление о моём политическом настрое и моё прошение об увольнении с военной службы остались без результата. Мою просьбу сочли следствием переломного возраста или нервного срыва. Чтобы прояснить ситуацию, один из моих тогдашних военных командиров пригласил на беседу моего отца. Как он мне потом дал понять, мой отец как немец был оскорблён моей позицией по отношению к России. Как раз недавно отец отчётливо подтвердил это, причём так, что это привело к небольшой размолвке. После того, как моя просьба об увольнении из немецкой армии осталась без удовлетворения, я носил мундир немецкого солдата против своей воли. Однако я прекратил пропаганду России среди своих сослуживцев. За прошедшее время я много занимался русской литературой и должен сказать, что я очень много узнал из неё о русском народе такого, что лишь приятно укрепило меня в моей любви к нему. Эта любовь к русскому народу усилилась ещё больше благодаря моему пребыванию на Восточном фронте летом 1942 года, когда я своими собственными глазами увидел, что черты и характер русского народа не претерпели при большевизме больших изменений. В этой связи, наверное, будет более понятно, как болезненно для меня состояние войны между русским и немецким народами и почему у меня появилось желание, чтобы Россия вышла из этой войны с минимальными потерями. Во время моего пребывания на Восточном фронте летом 1942 года я не попадал в ситуацию, когда моя позиция по отношению к России могла бы, скажем так, нанести ущерб интересам Германии. Если мне как солдату нужно было бы с оружием в руках бороться с большевиками, то перед выполнением этого приказа я довел бы до сведения моих военных командиров, что я не могу исполнить такой приказ. При моём статусе санитара-фельдфебеля в таком рапорте у меня не было необходимости. Когда я время от времени слышу те или иные заявления немецкой пропаганды о русском недочеловечестве, то для меня это никогда не было достаточно убедительно. Наоборот, я представлял себе, что исключения, вероятно, есть и среди русских солдат — как и везде. На перевязочном пункте Бланкенхорн я несколько раз общался с одним русским офицером, который говорил мне, что успехи немцев связаны, прежде всего, с предательством русских генералов. Такое же мнение я слышал и из уст пленных большевиков. Хотя во время пребывания на Восточном фронте я лишь укрепился в своей любви к России, я по возвращению в Германию ни в коей мере не преследовал мысль внести какой-либо вклад в продолжение или исход этой войны.
По существу вопроса Вернувшись с Восточного фронта, я продолжил обучение в Мюнхене в качестве канд. мед. Тесные дружеские отношения на протяжении примерно двух лет я поддерживаю с Гансом Шолем[12], который в последнее время проживал в Мюнхене на Франц-Йозефштрассе, номер мне неизвестен. Примерно с прошлого года я знаком также с его сестрой Софи Шоль. В последнее время в квартире Шоля бывали также студент Кристоф Пробст и Вилли Граф со своей сестрой. Кристоф Пробст проживает в Инсбруке. В последний раз он был в квартире Шоля 14 дней или три недели назад. О Шоле я знаю, что он — противник национал-социализма. После возвращения с фронта он, насколько мне известно, боролся с национал-социализмом. В этом я ему помогал. Кроме меня техническое содействие оказывал также Вилли Граф. Что касается Софи Шоль, то я свидетельствую, что она не могла внести какого-либо значительного вклада. Я в деталях изложу то, как протекала наша антигосударственная деятельность. Летом 1942 года Ганс Шоль и я впервые решили издавать листок против национал-социализма. Каждый из нас двоих занялся написанием проекта, которые мы потом сравнили. Результатом этого сопоставления наших мыслей стала листовка «Белая роза». Поскольку для изготовления листовки у нас не было печатной машинки, я взял её взаймы у моего школьного товарища Михаэля Пётцеля, проживающего на Хартхаузерштр. 109. Я подчёркиваю, что обманул Пётцеля, сказав, что пишущая машинка нужна мне для выполнения студенческой работы. Таким образом, Пётцель не имел понятия, какую цель я преследовал, беря взаймы у него эту машинку. После того, как мы написали листовку, я вернул эту пишущую машинку марки «Ремингтон» Пётцелю. В дальнейшем я ещё несколько раз брал эту машинку на время. Если 18.2 эта машинка была обнаружена в квартире Шоля, то это потому, что её не вернули Пётцелю. Для того чтобы изготавливать листовку «Белая роза» массовым тиражом, летом 1942 года я приобрёл на Зендлингерштр. (кажется, фирма «Байерль») множительный аппарат. Его я установил у себя дома, где мы (я и Шоль) вместе изготовили примерно 100 копий. Из телефонных и адресных справочников мы произвольно выписывали адреса и таким образом рассылали листовки по почте. Я сейчас не могу назвать почтамт, где мы отправили листовки массовой рассылкой. Насколько я припоминаю, мы оба узнали от наших знакомых, что они частично были за нашу листовку, частично — против. При изготовлении второго и третьего выпуска листовки «Белая роза» мы поступали так же. Я объявляю, таким образом, и эти два выпуска нашей с Шолем интеллектуальной собственностью, так как мы все делали вместе. Мы вели себя в квартире моих родителей, где на третьем этаже располагается моя комната, так, что они не могли что-либо заметить. Расходы на изготовление листовок мы несли вместе. Бумагу и т. п. мы тоже покупали вместе — когда это было возможно приобрести. Что касается количества, то я припоминаю, что мы изготовили примерно по 100 штук каждой серии. Я должен добавить, что мы изготовили не три, а четыре серии. При выборе адресов мы исходили из того, чтобы наши листовки попали тому кругу лиц, который мог бы проявить симпатию к нашей деятельности. Мы не делали именного перечня, просто вторую серию мы отправили опять тем, кого помнили по первой серии и чьи имена были в телефонном справочнике. Таким образом, большая часть этих лиц получила листовки всех четырёх серий. Мы старались избежать того, чтобы в кругу наших знакомых нас распознали как авторов листовок. Для того чтобы проверить, что наши листовки действительно доставляются почтой адресатам, мы посылали их и самим себе, в результате чего установили, что наш способ работает. Промежутки между выпуском отдельных серий были относительно короткие. Я, кажется, припоминаю, что мы сочинили и распространили эти четыре текста в течение 14 дней. Причины, по которым Шоль и я решили в тот момент дискредитировать нашего фюрера в особо враждебной форме, я сегодня не могу указать. Я могу лишь сказать, что этот поступок находился в полном соответствии с нашими политическими убеждениями. В тот момент мы видели в так называемом пассивном сопротивлении и в актах саботажа единственную возможность скорейшего завершения войны. После того, как мы (Шоль и я) в конце 1942 года вновь оказались в Мюнхене, мы часто встречались и наряду с научными вопросами обсуждали также политические вещи. Примерно в середине января мы пришли к мысли вновь изготовить листовку. Для этого каждый опять сделал свой проект, которые мы вместе обсудили и в результате изготовили листовку «Воззвание ко всем немцам!». В отличие от листовки «Белая роза», листок «Воззвание ко всем немцам!» мы писали и множили в квартире Шоля. При составлении этой листовки речь идёт о продолжении наших попыток политического переворота, которые, естественно, были направлены против фюрера. В квартире Шоля мы вместе написали на упоминавшейся уже пишущей машинке марки «Ремингтон» текст листовки «Воззвание ко всем немцам!». Кроме меня и Шоля при этом никто не присутствовал. В комнате Шоля мы размножили текст листовки на множительном аппарате. Это тиражирование мы производили уже не на том аппарате, которым мы располагали во время работы с листовкой «Белая роза». В том же самом магазине на Зендлингерштрассе я приобрёл новый аппарат — примерно за 200 РМ. Куда делся старый, я не знаю. Если его нет, то, возможно, его продал или отдал кому-то Шоль. При копировании листовки «Воззвание ко всем немцам!» нам никто больше не помогал. Адреса в мюнхенском административном округе мы вместе выбрали из мюнхенского адресного справочника. Адреса на конвертах писали я и Шоль. Эту листовку мы изготовили тиражом несколько тысяч (2000–3000) экземпляров. Почтовые марки мы в основном покупали в 23-м почтовом отделении на Леопольдштрассе. Расходы на бумагу и т. д. мы несли вместе. Кто из нас в большей мере участвовал в финансировании, я не могу сказать. Чтобы распространить листовку также за пределами города, мы с Шолем пошли в Немецкий музей и выписали адреса из разложенных там адресных книг городов Зальцбурга, Линца, Вены. Чтобы не клеить 12-пфенниговые марки на эти иногородние отправления, мы приняли решение распространять листовки частично сложенными в форме письма, а частично в конвертах, непосредственно в этих городах через посыльного. С этой целью я поехал в конце января (рассылка состоялась 26.1.43 г.) 1943 года скорым поездом из Мюнхена в Зальцбург, имея на руках несколько сотен экземпляров. Я прибыл туда на вокзал до обеда, прошёл за перронное ограждение в сторону города. Предназначенные для Зальцбурга отправления я опустил в два разных почтовых ящика вблизи от вокзала. Если мне указывается на то, что в Зальцбурге 26.1 было брошено 57 таких листовок, то я признаюсь, что я был тем человеком, который сделал это. В тот же день следующим поездом я отправился в Линц-на-Дунае, где я при сходных обстоятельствах отправил почтой примерно такое же количество листовок. Поздно вечером того же дня я отправился скорым поездом в Вену, чтобы отправить там остаток листовок. В Вене я остановился в отеле, название которого я уже не помню, и занялся на следующее утро распространением листовок по почтовым ящикам. Речь идёт о 100–200 таких отправлений. В Вене я разослал по почте также от 50 до 100 листовок «Воззвание ко всем немцам!», которые были подготовлены нами для города Франкфурта-на-Майне. Насколько я помню, Шоль также принял некоторое участие в финансировании этой поездки в Вену. Подробностей я уже не знаю. О реакции на сочинённые нами листовки мне ничего не известно, так как у нас не было возможности обсудить это с кем-нибудь и узнать чьё-либо мнение. Конверты для рассылки этой листовки постепенно покупали Шоль, я и Вилли Граф. Во время поездки из Мюнхена в Вену у меня был с собой чемодан. В этом чемодане я хранил листовки. Имеется в виду тот чемодан, который после ареста Шоля был найден в квартире моих родителей и конфискован. Во время ночёвки в Вене я зарегистрировался под моим настоящим именем. Название отеля я сейчас назвать не могу. События в Сталинграде стали для меня и Шоля поводом для выпуска ещё одной листовки. В то время, как Шоль был удручён событиями в Сталинграде, я, как симпатизирующий России, просто порадовался складывающимся для русских положением на фронте. Мы вдвоём занялись проектом и подготовкой распространения листовки «Студентки, студенты!». Я напечатал листовку «Студентки, студенты!» в квартире Шоля на находившейся там пишущей машинке «Ремингтон». Текст мы сочинили вместе с Шолем, сравнили наши проекты и нашли содержание подходящим для нашего общего дела. Когда мы размножили 50 экземпляров этих листовок, то при копировании выявились технические проблемы. Матрица оказалась несколько длинновата для промокательной бумаги, которая была в нашем распоряжении. Чтобы облегчить работу, я переписал текст этой листовки на новую матрицу. При этом я выбрал другой заголовок: «Сокурсницы! Сокурсники!»[13]. Это изменение не имеет особого значения, просто мы с Шолем посчитали его более подходящим. Копированием этой листовки занимались Шоль, Вилли Граф и я. Прежде чем мы привлекли к этому Вилли Графа, мы дали прочитать ему текст этой листовки и спросили, не поможет ли он нам при копировании. Я решительно подчёркиваю, что Вилли Граф не участвовал в сочинении этой листовки и таким образом не оказывал нам содействие. Никакого особого приглашения Графу не делалось. Насколько я знаю, он пришёл на квартиру к Шолю случайно, так же как и в другие дни, чтобы пообщаться с нами. Я не припоминаю, чтобы Граф высказывал какое-то несогласие после прочтения сделанной нами листовки. Более того, он последовал нашему предложению помочь при изготовлении оттисков. Я с чистой совестью могу свидетельствовать, что мы сделали около 3000 экземпляров этой листовки. Тиражирование листовки мы начали за несколько дней до 16.2.43 — ещё в тот день, после обеда. Завершили работу вечером. Во время моего присутствия при тиражировании кроме меня в комнате были также Шоль и Вилли Граф. Помогала ли при этом Софи Шоль, я сказать не могу, так как вечером я ушёл. В это время Ганс Шоль и Вилли Граф ещё продолжали работать. Не исключено, что после моего ухода Софи Шоль могла помогать им. Сестру Вилли Графа после обеда в этот день в квартире Шоля я не видел. Студентка Граф определённо не имеет ничего общего с изготовлением и распространением наших листовок. Также возлюбленная Шоля по имени Гизела Ш ерт — линг никак не связана с нашим делом. На следующий день, или через день, мы с Гансом Шолем собрались рассылать листовки. Для этого мы взяли старый список студентов (мне кажется, он был у Шоля) и произвольно выписали оттуда адреса проживающих в Мюнхене студентов. Пока у нас ещё были конверты, мы использовали их. Когда они закончились, мы стали складывать листовки и надписывать адреса на внешней стороне. Для этого мы использовали две пишущие машинки, находившиеся в доме Шоля, а именно, «Ремингтон» и портативную машинку «Эрика», которая, насколько мне известно, принадлежит хозяйке, у которой живёт Шоль. Эта госпожа Шмидт не знала, что мы в её доме сочиняли и размножали антиправительственные листовки. Возможно, госпожа Шмидт даже не знает, что Шоль использовал её машинку. Складывать и склеивать листовки нам помогал Вилли Граф. Он же наклеил часть марок. Мы с Гансом Шолем и Вилли Графом вместе отнесли изготовленные нами листовки в разные почтовые отделения, где отправили их поздним вечером 15.2.43 г. Это могло быть около 22.00. Мы отправились сначала из квартиры Шоля к почтамту № 2 3 на Ветеринэрштрассе, где один из нас опустил свои листовки в ящик. Кто был первым, я не знаю. От Ветеринэрштрассе мы пошли по Каульбахштрассе к главпочтамту на Резиденцштрассе, где второй из нас опустил в ящик свою порцию. От Резиденцштрассе мы пошли по Маффейштрассе к почтамту Нойхаузер, где третий из нас отправил почту. У одного из нас в папке оставалось немного листовок. Чтобы избавиться от них, мы пошли к телеграфу на центральном вокзале, где бросили остаток в почтовый ящик. При этой рассылке мы (Ганс Шоль, Граф и я) адресовали письма для контроля самим себе. Получили ли Ганс Шоль или Вилли Граф адресованные им письма, я не знаю. По крайней мере, я не припоминаю, чтобы до моего побега это послание попало ко мне. После отправки листовок по почте у нас образовался небольшой остаток. Это могли быть 1500–1800 экземпляров. Чтобы избавиться и от этого остатка, мы с Шолем договорились выложить листовки в университете незадолго до окончания лекции — у дверей в аудитории. Эту мысль высказал либо я, либо Шоль. Во всяком случае, на тот момент мы разделяли это мнение. При обсуждении не было ни Софи Шоль, ни Вилли Графа. Я не берусь сказать, мог ли Вилли Граф впоследствии узнать от Ганса Шоля о нашем плане. Когда мы завершили тиражирование листовок, то из соображений безопасности спрятали множительный аппарат в домовладении по Леопольдштр. 38, в подвале здания ателье[14]. Это сделали мы с Гансом Шолем. Мы считали, что приостанавливаем изготовление листовок лишь на время, чтобы при удобном случае возобновить его вновь. В этом подвальном помещении мы прятали также пишущую машинку «Ремингтон» и краску. В конце января мы с Гансом Шолем решили усилить антигосударственную пропаганду путём нанесения краской надписей «Долой Гитлера!» и «Свобода!». С этой целью я изготовил у себя дома трафарет «Долой Гитлера!» и отнёс его Шолю, чтобы использовать ближайшей ночью. В специализированном магазине (кажется, «Финстер и Майсснер») недалеко от Хофбройхауса я приобрёл банку краски. Зелёную краску мы взяли в ателье Эйкемайера, который об этом ничего не знает. Кисти мы тоже взяли в этом ателье. Как-то ночью, это было примерно в середине февраля, мы (Ганс Шоль и я) отправились от Франц-Йозеф-штр. в сторону университета, где я в нескольких местах примерно на высоте груди нанес надпись «Долой Гитлера». Ганс Шоль в это время наблюдал вокруг. Оттуда окольными путями мы направились в центр города и дошли до Виктуалиенмаркта. По пути я наносил надписи в разных местах — без разбора. И в этих случаях Ганс Шоль следил. Из-за переутомления и потому что постепенно стало светать, мы прервали там нашу акцию и вернулись в квартиру Шоля. На обратном пути мы вновь прошли мимо здания университета и не могли удержаться, чтобы не нанести там дополнительную надпись «Свобода» — уже без трафарета. Несколько дней спустя я вновь был в квартире Шоля. Когда я уходил вечером, Ганс Шоль сказал мне, что он вновь собирается ночью идти «красить». Нанесённые нами днями раньше надписи уже давно были удалены. Указывая на это, Ганс Шоль сказал мне, что этой ночью он собирается прихватить с собой друга — Вилли Графа. На следующий день я действительно увидел и, кроме того, узнал от самого Шоля, что минувшей ночью он реализовал свой план вместе с Вилли Графом. При этом они «красили» зелёной краской. На этот факт я обращаю особое внимание, так как я не имею к этому никакого отношения. В третий раз Ганс Шоль, Вилли Граф и я «красили» в ночь с 15 на 16.2.43 г., когда мы направились от телеграфа в сторону квартиры Шоля. Я хорошо помню, что тогда мы написали на здании книжного магазина Хугендубеля «Долой Гитлера!» и «Гитлер — массовый убийца!». В этом случае писали мы с Шолем, а Вилли Граф только следил, чтобы предупредить нас в случае опасности. Посредством этих надписей мы хотели обратиться с нашей пропагандой к народной массе, что было невозможно сделать с таким размахом при распространении печатной продукции. В ночь с 27 на 28.1.43 Ганс Шоль, Вилли Граф и я направились из квартиры Шоля в разные части города, чтобы распространить по городу листовку «Ко всем немцам». У нас было с собой в общей сложности около 1500 таких листовок, которые мы распределили поровну. Я, к примеру, направился со своей папкой, где у меня были листовки, по Каульбахштрассе, Таль, Канальштрассе и Амалиенштрассе, где по пути и раскладывал листовки. На Каульбахштрассе я посетил несколько дворов, чтобы и там выложить листовки. В здание главпочтамта (Резиденцштрассе) я при этом не заходил. Насколько мне известно, Вилли Граф должен был идти в направлении площади Зендлингерторплац и в её окрестности. Шоль пошёл в направлении центрального вокзала, чтобы разложить листовки там. Эту акцию мы предприняли в промежутке времени между 23.00 и 01.00. Вскоре после 01.30 мы встретились у дома Шоля. Вилли Граф вернулся со своего маршрута на полчаса позже. Он пошёл к себе домой. Я остался спать у Шоля. Эта акция — такой же вид пропаганды, к которой мы были вынуждены прибегнуть в первую очередь из-за того, что в то время мы не могли достать почтовые конверты. В последующие дни мы листовки не распространяли. На заданный мне вопрос об участии в антигосударственной пропаганде Софи Шоль, то я говорю правду, что она в то же самое время, что и я, поехала в Аугсбург, чтобы там распространять листок «Воззвание ко всем немцам!». Мне ничего не известно о том, выезжала ли она из Аугсбурга в другие города. Я присутствовал при написании адресов на наших листовках, точнее видел только адреса жителей Аугсбурга. Кто надписывал адреса жителям Аугсбурга, я не знаю. Если кроме того в других городах, например, в Штутгарте, ещё троими лицами распространялась наша листовка «Ко всем немцам», то это могло быть организовано только братом и сестрой Шоль — без моего ведома. В отношении Кристофа Пробста я должен показать следующее: Пробст дружит со мной и Гансом Шолем давно. Я знаком с ним ещё со школьной скамьи. Примерно три недели назад он был случайно проездом в Мюнхене и посетил брата и сестру Шоль. Тогда я лишь коротко перемолвился с Пробстом. В Рождество 1942 года я встретил Пробста в Мюнхене, и мы побеседовали. Поскольку я знаю Пробста как человека, который также отрицательно относится к национал-социализму, и мы с ним поддерживаем дружеские отношения, то я сказал ему, что авторами листовки «Белая роза» являемся мы с Шолем. При этом я понял, что Пробст уже давно догадывался об этом, и сказанное мной не было для него новостью. Пробст знал также, что мы (Ганс Шоль и я) не остановимся на изготовлении листовки «Белая роза», а будем заниматься изготовлением новых листовок. У меня нет никаких причин считать, что Ганс Шоль при сочинении последней листовки прибегал к помощи Кристофа Пробста. От Ганса Шоля я недавно узнал, что Кристоф Пробст как-то хотел помочь ему в изготовлении листовки и достал ему какие-то бумаги. Больше в этой связи Ганс Шоль мне ничего не сообщал. На вопрос о том, какой круг лиц знал о деятельности брата и сестры Шоль, то я, очевидно, могу назвать профессора Хубера, с которым я познакомился в мюнхенском университете. Примерно 4 недели назад проф. Хубер[15] побывал у брата и сестры Шоль дома. Пользуясь случаем, мы (Ганс Шоль и я) посвятили в наши планы проф. Хубера, которого мы считали человеком, который враждебно настроен по отношению к национал-социализму. Мы сказали проф. Хуберу, что являемся авторами листовок «Белая роза» и «Воззвание ко всем немцам», а также занимаемся распространением этих листовок. Проф. Хубер предостерёг нас, указав на опасность нашей деятельности, дал нам, однако, понять, что он нас не выдаст. Я полагаю, что проф. Хубер не выдал нас до сих пор. Шоль часто встречался в последнее время с неким Фуртмайером. Встречи преследовали в основном научные цели, так как Фуртмайер — начитанный человек, и Шоль очень интересовался им уже по одной этой причине. Я исключаю, что Ганс Шоль мог посвятить Фуртмайера в наш общий план. Студентку Лафренц из Гамбурга, обучающуюся в настоящее время в Мюнхене, я бегло знаю по Гамбургу. Я познакомил Лафренц с братом и сестрой Шоль. Она часто бывает в квартире Шолей, но я не думаю, что она могла узнать от брата и сестры Шоль о нашей антигосударственной пропаганде. Я едва знаю Лафренц, и остерегся бы доверить ей подобное. Изготавливая и распространяя листовки, мы с Гансом Шолем хотели спровоцировать переворот. Мы отчётливо сознавали, что наши действия направлены против существующего государства и что в случае расследования нам грозит суровое наказание. Но нас ничего не могло удержать от подобных действий против этого государства, так как мы оба считали, что тем самым мы сокращаем войну. Записал: Шмаус Крим. секр. Присутствовал: подпись Прочит, и подпис.: Шморель Тайная государственная полиция Управление государственной полиции Мюнхена II А-Зонд.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОПРОСА
Мюнхен, 26 февраля 1943 г. Доставленный из-под ареста, Александр Шморель дал следующие показания: Так как меня обвиняют в том, что изготовлением и распространением своих листовок я намеревался насильственно изменить конституционный строй Рейха, я заявляю следующее: Прежде всего, я хочу вновь подчеркнуть, что я по своему мышлению и мироощущению больше русский, чем немец. Я прошу обратить внимание, что я не отождествляю в этой связи Россию и большевизм. Напротив, я являюсь ярым противником большевизма. Из-за нынешней войны с Россией я оказался в очень сложном положении. С одной стороны, я хотел бы уничтожения большевизма, с другой — предотвращения больших территориальных потерь для России. После того, как немцы так глубоко проникли на российскую территорию, я увидел, что Россия оказалась в очень опасном положении. Это навело меня на мысль, как я могу противостоять этой опасности для России. Кроме того, во мне есть и немецкая кровь, которая массово проливается на нынешней войне. Таким образом, было два момента, которые побудили меня к действию, чтобы с одной стороны защитить немецкий народ от опасности дальнейших территориальных захватов и нарастания последующих конфликтов, а Россию уберечь от больших территориальных потерь. Ход моих мыслей или, лучше сказать, мою идею я собирался сделать доступной немецким народным массам благодаря изготовлению листовок. При этом я с самого начала осознавал, что до тех пор, пока немецкий народ будет ведом Адольфом Гитлером, он не сможет безоглядно присоединиться к моей идее. Этим объясняется и моё противостояние национал-социализму. В настоящий момент я не мог довольствоваться тем, чтобы быть тихим противником национал-социализма. В моей озабоченности судьбою двух народов я чувствовал себя обязанным сделать свой вклад в изменение конституционного строя Рейха. В личности Шоля я увидел того человека, который полностью присоединился к моей идее. Вдвоём изготавливая и распространяя листовки, мы пытались указать немецкому народу возможный путь приближения конца войны. Призывая в наших листовках к саботажу, мы стремились тем самым принудить немецкого солдата к возвращению. Мы видели в этом выгодное решение для обеих сторон (для Германии и России) и ни на минуту не задумывались о том, что мы пособничаем противнику в военное время. Вместе с тем мы отчётливо сознавали, что изготовление антигосударственной печатной продукции является деятельностью, направленной против национал-социалистического правительства, которая, в случае расследования, может привести к тяжелейшему наказанию. Содеянное мной не было неосознанным поступком. Наоборот, я даже исходил из того, что в случае следствия мне, возможно, придётся расстаться с жизнью. От всего этого я просто отстранился, так как моё внутреннее обязательство действовать против национал-социалистического государства было выше этого. Теперь я хочу вернуться к 18.2.43 г., когда Ганс Шоль был арестован в университете по подозрению в распространении антигосударственных листовок. Как я уже указывал, мы с Шолем говорили за день или два до того о том, что оставшиеся листовки можно было бы разложить, например, в университете в Мюнхене. Никаких деталей, в особенности, когда это должно произойти и кто это должен осуществить, мы вдвоём не оговаривали. Поэтому я был очень удивлён, когда 18.2.43 г. в обед, в 12.00 я подъехал на трамвае к университету и случайно узнал от студента медицины Айххорна, что в университете только что были арестованы двое студентов — за распространение антигосударственной печатной продукции. Имена арестованных студентов Айххорн назвать мне не смог. Я, тем не менее, сразу же подумал о Шоле и попытался позвонить ему из телефонной будки. Однако соединиться не удалось. Мои последующие попытки связаться с Шолем также оказались безуспешными. Когда около 15 часов я вновь позвонил Шолю, то ответил неизвестный мне мужчина, который сообщил, что Шоля нет дома. Для меня это послужило подтверждением, что с ним что-то случилось. Теперь мне не оставалось ничего делать, кроме как покинуть Мюнхен. В этот четверг я бесцельно бродил по Мюнхену и больше не решился идти домой. Ночное время суток я провел в парке Энглише Гартен. На мой телефонный звонок в родительский дом в четверг отозвалась служанка по имени Мария Кирмайер. На мой вопрос, не спрашивал ли кто меня, я получил отрицательный ответ. 19.2.43 я опять позвонил домой и застал при этом мою мать. Моя мама сказала по телефону, что дома полиция и что было бы правильно, если бы я добровольно объявился. Хотя я и ответил матери утвердительно, в действительности не мог об этом и помыслить. В этот день я не знал, куда деться, и дважды побывал у болгарского студента Николая Николаева[16], который проживает в Мюнхене, Изабеллаштр. 26. Во время моего второго визита Николаев оставил меня на короткое время одного в своей комнате. Эту возможность я использовал для того, чтобы присвоить паспорт Николаева, чтобы на время моего бегства у меня был другой документ. Мысль присвоить этот паспорт пришла лишь потому, что один ящик в шкафу в комнате Николаева был слегка выдвинут, и я увидел в нём этот паспорт[17]. Таким образом, я присвоил этот паспорт без отягчающих обстоятельств. Прежде чем я покинул квартиру Николаева, я предусмотрительно попросил его дать мне деньги, так как я посчитал, что было бы неплохо к моим 300 РМ получить ещё немного в придачу. Кроме того, я сказал Николаеву, что собираюсь на природу и что мне не помешала бы ветровка. Николаев выразил согласие с моими намерениями и дал мне серую ветровку, а я оставил у него моё зимнее пальто. Истинную причину — намерение бежать из Мюнхена — я от Николаева утаил. Учитывая то, что Николаев действовал из лучших побуждений, я хочу попросить, чтобы из моих наличных денег в размере 340,41 РМ сумма 50 РМ, а также ветровка были возвращены ему. Я бы не хотел, чтобы Николаев понёс ущерб из-за своей порядочности[18]. В пятницу, 19.2.43 г. я покинул квартиру Николаева и прошёл участок пути по направлению к центру города, а ближе к вечеру поехал по 8-му маршруту в Талькирхен. Оттуда я отправился по берегу Изара в сторону Эбенхаузена. Было около 3 часов утра, когда я добрался туда пешком. Из Эбенхаузена я поехал по железной дороге в Кохель, откуда пошёл пешком в Вальхензее. С собой у меня была лишь моя папка. В ночь с 20 на 21.2.43 г. я переночевал в пансионе «Эдельтрауд» в Вальхензее. Предложенную мне анкету гостя я заполнил на имя Николая Николаева. Прежде чем сделать эту ложную запись, я вырвал из моего студенческого билета фотографию и вклеил её в болгарский паспорт Николаева. Фотографию Николаева я уничтожил. Чтобы не попасться при полицейском контроле, я во время бегства уничтожил также мой студенческий билет, солдатскую и сберегательную книжки. В воскресенье, 21.2.43 г. я отправился пешком в Крюн, а оттуда — дальше, в Эльмау, где я рассчитывал встретить мою знакомую Ингрид Мезирка. Позвонив ей по телефону, я узнал, что она больна, и поэтому даже не стал заходить к ней домой. Из Эльмау я позвонил госпоже д-р Клееблатт в Тегернзее, чтобы узнать о Кристофе Пробсте. Однако у этой женщины (мать Пробста) я не смог выяснить настоящее местонахождение её сына. Задавая этот вопрос, я хотел удостовериться, не предприняла ли полиция в связи с арестом Шоля также какие-то меры по отношению к Пробсту. Причины, по которым я хотел получить информацию о положении Пробста, я вчера уже указывал. Ночь с воскресенья на понедельник я провел вблизи населенного пункта Крюнн, в копне сена. В понедельник я вновь отправился назад, в Эльмау. Я должен поправиться, что я отправился не в Эльмау, а в Миттенвальд. Там ближе к вечеру я встретил известного мне работника поместья Миху. Вместе с ним я поехал в Эльмау, в надежде, что смогу там переночевать. Однако после того как Миха не высказал такой готовности, я покинул населённый пункт Эльмау, чтобы провести ночь с 22 на 23.2.43 г. в ближайшей копне сена. 23.2.43 г. я пошёл назад в Эльмау, где меня проверили два жандарма. Я предъявил болгарский паспорт Николая Николаева. Хотя эти служащие жандармерии и имели определённые сомнения в моей личности, они не стали меня задерживать и я смог продолжить свой путь в Кохель. При этом я шел пешком всю ночь. Утром в 6 часов я прибыл в Кохель. Днём раньше я нашёл и подобрал одеяло, которое было у меня изъято при аресте. Я использовал его во время моих ночёвок в стогах. В течение дня 24.2.43 г. я бродил в окрестностях Кохеля. В 19 часов я поехал пассажирским поездом из Кохеля в Мюнхен по дороге, ведущей через долину Изара. Это решение я принял потому, что после полицейской проверки тамошняя местность стала для меня слишком опасной, и мне представилось, что в Мюнхене мне будет легче укрыться. 24.2.43 г. около 22 часов я прибыл в Мюнхен-Талькирхен и поехал на трамвае на площадь Курфюрстенплац. Прибыв туда, я вспомнил об одной знакомой, госпоже д-р Упплегер, которая проживает на Шёнерерплац, 2. У этой женщины я хотел попроситься на ночлег. Прежде, чем я достиг этого дома, внезапно была объявлена воздушная тревога. Мне не оставалось ничего делать, кроме как попытаться встретиться с госпожой Упплегер в бомбоубежище. Там я попросил её выйти в тамбур, чтобы можно было поговорить с ней без посторонних[19]. Неожиданно для меня из бомбоубежища вышел мужчина лет 45, в форме железнодорожника, подошёл ко мне и объявил, что я арестован. Хотя я сразу же попытался убежать, подоспевшие люди в форме скрутили меня и передали полиции. Найденный в квартире родителей револьвер русского производства с 50 патронами я купил у знакомого мне студента Антона Вагнера, место проживания неизвестно. Я должен уточнить, что в действительности Вагнер продал этот револьвер Гансу Шолю, который передал мне это оружие примерно за 8 дней до ареста. Приобретая это оружие, я не преследовал никакой особой цели. В частности, я не собирался применять это оружие в случае, если меня будут преследовать за изготовление и распространение антигосударственной печатной продукции. Поэтому я и не носил это оружие с собой, а спрятал его в своей комнате в квартире родителей. Изъятые там после ареста Шоля матрицы и впитывающая бумага относятся к материалам, при помощи которых мы изготавливали наши антигосударственные листовки. Были ли конфискованные марки приобретены ещё до моей службы на Восточном фронте и спрятаны в моей комнате, или же они остались после рассылки наших листовок, я затрудняюсь ответить. В то же время я могу с уверенностью заявить, что изъятая у меня квитанция от 28 янв. 43 г., выписанная фирмой «Каут-Буллингер и К0», подтверждает покупку матриц. По поводу бланка направления я могу сообщить следующее. Примерно в 1933 году я недолгое время был членом организации «Стальной шлем». Оттуда я был переведён в СА[20]. Поскольку я оказался слишком мал, то 1.2.34 г. меня перевели в гитлерюгенд. В гитлерюгенде я состоял очень недолго. Я перешёл в кавалеристское подразделение СА, в котором опять-таки был недолгое время. Мой уход послеотносительно короткого пребывания произошёл по собственному желанию, так как я разочаровался в кавалерии. 3 декабря 1936 года меня наградили спортивным значком СА. 8 ноября 1938 года я, как рядовой 7-го арт. полка, 2-й батареи, получил медаль в память о 13 марта 1938 г. Я участвовал в качестве солдата в возвращении восточных земель в Великий Немецкий Рейх. У меня есть также медаль в память о 1 октября 1938 года[21]. Когда в 15–16 летя был членом «Юнгфольк» и гитлерюгенда, то я этим даже гордился. Однако этот интерес всё больше и больше угасал. Ещё раз возвращаясь к изъятому у меня револьверу, я решительно заявляю, что я не носил его с собой во время нанесения надписей на стенах, так как в то время у меня его ещё не было. Студент медицины Антон Вагнер может сообщить о времени передачи подробнее. Эта передача состоялась в школе им. Бергмана. Но Вагнер живёт не там. Насколько мне известно, при вылазках на «покраску» только у Ганса Шоля было с собой огнестрельное оружие, к которому мы прибегли бы в случае ареста. Было ли огнестрельное оружие у Вилли Графа, я не знаю. Наличная сумма 340,41 РМ, которая была у меня 18.2.04 г., когда я перед университетом неожиданно узнал об аресте двух студентов, оказалась при мне случайно, так как я с тех пор не был в квартире родителей. У меня уже очень давно есть привычка носить все имеющиеся деньги при себе. На вопрос о связях и о политической позиции проф. Мута[22] из Зольна я даю следующие показания: Ганс Шоль знаком с проф. Мутом уже много лет. Лично я познакомился с проф. Мутом примерно год назад в Зольне — благодаря Гансу Шолю. Проф. Мут интенсивно занимается религиозной литературой. Его позиция по отношению к национал-социализму мне не известна. По крайней мере, у меня нет повода считать, что проф. Мут занимается антиправительственной деятельностью. С моей преступной деятельностью проф. Мута ничего не связывает. Я не думаю даже, что Ганс Шоль рискнул посвятить проф. Мута в наши планы. Я не знаю за проф. Мутом ничего отрицательного. Во время моего единственного визита, который я нанёс проф. Муту, мы говорили о круге общения Стефана Георге, по отношению к которому проф. Мут высказывал своё неприятие. Теперь я в подробностях опишу, как состоялся наш обмен мнениями с проф. Хубером из Мюнхенского университета. Я познакомился с проф. Хубером примерно год назад в квартире Шоля. Я хочу поправиться, что эта первая встреча могла произойти на улице. Ранее я никогда не слышал от Шоля, что они были знакомы друг с другом. С тех пор я встречался с проф. Хубером раза три. Один раз проф. Хубер был у меня дома, чтобы поговорить со мной о литературных делах. Эта встреча определённо не служила никаким политическим целям. Во время этой встречи у меня дома присутствовал также Ганс Шоль. Мне кажется, я припоминаю, что эта встреча могла состояться летом 1942 г. С тех пор, как я вернулся с Восточного фронта, по настоящее время я встречал проф. Хубера раза два в квартире Шоля. Во время этих встреч мы, разумеется, говорили также о военных и политических вещах. При этом мы выяснили, что проф. Хубер был не согласен с некоторыми современными вопросами национал-социализма. Эта информация позволила нам намекнуть проф. Хуберу, что мы уже летом 1942 г. изготовили и распространили антигосударственную листовку «Белая роза». В этой связи мы в общих чертах поговорили об изготовлении и распространении антигосударственных листовок, не говоря при этом проф. Хуберу о том, что мы в настоящее время опять собираемся заняться изготовлением и распространением таких листовок. Несмотря на то, что мы высказались в этой связи недостаточно четко, проф. Хубер смог бы в случае возможного появления новых антигосударственных листовок предположить, что авторами и распространителями являемся мы с Гансом Шолем. Во всяком случае, проф. Хубер, услышав наш намёк, обратил наше внимание на опасность изготовления и распространения антигосударственных листовок и предостерёг нас от этого. Мы с Гансом Шолем были уверены, что проф. Хубер будет хранить молчание о наших намёках. Эта встреча в квартире Шоля состоялась где-то 4 недели назад. Я принимаю к сведению, что во время только что состоявшейся моей очной ставки с Вилли Графом он заявил, что не принимал участия в изготовлении и распространении нашей последней листовки «Сокурсницы! Сокурсники!», а также не принимал участия в наших ночных акциях по нанесению лозунгов. Я полностью подтверждаю верность своих показаний в отношении Графа, сделанных мною вчера. Листовка «10 лет национал-социализма» мне неизвестна. До настоящего момента я ничего не знал о существовании такой листовки и потому не могу дать никаких существенных показаний об авторах и распространителях этого антигосударственного печатного издания. Мне предъявлен жёлтый конверт, на котором от руки написан адрес «Господину д-ру Хальму, Мюнхен 1, Баварская Государственная библиотека, Людвигштрассе». Сообщение о том, что в этом конверте 3.7.42 г. по почте была переслана антигосударственная листовка «Белая роза», я более подробно прокомментировать не могу. На выдвинутое против меня обвинение в том, что примерно в середине февраля 1943 г. на трамвайной остановке Ментершвайге я сорвал агитационный плакат военных формирований СС, могу пояснить, что в этом случае я не могу рассматриваться как виновник. Уже 18 месяцев я не езжу на велосипеде (тогда у меня украли переднее колесо от велосипеда), а передвигаюсь исключительно на трамвае. Эти сведения могут быть в любой момент проверены у моих родителей или у имеющейся домработницы. В этой связи должен признаться, что в доме моих родителей говорят почти только по-русски. Проф. Мартина я вообще не знаю. О том, что объявлено о моём розыске, я при возвращении в Мюнхен 24.2.43 г. ничего не знал. Где в настоящее время могут находиться Кристоф Пробст и брат и сестра Ш о л ь, я не знаю. К моим показаниям, которые я сделал до настоящего момента в этой связи, мне добавить нечего. Я говорил правду и не в состоянии назвать других людей, которые как-то связаны с моим преступлением или принимали в нём участие. Никто не оказывал влияния или давления на меня с тем, чтобы я изготавливал и распространял антигосударственные листовки и наносил надписи «Долой Гитлера», «Свобода» на зданиях в Мюнхене. Я не могу назвать Ганса Шоля, Кристофа Пробста, Софи Шоль или Вилли Графа теми людьми, кто внёс больший вклад в изготовление или распространение наших антигосударственных листовок. Напротив, я открыто сознаюсь, что мы с Гансом Шолем были зачинателями. Предположение, что я поддерживаю контакт с русскими гражданами или организациями, не соответствует действительности. Против такого упрёка я вынужден категорически протестовать, так как к тому отсутствуют какие бы то ни было предпосылки. Обнаруженные у меня фотография русского лётчика и адрес русского военнопленного ничего не значат, так как я нашёл фотографию во время моего пребывания на Восточном фронте и не знал лично этого сбитого лётчика. С русским военнопленным по фамилии Андреев я познакомился на главном перевязочном пункте Планкенхорн, часто общался с ним и на всякий случай попросил его записать мне его адрес, чтобы посетить его после войны. Письмами мы с ним не обмениваемся. Я сознаюсь в государственной измене, отрицаю, однако, что я изменял родине. Записал: Прочитано, подтверждено и подписано: Шмаус Шморель КС Присутствовал: Подпись Б. А.
ДОПРОС
IIА-Зо. Мюнхен, 1 марта 1943 г. Доставленный из-под стражи Александр Шморель, личные данные известны, дал следующие показания: В письме отделения сберегательной кассы Вены № 1 говорится о моём ежемесячном денежном военном довольствии, которое в соответствии с заявкой перечисляется туда на счёт моей сберегательной книжки № 2 370 146 в размере 135,15 РМ. С ней я каждое первое число месяца иду на почту, чтобы там мне занесли эту сумму в мою сберкнижку. После этого я могу снимать эту сумму. Речь идёт о моём довольствии за месяц март 1943 г. Право распоряжения этой суммой я должен передать другим, так как, будучи заключённым, я не могу ничем распоряжаться. Вопрос: Будете ли Вы, наконец, давать точные показания, кто являлся автором отдельных антигосударственных листовок, кто вносил в них изменения и распространял? Ответ: В своих предыдущих показаниях я особенно хотел поберечь проф. Хубера. В этой связи я взял многое на себя и Ганса Шоля, что не соответствует действительности. Антигосударственную листовку «Белая роза» мы написали и распространили вдвоём с Шолем — об этом я уже неоднократно говорил. Мы дали знать об этом проф. Хуберу лишь по возвращению с Восточного фронта (ноябрь 1942 г.). Во время интересующего вас прощального вечера, который состоялся в июне 1942 года в ателье Эйкемайера на Леопольдштрассе, 38 и на котором присутствовал проф. Хубер, ни я, ни Ганс Шоль ничего не сказали проф. Хуберу о том, что мы являемся авторами и распространителями «Белой розы». В то время и Софи Шоль не могла ещё знать об этом. Насколько мне известно, студентка Трауде Лафренц вообще ничего не узнала об авторах и распространителях листовки. Я продолжаю утверждать, что мы с Гансом Шолем лишь в период Рождества 1942 года доверили проф. Хуберу информацию о том, что мы являемся авторами «Белой розы». Вопрос: Как вообще появилась вторая листовка «Движение Сопротивления в Германии», кто участвовал в этом и кто её распространял? Ответ: Вначале Ганс Шоль и я договорились выпустить листовку. Мы решили, что каждый сделает свой проект. Когда мой был готов (всё это происходило в квартире Шоля, куда позже подошёл проф. Хубер), мы сравнили проекты. Я хорошо помню, что проф. Хубер и Ганс Шоль не согласились с моим вариантом, отрицательно отозвались о нём. В то время, которое я в тот вечер провёл в квартире Шоля, проф. Хубер не написал собственного проекта антигосударственной листовки. Я прочитал Гансу Шолю и проф. Хуберу мой проект и принял к сведению их отказ. Так как я в этот вечер и без того собирался сходить на концерт в Одеон, то я не стал больше задерживаться в квартире Шоля и ушёл, не завершив дела. Поэтому я не могу сказать, как развивалась дискуссия между Шолем и проф. Хубером в дальнейшем. Оба остались после моего ухода в квартире Шоля и в моё отсутствие сочинили листовку «Движение Сопротивления в Германии». Когда я несколько дней спустя помогал Шолю в копировании листовки, то пришёл к выводу, что по содержанию листовка не имела ничего общего с моим проектом. Что было написано в моём проекте, сегодня я уже не помню. Во всяком случае, Шоль и проф. Хубер были с ним не согласны, и сами сочинили листовку, упоминавшуюся выше. Распространение этой листовки происходило так, как я уже говорил. Вопрос: Объясните ли Вы, наконец, как возникла листовка «Студентки! Студенты!», кто был её автором, и почему Вы до сих пор скрывали правду? Ответ: Проект этой последней листовки изготовил проф. Хубер. Когда он принёс этот проект в квартиру Шоля, то Ганс Шоль и я были там. Мы с Гансом Шолем познакомились с текстом листовки и при этом раскритиковали некоторые пассажи. В итоге мы вычеркнули некоторые места, которые я сейчас не могу точно вспомнить. Профессор Хубер согласился с этим. Я особенно хочу подчеркнуть, что в его присутствии мы не одобрили и в связи с этим вычеркнули место, где проф. Хубер говорил о том, что наш славный вермахт нужно спасать. Возможно, что мы (Шоль и я) вычеркнули ещё один аналогичный пассаж, который нас не устраивал. Формулировку я сегодня припомнить не могу. После правки этих мест я переписал последнюю листовку на пишущей машинке, помогал также при копировании и распространении, о чем я уже подробно сообщал. При изготовлении этой листовки мы с Шолем были единого мнения. Как проф. Хубер воспринял содержание изменённой нами листовки после её выхода в свет, я не знаю, потому что с тех пор я с ним не общался. Если я до сих пор не ссылался на проф. Хубера как на автора-вдохновителя этой листовки, и хотел взять всё на себя, то делал это исключительно потому, что хотел прикрыть проф. Хубера. Какие особые причины имелись у проф. Хубера для написания этой листовки, я не могу сказать. Мне ничего не известно об обиде профессора Хубера на какое-то высокопоставленное лицо. На этот вопрос я не могу дать удовлетворяющего вас ответа. Если в этой связи речь идёт о том, что при изменениях, которые я вносил в текст проекта последней листовки, я проявил свою коммунистическую позицию и фанатическое противление национал-социализму, то я должен категорически протестовать против такого обвинения, так как в действительности я являюсь убеждённым противником большевизма. Вопрос: Кто кроме Вас и брата и сестры Шоль финансировал ваше антигосударственное предприятие, обещал средства, и где ещё хранятся эти деньги? Ответ: В январе 1943 года мы с Гансом Шолем поехали в Штутгарт и пришли в контору д-ра Гриммингера, примерно 50 лет, по профессии консультант по налогообложению. Мы сказали ему, что для изготовления и распространения антигосударственных листовок нам срочно требуются деньги и может ли он нам их дать. Я полагаю, что Шоль знал этого человека и его политический настрой раньше, потому что он указал на него. Д-р Гриммингер сказал нам, что в настоящий момент денег у него нет. В конце концов он предложил нам обратиться по этому вопросу позже. Хотя д-р Гриммингер не делал никаких очевидных намёков на то, как он относится к современному государственному строю, я могу предположить, что он является противником национал-социализма, потому что в ином случае он не был бы с нами. Не получив денег, мы поехали назад в Мюнхен. Примерно 8 дней спустя Ганс Шоль один поехал к д-ру Гриммингеру в Штутгарт за деньгами. По возвращению Шоля я хотя и не видел денег, но припоминаю, что Шоль сообщил мне, что получил от д-ра Гриммингера 500 РМ. Что из этих денег оплачивалось в деталях, я не знаю, потому что кассу вела в то время София Шоль. От неё я один раз точно получил назад 50 РМ, так как я тогда потратил как минимум 230 РМ на приобретение копировального аппарата. Остальные деньги наверняка использовались для приобретения почтовых марок, бумаги, конвертов и прочего. Иные спонсоры исключены. Я также не могу указать другие лица или иные места, где могли бы быть отложены средства для нашей деятельности. Духовные или иные церковные высокопоставленные лица не имеют к нашей антигосударственной деятельности никакого отношения. Их влияние исключено. Я сам являюсь глубоко верующим приверженцем русской православной церкви. Однако личных связей с такими организациями у меня нет. Мой отец никогда не понимал моего политического настроя. Он не оказал ни малейшего влияния на то, что я стал противником государства, наоборот, всегда начинал спорить со мной, когда я поддавался своей тяге к русскому народу. Моя мачеха всегда тоже придерживалась мнения отца. Вопрос: Как осведомлен Отто Айхер? Ответ: По моему мнению, Айхер ничего не знал о том, что мы делаем. Я настаиваю на этом даже после того, как мне сообщили, что остальные обвиняемые дали другие показания. Может быть, брат и сестра Шоль могут сообщить об этом больше. Вопрос: Вы знакомы с неким Харнаком[23] и его окружением? Ответ: Я около 4 лет знаком с танцовщицей Лило Берндль, проживающей в Мюнхене на Принценштрассе, 30. Эта Берндль хорошо знакома со служащим вермахта по имени д-р Фальк Харнак из Восточной Пруссии. Я познакомился с ним с помощью Берндль в середине января 1943 г. в Кемнице. Тогда мы с Гансом Шолем поехали из Мюнхена в Кемниц, чтобы познакомиться с Харнаком. Никакой другой цели я при этом не преследовал. В Кемнице мы встретились с Харнаком в отеле. Харнак — ефрейтор. Во время нашей первой встречи он был в форме вермахта (подразделение связи в Кемнице). Мы с Гансом Шолем совершенно открыто заявили Харнаку, что мы являемся противниками национал-социализма, и пригласили его сотрудничать с нами. При этом мы также говорили об изготовлении и распространении антигосударственных листовок. Из разговора о политических вещах мы выяснили, что Харнак также является противником национал-социализма. Перед тем, как попасть на Восточный фронт, в начале февраля 1943 года Харнак посетил Берндль в Мюнхене. Я должен ещё добавить, что во время встречи в Кемнице Харнак не дал согласия работать с нами и не называл людей, которые могли бы работать с нами (антигосударственная деятельность). В начале февраля 1943 года я встретил Харнака в Мюнхене и пригласил его домой к Шолю, с чем Харнак согласился. Во время этой встречи мы (Ганс Шоль, Харнак и я) говорили о путях и средствах свержения Гитлера и создания новой социалистической формы правления. Мы дали Харнаку почитать нашу листовку «Движение Сопротивления в Германии». Харнак одобрил содержание. Мы сказали Харнаку, что являемся авторами и распространителями и что в ближайшее время мы выпустим ещё одну листовку. Харнак отчётливо сформулировал мысль о том, что на место Гитлера должен прийти кто-то иной, а также сказал, что для осуществления такого переворота необходимо обратиться к народным массам. Каким образом Харнак, будучи солдатом, собирался принять участие в перевороте, он нам не сказал. Насколько мне известно, Харнак был в квартире Шоля 2 раза. Во время двух встреч состоялся обмен мнениями по поводу переворота. Берндль при этом не присутствовала. Она вообще не интересуется политикой. Насколько она знакома с оппозиционным настроем Харнака, мне не известно. Когда мы прощались, то мы не оговаривали дальнейших встреч. Где Харнак находится сейчас, я не знаю. Брат Харнака был в Берлине. Кажется, он был правительственным советником в Министерстве иностранных дел и некоторое время назад казнён. Вопрос: Кто кроме д-ра Гриммингера ещё участвовал в финансировании Вашей деятельности? Ответ: Я могу назвать только Вилли Графа, который дал на приобретение почтовых марок около 50–60 РМ. Я не могу назвать другие имена в этой связи. Я рассказал всё, что ещё сохранилось в моей памяти. Записано: Шмаус КС. Соотв. подп. Александр Шморель Тайная государственная полиция Управление государственной полиции Мюнхена 13 226/43 IIА-Зон.
ДОПРОС КАРЛА ПЁТЦЛЯ
Мюнхен, 10 марта 1943 г. По повестке явился химик, холост Род. 21.11.19 г. в Вене, РД[24], ев.[25] родители: Адольф Пёт-цель (умер) и Сюзанна Пётцель, урожд. Байерляйн; проживает с матерью по адресу: Мюнхен, 9, Хартхаузерштр. 169, ознакомлен с предметом расследования и предупреждён о даче только правдивых показаний, сообщил следующее: Я знаю Александра Шмореля с детства, так как он живёт недалеко от дома моих родителей. Мы вместе ходили в среднюю школу, хотя и в разные классы, так как Шморель старше меня на 2 года. Насколько я могу вспомнить, портативную пишущую машинку марки «Ремингтон портэбл», фабричный номер неизвестен, Шморель впервые брал взаймы в нашей семье полтора года назад, у кого точно, я не могу вспомнить. Мне кажется, что он брал её якобы для перепечатки стихотворений, так как он частенько говорил о том, что переписывает стихотворения. Я никогда не давал Шморелю пишущую машинку сам. Моя мама и мой младший брат всегда сообщали мне, когда Шморель брал машинку взаймы. Лично я разговаривал со Шморелем в последний раз, когда он отправлялся на Восточный фронт. Это было в конце этого летнего семестра, точно в июне 1942 г., когда он прощался со мной. Каких-то личных контактов со Шморелем у меня не было уже 2 года. В лучшем случае мы приветствовали друг друга при встречах. Насколько мне известно, Шморель вновь брал портативную пишущую машинку у моего 16-летнего брата Германа Пётцля примерно за 8 дней до ареста. Со слов моего младшего брата, он пришёл в обозначенное время к нам домой и взял на время машинку, не сказав, зачем. Из круга общения Шмореля брат и сестра Шоль мне не знакомы. Как-то во время одной встречи зимой 1939/40 г. Александр Шморель представил мне Пробста. Мы недолго побеседовали и потом попрощались. Об отношении Шмореля к национал-социализму я могу лишь сказать, что он не интересовался политикой. Его антигосударственную позицию я могу объяснить лишь тем, что он находился под чужим влиянием. Так как я занимаюсь опекой семей погибших членов СС, то мне срочно нужна портативная пишущая машинка, и я прошу, чтобы мне её возвратили. В этой связи я хочу добавить, что Шморель брал машинку всегда на очень короткое время. Записано: с.п.п.и. п[26]. Подпись Подпись КС
ДОПРОС АНТОНА ВАГНЕРА
II А-Зо Мюнхен, 11 марта 1943 г. По повестке явился студент медицины, холост Род. 9.7.1918 г. в Пипинсриде, проживает с родителями в Мюнхене, Шнекенбургерштр. 39/ 2-й этаж, и дал следующие показания: В июле 1942 г. я был отправлен вместе с другими товарищами, в том числе с Гансом Шолем, Александром Шморелем и Вилли Графом на Восточный фронт. В августе я купил у неизвестного мне постового для самообороны и ещё потому, что мне он понравился, российский револьвер с барабаном. Во время моего пребывания на Восточном фронте я почти всё время носил это оружие на портупее и радовался ему. Насколько мне известно от продавца этого оружия, то это был русский трофей. По пути с Восточного фронта в Мюнхен Ганс Шоль попросил у меня этот револьвер. Я сказал ему, что даже не помышляю о продаже, так как собираюсь довезти его домой. Здесь Шоль вновь пристал ко мне, чтобы я продал ему это оружие. В январе 1943 года я решил передать Шолю это оружие. Мы договорились, что Шоль рассчитается со мной за это серым поношенным демисезонным пальто. После передачи этого пальто я долгое время не встречал Шоля. Так как вместо Шоля очень часто приходил Александр Шморель, а я знал, что оба они — закадычные друзья, то где-то в середине февраля я отдал Шморелю проданный Шолю револьвер. Так как я вовсе не собирался что-то выгадать на сделке с Шолем, то я передал ему также 71 патрон. Перед тем, как передавать оружие, я его предварительно разрядил. Я предполагал, что Шморель передаст револьвер вместе с патронами, как положено. Теперь я узнал, что Ганс Шоль казнён за распространение антигосударственных листовок. О Шмореле я знаю, что во время воздушной тревоги в Мюнхене он был задержан за соучастие в преступлении Шоля. Я не имею никакого отношения к преступным действиям Шоля и Шмореля. Если бы я знал, что оба участвуют в измене, то я не продал бы им это огнестрельное оружие вместе с патронами (их я приобрёл в оружейном магазине «Адам Шорк», Мюнхен 5, Морассиштр. 4). При всем желании я не могу сказать, кто мог знать или участвовать в преступном деянии Шоля и Шмореля. Я буду сохранять молчание по поводу всего, что мне стало известно в ходе сегодняшнего допроса. Мне также известно, что в случае несоблюдения этого предписания ко мне могут быть применены меры государственной полиции. Записал: с.п. и п. Подпись Подпись КС
ДОПРОС А. ШМОРЕЛЯ
Мюнхен, 11 марта 1943 года II А-Зо. Доставленный из-под стражи, Александр Шморель, личные данные известны, дополнительно дал следующие показания: «На вопрос, в какой связи я и Шоль посетили Харнака в Кемнице, сообщаю следующее: от Берндль мне стало известно, что брат Харнака по антигосударственным причинам был арестован в Берлине. Об этом я устно сообщил Шолю. В конце концов мы договорились посетить Харнака в Кемнице, чтобы привлечь его для наших целей. Я настоятельно подчёркиваю, что госпожа Берндль ничего не знала о нашем намерении привлечь Харнака для наших целей. Во время разговора в Кемнице мы умышленно перевели разговор в общеполитическую плоскость, из чего мы узнали, что господин Харнак больше социалист и отрицательно относится к национал-социализму. Я припоминаю, что во время первого разговора в Кемнице Харнак отклонил предложение сотрудничества. Тут я должен упомянуть, что мы заявили Харнаку, что хотим устранить сегодняшнюю форму государственного правления и установить вместо неё демократию. После того, как Харнак занял негативную позицию и каждый день находился в ожидании отправки на фронт, мы попрощались, не договорившись о дальнейших встречах. Мы сказали лишь, что мы, возможно, могли бы как-нибудь встретиться в Мюнхене (Харнак поддерживает с госпожой Берндль из Мюнхена тесные связи). Но ничего конкретного оговорено не было. Когда Харнак в феврале 1943 года приехал в Мюнхен, чтобы посетить здесь госпожу Берндль, я вновь встретился с Хар-наком. Эта встреча произошла следующим образом: Я обедал в ресторане «Цур Клаузе» на Каульбахштрассе и случайно встретил там фрау Берндль. Она сказала мне, что Харнак находится в Мюнхене. Мы договорились, что госпожа Берндль и Харнак придут на следующий день на обед в то же заведение. На самом деле, оба пришли на следующий день на то место, где я встретил Харнака[27]. Я пришёл первым. Потом пришла госпожа Берндль и вскоре после того — Харнак. После того, как мы поздоровались, я попытался дозвониться по телефону до Ганса Шоля. Поскольку мне это не удалось, мы оба в конце концов пошли потом в квартиру Шоля, где и застали его. Госпожа Берндль после обеда пошла на свои занятия по танцу и пришла позже в квартиру Шоля, чтобы забрать Харнака. В квартире Шоля мы продолжили наше обсуждение. Позже подошёл Вилли Граф. В ходе беседы мы показали Харнаку листовку «Воззвание ко всем немцам!» и сознались, что мы являемся её авторами. И что мы разослали эту листовку определённому кругу лиц. Харнаку понравилось содержание этой листовки. Во время этой встречи Харнак вновь проявил себя как социалист, не полностью согласный с существующим на настоящий момент государственным устройством. Мы не разрабатывали тогда никакого плана, как можно было бы устранить существующую форму государственного правления. После примерно двухчасового обсуждения в квартиру Шоля пришла госпожа Берндль, после чего она (Берндль) и Харнак ушли. Перед уходом мы договорились с Харнаком, что встретимся с ним на следующий день в 11 часов перед зданием университета, чтобы представить его нашему коллеге проф. Хуберу. Мы рассчитывали при этом на интересное общение. На следующий день мы встретились, как и договаривались, около университета. Последним пришёл проф. Хубер. Мы представили ему Харнака. После обычного приветствия мы (Шоль, проф. Хубер, Харнак, Вилли Граф и я) направились домой к Шолю. Возможно, Вилли Граф присоединился к нам уже там. На эти детали я забыл указать во время моего предыдущего допроса. После того, как мы поговорили в квартире Шоля об общих политических вопросах, состоялся преимущественно обмен мнениями между проф. Хубером и д-ром Харнаком. При этом Харнак отстаивал социалистическую форму (национализация крупных предприятий). Проф. Хубер высказывал скорее демократические воззрения. Возможно, что между делом Харнак высказывал и коммунистические идеи, которые отклонялись проф. Хубером. По этому вопросу Харнак сослался на книгу Сталина. В результате этой дискуссии у нас сложилось впечатление, что оба отдавали предпочтение демократической форме правления. То, что Харнак не согласен с национал-социалистической формой правления и что он давал это понять, я, кажется, уже упоминал. Во время этой беседы также не достигалось договорённости, каким образом Харнак намерен в будущем осуществлять антигосударственную деятельность. Харнак не сказал, как мы должны вести себя в дальнейшем в качестве противников национал-социализма. Между 13 и 14 часами мы завершили беседу, чтобы, наконец, перейти к обеду. На вопрос, не отстаивал ли Харнак во время этой последней встречи в квартире Шоля тотальное обобществление всех средств производства по русскому образцу, я не могу дать однозначно положительный ответ. Я припоминаю, что Харнак время от времени говорил, что ему не нравятся те или иные меры советского правительства. Предостережения проф. Хубера, что нам не надо бы больше встречаться с Харнаком, я не припоминаю. Возможно, что проф. Хубер обратился в этой связи лишь к Шолю. Вместо этого я хорошо помню, что проф. Хубер после ухода Харнака передал нам проект листовки «Студентки! Студенты!» — так, чтобы Харнак об этом ничего не узнал. Однажды я случайно встретил Харнака на улице (в Мюнхене). Мы обменялись парой фраз. Это было в промежутке, то есть между двумя встречами в квартире Шоля. После второй беседы, когда проф. Хубер встретились с Харнаком в квартире Шоля, я Харнака больше не видел. Я абсолютно уверен, что после того момента между мной и Харнаком не было никакой связи. Хотя госпожа Берндль и познакомила нас с Харнаком, она не знала, что мы (Шоль и я) занимаемся антигосударственной деятельностью и поэтому интересуемся Харнаком. На вопрос, не знаю ли я студента медицины Яничека из школы Бергмана, отвечаю, что мне этот человек незнаком. Во всяком случае, он не имеет отношения к моим антигосударственным взглядам и к моей деятельности. Писатель Бергенгрюн и некто Зоммерфельд также не имеют отношения к моему деянию. Во время встречи в квартире родителей в начале лета 1942 г. были также проф. Хубер, брат и сестра Шоль, Лафренц и Шюттекопф, а ещё д-р Генрих Эллерман (а не Петерман). Этого Эллермана я знаю по Гамбургу. Но может быть, что я познакомился с ним в семье Пробстов в Рупольдинге. Эллерман был в своё время учителем в земельном доме ребёнка в Марквартштайне, где Кристоф Пробст был его учеником. Во время этой встречи разговор шёл исключительно о культуре и научных вещах. Никаких политических или антигосударственных высказываний не было. Д-р Эллерман служит сейчас в люфтваффе Мюнхена. Но я его уже давно не видел и не разговаривал с ним. Моих родителей тогда не было дома — они уезжали. Пожилого господина по имени Вагнер, который якобы уже в который раз доставал писчую бумагу для проф. Хубера, я не знаю. Двоих студентов медицины Штолля и Федерхофера я близко не знаю. Оба не имеют отношения к моему преступлению. Некий Пщивара мне также незнаком. О моих связях с проф. Мутом я уже сообщал. Больше я по существу ничего добавить не могу». Записано: Самостоятельно прочитано и подписано: Шмаус Подпись КС.
ПОКАЗАНИЯ А. ШМОРЕЛЯ
Мюнхен, 13 марта 1943 года Доставленный из-под стражи, Александр Шморель, личные данные известны, дополнительно дал следующие показания: «Поскольку меня упрекают в том, что во время предыдущих допросов я дал неясные или неполные показания касательно поездки из Мюнхена в Штутгарт, то я хочу рассказать правду. Я припоминаю сейчас, что после возвращения с Восточного фронта я получил внеочередной двухнедельный отпуск. Вероятно, во время этого отпуска я был в гостях у Шоля в Ульме. Во всяком случае, меня не было в Мюнхене 5–7 дней. Из Ульма мы вместе (Ганс Шоль и я) поехали в Штутгарт, чтобы там посетить некоего Гриммингера на предмет получения от него денег. Когда я говорил раньше, что мы предприняли эту поездку в январе 1943 года, то это неверно. Мне кажется, я припоминаю сейчас, что это совершенно определённо было в ноябре 1942 г., то есть, вскоре после моего пребывания на Восточном фронте. На Рождество и Новый год 1942/43 г. я был в Мюнхене. Во время моего пребывания в Ульме я ночевал исключительно в квартире родителей Шоля. Практически всё время я был вместе с Шолем, и мы неоднократно возвращались к мысли вновь написать листовку, чтобы захватить народ нашей идеей. Поездку из Ульма в Штутгарт мы спланировали так, что утром мы выехали из Ульма и вечером опять вернулись туда, без ночёвки в Штутгарте. Возвращаясь к Гриммингеру, Ганс Шоль сказал мне, что этот человек, которого он хорошо знает, возможно, поможет нам с деньгами. Больше Ганс Шоль о Гриммингере не распространялся. Когда мы прибыли к Гриммингеру в Штутгарт, мы открыто дали ему понять, что мы собираемся изготовлять и распространять антигосударственные листовки, и для этого нам нужны деньги. В этот приход Гриммингер нам денег не дал, сказав, что у него в настоящий момент нет и что Шолю нужно будет обратиться еще раз позднее, что тот и сделал, спустя примерно две недели — успешно. Шоль получил от Гриммингера 500 РМ. На каких условиях Гриммингер передал Шолю эту сумму, я не знаю, потому что во время второго посещения меня не было. София Шоль возместила мне из этих 500 РМ ровно 50 РМ — за мои расходы примерно на 230 РМ. От Ганса Шоля мне известно, что Гриммингер женат на еврейке. Вопрос: Кто участвовал в разговоре в квартире родителей Шоля в Ульме? Ответ: Что касается времени, то я хотел бы сразу сказать, что это было не Рождество, а ноябрь 1942 года, так как я не приезжал в Рождество или в Новый год в Ульм. Кроме того, мы никогда не вовлекали в наши разговоры родителей Шолей, наоборот, строго избегали посвящать родителей или Инге Шоль в наши планы. Я припоминаю, что один раз в нашем разговоре принимал участие гимназист Ганс Хирцель[28]из Ульма. Насколько я могу припомнить, мы в общих чертах посвятили Хирцеля в наши планы установить новую форму правления и предлагали ему сотрудничать. Во всяком случае, Хирцель не занял тогда отрицательную позицию. Я не могу сегодня точно вспомнить формулировку его отношения к этому предложению. После того разговора Хирцель ушёл. С тех пор я его не видел и не поддерживал с ним никакой связи. Вопрос: Кто ещё принимал участие в этом разговоре в Ульме, так как имеется утверждение, что в квартире Шоля тогда находился служащий люфтваффе, ростом примерно 170–172 см, худощавый, тёмно-коричневые волосы, продолговатое красноватое лицо? Ответ: Я не помню, чтобы во время моего пребывания в этой квартире туда приходил служащий люфтваффе и чтобы он принимал участие в разговоре. Хотя я припоминаю, что один раз, когда мы с Гансом Шолем уходили, кто-то спрашивал Ганса Шоля. Была ли тогда речь об этом служащем вермахта или о гражданском лице, я не могу ответить, так как я не вдавался в подробности. Гимназиста Хирцеля я хорошо помню. Если бы во время этого разговора присутствовал упоминавшийся служащий вермахта, я бы определённо запомнил бы это. Так как я этого не помню, то могу определённо заявить, что мы (Ганс и Софи Шоль, Хирцель и я) не разрабатывали наши планы по перевороту в присутствии этого служащего вермахта. Я не могу припомнить прихода этого человека и в этой связи не могу сказать, как его звали. Если бы я это мог, то сказал бы открыто, кто это был. Так как Ганс Шоль в последующем ни разу не упоминал этого интересующего вас служащего вермахта, то очевидно, что тот не мог ничего знать о нашем плане, а какое бы то ни было сотрудничество полностью исключается, иначе я бы об этом знал. Я не могу больше назвать лица, которые могли бы знать о моем деянии. Я уже ранее сказал абсолютную правду и не в состоянии обозначить дальнейший круг лиц». Прочитал и подписал: Подпись Подпись КС.
ПОКАЗАНИЯ А. ШМОРЕЛЯ
Мюнхен, 18 марта 1943 г. Протокол Доставленный из-под стражи, Александр Шморель, личные данные известны, дополнительно дал следующие показания: «На поставленный мне сегодня вопрос, какие лица подстрекали меня и Ганса Шоля к нашим антигосударственным акциям или финансировали нашу деятельность, то мне нечего больше сообщить. Мне лично абсолютно неизвестны Эрнст Реден, Георг фон Швайнитц, водитель трамвая Рильке, Гюнтер Этен или Туск. Я также не слышал этих имён от Ганса Шоля. От него я не знал также, что он в своё время организовал в Ульме и входил в «Союз немногих». Шоль рассказывал мне только, что он в своё время состоял в Ульме в «Союзной организации». О целях этой «Союзной организации» мне не сообщалось. У меня также нет сведений о том, что Шоль получал средства или указания от иностранной разведки для проведения в Рейхе антигосударственной акции с листовками. Поэтому я убеждён, что Шоль действовал так сам по себе — так же как и я признаюсь в содеянном без какого-то чужого влияния. О лейтенанте Шерингере (имеется в виду бывш. лейтенант и нынешний наследственный крестьянин Рихард Шерингер, род. 13.9.1904 в Аахене, проживающий в Дюрнхофе, община Кёшинг при Ингольштадте) я никогда не слышал. Шоль никогда не рассказывал мне об этом человеке. В этой связи я могу заявить, что этот Шерингер не связан с нашими листовочными акциями. Семья Хейш из Ульма мне абсолютно не известна. Вопрос: Известен ли Вам директор шоколадной фабрики «Трумпф» из Рейнланда и какие контакты Вы и Ганс Шоль поддерживали с ним? Ответ: Этот директор — мой дядя Франц Монхайм из Аахена, где он является владельцем шоколадной фабрики «Трумпф». Супруга Монхайма — сестра моей мачехи Элизабет Гофман[29]. Я сам еще ни разу не был в гостях у этой семьи в Аахене. А семья Монхайм, напротив, несколько раз приезжала к нам в Мюнхен. Эта семья известна мне только по этим приездам. Это совершенно определённо не евреи. Если семья Монхайм из Аахена, Ниццааллее 46, получила летом 1942 года листовку «Белая роза», то это сделал я. Об этом я рассказал и Шолю. Госпожа Элла Монхайм гостила у нас в Мюнхене в последний раз на Рождество 1942 г. Тогда она рассказала, что летом 1942 г. она получила антигосударственную листовку и сама отнесла её в полицию, так как была категорически не согласна с ее содержанием. Учитывая это обстоятельство, я по понятным причинам не стал говорить, что как-то связан с изготовлением и распространением этой листовки. Таким образом, существование этой листовки не вызвало у нас дома никакой дальнейшей дискуссии. Мне не известно о том, да я и не поверю в то, что Ганс Шоль мог посещать моих родственников в Аахене. Я тоже не ездил туда. Для меня остаётся загадкой, как Шоль вообще мог дойти до того, чтобы распространяться о моих родственниках из Аахена. Следующие сведения, что листовки «Белая роза» были переданы прислугой или иным лицом гардеробщице для того, чтобы подсовывать их посетителям театра, я отрицаю. Я ничего об этом не знаю и решительно заявляю, что в свое время послал в Аахен одну-единственную листовку. Ни книга, ни издатель Герхард Риттер из Фрайбурга мне не известны. Мне неизвестно о том, что Ганс Шоль собирался посвятить его в наши планы или что посещал его. В своё время я ездил с Гансом Шолем из Ульма в Штутгарт, чтобы посетить уже упоминавшегося Гриммингера. Мы не пытались привлекать других лиц к нашей деятельности. Я не думаю также, что Ганс Шоль за моей спиной предпринимал какие-то поездки. Мой дядя Франц Монхайм — обеспеченный человек. Но мы не посвящали его в свои планы, поэтому и речи быть не может о том, что он мог рассматриваться как возможный спонсор. Я однозначно не рассказывал Гансу Шолю о политических взглядах моего дяди Монхайма. Я не мог сделать этого, потому что я не знаю политических взглядов моего дяди, так как до сих пор не имел возможности задать дяде вопросы в этой связи. Соответственно, мне ничего не известно о том, проявляют ли мои родственники (Монхайм) в Аахене политическую оппозиционность. Когда эти люди были у нас в Мюнхене, то о политике практически не говорили. Я тоже остерегался говорить дома о моём антигосударственном настрое и деятельности. Так и получилось, что мои родители не имели понятия о моей преступной деятельности. Если осведомитель неоднократно называл город Бонн на Рейне, то, возможно, подразумевался Аахен, и в этом случае мы имеем дело просто с ошибкой. Я не могу назвать лица или организации, которые подстрекали меня и Шоля к нашей совместной деятельности, или финансировали её». Прочитано и подписано: Подпись Подпись КС.
Номер дела 3 Ге 243/43 Административный суд Мюнхена Отдел уголовного судопроизводства Судья-дознаватель Мюнхен-7, 25 марта 1943 г. Марияхильфплац 17
ДОПРОС ОБВИНЯЕМОГО
по делу Шмореля Александра по обвинению в государственной измене Присутствовал: Главный административный судья Дитц Секретарь Дитц Доставленный в следственный изолятор Нойдек обвиняемый был допрошен в соответствии с § 136 уголовно-процессуального кодекса: личные сведения: Шморель Александр, остальные данные имеются Он/она заявил:По существу дела обвиняемый заявил: Я апеллирую к моим предыдущим показаниям, которые я объявляю существенной составляющей моего сегодняшнего заявления. Поскольку я признал обвинения, выдвинутые против меня во время полицейского допроса, то я признаю их и во время судебного допроса. В частности, я признаюсь в том, что вместе с Гансом и Софи Шоль принимал участие в изготовлении и распространении листовок «Движение Сопротивления в Германии». Я участвовал также в изготовлении и распространении листовок «Белая роза». Я также признаюсь, что я участвовал в нанесении подстрекательских лозунгов «Долой Гитлера» на университете. Настоящим объявляется: выдаётся
ОРДЕР НА АРЕСТ
Обвиняемый подозревается в совершённом соучастии в преступлении, связанном с государственной изменой (§ 83/ II), сочетанном с преступлением, связанным с пособничеством врагу (§ 91 б и I) и разложением вермахта (§ 5/1). Мерой пресечения определён арест, так как преступление является предметом расследования. Учитывается ожидаемое суровое наказание. Зачитано: Подпись (Обвиняемый) (Переводчик) Подпись (Судья) (Секретарь) Распоряжение о приёме в тюрьму выдано. С делом в Прокуратуру Мюнхена I, отд. 1. Судья-дознаватель ПодписьТайная государственная полиция Управление государственной полиции Мюнхена Дело II А-Зо. Мюнхен, 23 марта 1943 г. ___________________часов Находящийся под арестом в связи с государственной изменой
Статус: студент медицины Имя: Шморель Александр Время и место рождения: 3.9.1917 в Оренбурге Гражданство: ГР в связи с решением вопроса о содержании под стражей должен быть направлен в административный суд Мюнхена — следственный изолятор Ам Нойдек. Следственныйизолятор Ам Нойдек в Мюнхене Дата 24 марта 1943 ВИ часов 30 минут Тюремпый главный управляющий Подпись
ПРОШЕНИЕ Г. К. ШМОРЕЛЯ О СВИДАНИИ С СЫНОМ
Д-р мед. Гуго Шморель, Мюнхен-9, 29 марта 1943, практикующий врач Бенедиктенвандштрассе, 12 Штемпель: Имперская прокуратура 30 марта 1943 г. Верховному имперскому прокурору Народного суда Берлин В.9 Беллевю-15 Являясь отцом находящегося под арестом Александра Шмореля, прошу Вас разрешить свидание с ним мне и моей супруге Элизабет. Кроме того, прошу Вашего разрешения принести для моего сына кое-что из продуктов — в допустимых виде и форме. Хайль Гитлер! Гуго ШморельРАСПОРЯЖЕНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ ФЮРЕРА
Копия ТЕЛЕГРАММА Штаб-квартира фюрера, 19.2.43 16 часов 20 минут Рейхсляйтер М. Борман гауляйтеру Паулю Гислеру, Мюнхен Весьма срочно! Немедленно на стол!В соответствии с моим поручением фельдмаршал Кейтель передал по телефону указание правовому управлению вермахта (министерский директор Леман) немедленно исключить из вермахта арестованных студентов, чтобы процесс Народного суда в соответствии с моим и Вашим ходатайством мог быть проведён в кратчайшие сроки.
Министерский директор Леман получил указание немедленно связаться по этому поводу также с министром юстиции. В случае возникновения каких-либо затруднений прошу Вас незамедлительно информировать меня, министерского директора Клемма или его заместителей. Хайль Гитлер! подпись: М. Борман передал: Фуггер принял: за гауляйтора Гислера: 1625/Шиндльбек
ПРИГОВОР НАРОДНОГО СУДА
II 24/43 X 101/43 ИМЕНЕМ НЕМЕЦКОГО НАРОДА по уголовному делу 1) Александра Шмореля из Мюнхена, родившегося 16 сентября 1917 г. в Оренбурге (Россия), 2) Курта Хубера из Мюнхена, родившегося 24 октября 1893 г. в Куре (Швейцария), 3) Вильгельма Графа из Мюнхена, родившегося 2 января 1918 г. в Кухенхайме, 4) Ганса Хирцеля из Ульма, родившегося 30 октября 1924 г. в Унтерштайнбахе (Штутгарт), 5) Сюзанны Хирцель из Штутгарта, родившейся 7 августа 1921 г. в Унтерштайнбахе, 6) Франца Йозефа Мюллера из Ульма, родившегося 8 сентября 1924 г. в Ульме, 7) Генриха Гутера из Ульма, родившегося 11 января 1925 г. в Ульме, 8) Ойгена Гриммингера из Штутгарта, родившегося 29 июля 1892 г. в Крайльсхайме, 9) доктора Генриха Филиппа Боллингера из Фрайбурга, родившегося 23 апреля 1916 г. в Саарбрюккене, 10) Гельмута Карла Теодора Августа Бауэра из Фрайбурга, родившегося 19 июня 1919 г. в Саарбрюккене, 11) доктора Фалька Эриха Вальтера Харнака из Кемница, родившегося 2 марта 1913 г. в Штутгарте, 12) Гизелы Шертлинг из Мюнхена, родившейся 9 февраля 1922 г. в Пёснеке (Тюрингия), 13) Катарины Шюддекопф из Мюнхена, родившейся 8 февраля 1916 г. в Магдебурге, 14) Трауте Лафренц из Мюнхена, родившейся 3 мая 1919 г. в Гамбурге; находящихся в настоящее время в предварительном судебном заключении в связи с пособничеством врагу и проч.Народный суд, 1-й сенат, на основании заседания 19 апреля 1943 года, в котором принимали участие в качестве судей: Президент Народного суда д-р Фрайслер, Председатель, Директор земельного суда Штир, Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Брайтхаупт, Группенфюрер СА, государственный секретарь Кёгльмайер в качестве представителя Верховной имперской прокуратуры: Прокурор 1-го класса Бишоф,
постановил: Александр Шморель, Курт Хубер и Вильгельм Граф в военное время призывали в листовках к саботажу вооружения и свержению национал-социалистического уклада жизни нашего народа, пропагандировали пораженческие настроения и самым гнусным образом оскорбляли фюрера, пособничая таким образом врагам рейха и разлагая наш вермахт. Поэтому они приговариваются к смертной казни с поражением во всех их гражданских правах.
Ойген Гриммингер дал деньги государственному изменнику, пособничавшему врагам. Хотя он и не осознавал, что таким образом помогал пособничать врагам рейха, но он мог ожидать, что изменник использует эти средства в целях лишения нашего народа национал-социалистического уклада жизни. Поскольку он поддержал такую государственную измену, он приговаривается к десяти годам каторжной тюрьмы с лишением чести на десять лет. Генрих Боллингер и Гельмут Бауэр знали о действиях, направленных на государственную измену, но не донесли об этом. Кроме того, они вместе прослушивали сводки новостей вражеского радио о событиях на фронтах и в самой Германии. За это они приговариваются к семи годам каторжной тюрьмы с поражением в гражданских правах сроком на семь лет. Ганс Хирцель и Франц Мюллер незрелыми подростками были введены в искушение врагами государства и оказывали содействие изменнической пропаганде против национал-социализма. За это они приговариваются к пяти годам тюремного заключения. Генрих Гутер знал об этих пропагандистских намерениях, но не заявил об этом. За это он приговаривается к восемнадцати месяцам тюремного заключения. Гизела Шертлинг, Катарина Шюддекопф и Трауте Лаф-ренц совершили аналогичное преступление. Будучи девушками, они приговариваются к одному году тюремного заключения. Сюзанна Хирцель помогала государственным изменникам распространять листовки. Об их предательском содержании она не знала, да и то лишь потому, что в своей непростительной доверчивости она не убедилась в их содержании. Она приговаривается к шести месяцам тюремного заключения.
У всех осуждённых, приговорённых к каторге или тюремному заключению, сроки предварительного заключения будут зачтены. Фальк Харнак также не заявил о том, что ему было известно о предательских происках, однако у него имеется особое обстоятельство, которое не позволяет покарать его за это бездействие. В связи с этим в отношении его выносится оправдательный приговор.
Верность вышеизложенной копии настоящим удостоверяется и то, что приговор подлежит исполнению, подтверждается. Берлин, 28 апреля 1943 г. Подпись: Советник, выступающий в качестве делопроизводителя отдела. Господину Верховному имперскому прокурору с приложением 42 удостоверенных копий и 42 простых копий
ОТВЕТ Г. ГИММЛЕРА НА ХОДАТАЙСТВО О ПОМИЛОВАНИИ
Рейхсфюрер СС и шеф немецкой полиции Имперского министерства внутренних дел Б.№ 1/523/43 Аде. Ск/Фе. Берлин СВ 11, 11 апреля 1943 г. Принц-Альбрехт-Штрассе, 8 в наст, время полевой командный пункт Все почтовые отправления без исключения направлять по берлинскому адресу Уважаемый партайгеноссе Гофман!Я получил подписанное Вами и обоими Вашими братьями прошение о помиловании студента Александра Шмореля от 17.3.1943 г.
Я нахожу, что Вы поступаете весьма порядочно, вступаясь за Вашу сестру и Вашего шурина. В то же время мне чрезвычайно жаль, но я вынужден сообщить Вам, что не могу содействовать помилованию. Я охотно предоставлю Вам возможность ознакомиться с документами следствия, чтобы Вы сами убедились в том, что недостойное деяние Александра Шмореля, которое безо всякого сомнения в большей степени обусловлено присутствием в нем русской крови, заслуживает справедливого наказания.
В то время, когда тысячи замечательных немецких граждан отдают свои жизни за Родину, было бы безответственно отменить в данном случае исполнение смертной казни. В любой семье может оказаться недостойный человек, но его просто необходимо исключить из общества! Хайль Гитлер! Ваш Г. Гиммлер
СООБЩЕНИЕ ОТДЕЛА ЗАХОРОНЕНИЙ О ПРИВЕДЕНИИ ПРИГОВОРА В ИСПОЛНЕНИЕ
Обер-бургомистр Столицы Движения Дирекция отдела захороненийСчёт для почтовых чеков: 115 Главная городская касса, Мюнхен Местный телефон: 57-943-91 или Междугородный телефон: 51221 Почтовый адрес: Городская дирекция отдела захоронений, Мюнхен, 15, Талькирхнерштрассе, 17
Господину Д-ру Гуго Шморелю Мюнхен, 9 Бенедиктенвандштрассе, 12
Ваш знак: Ваше сообщение от: Наш знак: Дата: Кас.: 13. 7.43 Приговор Шмореля приведен в исполнение. Похороны 14 июля 1943 г. в 18:15 на кладбище Ам Перлахер Форет. Стоимость около 100 рейхс-марок. Предварительная явка в отдел захоронений обязательна.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОМАСА МАННА В РЕГУЛЯРНОЙ ПЕРЕДАЧЕ «НЕМЕЦКИЕ СЛУШАТЕЛИ!» РАДИОСТАНЦИИ Би-би-си
Лондон, май 1943 г. Я говорю: слава народам Европы! И я добавлю ещё то, что некоторым, кто меня слышит в настоящий момент, может показаться странным: слава и сочувствие немецкому народу! Теория о том, что его нельзя отделить от нацизма, что немецкое и национал-социалистическое — одно и то же, временами бездумно распространяется в странах союзников; однако она недолговечна и не получит развития. Слишком много фактов свидетельствуют об обратном. Германия защищалась и продолжает защищаться. Не хуже остальных.
Сейчас мир волнуют события в Мюнхенском университете, сообщения о которых доходят до нас из швейцарских и шведских газет — сначала расплывчатые, но впоследствии обрастающие всё более захватывающими подробностями. Теперь мы знаем о Гансе Шоле (…), о его сестре, о (…) Пробсте, профессоре Хубере и других, о восстании студентов во время Пасхи в ответ на скабрезное выступление нацистского бонзы в аудитории «максимум», об их мученической смерти на гильотине, о листовках, которые они распространяли и которые содержат слова, исправляющие многие из тех прегрешений, кои вершились в те пагубные годы в немецких университетах против духа немецкой свободы. Да, уязвимость немецкой молодёжи — именно молодёжи — перед лицом национал-социалистической «революции лжи» была горестна. Сейчас её глаза открыты. Они кладут свои молодые головы на плаху за свои убеждения и честь Германии, кладут после того, как сказали в лицо президенту нацистского суда: «Скоро вы будете стоять на нашем месте», после того, как перед лицом смерти доказали, что забрезжила новая вера в свободу и честь.
Славные, храбрые люди! Вы умерли не напрасно, Вы не должны быть забыты. Нацисты поставили в Германии памятники грязным бандитам, подлым убийцам. Немецкая революция — настоящая — снесёт их и увековечит на их месте Ваши имена, ведь Вы знали о ней и провозгласили её, когда ночь ещё царила над Германией и Европой: «Уже брезжит новая вера в свободу и честь».
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА ШМОРЕЛЯ
1917, 16 (по старому стилю 3) сентября — родился в Оренбурге в семье врача Гуго Карловича Шмореля и дочери коллежского асессора Натальи Петровны Введенской, крещён по православному обряду в Петро-Павловской церкви. 1918— Наталья Введенская умирает от тифа. 1920, 10 октября — Гуго Карлович женится на Елизавете Егоровне Гофман, дочери владельца пивоваренного завода в Оренбурге. 1921, май — июнь — переезд семьи Шморель из Оренбурга в Мюнхен. 15 августа — родился брат Эрих. 1924–1928 — учится в частной школе Энгельсбергера в Гайзельгастайге. 1925, 15 марта — родилась сестра Наташа. 1928–1930 — посещает гимназию им. Вильгельма в Мюнхене. С 1930 — учится в Новой реальной гимназии. 1932, октябрь — вступает в Союз молодых баварцев. 1933 — состоит в «Юном Стальном Шлеме», затем в штурмовом отряде (СА). 1935 — начало дружбы с Кристофом Пробстом. 1937, апрель — октябрь — имперская трудовая повинность (РАД) в Вертахе, Пфейфермюле и строительство Немецкой Альпийской дороги. Конец октября — поездка с отцом в Венецию. Ноябрь — служба в вермахте: учёба в 7-м артиллерийском полку в Мюнхене. 1938, март — участие в «присоединении» Австрии в Линце. Октябрь — участие в захвате Чехословакии. 1939, лето — начало учёбы на медицинском факультете университета Гамбурга. Июль — четырёхнедельное пребывание на уборке урожая в Восточной Померании. Сентябрь — продолжил обучение на медицинском факультете Мюнхенского университета. 1940, с апреля — младший офицер медицинской службы. Май — июнь — в составе войск вермахта во Франции. С октября — отпуск из вермахта для продолжения учёбы в университете. 1941, 25 января — сдал зимнюю сессию. С апреля — на казарменном положении в Мюнхене. Июнь — знакомство в студенческой роте вермахта с Гансом Шолем. Август — обязательная медицинская практика в больнице Харлахинга (Мюнхен). Сентябрь — знакомство с Лило Фюрст-Рамдор. Октябрь — совместный с Гансом Шолем сплав по Дунаю. 1942, март — апрель — медицинская практика в резервном лазарете Хольцхаузен близ Ландсберга. 27 июня — 2 июля — разосланы первые четыре листовки «Белой розы». 27 июля — 31 октября — полевая медицинская практика под Гжатском вместе с Гансом Шолем, Вилли Графом, Губертом Фуртвенглером и Юргеном Виттенштайном. Ноябрь — знакомство с Фальком Харнаком. 1943, январь — февраль — распространение пятой и шестой листовок «Белой розы». 3/4 и 15/16 февраля — ночные вылазки, нанесение надписей «Свобода» и других на стенах зданий в Мюнхене. 18 февраля — арест Ганса и Софи Шоль в стенах Мюнхенского университета. 19–24 февраля — попытка бегства за границу. 24 февраля — арест. 19 апреля — второй процесс Народного суда по делу «Белой розы». Александр Шморель, Вилли Граф и профессор Курт Хубер приговорены к смерти. 13 июля — Александр Шморель казнён на гильотине в мюнхенской тюрьме Штадельхайм, похоронен на кладбище Ам Перлахер Форет. 2012, 4–5 февраля — в Мюнхене состоялась торжественная церемония прославления Александра Шмореля Русской православной церковью как святого новомученика Александра Мюнхенского.КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Александр Шморель: Протоколы допросов в гестапо. Февраль — март 1943 г. (РГВА. Ф. 1361 К. Oп. 1. Д. 8808) / Пер. с нем. И. В. Храмова / Авт. вступ. ст., сост. И. В. Храмов. Оренбург: Печатный дом «Димур», 2005. Издание на русском и немецком языках. Храмов И. В. Российский фактор в деятельности группы студенческого сопротивления «Белая роза». Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук: 07.00.02. Оренбург, 2005. Храмов И. В. Русская душа «Белой розы». Оренбург: Оренбургская книга, 2001. Храмов И. В. Святой Александр Мюнхенский. Оренбург: Оренбургская книга, 2017. Bald D. Die Weiße Rose. Von der Front in den Widerstand. Aufbau Verlag. Berlin, 2003. Busch A. Erinnerungen an Alexander Schmorell. Buchfeld Verlag. Au / Hallertau, 2017. Chramow I. Die russische Seele der «Weißen Rose». Helios Verlag. Aachen, 2013. Fembach G. (Hrsg.) «Vergesst Gott nicht!» — Leben und Werk des heiligen Alexander (Schmorell) von München, Edition Hagia Sophia. Wachtendonk, 2013. Fürst-Ramdohr L. Freundschaften in der Weißen Rose. Verlag Geschichtswerkstatt Neuhausen. München, 1995. Hans Scholl, Sophie Scholl. Briefe und Aufzeichnungen. Hrsg. Inge Jens. Fischer Verlag. Frankfurt a.M., 1988. Moll C. (Hrsg.)\ Alexander Schmorell, Christoph Probst. Gesammelte Briefe, Lukas Verlag. Berlin, 2011. Perekrestov E. Alexander Schmorell. Saint of the German Resistance, Holy Trinity Publications. New York, 2017. Petry C. Studenten aufs Schafott. Die weiße Rose und ihr Scheitern, Piper Verlag. München, 1968. Pointner H. Alexander Schmorell // Russische Spuren in Bayern. Portraits, Geschichten, Erinnerungen. München, 1997. S. 183–189. Sachs R. White Rose History. Vol. I. Phoenixville, 2003. Scholl I. Die Weiße Rose. Fischer Verlag. Frankfurt a.M., 1952. Schubert J. Zu blau der Himmel im Februar. Roman, axel dielmann-verlag. Frankfurt a. M., 2017. Selg P. Alexander Schmorell. 1917–1943. Der Idealismus der «Weißen Rose» und das geistige Russland, Verlag des Ita Wegman Institutes. Stuttgart, 2013. Siefken H. «Die Weisse Rose» and Russia // German Life and Letters. Oxford, January 1994. P. 14–43. Graf W. Briefe und Aufzeichnungen. Hrsg. Inge Jens. Fischer Verlag. Frankfurt a.M., 1994. Ziegler A. Es ging um die Freiheit! Die Geschichte der Widerstandsgruppe «Weiße Rose» — Fakten, Fragen, Streitpunkte, Menschen. Schönaich, 2005.
ФИЛЬМОГРАФИЯ
Противостояние «Белой розы» / «Белая роза»: последователи. Док. фильм, реж. Сергей Линцов, Роман Саульский. Кинокомпания «Созвездие кино» — Продюсерский центр Вадима Асланяна, 2016. 52 мин.
Вторая мировая. Русское Сопротивление. Док. фильм, реж. Екатерина Китайцева. ВГТРК «Россия», 2016. 44 мин.
Святые. Док. фильм, реж. Юлия Сеферникина. ТРК «Петербург — Пятый канал», 2013. 26 мин.
Русская душа «Белой розы». Док. фильм, реж. Павел Рыков. ГТРК «Оренбург», 2010. 26 мин.
«Белая роза»: программа «Личное мнение», автор Сергей Палько. ТК «Звезда», 2009. 11 мин.
Цикл «Письма из провинции»: Оренбург. Автор Владимир Полухинских. ТК «Культура», 2009. 26 мин.
Возвращение.Док. фильм, реж. Татьяна Саблина. ГТРК «Оренбург», 2004. 26 мин.
В поисках «Белой розы». Док. фильм, реж. Савва Кулиш. ТО «Нэцки», 2000. 52 мин.
Sophie Scholl — Die letzten Tage. Spielfilm von Marc Rothemund. Deutschland, 2005. 116 Min. Die Weisse Rose. Spielfilm von Michael Verhoeven. Deutschland, Sentane Film Produktion, 1982. 123 Min.
АУДИОВЕРСИЯ книги Игоря Храмова «Русская душа «Белой розы» подготовлена радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров» в 2012 году. Текст читает Людмила Зотова. 3 часа 40 мин.
ВЫСТАВОЧНОЕ ТУРНЕ «БЕЛАЯ РОЗА»
«БЕЛАЯ РОЗА» — СТУДЕНЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЖИМУ ГИТЛЕРА. МЮНХЕН, 1942-43 гг.
Передвижная экспозиция мюнхенского фонда «Белая роза» и Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» — выставочное турне по России и странам ближнего зарубежья (1999–2017):
1999 — Оренбургский областной краеведческий музей 1999 — Саратовская областная научная библиотека 2000 — Волгоградский государственный музей «Панорама Сталинградской битвы» 2000 — Государственный музей-памятник «Сарепта» (Волгоград) 2000 — Объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина (Гагарин, Смоленская обл.) 2000 — Красногорский Мемориальный музей немецких антифашистов (Московская обл.) 2000 — Смоленская областная универсальная библиотека 2000 — Брянская областная научная библиотека 2000 — Московский дом дружбы с народами зарубежных стран 2001 — Государственный музей истории Санкт-Петербурга (Особняк Румянцева) 2002 — Национальная библиотека Республики Татарстан (Казань) 2002 — Орловский областной краеведческий музей 2002 — Воронежский Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» 2002 — Музей истории города Иркутска 2003 — Волгоградский государственный университет 2003 — Центральная городская библиотека им. И. Калашникова (Улан-Удэ)
С 16 сентября 2004 года выставка входит в состав Мемориального центра «Белая роза» в Оренбургском государственном педагогическом университете.
2006 — Гомельский областной музей воинской славы (Республика Беларусь) 2006 — Омская государственная публичная библиотека им. А. С. Пушкина 2006 — Государственная универсальная научно-техническая библиотека СО РАН (Новосибирск) 2007 — Томская областная универсальная библиотека 2008 — Областная универсальная библиотека (Екатеринбург) 2008 — Центральный музей Великой Отечественной войны (Москва) 2009 — Белорусский Государственный музей истории Великой Отечественной войны (Минск, Республика Беларусь) 2009 — Государственный музей книги и книгопечатания Украины, Киево-Печерская лавра (Киев, Украина) 2010 — Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова 2010 — Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н. И. Гро-декова 2011 — Сахалинская областная универсальная научная библиотека 2011 — Калининградский областной историко-художественный музей 2012 — Костромская областная универсальная библиотека 2012 — Ярославская областная универсальная библиотека 2012 — Кинешма, Коломна 2012 — Музей-мемориал В. И. Ленина (Ульяновск) 2013 — Российский центр науки и культуры в Астане (Республика Казахстан) 2013 — Дом еврейской общины Латвии в Риге (Латвия) 2014 — Зал церковных собраний Свято-Ни Кольского собора Алматы (Республика Казахстан) 2014 —Духовно-административный центр главы Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ (Ташкент, Республика Узбекистан) 2015 — Красноярская краевая универсальная научная библиотека 2015 — Челябинская областная универсальная научная библиотека 2016 — Российский центр науки и культуры в Бресте (Республика Беларусь) 2016 — Центральная городская публичная библиотека им. В. Маяковского (Санкт-Петербург) 2016 — Российский государственный архив социально-политической истории (Москва) 2017 — Московская православная духовная академия (Сергиев Посад) 2017 — Российский дом науки и культуры в Берлине
Последние комментарии
6 часов 37 минут назад
15 часов 29 минут назад
15 часов 32 минут назад
2 дней 21 часов назад
3 дней 2 часов назад
3 дней 4 часов назад